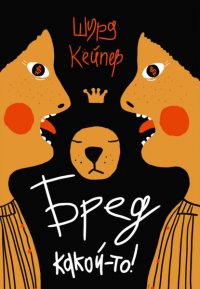
Читать онлайн Бред какой-то! бесплатно
- Все книги автора: Шурд Кёйпер
Text copyright © 2019 by Sjoerd Kuyper
Originally published by Hoogland & Van Klaveren, Hoorn, the Netherlands under the h2 Bizar
Translation rights arranged by élami agency
© Ирина Лейченко, Ирина Михайлова, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом «Самокат», 2021
Маргье, Йосту и Марианне, с благодарностью за то счастье и утешение, которое они мне дарят в этой бредовой жизни.
Ты ходишь ко мне, чтобы я вправил тебе мозги
10 июля, пятница, 13:45
Если быть уродиной вроде меня, можно здорово повеселиться. Никому до тебя и дела нет. В смысле, никто не следит за тобой без конца влюбленным взглядом. Так что если хочешь, вставай и уходи – никто не заметит. Если и хватятся, то через час, а то и побольше: «И куда это Салли Мо подевалась?» А за час можно много чего успеть. Ограбить банк. Или убить человека. А люди скажут: «Ну нет, это точно не Салли Мо, она же все время сидела тут со своей книжкой. Так ведь?»
Правда, этим преимуществом я еще ни разу не воспользовалась, потому что до 13 часов 32 минут сегодняшнего дня только и делала, что читала. Научилась в три года, а до того делала вид, будто умею. Стоило родителям один раз прочитать мне книжку вслух, как я уже знала ее наизусть. А когда ты произносишь текст по памяти и в нужном месте перелистываешь страницу, все думают, что ты и правда читаешь. Если, конечно, до тебя кому-то есть дело. Но для взрослых уродские младенцы еще хуже уродских тинейджеров. Уродских младенцев вообще не должно быть. Вот взрослые и делают вид, будто тебя не существует. Да и вообще, все всегда только делают вид. Никогда не понятно, что люди думают на самом деле. Понятно бывает только в книгах. Эту мысль я еще поясню попозже. Десять лет подряд я только читала, целыми днями. Никто мне не мешал, никто не спрашивал, не хочу ли я поцеловаться у живой изгороди или искупаться на закате, «наедине, вдвоем». Никто не звал меня сниматься в кино.
Все, хватит!
Так вот.
Я пишу лучшую в мире книгу. В ней сначала идут приключения, потом немножко моих размышлений – и так далее. Всем должно быть настолько интересно узнать, что дальше, что и мои идеи они волей-неволей проглотят. Только нельзя сразу рассказывать, кто есть кто из героев, кто у них отец и мать, чтобы не получилось как в Библии. А Библию даже я не осилила.
Мы с мамой добрались до места, как всегда, первыми. Отправились на десятичасовом пароме, так что в полдвенадцатого уже были на острове, в двенадцать дошли до кемпинга, а к половине первого поставили палатки. Мы с мамой спим в разных палатках. Не потому, что мне так хочется, а потому, что ей нужна свобода делать что угодно, тем более в отпуске. Это ее слова. Дедушка Давид говорил: «Свобода – это когда сидишь в поезде с билетом в кармане». Но мама считает, что свобода – это когда она в отпуске целями днями ищет мне нового отца. Так она это называет: искать нового отца для Салли Мо. Если находит – проверяет, хорош он или нет. Этим она и занимается у себя в палатке. А я могу только помешать. Я ее понимаю. Но ненавижу эти проверки. Хоть и привыкла к ним. В общем, потому мы и спешим попасть в кемпинг первыми. Чтобы был выбор.
Мама уже поставила белое вино в походный холодильник, а я дочитывала последние страницы «Гамлета», когда из-за деревьев показались Дилан с его мамой.
– Вот и они! – громко воскликнула моя мама. – Отлично, да, Салли Мо?
– Здорово, – сказала я.
И соврала второй раз за день.
– Ну как, уже присмотрела какую-нибудь крепкую попку? – спросила мама Дилана.
Они кинулись обниматься и так крепко стиснули друг друга, что я испугалась, как бы сиськи у них не выдавились со спины. А что, удобно. Если дочка у тебя такая уродина, что глаза б твои не глядели, можно и не смотреть, пока кормишь ее грудью. Мама Дилана и сейчас на меня ноль внимания. Зато Дилан мне подмигнул. Он единственный знает, что я существую. Но держит это в тайне.
– Все в порядке, Салли Мо?
– Все отлично, Дилан!
Ну вот, соврала в третий раз. Теперь мне три месяца нельзя читать книг. Бред какой-то.
Попозже я еще напишу, как умер дедушка Давид, а потом его кот. Когда они умерли, меня отправили к психиатру – считали, что я слишком странно себя вела, и боялись, как бы я полностью «не утратила связь с реальностью». Я ходила к нему каждую неделю. К Блуму. Это его фамилия. К доктору Блуму. Побывала у него двенадцать раз.
И вот вчера он сказал:
– Салли Мо, ты едешь на каникулы, и давай-ка ты на время перестанешь читать. Три месяца выдержишь? Попробуй жить отдельно от книг. Смотри вокруг себя, размышляй о том, что видишь. Когда человек читает, он думает чужой головой, а тебе уже пора думать своей. И старайся искать возвышенные моменты. Давай договоримся: три таких момента – и сможешь снова взяться за книги, не выжидая трех месяцев.
Мы с ним, с доктором Блумом, часто беседовали о возвышенном. Древние философы видели это самое возвышенное в неукротимых силах природы: грозе, землетрясениях, двойных радугах, водопадах, извержениях вулканов – во всем, от чего ты чувствуешь себя более живым, чем прежде. Снег тоже считается. «Но такое может случиться и когда просто идешь по дамбе, – говорил доктор Блум. – Слева земля, справа вода, над ней солнце встает из тумана, и в какой-то миг мир становится совершенным». «Как будто Вселенная уместилась у тебя в голове, – сказала я, – а может, в сердце. Или наоборот: как будто заполняешь собой Вселенную. Как будто все, что есть на свете, – это ты». – «Рад, что ты меня понимаешь, Салли Мо. По-моему, возвышенное – это тот миг, когда ты счастлив, что родился на свет». Да, доктор Блум – не какое-то там трепло, мне с ним повезло.
– В твоей жизни было что-нибудь возвышенное, Салли Мо?
– В настоящей жизни? – переспросила я.
Он кивнул. И я вспомнила. Как несколько лет назад мы были здесь в кемпинге, и шел дождь, и все сидели по палаткам или были в столовой, или пошли в музей вынесенных морем сокровищ, а я сидела одна на краю бассейна, и тут с дерева слетел листок и, кружась, приземлился на воду.
– Приземлился – в данном случае дурацкое слово, – сказала я.
– Неважно, – ответил доктор Блум.
– Так вот, – продолжала я, – листок упал прямо как надо. Не могу точно объяснить, что это значит. Но когда листок упал прямо как надо, то и все в мире стало прямо как надо. Я была совершенно счастлива.
И тут я заплакала. Из-за листка, упавшего на воду в бассейне. В кемпинге. Ну и бред. Доктор Блум тоже повел себя прямо как надо. Встал, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Выжидал, пока мне захочется продолжить разговор.
– Все, уже прошло, – сказала я через несколько минут.
Он обернулся и ответил:
– Вот именно такие возвышенные моменты и стоит искать, Салли Мо. Их можно найти где угодно, даже в общении с людьми, клянусь!
– Может, в эти мгновения человек как бы возвращается в то время, когда он еще не родился, – сказала я, – такое появляется ощущение.
– Фу ты ну ты, Салли Мо! Ты ходишь ко мне, чтобы я вправил тебе мозги, а получается наоборот: от разговора с тобой я становлюсь еще более чокнутым, чем был.
Тут мы с доктором Блумом – мы оба рассмеялись. Не громко. Ни капельки не громко. Скорее как два листка, которые падают рядышком, прямо как надо, на поверхность бассейна. Под дождем.
Но вчера мы с ним поссорились. Перед самым моим уходом. Из-за правды. Начали у него в кабинете, продолжили на лестнице и в передней, а закончили на улице. Проговорили минут пятнадцать, не меньше. Попозже я еще опишу подробно, но дело сводится вот к чему: доктор Блум считает, что правда – это полная чушь, а я считаю, что до правды, наоборот, надо доискиваться изо всех сил, ведь это высшее, что есть в жизни.
– Высшее, что есть в жизни, – сказал доктор Блум, – это когда твои стихи переводят на китайский, а еще выше – когда ты превращаешься в лягушку.
Отлично сказано, но я слишком на него злилась, чтобы улыбнуться. И вообще, я ненавижу животных. Правда. Всех животных.
– Если ты так ценишь правду, – предложил доктор Блум, – попробуй хотя бы один день не врать.
– В смысле?
– В прямом. Просто попробуй.
– Я и так не вру.
– Ты влюблена?
– Нет.
– А в Дилана?
Блин! О Дилане я сама рассказала доктору Блуму на одной из первых встреч. Довольно много всего. Уверена, что Дилан перевернулся бы в могиле, услышав мое «нет». Или со злости взвился бы пепельным смерчем в урне. Если бы, конечно, был мертвый. Но он пока не умер. Насколько я знаю. В смысле, любой человек, которого ты не видишь и не слышишь прямо сейчас, может оказаться умершим. Я вдруг ужасно испугалась: вдруг Дилан и правда уже все?
– Упрощу тебе задачу, – сказал доктор Блум, – если соврешь меньше трех раз за день, можешь снова взяться за книжку. По рукам?
– Значит, соврать два раза за день можно?
– Вообще не врать невозможно, это бесчеловечно.
Ну ладно.
С утра я сразу начала говорить правду. Встала, посмотрелась в зеркало и сказала:
– Ну и рожа!
Хорошее начало. Мама спросила из своей комнаты, проснулась ли я.
– Да!
Отлично!
– Хочешь ко мне заглянуть?
– Нет!
Тоже честно.
– Ну пожалуйста!
– Ладно.
Это я сказала неохотно, но не соврала.
Я вошла к ней в комнату, она стояла перед зеркалом в шортах, которые были ей явно малы.
– Как я в них, Салли Мо?
– Классно.
Вот и первый раз. Через пять минут после того, как встала с постели. Затем, когда в кемпинге появились Дилан со своей мамой. «Здорово!» Второй. Может быть, надо было честно сказать, что маму Дилана я ненавижу еще сильнее, чем свою? Впрочем, самая ужасная сука – это мама Донни и Бейтела. «Все в порядке, Салли Мо?» – «Все отлично, Дилан!» Третий раз. Вот и все. Или я должна была сказать, что он поганец, потому что год не подавал признаков жизни? Но я так счастлива, что с ним все в порядке!
Все, что я тут пишу, – чистая правда. А все, что я сегодня сказала, было ложью. Теперь посмотрим, как получится с возвышенным.
– Умереть.
– Не родиться.
– Если ты умер, то ты хотя бы сколько-то пожил, – сказал Дилан.
– Если ты не родился, то ты еще можешь родиться, – сказала я.
– А если умер – не можешь, что ли? – спросил Дилан. – Взять да родиться еще раз?
Это у нас такая игра – «Что хуже». Мы играем в нее уже лет пять. С ней у нас есть о чем размышлять те пятьдесят недель, что мы не видимся. В прошлом году мы расстались на вопросе «Что хуже – умереть или не родиться?». Есть о чем подумать. До этого мы обсуждали вопрос «Впасть в летаргический сон и проснуться в крематории от огня или в гробу, закопанном в землю на два метра?» Я была за крематорий: в огне ты сгоришь раньше, чем поймешь, что еще жив, а в гробу будешь загибаться долго и мучительно от голода и жажды.
Но Дилан считал, что гроб лучше: «Потому что я возьму с собой мобильный телефон». «Который там не ловит, угу», – сказала я. «А кто-нибудь это проверял?» – «Аккумулятор сядет, или деньги закончатся». – «Думаешь, я такой дурак?» – «Тогда тебя найдут через несколько веков, а твой скелет будет руками и ногами упираться руками и ногами в крышку гроба, чтобы ее поднять». – «Можно попросить, чтобы перед похоронами тебе вонзили нож в сердце, тогда точно будешь мертвый». – «Но нож надо потом обязательно вынуть, а то кровь не вытечет. Иначе получится, будто рану залепили пластырем или бутылку заткнули пробкой. И ты остаток жизни проваляешься в гробу с ножом в груди». Мы, я и Дилан, никогда не хохочем во все горло. Только тихонько смеемся.
Я влюблена в него уже четырнадцать лет. Мне тринадцать, но наши отцы дружили, и, когда родился Дилан, мой отец сказал его отцу: «Сделаю-ка я девочку для твоего мальчика». Через девять месяцев появилась я и к моменту рождения была влюблена в Дилана уже достаточно долго. Чаще всего выдуманные истории – самые забавные. Было бы жалко их не записывать. Но в этой книге я буду всякий раз пояснять, где правда, а где – нет. Я считаю правду высшим, что есть в жизни, как бы там ни думал доктор Блум. То, что я влюбилась в Дилана еще до рождения, – выдумка.
А теперь правда: сегодня Дилан сказал: «Когда ты появляешься на свет, все улыбаются. И только ты один плачешь. А когда ты умираешь, то все плачут. И только ты один улыбаешься». Думаю, взял это из какой-нибудь книги. Правда, я ни разу не видела, чтобы он читал.
Поскольку только Дилан знает о моем существовании, он – единственный, кто может в меня влюбиться. Пока этого не случилось, но он всегда относится ко мне по-доброму. Как-то раз я сидела рядом с ним на мостках, читала и вдруг взяла и обняла его за плечи. Он не возражал. Но сам в ответ даже не пошевелился. Так что через какое-то время я убрала руку. Он нырнул в воду, а я вернулась к книге.
В этом году все будет иначе. Я сделаю так, чтобы он в меня влюбился. Об этом я и пишу книгу. О том, как завоюю Дилана. Я же столько всего прочитала. Мне ли не знать, как устроены книги.
Выбирай: пуля в лоб или перерезанная глотка?
10 июля, пятница, 18:17
Следом явились Донни с Бейтелом и их мама. Теперь все в полном сборе. Шесть палаток в кемпинге на острове. Три – для четверых детей, три – для разведенных мам. Небольшое уточнение: нельзя сказать, что я ненавижу мою маму. Я ненавижу все, что она делает и говорит, но это другое дело. У нее нет никаких материнских способностей. Она думает, что хорошая мать первым делом должна позаботиться, чтобы у ребенка был отец. Вот она постоянно и старается его найти, нового отца для меня. Как только ни крутится. У меня от такого просто кровь из глаз. Может, с ее стороны это и мило. Но вообще-то я без отца легко обойдусь – и от одной родительницы забот выше крыши.
– Дальше – тишина[1], – сказал Гамлет и умер.
Доктор Блум разрешил мне дочитать «Гамлета», но на этом все. После «Гамлета» он велел мне начать записывать то, что я вижу, и слышу, и думаю. Этим-то я сейчас и занимаюсь, но пока писала, не заметила, что Дилан куда-то делся. Shit. Вот любит он быть один. Точнее сказать, не любит быть среди нас. Среди людей. Он всегда уходит на пляж, и сегодня я нашла его именно там. Увидела издали и потихоньку направилась следом. Кралась через дюны. Если ты влюблена, научишься красться совсем незаметно.
Я часто ругаюсь, это у меня в крови. В нашей семье все матерщинники. Это не мешает долголетию. Дедушка Давид умер в девяносто два года. У нас в роду народ крепкий. Умеем пожить в свое удовольствие. Маме тридцать девять, а вытворяет она такое, как будто ей шестнадцать. И ругаемся мы не затем, чтобы кого-то оскорбить. Да мы вообще в значение этих слов не вникаем. Когда я говорю shit, то вовсе не представляю себе кучу какашек, да и большинство людей вовсе не думают о сексе, вставляя в речь fuck. Моим первым словом было «тфаюма». Папа тогда пришел в восторг. Незадолго до того, как я это выдала, дедушка Давид вешал занавески и пропустил одну дырочку, так что у него осталось лишнее колечко. Надо было все начинать заново. «Твою мать», – ругнулся он. Я играла тут же рядом в кубики, строила пирамидку. Когда я поставила предпоследний кубик, она рухнула. «Тфаюма», – сказала я. «У Салли Мо отличное языковое чутье, – сказал папа, – она найдет себе место в жизни!» И ушел от нас. Теперь он багермейстер – расчищает фарватеры в Дубае. Но каждый год переводит пятьдесят два евро в Фонд борьбы против ругани. Плати по евро в неделю – и ругайся весь год, говорит он. Это выдумка. Я уже больше десяти лет не слышала его голоса. Понятия не имею, как он звучит.
Дилан шел по пляжу вдоль моря, а я кралась за ним через дюны. В то короткое время, что мы живем рядом, я не хочу упускать ничего из того, что он делает. Ни шага, ни слова, ни взгляда, ни ухмылки. Я следую за ним повсюду, но Дилан-то не знает. Значит, и не страдает от этого. Так что не беда, я так считаю. Я написала, что всю жизнь только и делала, что читала. Это выдумка. Когда мы на острове, я только и делаю, что слежу за Диланом. Представляю себе, как все сложилось бы, будь у нас роман. И прокручиваю в голове сюжеты из любовного чтива. Бредятина.
А когда я бываю у дедушки Давида – вернее, бывала, – я тоже не читала, а пересказывала книги. Даже когда мы ловили рыбу. Или он сам рассказывал мне истории. Вторым моим словом было «Молчунишка». Так звали гнома из одной дедушкиной сказки, я ее слушала раз сто. «Твой двоюродный дед Барбер очень ее любил, – говорил дедушка, прежде чем ее начать, – знал назубок». Я тоже запомнила ее наизусть, но это было давно. Насколько помню, в сказке вот что происходило. Давным-давно в одном лесу жило множество зверей и гномов. И вот они заметили, что луна становится все меньше и меньше, но подумали, что им только кажется: с нее просто сходит краска. Однажды ночью луна вообще исчезла, и все разволновались. Кого-то надо было отправить на луну, чтобы покрасить ее заново. Старая сова погрузилась в такие тяжкие раздумья, что ветка, на которой она сидела, совсем прогнулась. «В этом месте Барбер всегда очень смеялся», – пояснял дедушка Давид. Сова позвала Молчунишку. Это был гном, который никогда не произносил ни слова, и другие гномы уже почти забыли о его существовании. Или никогда не знали. Сова спросила: «Может быть, это как раз для тебя задание?» А Молчунишка ответил: «Да, а то на земле все чересчур много болтают». По дереву он залез на небо с двумя ведерками, зачерпнул серебряной краски из Млечного Пути и поднялся выше, к луне. Кисточку он тоже с собой прихватил. Все животные и гномы сидели на опушке леса и смотрели вверх. И правда, на следующее утро они увидели на небе тонюсенький серп. Далее следовала любимая фраза Барбера. Дедушка Давид произносил ее во весь голос: «Это Молчунишка начал красить луну». В этом месте у Барбера наворачивались слезы. А гномы с животными устроили праздник и веселились до восхода солнца, да и после него тоже. Мне очень нравился такой конец. Кажется, я тогда еще не ненавидела животных. И гномов. Невзлюбила я их в два года.
Хватит отвлекаться.
Так вот.
Продолжаю рассказ.
Ужасно хочется вставить куда-нибудь слово «заклинать».
Обычно во время этих прогулок Дилан ничего особенного не делает. Идет себе, глядит вокруг и поет что-то под нос. Иногда ныряет в море. В таком месте, где его никто не видит. Впрочем, ныряет – это сильно сказано. Он бросается плашмя на волну, когда она разбивается, и потом его вместе с пеной несет к берегу. Затем он снова заходит в море, и все повторяется. И так раз двадцать. Или тридцать. Потом сидит на полотенце, пока не высохнет, и шагает дальше. Глядя по сторонам и напевая. Вот и все. Однажды я слышала, как он что-то кричал морю. Слов не было понятно – только его голос. Стоял, подняв к небу сжатые кулаки. Бред какой-то. Может быть, у него было горько на душе.
Сегодня все пошло по-другому. Сначала собака, потом художник, и под конец эта сукина дочь в бункере. С двумя братьями. Как будто мир проведал, что я пишу книгу, и решил подсыпать событий. Дилан снял кроссовки, подвернул брюки и пошлепал по мелководью. Вдруг из-за дюны выскочила большая собака – и рванула к нему. Сзади. Дилан ее не видел. Стоило ему услышать, как ее лапищи шлепают по песку, и обернуться, как собака выхватила кроссовки у него из руки. Наверное, я должна была крикнуть Дилану – предупредить. Но кто же кричит тому, за кем крадется. Собака чесанула обратно в дюны. С кроссовками в пасти. Дилан от неожиданности ушел в песок по колено. Выдумка. Он сначала растерялся, а потом знаете что? Заорал:
– Псина, эй ты, псина!
Правда.
– Эй ты, псина!
А потом двинулся к дюнам. Пригнулся к земле низко-низко и почти уткнулся носом в песок. Он шел по следу! Очень трогательно. Я прямо млела от любви к нему. Сердце так и таяло от нежности, пока в поле моего зрения снова не оказалась собака: она спускалась с другой стороны дюны. Съехала по песку в лощинку между двумя горбами и принялась взбираться на следующую вершину. Эта вторая дюна была вся из белого песка, ни травинки на ней не росло. Только куст терновника на самой макушке. Или шиповника. Фиг разберешь. Я знаю названия всех растений и животных, но понятия не имею, как они выглядят.
Собака поставила кроссовки перед кустом и гавкнула высоким голосом. Три раза. Аа-ав! Аа-ав! Аа-ав-в-в! Похоже на птицу. Куст немедленно открылся. По-другому и не скажешь, потому что он оказался дверцей. И эта самая дверца открылась. Я прижалась к земле. Из-под куста высунулась голова какой-то девчонки. Она заговорила с собакой шепотом, но до меня долетало каждое слово. Чем нож острее, тем лучше режет – типа такого эффекта. Думаю, девчонку было слышно даже на материке.
Она шептала:
– Молодец, Брат Монах, отличная добыча.
Высунула из дверцы руку и почесала собаку за ухом.
– Но я же просила принести нам поесть. Сбегай еще раз в кафе на пляже! В кафе!
– Аа-ав! – ответила собака и убежала.
Девчонка цапнула Дилановы кроссовки и исчезла с ними. Дверца с кустом захлопнулась. Я даже не заметила, как она выглядит. Не обратила внимания. Хотя доктор Блум велел мне приглядываться ко всему как можно пристальнее: смотреть, думать, записывать. Наблюдать, размышлять, фиксировать на бумаге, говорит он. В смысле, чтоб ушки все время были на макушке. А я сплоховала. Вообще-то, когда ты видишь на вершине дюны куст и этот куст вдруг откидывается и из-под него высовывается голова девчонки, – так вот, когда все это случается, толком ничего и не рассмотришь. Что там у нее: лицо как мяч или впалые щеки, тонкие губы, зубы как покосившиеся надгробия? Только и успеваешь подумать: ничего себе, что она тут делает? В этой норе. Обалдеть.
Неожиданно я услышала голос Дилана:
– Здесь собака не пробегала?
– Да она чуть мольберт мне не свернула, – ответил ему мужчина (ну или кто-то с мужским голосом).
Чтобы его увидеть, я подкралась поближе. Задача непростая, потому что меня могли заметить с двух сторон. Дилан и девчонка. Если вдруг подсматривала в щелочку. Но я ползла по песку, точно змея, и вот: Дилан стоит в лощине между дюнами и разговаривает с мужчиной за мольбертом. Лысым и мелким. Больше ничего сказать не могу, потому что вижу его только со спины.
Я сидела, затаившись, совсем рядом и наблюдала через кустик дюнной травы. И картину на мольберте разглядела – классная! Поначалу кажется абстрактной – три горизонтальные линии. Но присмотришься и понимаешь, что это песчаный пляж, море и небо. А по небу плывет красное облако и отражается в воде. Краска лежала классными густыми мазками. Я в этом знаю толк, потому что мой дедушка Давид был художником. Настоящим. Дилан тоже впечатлился.
– Ух ты, – сказал он, – если повесить на стену, все подумают, что это окно.
Понимаете теперь, почему я в него влюблена?
– Спасибо, – сказал художник, – этого я и добивался. Твоя собака побежала вон туда.
– Да, вижу! – ответил Дилан.
Снова пригнувшись к земле, он пошел дальше. Опять взял след.
Пожалуй, дневник – не самый удачный жанр для первой книги. В дневнике ход событиям задает действительность, «настоящая жизнь», а не автор. Художника я бы ни за что не стала выдумывать. Мне он не нужен. Будь моя воля, Дилан просто брел и брел бы по собачьим следам. Что и происходило. А художник – это бесполезный факт. Это я еще объясню попозже. Вторую книгу я выдумаю от начала до конца. Как Бог в первый день творения. Начало Библии я все-таки одолела. От Моисея я без ума.
У подножия дюны с кустом Дилан остановился. Здесь собачьи следы расходились: на север и на юг, на запад и на восток – во всех направлениях. Я проползла по противоположной стороне дюны и залегла у самой верхушки. Чтобы смотреть из-за гребня. Дилан заколебался. Внимательно огляделся и шагнул не туда, так что я… сделала самую глупую, самую дурацкую, самую нелепую штуку. Ничего тупее в своей жизни я не творила ни до, ни после. Бред, короче. Я ведь понятия не имела, к чему это приведет. Просто хотела, чтобы Дилану вернули его кроссовки. В общем, что получилось – то получилось.
Я прогавкала, как та собака. Три раза. Высоко и протяжно. Аа-ав! Аа-ав! Аа-ав! Получилось вполне похоже. Дилан обернулся и глянул вверх, я вжалась в песок и услышала шорох на другом склоне дюны. Девчонка откинула свой куст.
– Ч-ч-черт побери!
Было понятно, что разозлилась она по-настоящему, но говорила как на сцене – точно какие-нибудь министры столетней давности.
– Ч-ч-черт побери, с какой стати ты подражаешь моей собаке?
– Я ищу свои кроссовки.
Ну и кто так знакомится с девушкой?
Я не могла подсматривать как следует, оставаясь незаметной, поэтому сползла с дюны и перебралась на местечко с обзором получше. Пока ползла, слышала, как они говорили.
– Неостроумно с твоей стороны, потому что теперь ты должен умереть, – сказала девчонка. – Выбирай: пуля в лоб или перерезанная глотка? И знай: я серьезна как никогда.
Дилан ничего не ответил – явно затруднялся с выбором.
Теперь мне их снова было видно. Обстановка оказалась более серьезной, чем я думала. Девчонка с ружьем в руках целилась в Дилана, а тот, весь красный, уставился на дуло. Никогда он так не краснел.
Волосы у девчонки, черные как эбеновое дерево, длиной до плеч, совершенно спутались. Наверное, и внутри головы у нее все точно так же спуталось. Кожа на лице белая как снег, а губы красные как кровь. Белоснежка долбаная. Но еще больше она походила на бродяжку, которую я когда-то видела в старом черно-белом фильме. Такую красивую, что мне стало не по себе.
Фильмы я иногда тоже смотрю. Но только не те, что по книгам. Никаких экранизаций. Это как если бы вечером в спальню зашел папа в зеленой шапочке и сказал, что он Питер Пэн. А мама скакала бы за ним следом на деревянной лошадке, утверждая, что она Пеппи Длинныйчулок. С куском проволоки в одной косичке. Фу, тошнячка. Лучший фильм на свете – это «Крупная рыба»[2]. Про то, что в рассказах жизнь можно приукрашивать. Преувеличивать, чтобы стало красивее и интереснее. Люди от этого будут только счастливее. Вот о чем он. Я часто плачу, когда смотрю кино, но только от счастья. Надеюсь, по моей книге фильм не снимут.
На лице у девчонки чернели грязные разводы. Глаза пронзительные. Идеально для роли «девочки, живущей в норе в дюнах». Выходит, это выдумка, что люди с собаками всегда уроды. Совсем не всегда. Я могла закричать, броситься на нее или позвать на помощь художника, но почему-то точно знала, что она не выстрелит. И правда. Дилан постоял какое-то время, подняв руки вверх, как-то очень по-любительски, а девчонка вдруг растянулась на песке носом вниз, прямо с ружьем.
Из норы высунулись двое мальчишек лет восьми, с виду ровесники Бейтела. Перебрались через лежащую Белоснежку, держа каждый по кроссовке Дилана. Близнецы. Морды нахальные. Все в веснушках, но все равно несимпатичные. Выражались они так же выпендрежно, как и девчонка.
– Сколько ты готов за них заплатить? – спросил один из них.
Оба подняли кроссовки вверх.
– Пятьдесят евро – и ты получишь их обратно, – уточнил второй.
Дилан опустил руки.
– Вы совсем, что ли? – сказал он. – Это же мои кроссовки.
– Но теперь они принадлежат нам, – возразил первый.
– Собака принесла, – пояснил второй.
– Так она их у меня же и стырила, – сказал Дилан. – Не валяйте дурака.
Девчонка между тем села, положив ружье себе на колени.
– Стырить – все равно что получить в подарок, – сказал первый мальчишка.
– Деньги, которые наш папа стырил у людей, они принесли ему сами, – сказал второй.
– Все равно что подарили, – сказал первый.
Жалко, что я не знаю их имен, – писать было бы проще.
– Чтоб я ничего подобного больше не слышала, – прошипела девчонка и направила ружье на мальчишек.
По-моему, художник должен был слышать все их разговоры в этом безветренном мире. Хотя, возможно, он уже ушел. Картина его выглядела завершенной.
– Никаких разговоров о евро и о деньгах, – воскликнула девчонка, – и слышать не желаю о выгоде, о прибыли, о доходах и так далее. И об айфонах и чипсах тоже. Здесь всего этого просто не существует.
– Пятьдесят этих самых, – обратился второй близнец к Дилану.
– Пятьдесят У.Е., – добавил первый, – или мы выставим их на eBay.
Взметая песок, на дюну взбежала собака. Положила у ног девчонки кусок сырого мяса и гавкнула три раза.
– Ч-ч-черт, – сказала девчонка.
Ругаться у нее совершенно не получалось. Видимо, она старательно учила плохие слова, но браниться с таким изысканным произношением – это смех на палочке.
– Ч-ч-чер-р-рт, оно же сырое! Какой нам от него прок! Принеси нам мяса не из кухни, а с тарелок!
Собака грустно гавкнула и легла на песок рядом. Девчонка почесала ее за ухом. Вполне нежно. Пока она не чешет за ухом Дилана, все в порядке.
Дилан подбежал к мальчишкам и попытался отобрать кроссовки. Мгновенно получил от них коленом в пах и сложился вдвое. Я тоже чуть согнулась от боли, как будто у меня трещина в лобковой кости. Преувеличение не считается выдумкой.
– Что с воза упало, то пропало, – сказал первый близнец. А может, второй.
И тут произошло кое-что замечательное. Дилан выпрямился, схватил этих гаденышей за шкирку и столкнул головами. Просто чудо, что у них не треснули черепушки, а то вылетел бы рой черных чертенят.
Shit. Зовут за стол. После еды надо все перечитать и самую сочную фразу отправить в заголовок. Чтобы у главы было название. А потом буду дальше писать о приключениях Дилана. Пока что он главный герой, этот подлец. Так Гамлет называет своего ублюдка дядю: подлец.
Любовь – это смесь жадности со щедростью
11 июля, суббота, 2:22
– Нашел ботинки? – спросила девчонка. – Тогда проваливай! Тебе повезло: я тебя отпускаю. Но если ты кому-нибудь хоть словом обмолвишься, что мы здесь…
– Я никогда ничего не рассказываю, – ответил Дилан. – Никому.
Это правда.
– Вот и продолжай в том же духе. Если я хотя бы заподозрю, что ты меня сдал, тебе от меня не уйти. Я умею читать следы даже на асфальте, и тогда выбирай – пуля или нож. Чтобы ни одной живой души тут и в помине не было!
– А они как же? – Дилан указал на близнецов, сверливших его злобными взглядами.
– Я воспитаю их как зверей.
– А ты сама?
Кровь опять прилила к его щекам. Значит, в прошлый раз он покраснел не от страха. Я так и читала его мысли: если уж мне суждено погибнуть, то от ее рук.
– Я тоже пытаюсь стать зверем, – ответила она.
И принялась объяснять, чем люди отличаются от животных. Несла какую-то чушь. Реальный бред. Разница, по ее словам, только в том, что у людей есть деньги, а у зверей – нет. Ну да, конечно, а еще у людей есть нос, а у сахарниц – нет, вот и вся разница. Мальчишки исчезли в норе за кустом, и обстановка на дюне стала какой-то уж больно домашней. Думаю, девчонка почувствовала, что Дилан ее не выдаст, и после нескольких дней в укрытии ей захотелось поговорить с кем-нибудь нормальным. С кем-нибудь красивым. Добрым. Пусть даже и с человеком.
Она заявила, что вообще-то между животными и людьми различий миллион, но все в итоге сводится к деньгам. Звери отправляются на поиски пищи, как только почувствуют голод, а люди покупают продукты, чтобы съесть потом, когда проголодаются. Потом! Животные, в отличие от людей, не думают о будущем. Животные убивают своих собратьев, чтобы их съесть, или со злости, когда кто-нибудь на них наступит или полезет к их детенышам. А люди – потому что им приказывают другие. И они убивают. Других людей и животных. Ради денег. Ради денег, которые им понадобятся потом, в старости. Они прячут их в сейф или в банк. Человек без денег хочет просто денег, а человек с деньгами – еще больше денег.
– Животные не откладывают на потом, – заявила она.
– Белки запасают всякие грибы, даже поганки, – осторожно возразил Дилан.
– Нет, они их просто прячут. Причем сами знают, что потом не найдут. А люди откладывают все подряд. Есть даже такие поганки, которые запасают белок.
Дилан просто скрючился от хохота – клянусь. Будто впервые в жизни услышал шутку. Но девчонка не засмеялась, так что он поскорей перестал.
– У людей есть вещи, – продолжила она, – деньги и вещи, а у зверей нет абсолютно ничего. Поэтому они не завистливы. Они не крадут, не обманывают, не мошенничают. Звери – хорошие, люди – плохие.
Прямо так и сказала. Было видно, что она не шутит. Есть такие декоративные плитки, на которых написано: «Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю животных». И некоторые такое покупают. Не жалеют денег. Идут в сарай за гвоздями и молотком, чтобы такую плитку повесить. В туалете. Или вызывают мастера. Человека. Не слона или дятла, а человека. А тот делает себе, что его попросили, и не задумывается, правильная ли это мысль.
Дилан опустился на песок напротив девчонки.
– С какой стати ты тут уселся?! – зашипела она. – Тебя здесь нет и никогда не было. В твоем мире меня не существует, а тебя не существует в моем. Уходи! Забудь все, что слышал и видел, и ботинки свои забери.
Дилан подскочил так, будто сидел на злющем скорпионе. Ну то есть как будто скорпион разозлился, потому что Дилан на него уселся.
– Для зверя ты слишком красиво говоришь, – заметил Дилан.
Девчонка показала ему средний палец и сказала:
– Да пошел ты на хр-р-рен!
Как будто у нее рот от рождения полон взбитых сливок и ругательствам приходится через них пробиваться.
– Слова тоже изобрели ради денег, – провозгласила она, – чтобы торговать. Назови мне хоть что-нибудь, для чего нужны слова.
Чтобы писать книги, подумала я, или песни – все, что считаю важным.
Дилан не знал.
– Чтобы драться, слова не нужны, – сказала девчонка. – И избавиться от тебя я могу без слов: просто ткну тебя в ребра ружьем, зарычу и оскалюсь. Слова не нужны, чтобы плавать, строить дома, смеяться, целоваться, заниматься любовью.
Мне показалось, что закат начался дико рано, будто уже зима на дворе. Но то было не заходящее солнце, а голова Дилана. Ну и мастер же он краснеть! И драться, оказывается, тоже. Кто бы мог подумать! Его отец был старый хиппи – мир-любовь и все в таком духе. Просил прощения у каждой морковки перед тем, как от нее откусить. Жена выставила его на улицу, потому что он был в два раз старше ее – «на сто процентов старше», как она говорила, – ему едва хватило времени назвать Дилана Диланом. Вот откуда у него это имя.
– А как тебя зовут? – спросил Дилан.
Девчонка вскочила и ткнула его стволом ружья в ребра.
– Думаешь, я идиотка? – воскликнула она. – Дам тебе раззвонить по всей округе, что мы здесь прячемся? Чтобы ты еще и вознаграждение получил? – Последние два слова она процедила с таким видом, будто ее вот-вот вырвет.
– Ничего я рассказывать не собираюсь! – ответил Дилан. – Я даже не знаю кому…
– Полиции, журналюгам.
– За полсотни мы тебе скажем, как ее зовут.
– И как нас – тоже.
Близнецы снова высунулись из норы. Девчонка кинулась к ним и стала заталкивать их обратно:
– А ну заткнитесь!
– Ее зовут Джеки! – выкрикнул один.
– Джеки Кромме Линге!
– Мы ее братья, она нас похитила.
– Забери нас отсюда!
– Позвони в полицию!
Значит, девчонка – Джеки. Наверное, уменьшительное от Жаклин. Я узнала об этом часов десять назад, но мне было ни капли не трудно держать язык за зубами. Не очень-то приятно писать ее имя. Она умудрилась затолкать братьев обратно и захлопнула куст. Раздался металлический щелчок. Выходит, это настоящая дверь, и ведет она, скорее всего, в бункер. Джеки подперла куст веткой.
– Шарфы наденьте! – крикнула она через дверь и повернулась к Дилану. – Ну что, не проболтаешься?
Дилан кивнул и спросил:
– Что я могу для тебя сделать?
– Уйти и больше здесь не показываться, – ответила она. На ее лице вдруг проступила неописуемая грусть.
– Ты здесь до конца каникул просидишь? – спросил Дилан.
– До самой моей смерти, – ответила она, – и даже после нее никто меня не найдет.
Дилан кивнул и ушел. С кроссовками в руке. Девчонка уселась рядом с псом и прижалась к нему – прямо щекой к щеке.
Дилан карабкался по рыхлому склону здоровенной дюны. Добравшись до вершины, он побежал. Кинулся вниз сломя голову. И запел! Я еще ни разу не видела, чтобы он краснел, или дрался, или пел. Вот это день! Но до чего же идиотские песни способен сочинять человек, когда влюблен! Дилан пел о Джеки, что сбежала навеки. Ну-ну. Он продолжал горланить всю дорогу до кемпинга. Джеки-навеки. Чувак, да ты поэт! Он еще и пританцовывал. Как утка на пуантах. Я начала понимать эту Джеки, что сбежала навеки. Без слов, пожалуй, и вправду лучше.
Каждое лето я слежу за Диланом. Я видела все, что он делал, и слышала все, что он говорил, но никогда не знала, о чем он думал. А теперь я могу это выдумать. Впервые! Проще простого. Весь вечер он просидел, уткнувшись в свой мобильник: само собой, прочесывал интернет в поисках мефрау[3] Кромме Линге.
«Мефрау» – так всегда называл женщин дедушка. И женщину, в которую влюбился в свои девяносто лет, – тоже. А слово «гараж» он произносил не на голландский манер, с хриплым, горловым «г», а по-французски мягко, почти что с «к» в начале. Он говорил по-старомодному чинно, но не напыщенно. В отличие от некоторых. Когда он кричал «твою мать!», голуби подрывались с деревьев как ненормальные.
Для моей книги то, что мефрау JKL вдруг возникла из ниоткуда, из песков, – просто подарок судьбы. Нашей героине Салли Мо сразу же приходится убрать с дороги серьезное препятствие: обворожительную соперницу! Лучше бы – с помощью собственного ружья врагини. Чехов писал: если в начале появляется ружье, в конце оно обязательно должно выстрелить. Еще можно прикинуться милой старушенцией и затолкать этой девчонке в глотку отравленное яблоко. Вот это по-злодейски! И книга станет даже лучше, чем я думала. А может, даже лучше, чем я надеялась.
Сейчас полчетвертого утра. Спать – только зря время терять. Люди, дожившие до девяноста, проспали тридцать лет. А жили – только шестьдесят. Я потеряла уже больше четырех. От сновидений никакого толку. Делать или думать, что хочешь, ты не можешь. Сон накатывает на тебя как волна, а ты лежишь со связанными руками на дне моря и даже закричать не в силах, потому что рот тебе заткнули твоими же дипломами по плаванию. Я выключила фонарик и высунулась из палатки. Небо покрыто тонким покрывалом ночи, тут и там его прокалывают звезды.
Может, все-таки лучше поспать? Чтоб никакого Дилана в голове. Все мои мысли – только о нем и о той девчонке. И вот что: когда так сильно любишь человека, как я – Дилана, разве не полагается хотеть для него всего, чего его душа пожелает? И самой парить на седьмом небе от счастья, когда он влюблен, пусть и в другую? Ведь любить по-настоящему – значит отдавать, не прося ничего взамен? И сейчас я должна бухнуться на колени и молиться о том, чтобы у Дилана и Джеки все сложилось и они бы жили долго и счастливо и попросили бы меня быть свидетельницей на их свадьбе и крестной их детей – я же лучшая подруга Дилана. А потом я бы еще до конца дней своих врала, что и Джеки – моя лучшая подруга. Ненавижу эту стерву. И вообще, JKL – это вроде бы такой истребитель. Пошумит-пошумит – и нет его. (Или не JKL, а JSF?[4] Да ладно, кто их разберет, главное – сравнение хорошее!)
Дилан должен краснеть и драться – из-за меня! Петь и танцевать – для меня! Любовь – это смесь жадности со щедростью. Нужно выложить сердце на стол, но, если другой не сделает то же самое, очень важно вернуть сердце себе обратно. Иначе оно истечет кровью. Ну или придется вырвать сердце ему. Возлюбленного надо покорить, так вроде бы говорят? И не зря. На абордаж! Как в старину, когда солдаты в яркой форме бросались в атаку, с криками и песнями, чтобы их всем было слышно и видно. Бред как он есть. Но если этого не сделать, то моргнуть не успеешь, как будешь писать любовные письма девчонке за парня, которого ты упустила. Потому что он в эту девчонку влюблен, а сам двух слов на бумаге связать не умеет. Я прямо вижу, как лежу в дюнах, а Дилан стоит чуть поодаль перед этой девчонкой, башка у него как стеклянная чаша, полная лавы, а язык отнялся. И что, я должна подсказывать ему из своего укрытия сладкие словечки, чтобы он смог покорить ее лживое сердце? Ну уж нет! Потому что тогда я опять перестану существовать. Точнее, так и не начну. Если ты всю жизнь старался оставаться невидимкой – это значит, что ты существовал, или нет?
Дедушка Давид говорил: «Жить – значит брать и отдавать. Я отдал все, что мог». – «И взял, дедушка?» – «Только одно: я всегда брал на себя ответственность». И он грустно смеялся. Я рада, что он умер. Серьезно. Он так этого хотел! Жить он продолжал только из вежливости. Раньше, когда я навещала его и спрашивала, как дела, он вздыхал: «Ох, девочка моя, о-хо-хо». Но в последнее время вместо ответа он ругался такими черными словами, что в округе церкви рушились. Он прожил сколько мог – пока не стало совсем невыносимо.
Выходит, это я умею: так сильно любить человека, чтобы думать только о его счастье, а не о собственном. Мне безумно не хватает дедушки, просто жесть как сильно. Только с ним можно было поговорить по-настоящему. И все же я рада, что он умер. Рада за него. Но если завтра я увижу, как он сидит на облаке и рыбачит с другой девочкой, пожалуй, я и передумаю. А что, если Дилан меня отвергнет? На время, чтобы сначала заполучить подругу покрасивее. Но смолкни, сердце, скован мой язык! Это из «Гамлета».
С тех пор как я пообещала доктору Блуму не читать, а жить отдельно от книг, в реальности, я пробую проделывать всякое, что на самом деле невозможно. Кладу руку на стол и жду, чтобы стакан сам заскользил ко мне с другого конца. Ну или хоть сдвинулся с места, совсем чуть-чуть, – начнем с простого. Интересно, что я почувствую, если получится: обрадуюсь или перепугаюсь до смерти? Или взять дýхов: что со мной будет, если встречу призрака? Думаю, если Дилан вдруг решит меня поцеловать, я помру со страху. С тех пор как читать нельзя, мне все кажется адским бредом.
Деревенские часы бьют четыре. Идет дождь. Я впитала в себя почти все, что написало человечество, – от изобретения клинописи и до 13 часов 32 минут вчерашнего дня. Как губка. Пора бы кому-нибудь меня выжать.
Значит, ты умеешь убивать котов одним взглядом?
11 июля, суббота, 9:11
Мы, Бейтел и я, перешли по мостику и оказались в лесу. Было еще рано, половина восьмого, листья на деревьях мокро блестели. К свае в воде была прибита табличка: «ЛОВИТЬ РЫБУ ВОСПРЕЩЕНО». На свае сидела цапля с рыбой в клюве.
– Читать не умеет, – сказала я. – Глупая птица!
– Наоборот, умная! – возразил Бейтел. – Она-то знает, что люди думают: цапли читать не умеют. А цапли как раз отлично умеют и еще отлично умеют притворяться, что не умеют читать.
А что, вполне возможно.
– Ты подожди тут, – попросил Бейтел, – а я пойду поздороваюсь с бобрами.
Он исчез в кустах на берегу озерца. Бейтел разговаривает с животными. Особенно с невидимыми. Я животных ненавижу, так что невидимые звери для меня – лучший вариант. Чувствую, у нас с ними есть кое-что общее. Бейтелу восемь лет, но он все еще живет в сказочном мире. Может, вообразил себя Питером Пэном и не хочет взрослеть, вот и выбрал сказку. Или это звери его не отпускают. Лично меня Питер Пэн всегда бесил. «Умереть – вот это настоящее приключение», – говорит он[5]. Ну да, как же. И все же, глядя на Бейтела, я думаю: вот будет жалость, если он со дня на день превратится в тормознутого подростка.
Может, пубертат – это первая из вереницы жутких болезней, которыми надо переболеть за всю жизнь? Если так, то Бейтелу повезло, что он пока здоров. Я бы хотела, чтобы мне прямо сегодня исполнилось семьдесят четыре. Серьезно! Ведьма с корзинкой отравленных яблок. У меня старая душа. Жду не дождусь, когда эта душа по возрасту совпадет с моим телом. Или наоборот. Молодость меня уже достала, причем с самого рождения.
Бейтел появился из-за кустов. Оказывается, бобры еще спали. Мы направились глубже в лес. Бейтел решил поздороваться с совой:
– Думаю, она еще не заснула.
Он снова исчез из виду.
На этот раз он запропастился надолго. Я осталась совсем одна, а ветер легко потряхивал ветки, и от этого под деревьями как будто накрапывал дождь. Присесть было некуда – сплошная сырость кругом. Лучи солнца тянулись между деревьями горизонтально, а я стояла и чувствовала себя счастливой. По правде. Ночью темными делаются не только вещи – дома, крыши, трубы, – но и мысли. А утром все светлеет. И мысли тоже.
Солнечный свет отражался в каждой капле – и в тех, что падали, тоже. И они искрились, и внутри у меня все искрилось тоже. Я закрыла глаза, но продолжала видеть, потому что в мою голову вместился целый мир. Даже тела не ощущала: оно заполняло размером Вселенную, не натыкаясь ни на какие препятствия. На глазах выступили слезы, и я почувствовала, что солнце в них засверкало искрами так же, как в дождевых каплях. Я была во всем, и все было во мне, и все складывалось прямо как надо – как тогда с листком, упавшим на воду бассейна! И когда Бейтел вышел из-за деревьев, все по-прежнему оставалось как надо. Вид у Бейтела был серьезный, но свою беседу с совой он пересказывать не захотел.
Мы вышли на поляну. Ее обступали хвойные деревья. Посередине стояли три то ли сосны, то ли елки – кто ж их разберет – и еще одно дерево, с листьями как большие зеленые ладони: мизинец, короткий большой палец и три длинных. В деревьях я ни бум-бум, правда. Бейтел тут же полез на самую высокую то ли сосну, то ли ель. Получалось у него хорошо, он легко сновал между ветвей. Как будто путь был ему знаком. Он взбирался из тени к солнцу. Высоко. Еще выше. Слишком высоко. Бейтел встал на одну из верхних ветвей, обхватил рукой ствол и приложил ладонь козырьком ко лбу.
– У меня тут наблюдательный пост! – завопил он.
– Братец Бейтел, – крикнула я, задрав голову, – ты высоко сидишь, далеко глядишь, видишь ли кого-нибудь?
– Динозавров! – заорал он. – Целое стадо!
Солнечные лучи гребнем чесали ему волосы. От того, как он там стоит, мне стало жутко. Предупредить, что это опасно? Но я ж ему не мама. Доктор Блум говорит: мы родились не затем, чтобы осторожничать. Я прочла десять тысяч книг и еще немного. Не меньше чем в половине из них встречались дети, и все они были намного счастливей, если их не дергали без конца. Если Бейтел упадет, я его поймаю. И сломаю спину. Тут же прослыву героиней. А деревья – они, по-моему, обожают, когда на них залезают, уж им-то вреда не будет.
– К оружию! – скомандовал Бейтел и змеей соскользнул вниз.
Фух, гора с плеч! Он поднял с земли длинную ветку и протянул мне:
– Твое копье. Я возьму только рубило. Самок и детенышей не трогаем.
– Договорились.
– Слышишь топот? Они близко. – Бейтел напряженно всматривался в деревья на краю поляны. – Там! – закричал он. – Вон они! Целое стадо! Матери с малявками. Самец – только один. Вот тот, здоровущий. Давай! Бросай! Скорее!
Нужно было прицелиться, но я не знала, куда метить. Тогда я вообразила, как прямо на меня надвигается тираннозавр.
– Плотоядный! – закричала я. – Человекоядный! – И метнула копье.
– В яблочко! – радостно подхватил Бейтел. – Ты пронзила его холодную кожу! Молодец, Салли Мо! Он валится на землю!
Бейтел подбежал к месту, где упало копье, осмотрел убитое чудовище и заплясал вокруг туши, припевая: «Наповал! Наповал!» Потом глянул в ту сторону, откуда появился динозавр, и сказал:
– Вот этого я и боялся: самки удирают. Что же нам теперь делать с детенышами?
– Давай спрячем их под теми деревьями? – предложила я и показала на четыре торчащих посреди поляны ствола.
– Нет, там лежит наше оружие, они испугаются. Родители научили их бояться человека.
– Можем попробовать их приручить.
– Это невозможно.
– С саблезубыми тигрятами же получилось.
– Ну да.
Не успела я и глазом моргнуть, как мы оказались в хвойном сумраке, ветки накрывали нас шатром, а рядом возились семнадцать динозавриков. Ну не бред, а? У одного малыша глаза косили. Мы сидели на мягком ковре из сосновых игл. На сук рядом с моей головой опустилась птичка и принялась выводить трели.
Бейтел нашел яму и принялся маскировать ее ветками и листьями: ловушка для саблезубого тигра. Закончив, он отошел немного в сторону и осмотрел ее. А потом направился прямо к яме.
– Осторожно! – закричала я. – Еще сам упадешь!
– Хочу проверить, как сработает, – ответил Бейтел.
Он шел, насвистывая и заложив руки за спину, разглядывая облака. Прямо как саблезубый тигр-папаша в воскресенье, когда у него нет других дел, кроме как гулять и наслаждаться хорошей погодой. Наконец Бейтел наступил на листья и ветви и провалился по пояс.
– Сработало! – воскликнул он.
Надо же, какое чудесное выходило утро! Внезапно я поняла, почему люди продолжают рожать детей. Всегда есть один шанс на десять миллиардов, что у тебя получится маленький Бейтел.
Возвращались мы опять мимо озера.
– Наверное, бобры уже проснулись, – сказал Бейтел и скрылся в прибрежных кустах. Надолго.
С детьми пообщаешься – станешь буддистом. Нужно столько терпения, что время как будто перестает существовать и отступает: мол, сдаюсь-сдаюсь.
Рядом вынырнул Бейтел:
– Знаешь, что мне бобры рассказали? Они говорят, что… – Тут на берегу показались другие туристы, и Бейтел быстро сменил тему: – Мы еще матч не доиграли, а мама уже зовет меня домой. И вот я лежу в постели и слушаю, как остальные радуются, что гол забили. Разве это честно?
– Нет, конечно, – ответила я.
Я в жизни не играла в футбол, но мне было так приятно, что Бейтел впустил меня в свой мир, что я соглашалась с ним во всем. Мы приближались к кемпингу, на тропинках все чаще появлялись прохожие. Что рассказали бобры, так и осталось загадкой.
Отец Бейтела – самый добрый из всех отцов нашего маленького клуба. К Донни он отношения не имеет: у того другой папа, с которым я не знакома. Хорошо, что я единственный ребенок: никакой путаницы с отцами. Папа Бейтела каждый вечер рассказывал нам, всем четверым, сказки перед сном. Он прозвал Бейтела Франциском в честь древнего святого, который беседовал с птицами. По-моему, он и сам умел общаться с любыми животными. Только с матерью Бейтела ему не повезло. Зараза каких мало! Изменила прямо у него под носом! Ну и он после этого тоже ей изменил. К сожалению, с моей мамой. Скандал вышел ужасный, и больше мы папу Бейтела не видели.
Боже, как же я ненавижу измены! Из-за них все, что ты раньше чувствовал и говорил, становится враньем. Если завтра мы с Диланом станем парой, я буду хранить ему верность всю жизнь. И еще десять лет после своей смерти – клянусь. Да и потом тоже. Не то что мать Гамлета: у нее муж умер, а она уже через несколько недель вешается на его брата – своего деверя, дядю Гамлета… Да я бы им всю постель заблевала! Как раз перед тем, как они в нее нырнут. Хотя это вроде как не измена – она ведь вдова, и все же. Вокруг Гамлета – сплошные интриги, заговоры и обман. Его ярость – это моя ярость.
Донни похож на свою мать, а Бейтел – на отца. Вот бы детей называли Номер Один, Номер Два и Номер Три, пока они не вырастут. А там уже решали, какое имя им подходит. Тогда Бейтел был бы не Бейтелом, а Франциском. А меня так и звали бы Номер Один.
Когда мы подошли к палаткам, наши мамы уже проснулись. Обстановка царила душевная. На огне закипал чайник, жарились яйца, Дилан и Донни еще спали. Я сидела у входа в свою палатку и писала. Все, что написано выше. Прямо досюда. Никто этого не замечает. Что я пишу, а не читаю. Что я здесь сижу. А если и замечают, по чистой случайности, то думают, что я нахожусь в другом мире, у себя в голове. И так уже тринадцать лет. Все уверены: слова из реального мира до меня не доходят, вот и мелют при мне все подряд. Так что о наших матерях я знаю все, что только можно (и нельзя).
Черт!
Дилана в палатке не было! Впервые за все эти годы я проворонила, когда он ушел. А он возьми да появись с мотком проволоки и удочкой в руках! Ходил в деревню. Без меня! Ну то есть он все делает без меня, но я-то всегда держусь рядом. Мы сели завтракать. Всемером. Такое редко случается. Донни тоже вылез из палатки. Я еще расскажу попозже…
Мама старалась изо всех сил.
– Ну как, весело тебе тут, Салли Мо? – спросила она.
– Очень, мам, а тебе?
– Качественный досуг, детка, качественный досуг!
Я кивнула и улыбнулась ей.
– Значит, тебе не хочется сходить с нами в деревню, выпить кофейку, погулять вчетвером в девчачьей компании?
Я заставила себя приподнять уголки губ и помотала головой. А вот Бейтелу выбора не оставили.
Он ужасно возмутился:
– Я хочу остаться с Салли Мо!
Но у него нет права голоса. Он нужен нашим мамам в доказательство того, какие они чудесные родительницы. Они пичкают его чипсами и детским капучино и без устали наглаживают по голове. Тут и свихнуться недолго. Делают они это, только когда на горизонте появляются мужчины.
Донни опять выполз из палатки. Дилан ненавидит Донни с рождения. Ни разу не видела, чтобы они вместе играли или разговаривали. Даже в детстве. Если спросить Дилана, кто самый большой сукин сын на свете, он ответит: «Донни и еще раз Донни».
Как я писала вчера, врать я не стану, но преувеличивать могу. Дедушка Давид говорил: «Рассказ можно приукрасить один раз, если ему это пойдет на пользу». Подрался с одним чемпионом мира по боксу – скажи, что с двумя. Прочел за день три книжки – скажи, что четыре. Засунул себе в нос пять шариков – скажи, что шесть, по три в каждую ноздрю. Угодил в семь канав – скажи, в восемь. Так что «Донни и еще раз Донни» – подходящий ответ. Пусть это и выдумка. Правда, когда я рассказала дедушке Давиду, что за мной крался какой-то извращенец, юмора он не понял. Чуть в полицию не позвонил. Ну и я тогда была еще маленькая.
Дилан находился в превосходном настроении. Читал что-то на телефоне у себя на коленке, одновременно пытаясь вязать силки из проволоки. При этом он мурлыкал себе под нос ту самую идиотскую песенку о Джеки, что сбежала навеки. Без слов, конечно, но я-то их слышу, слова, даже если он их и не произносит.
– Эй, Дилан! – окликнула я его. – На рыбалку собрался?
– Да, – ответил он, – и кроликов ловить. Или фазанов. Хочешь на ужин фазана, Салли Мо? На этом острове такая тоска, надо же чем-то заниматься.
Врет и не краснеет! Это он для нее собирается охотиться, для мефрау JKL и ее тошнотворных братцев. Хочет хорошенько подготовиться к своему следующему выходу и предстать перед ней мощным охотником и собирателем. Может, доктор Блум прав, и все врут напропалую изо дня в день, потому что от правды только больнее. Может, Дилан просто не хочет меня расстраивать.
В мои мысли опять просочилась вчерашняя ревность.
– И что, ты их ощиплешь, обдерешь, вытащишь кишки и отрежешь голову, да? – спросила я.
– Ага, – ответил он. – Я как раз гуглю, как это делается. Ужин будет – пальчики оближешь. Кстати, как прошел твой год, Салли Мо?
– Лучше не бывает, Дилан, а твой?
– Как обычно. Я слышал, ты кота убила.
– От кого ты это слышал, Дилан?
– От моей матери, и от твоей тоже.
– Я всего лишь на него посмотрела. Это не то же самое, что убить, совсем не то же самое. Откуда мне было знать, что он этого не вынесет?
– Значит, ты умеешь убивать котов одним взглядом?
– Вообще-то, мне для этого целая ночь понадобилась. Когда нас нашли, он уже умер. Упал от сквозняка, когда взломали дверь подвала. Но я понятия не имела – ну, что он уже какое-то время был мертв.
– Ясно. Что еще нового?
– Перешла в следующий класс, – ответила я. – А у тебя?
– И я перешел. А ты в какой уже?..
– Во второй гимназический.
– У, гимназия! Латынь и древнегреческий. Как будет «латынь» по-древнегречески?
– В то время еще не было никакой латыни, Дилан.
– Ты совсем не изменилась, Салли Мо.
– А надо было?
– Ни в коем случае.
Но он ошибается. Я изменилась, и теперь грядут перемены, большие перемены. Дилан первым заметит. И тоже не сможет остаться прежним.
Донни снова вылез из палатки. Он рыгнул и спросил:
– С каких это пор ты пишешь, а не читаешь?
Ну надо же, я становлюсь видимой. Папа всегда меня замечал, и дедушка Давид, и Дилан, а больше никто. Да, еще доктор Блум – но ему за это платят. С сегодняшнего дня еще и Бейтел. Но это ни о чем не говорит, потому что он разговаривает с невидимыми животными, так что с невидимыми людьми тоже наверняка способен общаться. Но Донни? А может, тебя видят, только если ты тоже смотришь? Это как светящиеся в темноте глаза или что-то в этом роде. Наши мамы меня пока не видят, и лучше бы так было и дальше.
– Салли Мо прочла все книги на свете, – ответил Дилан. – Если ей захочется чего-то нового, ей сначала придется самой это написать.
Надо же, он заговорил с Донни! Что за бред!
Донни перданул, как реактивный истребитель.
– Обо мне чтоб не писала! – пригрозил он. – А то убью.
– Понятия не имею, что о тебе написать, – ответила я.
Он поплелся в душевую с полотенцем на шее. Донни каждый день по часу стоит под душем. Ему шестнадцать. Видимо, гнусный возраст. После душа он опять валяется у себя в палатке. Потом выходит поесть и снова ложится. Когда темнеет, он топает в деревню. Один. Возвращается очень поздно, вчера вот в три притащился. И при этом круглый отличник. Просто бред. Наверное, однажды на перекрестке столкнулся с дьяволом и продал ему душу за хорошие оценки. А самая бредятина в том, что шестнадцатилетний парень ездит на каникулы с матерью. Подозреваю, она ему за это приплачивает. Я-то еду из-за Дилана и думаю, что Дилан приезжает ради меня. Не из-за меня, а ради.
Мило, что он сказал, будто я прочла все книги на свете. Вообще-то, он прав. Неизвестных мне книг – миллионы, но вряд ли в них написано то, чего я еще не знаю. Все хорошие книги я уже прочла. Хорошую книгу может написать только тот, кто ее написал. Ну, в смысле, никто другой с ней не справился бы – так же классно и с теми же мыслями. Хорошую книгу перелистываешь назад, потому что хочешь еще раз посмаковать самые лучшие предложения. Или чтобы хорошенько переварить важную мысль.
А еще бывают плохие книги – их мог бы написать кто угодно. Может, еще и получше их автора получилось бы. Даже у меня. И вышло бы круче. Плохую книгу читаешь как можно быстрее. Потому что хочешь только узнать, что будет в конце, или просто надеешься, что она закончится поскорее. О такой книге и думать необязательно – ни перед тем, как читать, ни во время, ни после.
Странно, что большинство людей читают именно такие книги. Хотят отдохнуть, проветрить голову. Но это как раз не для меня. Я хочу, чтобы, когда я умру, моя голова была забита до отказа. Чтобы она была тяжелой, как мир. Чтобы к ногам гири привязали, иначе гроб перевесит. Правда, хорошо бы этим мыслям иногда успокаиваться и укладываться по местам. А то скачут туда-сюда без конца.
Насвистывая, как саблезубый тигр-папаша в воскресенье, Дилан перебросил удочку через плечо, взял свои проволочные силки и с улыбкой попрощался со мной:
– Аве, Салли Мо! Тот, кто идет добывать вкусный ужин, приветствует тебя!
И пошел себе из кемпинга. Можно даже не следить. Я и так знаю, куда он направляется.
Подлец, улыбчивый подлец, подлец проклятый! Это опять из «Гамлета». Если ты прочитал «Гамлета», можешь потом ничего больше не читать. Это доктор Блум верно подметил.
Я живу в больном квартале: площадь Ветрянки, 17
11 июля, суббота, 22:16
Теперь все еще хуже, чем было. Теперь я ревную к классной девчонке. Ненавидеть ее у меня не получается. Когда ревнуешь, то ненависть – твоя лучшая подружка. С ней можно посмеяться над чумазой физиономией, вычурной манерой речи, над мелкими гаденышами-братьями и папой-бандитом. Но моя ненависть к этой девочке рассосалась, и теперь непонятно, что я чувствую. И что думаю. О Дилане, о Джеки и о себе. Может быть, разберусь, если все опишу. Дилан и Бейтел лежат у себя в палатках. Наши мамы пьют белое вино и хихикают. Донни ушел в деревню или еще где шляется – понятия не имею, чем он занимается и заполняет свою жизнь.
Я пришла к дюне раньше Дилана. Спряталась и стала наблюдать. Мефрау JKL сидела на песке перед кустом-дверкой в ее укрытие. С ружьем на коленях. Собака лежала рядом с ней. Брат Монах. Близнецы копались поодаль, писали на песке буквы – совершенно неузнаваемые. Надеялись, что их прочитают с вертолета или легкомоторного самолета.
– А ну-ка, сотрите эти каракули немедленно, – приказала JKL и прицелилась в них.
Мальчишки стерли написанное. Сердитые физиономии. Интересно, заряжено ли ружье.
Дилан сообщил о своем приходе, не поднимаясь на дюну.
– Привет! – сказал он негромко, стоя внизу у склона.
JKL дернулась, словно ей в шею вонзилась стрела.
– Что я тебе сказала? – разозлилась она. – Я же велела не приходить!
– Ты чипсов принес? – спросил у Дилана один из братьев.
– А колы? – Это другой.
– А денег? – Это уже первый.
– Можно позвонить с твоего мобильника? – спросил второй.
Дилан помахал удочкой и силками.
– Для вас! – сказал он.
Братья сразу же отвернулись, а JKL спросила, откуда это у Дилана.
– Стырил, – ответил Дилан.
– Ну-ну, – засомневалась она, – чтобы ты – да вдруг стырил?
Я видела, что Дилан врет. Я слышала это по его голосу, чувствовала спиной, понимала по запаху, а повертев слово «стырил» во рту, ощутила и его вкус.
Даже собака усмехнулась.
– Будете ловить рыбу. И кроликов или там фазанов, – сказал Дилан.
– Иди сюда, – распорядилась JKL.
Дилан взбежал по склону дюны.
– Покажи! – скомандовала она.
Дилан протянул ей удочку.
– Нет, вот эти штуковины.
Он подал ей силки.
– И ты умеешь ими пользоваться? – спросила девчонка.
– Силками? Ну да. Я приезжаю сюда каждое лето, меня научил один старый браконьер, – объяснил наш мощный рыболов, охотник, собиратель и фантазер, – я знаю, как это делается.
– Научи меня, – сказала JKL, – садись.
Дилан опустился на песок напротив нее. Он не покраснел: наверняка продумал весь разговор заранее.
– Не сюда, – прошипела JKL. – Я должна держать братьев в поле зрения.
Дилан вскочил, как будто его тоже стрела клюнула в шею. Многовато же тут индейцев развелось. Он сел рядом с девчонкой. Ага, вот и покраснел. Подлец. Отличное слово!
– Гляди! – Он хотел показать, как устроен силок на кролика, но JKL не смотрела и не слушала.
– Их ни на минуту нельзя упускать из виду, а то убегут, – нахмурилась она, – и тогда всему конец.
– Чему?
– Всему. Ты кому-нибудь проболтался, что мы здесь живем?
Дилан замотал головой сильно-сильно: чудо, что она у него не отвалилась и не улетела в море.
– Окей, – кивнула девчонка, – похоже, ты не дурак. Когда ты поймешь, почему мы здесь, ты уже точно никому ничего не расскажешь. Эй-эй! – крикнула она во весь голос.
Один из братьев попытался втихаря уползти. Она взвела курок. Звука не было, но у ног мальчишки поднялось песчаное облачко, и он дунул на дюну в один миг.
– Уродина! – крикнул он.
– Зомби! – крикнул второй.
– Ты у нас дождешься!
– Мы все-все папе расскажем.
– И он отдаст это ружье нам.
– И разрешит нам тебя убить.
– Папа тебя свяжет.
– И не развяжет, пока ты не умрешь.
– И еще даст нам за это денег.
Они снова принялись писать что-то на песке.
– Социалистка! – крикнул первый.
– Террористка!
– Марсианка безбашенная!
– Запеканка обгаженная!
И оба с хохотом повалились на песок. Бред собачий.
– Им по восемь лет, время от времени приходится выпускать их на улицу, – сказала JKL, – взаперти они чахнут.
И указала большим пальцем через плечо, на дверцу-куст.
– Мне бы хотелось изъять всех детей из богатых семей, – сказала она, – и собрать их здесь. Я бы научила их жить естественной природной жизнью, чтобы всю жадность у них из головы выдуло вольным ветром. Я бы сделала из них хороших людей, и тогда через двадцать пять лет мир стал бы намного лучше.
– Ты хочешь сделать из них зверей? – спросил Дилан.
– Да, они проходят курс, – сказала JKL и впервые улыбнулась Дилану. Блин! – Но не знаю, получится ли у меня, до сих пор мои старания безуспешны. Они не желают меняться, только целыми днями кричат, что хотят есть. Я им говорю, что у одной чипсины такой же вкус, как у целой пачки, а они вопят, что это выдумка. Когда съешь одну чипсину, хочется еще много-много чипсов, когда съешь пачку чипсов, то хочется уже не настолько много-много. Чем меньше хочется много-много, тем ты счастливее. Это они так считают. И получается, что человек по-настоящему счастлив только тогда, когда у него есть все.
– Откуда у тебя это ружье? – спросил Дилан.
– Стырила, – сказала JKL.
Все мои органы чувств подтвердили, что это правда.
Можно подумать, что я взялась писать книгу, потому что вокруг меня столько всего происходит. Но это не так. Я ее задумала, когда мы только собрались ехать в кемпинг. То есть даже не сама задумала, а получила задание. От доктора Блума.
– Если ты не можешь жить без книг, – предложил он, – напиши свою. О себе. О своей жизни. Смотри на окружающий мир, реальный мир, никем не выдуманный, и расскажи, каким он тебе нравится. Что ты о нем думаешь. Привирать не возбраняется.
Пока я ехала в автобусе от психиатра, я сразу же придумала чумовое начало: «Зовите меня Салли Мо. Это нетрудно, потому что меня на самом деле так зовут. Я живу в больном квартале: площадь Ветрянки, 17, такой у нас адрес. Выходить на остановке “Аллея Коклюша”». Выдумка. Не дело это – начинать книгу с вранья. Так что я пишу эту фразу только здесь.
– Ты должна общаться с людьми, Салли Мо! – сказал доктор Блум. – Другого пути нет.
Это было при нашей первой встрече.
– От общения с людьми я психую, – ответила я. – Даже один человек – это для меня слишком много.
Было видно, что доктор Блум меня понял.
– Расскажи про белого кота, – попросил он.
– Кот как-то раз появился у дедушкиного дома, бродячий и страшно тощий, и дедушка Давид начал его понемножку подкармливать. То сухого корма ему даст, то рыбки, вот кот и не захотел уходить. Бабушка тогда уже умерла, а мне было года три. Беда в том, что кот меня всякий раз жутко царапал. К дедушке Давиду, кроме меня, больше никто не ходил, так что у него не было выбора. В смысле, у кота. Если ему хотелось кого-то царапать, приходилось меня. Не дедушку же, который его кормил. Но однажды кот чуть не выцарапал мне глаз. Спасли очки – я их и тогда носила. Я же в них родилась. Ну и тут дедушка разозлился. Позвонил ветеринару и попросил кота усыпить. Оставалось только принести его в ветклинику. Но кот не дался. Сопротивлялся, как тигр. Тогда ветеринар дал дедушке таблеток, чтобы добавить их коту в корм – и тот бы заснул. Только кот и не думал спать. Дедушка снова позвонил ветеринару: «Кот не засыпает!» – «Дайте ему еще таблетку» – «Я уже все скормил ему, за один раз!» «Ого, – сказал ветеринар, – этой дозы хватило бы на стадо бизонов». «Он все сидит и смотрит мне в глаза», – сказал дедушка. Кот смотрел дедушке в глаза, так что дедушка чуть не чокнулся. Было ясно, что кот думает так: если я закрою глаза, то уже никогда их не открою. Но зрачки у него совсем сузились. В итоге дедушка Давид опять позвонил ветеринару и сказал: «Выкидывайте препарат, пусть живет». Когда кот это услышал, он тут же бухнулся на пол и продрых два дня и три ночи. А как проснулся – так стал настоящим милягой. В жизни меня больше не царапнул.
– Как его звали?
– Никак, – сказала я, – зачем коту имя?
– А как этот кот умер, Салли Мо?
– Когда дедушка Давид умер и все еще оставался в больнице или где там полагается, я пошла к нему домой. Хотела кое-что оттуда забрать, пока чужие не наведались. Я еще не знала, что дедушка все завещал мне. Мне нужна была папка со стихами, которые он писал. И его рассказы. И рюмка, из которой он пил йеневер[6]. В доме я заперла за собой дверь и спустилась в подвал – дедушка любил там сидеть, когда ему погода не нравилась. И тут появился кот – и давай смотреть мне в глаза. Нет уж, ты меня не сведешь с ума, как дедушку Давида, подумала я. И тоже на него уставилась. И вот что самое бредовое: несколько минут таких гляделок, и остановится уже невозможно. Кажется, что умрешь, если переведешь взгляд или моргнешь. Вот я и смотрела коту в глаза не моргая, и больше ничего не делала, и не заметила, что мы с ним просидели напротив друг друга весь день, и всю ночь, и все утро. И все это время я, по-моему, ни о чем не думала, а то бы запомнила. А когда мама меня нашла и открыла дверь, кот повалился на пол. Его сквозняком сдуло. Он был мертвый. Несколько часов в этом подвале со мной играл в гляделки мертвый кот. Коты после смерти каменеют. Когда мама меня нашла, то первый час была со мной добрее, чем когда-либо раньше, – сказала я доктору Блуму и добавила: – Вот я и выиграла приз за самое корявое предложение.
– Это неважно, – отозвался доктор Блум.
– У этого кота больше не было никого на свете.
– А кто есть у тебя, Салли Мо?
Я хотела насочинять, что у меня есть подруги и друзья – целый футбольный стадион, – и назвать имена ребят из нашей школы, но знала, что он меня раскусит. И решила не врать.
– Твоя мама говорила, что после смерти дедушки ты ни с кем и словом не обмолвилась. Ни разу.
– Поэтому меня к вам и послали, – сказала я.
– Салли Мо, – ответил доктор Блум, – пора тебе начать существовать. Между тобой и реальным миром долгое время тянулась тоненькая ниточка – через дедушку. Но теперь эта ниточка оборвалась. Ты не боишься прикасаться к людям?
Мне этот вопрос не понравился. Его уже сто раз задавали школьные психологи. Думали, я аутистка. Потому что я ни с кем не играла, сидела за последней партой совсем одна, получала сплошные пятерки за все контрольные и делала доклады о древнегреческих писателях, из которых никто не понимал ни слова. Вот психологи и считали, что ребенок страдает аутизмом. В начальной школе. И они давали мне всякие задания типа: «Подойди вон к тому мальчику и скажи, что у него красивый свитер». Я подходила вон к тому мальчику и говорила, что у него красивый свитер. Так что они все равно ничего не добились. Прямо видно было, как они в уме зачеркивают диагноз «аутизм». А вон тот мальчик меня не видел и не слышал. Шел мимо, словно меня нет. В своем дурацком свитере. Психологи и психиатры учат человека врать.
В начальной школе я восемь лет просидела в уголке для чтения, куда никто и носа не совал, даже учителя. Мама думала было перевести меня на домашнее обучение, но эту затею никто не одобрил, да мама сама не больно-то хотела. А в гимназии меня признали высокоодаренной и больше на мой счет не заморачивались. Раньше самых тупых учеников ставили в угол класса и надевали им колпак с надписью «осел». А я торчу в углу, и на моем колпаке написано «высокоодаренная». Такие дела.
– Ладно, другой вопрос, – произнес доктор Блум через некоторое время, поняв, что ответа от меня не дождаться. – Есть ли на свете кто-нибудь, кого ты любишь?
– Дилан, – сказала я.
– Это такой певец или мальчик?
– Мальчик.
– И ты не боишься к нему прикасаться?
– Я бы очень хотела весь день лежать рядом с ним, – сказала я, – голая, как бритва.
Я тогда еще не очень понимала, чего стóит доктор Блум, и решила, что пора это выяснить.
– Это хорошо, – сказал он, – это правильная мысль.
Тут он мне снова понравился.
– А почему ты этого не делаешь? – спросил он.
– Да вы что, – сказала я, – мне же тринадцать лет!
– Ну и что?
– Это невозможно, мы живем в параллельных вселенных.
Я умирала со стыда и придумала эти вселенные, чтобы выглядеть поумнее. Но доктор Блум не повелся.
– Голая, как бритва, – повторил он. – А ты очень неглупа, Салли Мо!
– Я – единственный нормальный человек на земле, – заявила я, – но, по несчастью, угодила на планету, заселенную психами.
– Вот именно, – сказал доктор Блум, – потому-то тебе так трудно общаться с другими.
Я уже было подумала, что он может стать для меня новым дедушкой Давидом, но через час мое время закончилось, и доктор благополучно выпроводил меня за дверь. К тому же мы с ним не ходили на рыбалку. После нашей последней встречи, позавчера, он дал мне пустую тетрадку, одну. Сказал, чтобы я купила себе еще, если понадобится. Как зубной врач выдает бесплатно одну зубочистку для образца. Доктор Блум разрешил мне еще раз прочитать «Гамлета» и после этого – никаких книг. «Записывай все, что с тобой происходит, Салли Мо: что замечаешь, что думаешь». – «Ладно, доктор!»
Одну вещь я уже заметила: мир совершенно не упорядочен. Писатели без конца оттачивают текст и вычеркивают слова и фразы, чтобы в книге не осталось ни одного бесполезного факта. А в реальной жизни об эти бесполезные факты спотыкаешься на каждом шагу – ну не бред ли! От них с ума можно сойти, а мы уж точно не к этому стремимся.
Но мир еще и помогает. В смысле, мне лично он мешает, а вот книге – помогает. Замысел такой: я в ней рассказываю, как завоевываю Дилана, – прямой репортаж с места событий. Ничего подобного я еще не читала, в этом и уникальность. Но, похоже, получится книга о ревности, а это, наверное, еще лучше. Возможно, она закончится совсем не так, как я затеяла. У JKL обалденно красивое лицо, но на ней свитер с высоким воротником, так что еще неизвестно, что там под ним. А вдруг у нее все тело, от шеи до пят, покрыто густой курчавой шерстью. И она каждую неделю бреется. А потом шесть дней ходит с колючей щетиной. Хоть чеснок натирай, как на терке. Я вот очень красивая под одеждой. В смысле, в последнее время я под ней заметно похорошела. Жалко, что в кемпинге нет большого зеркала. Так что негде на себя посмотреть, если надо.
Сегодня утром я делала у себя в палатке селфи своего тела. Голая, как бритва. Без головы. Без головы я выгляжу отлично. Селфи делают только дико одинокие люди. Если тебя пофотографировать некому, то и смотреть на твои снимки никто не хочет. Счастливым и в голову не придет селфиться. Счастливые заняты другим. Но когда человек стоит на крыше семнадцатиэтажного дома и собирается оттуда прыгнуть, он тоже не будет делать селфи. И пока летит вниз, не будет. Хотя такое селфи в фейсбуке как раз не повредит: кто-нибудь увидит, выскочит из дома и подстелит матрас.
Один друг в жизни человека – это уже хорошо. Пусть это будет Дилан, раз дедушки Давида больше нет. Но и ноль друзей – тоже хорошо. Я влюблена в Дилана, но мир прекраснее, пока я не с ним. Музыка прекраснее, книги интереснее и море красивее, когда я одна. Возможно, любовь и счастье никак не связаны. Я еще недостаточно об этом знаю. Петь от счастья – такого со мной рядом с Диланом не случалось. Во многих книгах между счастьем и влюбленностью ставится знак равенства – но это не самые лучшие книги. Влюбленность учит красться тайком и врать, а счастье учит тихонько сидеть и слушать. Надо бы поосторожнее: я пишу все это ночью, а по ночам мысли тонут в ванне, полной черных чернил.
Сегодня утром, когда я вернулась из душа, в палатке не оказалось моего мобильника. Я раз шесть все обшарила, перерыла, перетряхнула. Потом высунула голову наружу и увидела Донни – с моим телефоном в руке. Пырился на экран как идиот и все время растягивал изображение большим и указательным пальцем. К нему подходили другие мальчишки, один за другим, и пырились вместе с ним. Не смеялись, только пальцами тыкали. Непонятно, о чем они там говорили. Потом к ним подошел Дилан – я видела, как он о чем-то спросил. Донни ответил ему, и по губам я прочитала: «Салли Мо». Дилан тотчас выхватил у него мобильник и подошел к моей палатке. Мой рыцарь, мой герой. Но по дороге он прямо прилип к экрану, так что упал ничком, зацепившись за стропы на колышках палатки. Это выдумка. Наверное, просто размечталась, чтобы такое произошло. Доктор Блум остался бы мной доволен: ведь мне «захотелось общаться с людьми».
Отец Джеки – банкир. Поэтому она и сбежала из дома, прихватив братьев и собаку. Ружье украла у лесника из машины. Оно ей нужно, чтобы защищаться от преследователей и чтобы держать близнецов при себе. Банкиры – самые отвратительные ублюдки, какие только водятся на свете, говорит Джеки, с ними лучше не жить под одной крышей, чтобы не заразиться их мерзостью.
Ее братья уже заразились. Их зовут Бакс и Никель[7]. В честь денег. Американских. А ей дали имя Жаклин. В честь жены американского президента Кеннеди. Убитого в 1963 году. После убийства Кеннеди Жаклин вышла замуж за самого богатого человека на свете – грека Онассиса. Если тебя назвали в честь такой женщины, говорит Джеки, надо бежать из дома как можно раньше, пока жадность не проникла к тебе в организм подобно опасной болезни, пока ты не превратилась в вампира. Ненасытного вампира, который жаждет высосать из людей все до последней капли. До последнего цента.
Дилан спросил, откуда берется страсть к богатству, и Джеки разразилась речью длиной в километр об истории человеческой алчности. Хорошо хоть, что начала не от Евы. С ее яблоком. Бакс и Никель ныли, чтобы их запустили в нору, но Джеки велела им тоже сидеть и слушать. Думаю, в воспитательных целях. Прямо видно было, как их все достало. Думаю, они слышали ее рассуждения уже сто раз. То и дело совали себе в рот два пальца и изображали, будто от этой бредятины их тошнит.
Ну а мне было в новинку. Я-то всю жизнь читала только книги, никаких газет. Я жила на острове – в своей голове. На этот остров, защищенный от всех, почта шла лет тринадцать. Я только недавно получила открытку с сообщением о моем собственном появлении на свет. О двадцать первом веке я знала не больше, чем Шекспир или те, кто написал Библию. А от меня ждут, чтобы я сразу все поняла! Чем больше я узнаю´, тем меньше понимаю, и чем больше понимаю, тем меньше хочу знать. Но я лежала на песке, на своем наблюдательном пункте, боясь пошевелиться. Так что мне пришлось выслушать все, что говорила Джеки.
– Давным-давно на свете существовали…
Рассказ о лопнувших банках
12 июля, воскресенье, 3:34
Вот черт, заснула.
– Давным-давно, – рассказывала Джеки, – на свете существовали… сберегательные банки. Для людей. Люди хранили там свои деньги, чтобы не держать их дома, где их могли украсть. В сберегательных банках стояли большие надежные сейфы. Это было хорошо. Но, что еще лучше, люди, которым требовались деньги, могли взять их в банке взаймы. Ведь деньги, сданные туда на хранение другими, так и лежали в сейфах без дела. Тем, кто брал деньги взаймы, приходилось за это немножко платить, и эту плату банки передавали тем, кто сдал деньги на хранение. Это называлось «проценты». Люди в банке и себе кое-что оставляли, но немного, и это было честно, ведь приходилось арендовать банковские здания и платить охранникам сейфов. Те, кто всем этим заправлял, и были банкирами. Они записывали, кто сколько денег принес и кто сколько взял.
– Наш папа – банкир, – прервал ее один из близнецов.
– Он кому угодно даст деньги взаймы, – вступил второй.
– Он хороший, – заверил первый.
– Заткнитесь! – рявкнула Джеки.
– Джеки – тролль! – сказал второй.
Джеки продолжала:
– И все могли бы жить долго и счастливо, если бы в один прекрасный день банкиры не сошли с ума от такой кучи денег. Они пересчитывали купюры, прежде чем положить их в сейф. Они пересчитывали купюры, прежде чем дать их в долг. И при этом деньги так славно шелестели, что банкиры в них просто влюбились. И захотели оставить себе как можно больше. Неуемная жадность завладела ими, и они стали делать глупости. Совершенно дикие глупости. Они захотели непомерно разбогатеть. И знаете, что они придумали? За деньги, которые люди им приносили, банкирам приходилось платить проценты. А за деньги, которые люди брали в долг, наоборот, получали проценты сами банкиры. Поэтому они принялись кричать на каждом углу, что в банках надо брать как можно больше денег. И люди им поверили. Даже самые бедные люди стали брать деньги в долг. Чтобы купить себе дом. И думали, что банк – им друг. Это было давно.
– У нас очень красивый дом, – встрял один из братьев.
– Это тоже было давно, – заметил другой.
– С бассейном, – уточнил первый.
– Они и плавать-то не умеют, – сказала Джеки.
– С бассейном, полным шампанского, – не унимался второй.
– И еще там плавает икра, – поддержал первый.
– Заткнитесь! – сказал Дилан, и это помогло. На время.
– Банкиры построили себе высоченные банки, до небес, – рассказывала Джеки. – Выше облаков, чтобы с земли не было видно, что они там делают. И когда бедные люди брали деньги в долг и спрашивали, что будет, если мы их не сможем вернуть, то банкиры отвечали: «Для этого существуют маленькие хитрости. Мы их знаем. Мы вам поможем». И бедные люди уходили из банков с большими мешками денег на покупку дома. Банкиры раздали столько денег, что сейфы совсем опустели. Разве что по углам и за плинтусами завалялось немножко баксов и никелевых пятицентовых монеток.
– Ха-ха, очень смешно, – сказал один из братьев.
– Вот именно, ха-ха, – поддакнул второй.
– Если в банк приходили люди, которые желали забрать свои сданные на хранение деньги, – рассказывала Джеки, – им отвечали, что надо немного подождать. Потому что большие надежные сейфы пустовали. Не только потому, что было выдано слишком много кредитов. А потому, что неуемная жадность текла по венам банкиров все быстрее и быстрее и уже ударила им в голову, и они вообразили себя главными людьми в мире, а за это полагается вознаграждение! Теперь они оставляли себе уже не кое-что из денег, проходивших через их банк, – теперь они гребли миллионы! Банкиры зарабатывали по меньшей мере в десять раз больше, чем люди, приходившие к ним брать деньги в долг. А в конце года владельцы дарили себе самим еще по миллиону, как минимум.
– Как минимум, – повторил один из братьев.
Второй тоже хотел что-то сказать, но Дилан вскочил на ноги и сел между близнецами. Это помогло. На время.
– Они дарили себе самим по миллиону с лишним за то, что якобы здорово работали весь год, а именно в поте лица стерегли деньги. Якобы их хозяева наградили их за хорошую работу, но ведь они сами и были этими хозяевами. Пока не настал день, когда выяснилось, что бедные люди, взявшие у банков деньги в долг, неспособны их вернуть. Что им не из чего их вернуть. Банкиры в свое время сказали им, что знают маленькие хитрости, но на самом деле никаких хитростей не было. Банкиры обещали помочь, но на самом деле солгали.
Началось все с Америки. Бедные люди побросали свои новые дома, оставив ключи в дверном замке, и поселились в палатках. В таких местах, где банк их не нашел бы. В Америке полно таких мест. Взятые ими в долг деньги не вернулись в сейфы, сейфы пустовали по-прежнему. А те, кто сдавал свои деньги на хранение, прибежали в банк и потребовали вернуть им вклады. Но их деньги уже были выданы бедным или исчезли в карманах банкиров.
– Нашего папы! – выкрикнул первый из близнецов.
– Йес! – поддержал второй.
– У нашего папы в карманах уйма денег!
– Слушайте. – Дилан вынул из кармана бумажку в пять евро. – Это вам, если вы… если вы тихонечко ляжете на спину и будете смотреть на облака. Многие облака похожи на животных, знаете об этом? Смотрите в небо, пока не увидите там зверей.
– И деньги тогда наши?
– Нет, это награда тому из вас, кто увидит больше животных.
Вот это здорово помогло.
– Окей, – сказал первый.
– Окей, – сказал второй, – я вижу кенгуру.
– Где?
– Вон там.
– И правда.
– А вон кролик. Гляди.
– Ага.
– И дракон. Я уже трех заметил!
– Где это ты углядел дракона?
– Да вот же.
– Никакой это не дракон.
– Драконов не существует!
– Банкиры все как один рванули на свои роскошные яхты у берегов Южной Франции и закричали, что случилось ужасное, но они ничего не могут поделать, и стали пить шампанское за прекрасное будущее. Ведь в жизни всякое бывает. А банки, что называется, лопнули. Потому что денег, обеспечивающих прочность банка, не осталось, а жадность банкиров, работавших в них, разрослась настолько, что никакие бетонные стены не выдержат. Но лопнули они, конечно, не в буквальном смысле слова.
Банкиры об этом знали и потому оставили у себя на письменных столах в офисах фотографии собственных детей. А их Библии так и остались лежать в верхних ящиках их тумбочек. Банкиры сказали, что правительство должно найти способ спасти банки, и ни о чем не беспокоились. Потому что в правительстве у них была уйма друзей. Ведь раньше они сами заседали в правительстве, а теперешние члены правительства мечтали со временем стать банкирами. Вот так это все и работает. В общем, правительство спасло банки. Поставило их на ноги. Вложило в это дело миллиарды и миллиарды долларов и евро, сейфы снова наполнились деньгами, и вроде бы все стало в порядке.
Братья, которые уже успели поругаться и подраться из-за драконов, скатились с дюны.
– Но откуда правительство взяло столько денег? – спросила Джеки и сама же и ответила: – Из налогов, которые платят простые честные люди со своей зарплаты. Они охотно платят налоги, чтобы из этих денег финансировались школы, и больницы, и уход за стариками, и общественный транспорт, и прочие полезные вещи. Но теперь у правительства на все хорошее денег не осталось, потому что налоги утекли в сейфы и подвалы и пошли на укрепление банков. А на верхних этажах опять заняли свои места те же банкиры за теми же письменными столами. Они снова подмигивали своим детям на фотографиях, и время от времени читали Библию, и зарабатывали ежегодно те же миллионы. А в конце года точно так же добавляли себе премию в пару миллиончиков и вели дела точно так же, как и раньше. А в домах престарелых старики лежали по шесть человек в одной комнате, привязанные к кроватям, и только раз в неделю им разрешали принять душ. Потому что у правительства не было денег на обслуживающий персонал, который отводил бы их помыться хотя бы два раза в неделю. Конец доклада, – объявила Джеки. – Будут ли у вас ко мне вопросы?
– Можно нам вернуться в бункер? – спросил первый из братьев.
– Ну пожалуйста, ну можно нам? – вступил второй.
Физиономии у них были красные, как соус для спагетти, и вместе со словами они выплевывали изо рта влажный песок.
Значит, внутри дюны и правда есть бункер. Мне захотелось встать и попросить Джеки показать мне ее логово. Но Дилан возненавидел бы меня на всю жизнь, если бы узнал, что я за ним подсматриваю и подслушиваю.
Дилан заговорил, и речь у него получилась – огонь. Он уже продумал, как жить среди дикой природы. Надо соорудить клетки, и попавшиеся в силки кролики будут там плодиться, пока их не съедят. Можно будет украсть где-нибудь кур, чтобы они несли яйца. А еще вырыть пруд между дюнами, выстелить дно полиэтиленом, чтобы вода не уходила, и разводить рыбу и крабов. Дилан смолк, только когда Джеки спросила:
– И почему же ты хочешь все это для нас устроить?
Тут Дилан вспыхнул. Как пожар на фабрике пиротехники. Я знала, что они вот-вот поцелуются, и сердце едва не выскакивало у меня из груди. Внутри все клокотало от ревности, но я не хотела, чтобы сердце шлепнулось на песок, и сдержалась.
Джеки спокойно посмотрела на Дилана, кивнула и сказала:
– А, вот в чем дело.
И все. Может, дело было в красной физиономии Дилана – кто знает, но Джеки вдруг принялась рассказывать, как ругаются ее родители. Изображала их в лицах, говорила их голосами – ну прямо кукольный театр без кукол. Я лежала на своем наблюдательном пункте и время от времени угорала про себя, но Джеки ни разу не улыбнулась. Ее мысли и днем отмокают в ванне с черными чернилами. Беседы между ее родителями проходили примерно так:
– Милочка, – говорил ее папа, – мы живем в раю. И этот рай создал для тебя я.
– А ты что, Бог? – спрашивала ее мама.
– Да, я Бог в нашем раю, да-да, и единственное, чего я от тебя хочу, – это чтобы ты не была слишком шустрой и не ела яблочек. Окей?
– Ну и ну, мой личный бог. Вот это пруха!
– А кто оплачивает твои поездки на Бали, твои тапочки из овечьей кожи за семьсот евро из Тибета, дорогущие частные школы для твоих детей?
– Если ты бог, то советую почитать Библию. Там написано, что Иисус изгнал всех меновщиков из храма. Это же и были банкиры того времени?
– Проклятье!
Вот так родители ссорились прямо при Джеки и близнецах. А после скандала отец давал каждому из них по бумажке в пятьдесят евро и говорил:
– Нате и радуйтесь жизни. А то оглянуться не успеем, как мама станет тут главной, так что переедем в драную палатку и пойдем побираться.
При этом папа улыбался.
– Это началось лет десять назад, – сказала Джеки, – когда мне было пять лет.
Значит, ей пятнадцать. На год больше, чем Дилану. Хорошо это для меня или плохо?
– И так продолжается до сих пор, потому что у папы нет ни грамма стыда. Несколько недель назад мама спросила: «Как ты можешь выписывать себе миллионные премии, зная, что девяносто процентов населения мира голодает?» Папа ответил: «Если я не возьму себе эти деньги, они попадут в карман моим сотоварищам». – «Ты и так получаешь гигантский оклад за то, что дни напролет обманываешь людей, а вдобавок ты еще берешь себе…» – «Никого я не обманываю. Когда ты для уюта зажигаешь вечером свечку и мотыльки слетаются на огонек и обжигают себе крылышки, ты же их не обманываешь? Да и рыбу никто не заставляет заглатывать наживку. Они делают это по доброй воле». – «Но тут-то не мотыльки и не рыбы, а живые люди. И у них есть дети, которых надо кормить». – «И от этого в них просыпается жадность. Женщина, если их не будем обманывать мы, они перебегут к тем, кто захочет их обмануть». – «Обмануть. Вот видишь, ты сам это признаёшь!» – «Куда поедем в этом году в отпуск?» – «В бедные районы, и ты раздашь там свои премиальные миллионы людям, которые по-настоящему нуждаются в деньгах». – «Зачем? Их дети учатся в школе бесплатно, они получают дотации на квартплату и всегда могут воспользоваться услугами банка продовольствия[8]. Да им вообще ни за что платить не приходится! Черт побери, ты только посмотри! Знаешь, сколько я трачу каждый месяц на ипотеку, и школу, и страховки? И на тебя! Знаешь, сколько все это стоит – твоя одежда, наши машины? Поверь, мир устроен абсолютно справедливо». – «Раньше ты был такой нормальный хороший парень. Не понимаю, что с тобой случилось. Ты уже не человек. И там, где прежде у тебя билось сердце, теперь звенят монеты». – «Но я же не заставлял тебя выходить за меня замуж. Ты, женщина, вышла за меня по доброй воле. Ты с открытыми глазами клюнула мою наживку, с открытыми глазами прилетела на пламя». – «Из всех, кого ты обманул, ужаснее всех ты обманул меня».
Вот что сказала мама Джеки. И тогда папа Джеки ударил ее. Очень сильно. По лицу. При детях. На следующий день Джеки ушла из дома. Вместе с близнецами. Сказала, что пойдет с ними в парк развлечений, где американские горки сделаны из шоколада, а деньги растут прямо на деревьях. И собаку тоже взяла с собой. Собаку по имени Брат Монах. И еще прихватила пачку банкнот из папиного портмоне – на проезд.
– И сколько вы тут уже живете? – спросил Дилан.
– Семнадцать дней.
– Твоя мама знает, что вы здесь?
– Я посылаю ей открытки: пусть знает, что с нами все в порядке и искать нас не надо.
– Открытки с видами этого острова?
– Я же не идиотка. Открытки без надписей, с цветочками и лошадками.
– А как же штемпели?
– Десять лет назад папе надо было уехать в отпуск без нас, – сказала Джеки, – потому что он обанкротил свой банк. И меня отправили в летний лагерь. На этот остров. Тогда-то я и обнаружила здесь этот бункер.
– Тебе было пять лет!
– В лагере были и другие девочки. Они съехались из разных мест. Я до сих пор с ними дружу. Посылаю им отсюда открытки в конвертах. А они вынимают их и опускают в том городе или деревне, где живут. Они меня никогда не выдадут. Только один умный парень сумел меня здесь найти.
– Спасибо, – сказал Дилан, усмехнувшись.
– Правда же, ты будешь держать язык за зубами?
– Буду нем как могила.
– Я подумала, – сказала Джеки, – если я поселюсь на острове, то буду в безопасности. Заберусь на высокую дюну, откуда видно и море, и прибрежные отмели, и замечу врага, с какой бы стороны он ни пытался подобраться. Но как бы не так. С этой дюны не разглядеть и парома. Мой враг незрим, и это меня страшит.
Я лежала, совсем невидимая, внимательно слушала и думала про себя: я тебе не враг. Да, я твоя соперница – соперница в любви. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть Дилана. Но я не враг. Ну как злиться на такую девчонку, как Джеки? К ней можно только ревновать. Дико ревновать.
Собака встала с песка и лизнула Джеки руку.
– Иди, Брат Монах, но будь осторожен.
Собака сбежала с дюны, помчалась по ложбине в сторону пляжа.
– Бакс и Никель всю жизнь зовут его не иначе как Собака, – пояснила Джеки. – Он ведь собака, говорят, ну так как его еще называть. Они этого от папы набрались: тот тоже называет маму просто Женщина. Она ведь женщина, ну так как ее еще называть. Они так похожи на папу, что даже не знаю, получится ли у меня выбить из них дурь.
М-да, подумала я, зачем коту имя?
– Ни один мальчишка на свете не мечтает стать банкиром, – сказала Джеки, – ну совершенно ни один – это же о чем-то говорит. А они только об этом и думают. Они уже готовые банкиры!
– А еды вам хватает? – спросил Дилан.
– Нет, – ответила Джеки, – мне воровать больше нельзя, меня уже дважды застукали. И Брата Монаха в здешних кафе уже тоже хорошо знают, он стянул уже штук десять бифштексов, с тарелок или из кухни. И ягод мне тоже не собрать: ежевика пока не поспела. У меня есть папины деньги, я их не тратила, потому что хотела поднатореть в воровстве, но сейчас я просто боюсь идти в деревню.
– Могу купить для тебя продуктов, – предложил Дилан.
– Лучше покажи, как ставить силки, – ответила Джеки. – Если мы поймаем кролика, я разведу огонь с помощью папиных банкнот. Хочу жить в мире, где вообще нет никаких денег.
Дилан вернулся к палаткам за полминуты до ужина. Когда он шел обратно по пляжу, он снова пел и пританцовывал, чего мне совершенно не хотелось видеть. Так что я приплелась раньше него.
– Где ты была, Салли Мо? – спросил Бейтел.
Я наклонилась к его уху и прошептала:
– На озере. Хотела посмотреть на бобров.
– И как, ты их видела?
– Нет, самих нет, – ответила я, – но я видела, что они хорошо потрудились, начали строить мощную плотину.
– Тс-с-с, – шикнул Бейтел.
Он сел рядом со мной, и мы ели макароны, и это было очень вкусно. Понятия не имею, кто их готовил. После ужина наши мамы пошли в кафешку. Нам с Диланом они поручили вымыть посуду, а Донни велели уложить спать братишку.
– Ненавижу с ним возиться, – возмутился Донни, – вечно я должен нянчить этого мелкого. Это ты захотела второго ребенка, я никогда не просил родить мне брата, вот сама и укладывай!
– Давай я его уложу, – предложила я, – а ты помой посуду.
– Да ладно уж, – буркнул Донни и потащил Бейтела в палатку.
– Сначала пусть почистит зубы и примет душ, – сказала их мама.
– Да, мам. Окей, мам. Пока, мам, – огрызнулся Донни, и наши мамы ушли.
– Слышь, Бейтел, я засуну тебя в спальный мешок, расскажу одну сказку о слоне-невидимке с длинным невидимым хоботом и, если ты после этого не уснешь, положу тебе подушку на голову. Причем надолго.
– Бейтел часто видит слонов, – сказала я.
– Что она говорит? – спросил Донни у Дилана.
– Что Бейтел часто видит слонов, – повторил Дилан.
Мы с Диланом мыли посуду, точно брат с сестрой. Вокруг пищали комары. Мы били их щеткой для мытья посуды и кухонным полотенцем. Но на место каждого убитого комара прилетают двое других, чтобы отомстить за павшего товарища. Я спросила, удалось ли Дилану сегодня что-нибудь поймать. Кролика там или фазана.
– Поймал одну рыбину, – сказал Дилан, – первый и последний раз в жизни. Я снял ее с крючка и бросил в ведро. Потом хотел насадить новую наживку, но обнаружил, что на крючке висит глаз. От этой рыбины. Крючок прошел через зрачок. Казалось бы, глаз уже никак не может быть живым, но он смотрел на меня. Ну бред же, бредовее не бывает. На тебя, Салли Мо, никто еще так не смотрел, зуб даю.
Ох как ты ошибаешься, подумала я, именно так те глаза на меня и смотрели. Меня вдруг начало дико бесить слово «бред».
– И удочку, и силки я выкинул, – продолжал Дилан. – Если заскучаю, лучше пойду играть в футбол.
Я уже говорила: любовь учит человека врать.
– Я часто ходила с дедушкой Давидом на рыбалку, – сказала я, – и дедушка Давид меня предупреждал: «Салли Мо, как только увидишь, что поплавок уходит под воду, хватай камень или ком земли и бросай туда скорее. Чтобы рыба знала, что больше клевать не следует». Веселенькая получалась рыбалка! Нам эта система нравилась, и рыбам тоже.
– Как он поживает, дедушка Давид? – спросил Дилан.
– Умер. Три месяца назад.
– А ты молчишь.
– Думала, ты знаешь. Про кота же ты знал.
– Про него мама принесла новость.
– С его смерти прошло девяносто пять дней, десять часов и двадцать пять минут, – произнесла я. Если ему интересно, то пусть знает все.
– Shit, – ответил Дилан, – кто же у тебя еще остался-то?
– Ты, – сказала я.
– Да, Салли Мо, я всегда у тебя буду, всегда. Лови!
Дилан принялся кидать мне тарелки, а я их вытирала. Не пластиковые, кстати.
– Ему было девяносто два года.
– Ого!
– На самом деле он был мне прадедушкой, но других у меня никогда не было, потому что со всеми остальными дедушками и бабушками мама разругалась.
– Понятно, – сказал Дилан.
– Дедушка Давид жил на нашей улице.
Мы не разбили ни одной тарелки.
Как раз дедушка Давид и подарил мне «Гамлета». Сказал, что у него два экземпляра. Не могу спать, когда вспоминаю дедушку Давида, да и не хочется. Я это уже объясняла. Гораций писал: сarpe diem – лови момент днем. А для меня важнее сarpe noctem – лови момент ночью. Донни уже давно вернулся из деревни. А я снова вижу себя в утреннем лесу, как вчера, и солнечные лучи искрятся в миллионах дождевых капель на листьях и на траве. И Бейтел где-то рядом неспешно беседует с совой. Значит, это и был возвышенный момент номер один. Вот ведь, осознаешь это только задним числом. Как будто жить и испытывать – это не одно и то же. Ну и бред. Тут было написано «ну и бред».
Позапрошлым летом мне хотелось сидеть рядом с Диланом на мостках у воды, обнявшись. В прошлом году мне хотелось с ним целоваться. А в этом году я с ним на самом деле поцелуюсь. Я ему докажу, что он мне не просто брат, и заставлю его увидеть во мне не просто сестру. И это, доктор Блум, будет возвышенный момент номер два.
Оценка, проверка, разминка
12 июля, воскресенье, 10:01
Этот остров прозвали Островом Искусств, потому что когда-то здесь жил аккордеонист. И еще потому, что однажды тут останавливались двое поэтов – в отеле, который с тех пор зовется «Два поэта». Правда, они тут оказались по ошибке: спьяну сели не на тот паром. Теперь здесь осталась лишь художественная ярмарка по воскресеньям. Или, как говорят наши мамы, «ярмарка художников». Мамы ходят туда не ради живописи, а ради живописцев. Новых папаш. По воскресеньям нам приходится вставать пораньше, потому что кафе открываются в десять утра, и мамы, в крепкой парфюмерной броне (с ног до головы), уже стоят наготове, чтобы занять лучший столик на террасе. Там мы сидим целый день. Завтракам, обедаем, ужинаем. Каждый год одно и то же: по воскресеньям – на художественную ярмарку. В обязательном порядке. Напитываться искусством полезно для общего развития.
Мамы разработали целую систему. Они обходят ярмарку трижды. В половине одиннадцатого, в половине второго и в половине пятого. Первый обход – выставление оценок по десятибалльной шкале, второй – проверка, третий – разминка. Пока они совершают обход, мы стережем их стулья. Малоприятное занятие. «Нет, простите, тут сидят наши мамы». – «Неужели? Они такие маленькие, или у меня что-то со зрением?» Некоторые желающие посидеть встают у нашего столика и сверлят нас взглядом: мол, валите отсюда, теперь наша очередь. Особенно когда я читаю. Читать можно повсюду, думают они, для этого необязательно занимать их стулья. Они правы, конечно. Это как с людьми, которые в самолете во что бы то ни стало хотят получить место у окна, а усевшись, тут же утыкаются носом в книгу. Я еще ни разу не летала, но уверена, что я как раз из таких. Неудивительно, что эти люди меня ненавидят.
Первый обход только что закончился. Мама Донни присудила парочку шестерок, моя мама – 7,8 балла, а мама Дилана не нашла никого себе по вкусу. Для нее все слишком старые. Услышав это, Дилан вздохнул с облегчением, но ненадолго: ему показалось, что его мама поглядывает на Донни. Того гляди придется звать Донни папой!
Я умираю со скуки. Когда у тебя на коленях книга, всегда можно почитать – неважно, шедевр ли это или просто какая-то чушь в переплете. Но когда у тебя на коленях тетрадь и ручка, далеко не всегда есть что написать. Мальчишки, кажется, тоже потихоньку покрываются ржавчиной. Жаль, не умею рисовать, а то бы написала их портрет: «Ржавеющие мальчики на террасе». Хотела бы я знать, о чем они думают!
В «реальном» мире узнать кого-то по-настоящему невозможно. Можно только интуитивно почувствовать, заслуживает ли человек доверия. Или рассуждать по-научному: в этот раз он сказал то-то и поступил так-то, а в другой раз – вот так-то, следовательно, если он сейчас говорит вот это, то вскоре, вероятно, поступит вот таким образом. Исходя из этого, можно с кем-нибудь подружиться. Или стать кому-то врагом. Или решить, что этот человек мне до лампочки. Но нередко случается что-то неожиданное, и приходится начинать сначала с этой неожиданностью в уме. Мысли-то у всех невидимые. Человек может думать: «Какая же эта Салли Мо хорошенькая, вот бы ее поцеловать!» Но при этом далеко не всегда скажет: «Салли Мо, какая же ты хорошенькая, хочу тебя поцеловать!» Нет, он скажет: «Ха-ха-ха, ну и тупица ты, Салли Мо, и к тому же уродина». Я немного преувеличиваю, но такое бывает. А вот еще из той же оперы: очень возможно, что все мы даже цвета видим по-разному. Может быть, для Дилана листья на деревьях ярко-оранжевые, а для меня – голубые, но нас обоих научили, что такой цвет зовется зеленым. И шпинат мы теперь тоже называем зеленым, потому что видим ярко-оранжевый и голубой. Надо поскорее приступить к завоеванию Дилана. Иначе от нехватки событий моя книга зачахнет, так толком и не начавшись.
Обед заказан. Вот-вот подадут первые бокалы белого вина – а что такого, в отпуске мы или уже в могиле? – так что вскоре наши мамы примутся мурлыкать себе под нос. Я пытаюсь придумать, о чем бы написать, Дилан тоже погрузился в мысли. Или у него в голове пусто – такое тоже возможно. Как во Вселенной перед Сотворением Мира, когда все еще было в порядке. Но вот там пролетает птичка и распевает красивые песенки. У Дилана в голове. Не стану спрашивать, о чем он думает. Дилан хорошо умеет говорить, но беседовать ему хочется не всегда. Раньше его мама утверждала, что он глухонемой. Чему ужасно радовалась.
Родители – во всяком случае, наши мамы – обожают, когда с их детьми что-то не так. Дилан глухонемой, я аутистка, у Донни СДВГ, у Бейтела еще в два года обнаружили дислексию. Когда дети уже выросли, можно хвастаться их достижениями – тем, что они умеют лучше всех. Но маленькие дети еще ничего не умеют. Вот родители и выпендриваются, рассказывая, что их отпрыски ничего не умеют лучше всех. Главное, чтобы это «ничего» называлось повнушительнее. Родители беспроблемных детей сгорают от стыда. Всем подавай ребенка с целым рюкзаком проблем. Скоро эволюция приведет к тому, что будут рождаться одни рюкзаки и только у самых невезучих – вместе с младенцем.
Бейтел блаженно смотрит в никуда: наверное, у него на коленях сидит старый бобер и рассказывает сказки. Донни свирепо пожирает глазами экран мобильного. Он ненавидит весь мир. Порой он даже дышит с трудом, будто утопает в ненависти. Когда ему было двенадцать, он хотел переехать к отцу, но тот отказался. Отец Донни – адвокат. Был адвокатом. Теперь он в правительстве. Донни ему не в кассу, сказал он. Буквально так и сказал. Бред, конечно. Видимо, Джеки права: отец Донни пошел во власть, чтобы потом заполучить местечко в банке.
Мамы перешли к проверочному обходу. Чтобы получше изучить мамины 7,8 балла. Между рыночными прилавками и нашей террасой прокладывает себе дорогу блестящий «порше». И это притом, что машинам въезд сюда вообще-то воспрещен! За рулем сидит какой-то важный типчик с ужасно знакомой физиономией (где я его видела?), а рядом и на заднем сиденье – девицы с палитрами вместо лиц: краска с них так и капает. Нам приходится подвинуться, чтобы их пропустить. Дай обезьяне банан – и она его съест, дай два – и она обменяет один на «порше». Какой же бред! Вот это все. Никак не могу сосредоточиться.
Я хочу говорить прямо то, что думаю. Записывать слово в слово. Слов на свете хватает. Нужно только научиться не бояться. Честность не купишь, ее можно только присвоить: она моя! Я чувствую себя ужасно одинокой. Вообще-то, одной быть нестрашно. Но совсем другое дело, когда ты сидишь среди тысячи людей на стуле, на который зарятся другие. Вот уж дрянной день воскресенье!
12 июля, 22:59
Кандидат, заработавший 7,8 балла, – это художник со смешными картинами и артистической копной волос. По результатам проверочного обхода оценку ему повысили до 9,4. Добыча дня. Мамы опрокинули еще по бокальчику, мурлыканье перешло в тихое пение, и ровно в половине пятого они встали из-за стола на «разминку». Наше с Диланом присутствие обязательно – это традиция. Наша задача – сопровождать их с ужасно умным видом. Пусть все думают: раз уж у этой женщины такой ребенок, с мозгами у нее точно полный порядок. Если верить нашим мамам, художники любят умных женщин.
Обход не состоялся. Мамы Донни и Дилана никого себе не нашли, так что мы впятером направились прямиком к маминой добыче. Помогать маме клеить кавалеров – не самое любимое мое занятие, но она хотя бы никому не изменяет. Мама – одинокая женщина, никому нет дела до ее выходок. Только мне есть дело. А мне не привыкать. К тому же есть шанс, пусть и крошечный, что она наконец отыщет кого-то подходящего. Обладателя обширной библиотеки или классного рассказчика. Вроде папы Бейтела.