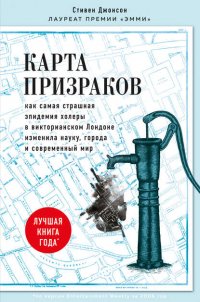
Читать онлайн Карта призраков. Как самая страшная эпидемия холеры в викторианском Лондоне изменила науку, города и современный мир бесплатно
- Все книги автора: Стивен Джонсон
THE GHOST MAP: The Story of London’s Most Terrifying Epidemic— and How It Changed Science, Cities, and the Modern World Copyright © 2006 by Steven Johnson
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Riverhead Books, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
В коллаже на обложке использованы иллюстрации: IvanDbajo, Vesnin_Sergey, zorina_larisa, MsMaya / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com
© Захаров А., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Вместо предисловия
«3 года назад на полке книжного магазина Сан-Франциско на мои глаза попалась книга, в описании которой было написано – медицинский детектив. Странное описание для произведения, лежащего на стенде с медицинской литературой. Пролистнув пару страниц, я мгновенно погрузилась в книгу и попала в истории Лондона XIX века.
Описание города и его жителей завораживает настолько, что начинаешь проживать всю историю как горожанин Лондона той эпохи.
Эта книга о реальном детективном расследовании причин эпидемии холеры в огромном по тем временам городе. Автор погружает читателя в историю города, социальных аспектов жизни людей, классового неравенства, экономики, страхов и заблуждений, царивших в то время, провоцирует задумываться над стереотипами нашего мышления: в действительности ли мы избавились от всех предрассудков и страхов перед неизвестным? В свете развивающихся событий книга ответит на вопросы, почему даже при современных эпидемиях санитарные службы поступают тем или иным способом. Эта книга будет интересна не только людям, увлекающимся историей, медициной и детективами, но и всем, кто хочет глубже понять, почему при современных знаниях, технологиях, изменившихся условиях жизни до сих пор случаются эпидемии, а как показало настоящее – настоящие пандемии.»
Анчес Шумейко,
врач-остеопат
Понедельник, 28 августа
Ночные почвенники
В августе 1854 года Лондон был настоящим городом мусорщиков. Одни только наименования звучат словно экзотический зоологический каталог: «сборщики костей», «собиратели тряпок», «искатели чистоты», «землекопы», «грязевые жаворонки», «сточные охотники», «пыльщики», «ночные почвенники», «тряпичницы», «медники», «береговые работники». Это самые низшие слои лондонского общества, численностью не менее ста тысяч. Их количество так огромно, что, если бы мусорщики дружно покинули Лондон и основали свой город, он стал бы пятым по населению во всей Англии. Но разнообразие и точность их работы достойны куда большего внимания, чем многочисленность. Если бы вы встали пораньше и решили прогуляться вдоль Темзы, то увидели бы медников, копающихся в иле во время отлива; они одеты в почти комичные длинные вельветовые плащи с огромными карманами, полными кусочков меди, которые удавалось добыть на берегу. Медники закрепляли на груди фонари, чтобы разглядеть хоть что-нибудь в предрассветной тьме, и носили восьмифутовые шесты, которыми прощупывали почву перед собой и с помощью которых выбирались, провалившись в трясину. Из-за шеста и жутковатого света из-под плащей они чем-то напоминали растрепанных чародеев, искавших на грязных берегах волшебные монеты. Вокруг них сновали грязевые жаворонки, часто – дети, одетые в лохмотья и готовые собирать весь мусор, который медники сочли ниже своего достоинства: кусочки угля, старое дерево, обрывки веревок.
Над рекой, на улицах города1, искатели чистоты перебивались сбором собачьего дерьма (которое на жаргоне называли pure – «чистота»), а сборщики костей разыскивали любые трупы и туши. Под землей, в тесной, но интенсивно растущей сети туннелей под лондонскими улицами, сточные охотники ходили вброд прямо через канализационные воды огромного города. Каждые несколько месяцев их керосиновые лампы поджигали какое-нибудь необычно плотное скопление метана, и несчастные сгорали заживо в двадцати футах под землей, в реке из нечистот.
Проще говоря, мусорщики жили в мире экскрементов и смерти. Диккенс начал свой последний великий роман, «Наш общий друг», с того, как двое медников, отец и дочь, наткнулись на плывший по Темзе труп и обобрали его. «На каком свете находится мертвец? – задает риторический вопрос отец, когда коллега-медник пытается пристыдить его за воровство у трупа. – На том свете. А деньги на каком? На этом». Диккенс, хоть и не говорил об этом прямо, пытался показать, что подобные пограничные пространства – это места, где «тот» и «этот» свет встречаются. Шумная коммерция огромного города породила свою противоположность, призрачный класс, который каким-то образом подражает статусным признакам и ценностным расчетам материального мира. Подумайте хотя бы о пугающей точности, с которой ежедневно работали сборщики костей, – впервые об этом написал Генри Мэйхью в первой в своем роде книге «Рабочие и бедняки Лондона» (1844):
Обычно сборщику костей на обход требуется семь-девять часов; за это время он проходит 30–50 километров, неся на спине от четверти до половины центнера[1]. Летом он обычно приходит домой около одиннадцати часов дня, а зимой – в час или в два. Вернувшись домой, он сортирует содержимое мешка. Он отделяет тряпье от костей, а затем – от старых металлических вещей (если, конечно, ему повезло, и он что-то такое нашел). Потом он разделяет тряпье на несколько куч – белые отдельно, цветные отдельно; если ему удается найти парусину или мешковину, он откладывает и их отдельно. Завершив сортировку, он относит кучи в лавку тряпья или к торговцу морскими припасами и там получает за них плату. За белые тряпки он может получить от двух до трех пенсов за фунт, в зависимости от того, чистые они или грязные. Белые тряпки найти очень трудно; по большей части они очень грязны и, соответственно, продаются вместе с цветными по цене около двух пенсов за пять фунтов.
Бездомные, конечно, есть и в нынешних постиндустриальных городах, но они редко демонстрируют такую же профессиональную хватку, как сборщики костей в своем импровизированном ремесле, и тому есть две основные причины. Во-первых, минимальная заработная плата и государственные пособия сейчас достаточно значительны, так что экономического смысла жить сбором мусора просто нет. (Там же, где зарплаты все еще низки, сбор мусора по-прежнему остается жизнеспособной «профессией»: посмотрите хотя бы на пепенадоров [2] в Мехико.) Во-вторых, сборщики костей не нужны еще и потому, что в современных городах разработаны сложные системы устранения отходов, оставляемых жителями. (Собственно, сборщики алюминиевых банок, которых иногда можно увидеть возле супермаркетов, – самый близкий американский эквивалент викторианских мусорщиков – зарабатывают деньги именно с помощью этих систем устранения отходов.) Но в 1854 году Лондон был викторианским мегаполисом, гражданская инфраструктура которого не менялась еще со времен Елизаветы. Город даже по современным стандартам был огромен; в радиусе пятидесяти километров жило два с половиной миллиона человек. Но большинство технологий, которые необходимы для нормальной жизни с такой плотностью населения (и которые мы сейчас воспринимаем как должное) – центры переработки мусора, департаменты здравоохранения, безопасное удаление сточных вод, – еще не были изобретены.
В 1851 году население Англии составляло около двадцати двух миллионов, из них два с половиной миллиона проживало в Лондоне. Более половины англичан жили в городах: вторым по величине был Ливерпуль с населением более 395 000 человек, далее следовали Манчестер (338 000) и Бирмингем (265 000).
Так что городу самому пришлось изобретать импровизированное решение – без какого-либо четкого плана, но при этом идеально удовлетворяющее потребности населения в удалении отходов. С ростом объема мусора и экскрементов появился подпольный рынок отбросов, связанный с уже устоявшимися профессиями. Появились специалисты, которые аккуратно развозили «товар» в нужные места официальных рынков: сборщики костей продавали добычу варщикам костей, искатели чистоты продавали собачье дерьмо кожевникам – те с помощью «чистоты» очищали кожаные изделия от извести, в которой их вымачивали неделями, чтобы удалить всю шерсть. (Этот этап, как выразился один кожевник, был «самым неприятным во всем процессе производства.)
Мы, естественно, склонны считать мусорщиков трагическими фигурами и метать громы и молнии в государственную систему, которая заставляла тысячи людей зарабатывать на жизнь, копаясь в отходах и отбросах. Во многих отношениях эта реакция вполне оправданна. (Собственно, именно так реагировали и великие борцы за социальную справедливость тех времен, в том числе Диккенс и Мэй-хью.) Но подобное возмущение должно сопровождаться изумлением и уважением: без каких-либо центральных планировщиков, координирующих их действия, вообще без какого-либо образования эти бродячие работники сумели создать целую систему обработки и сортировки мусора, который выбрасывали более двух миллионов человек. Большой заслугой Мэйхью обычно считают то, что в «Рабочих Лондона» он решился подробно описать жизнь бедняков. Но не менее ценным оказался и вывод, сделанный из этих описаний и подсчетов: Мэйхью обнаружил, что бедняки – не просто бродяги-бездельники; они выполняют важнейшую функцию для общества. «Удаление отходов большого города, – писал он, – возможно, является самой важной для общества работой»2. А мусорщики викторианского Лондона не просто избавлялись от этих отбросов, но и перерабатывали их.
Переработку отходов обычно считают изобретением экологического движения – таким же современным, как синие полиэтиленовые пакеты, в которые мы складываем бутылки из-под чистящих средств и банки из-под газировки. Но на самом деле это древнее искусство. Компостные ямы выкапывали еще жители Кносса на острове Крит четыре тысячи лет назад. Большинство зданий средневекового Рима было построено из материалов, собранных из развалин древнего имперского города. (Прежде чем стать достопримечательностью для туристов, Колизей, по сути, служил для римлян карьером.) Переработка отходов – компостирование и разбрасывание навоза – сыграла ключевую роль в бурном росте средневековых европейских городов. Крупные скопления людей по определению требуют больших вложений энергии для поддержания жизнедеятельности – в первую очередь, естественно, надежных поставок еды. В Средневековье не существовало ни магистральных шоссе, ни кораблей-контейнеровозов, так что население городов было жестко ограничено плодородием окружающих земель. Если земля позволяла прокормить только пять тысяч человек, значит, эти пять тысяч становились верхней границей населения. Но, удобряя почву органическими отходами, земледельцы раннего Средневековья сумели повысить плодородие почв; это позволило увеличить количество населения, и оно давало еще больше отходов – и, соответственно, еще больше плодородной земли. Благодаря такой положительной обратной связи болотистые земли Нидерландов, которые когда-то могли прокормить разве что изолированные группки рыбаков, превратились в едва ли не самую плодородную почву во всей Европе. И по сей день плотность населения Нидерландов – самая большая в мире.
Около трех тысяч лет до н. э. на острове Крит впервые были вырыты специальные ямы, куда централизованно сваливали мусор. В Афинах граждане вывозили отходы на расстояние полутора километров от городской черты. Но в Средневековье древняя культура утилизации была забыта.
Переработка отходов – это характерная черта практически всех сложных систем, от рукотворных городских экосистем до микроскопических клеточных структур. Наши кости – это конечный результат системы переработки, появившейся в результате естественного отбора миллиарды лет назад. Все ядросодержащие организмы вырабатывают кальций в качестве отходов. Как минимум с кембрийской эры[3] живые организмы стали накапливать эти резервы кальция и пользоваться ими себе во благо – создавать панцири, зубы, скелеты. Вы ходите на двух ногах благодаря тому, что эволюция научила живую природу перерабатывать токсичные отходы.
Переработка отходов – ключевая черта самых разнообразных экосистем нашей планеты. Мы ценим тропические леса за то, что они практически не тратят бесценную энергию солнца попусту: огромные взаимосвязанные системы организмов заполняют буквально каждую нишу питательного цикла. Прославленное разнообразие экосистемы тропических лесов – это не просто причудливый случай биологического мультикультурализма. Именно благодаря разнообразию тропическим лесам так великолепно удается захватывать энергию, проходящую через них: один организм перерабатывает часть этой энергии, давая отходы. В эффективной системе эти отходы превращаются в новый источник энергии для другого организма. (Подобная эффективность – одна из причин, по которым расчистка тропических лесов является большой ошибкой: питательные циклы в их экосистемах настолько замкнуты сами на себя, что почвы под ними малопригодны для земледелия; почти вся доступная энергия перехватывается, не доходя до земли.)
Коралловые рифы не менее хорошо умеют перерабатывать отходы. Кораллы живут в симбиотическом союзе с маленькими одноклеточными водорослями – зооксантеллами. Благодаря фотосинтезу и энергии солнечного света углекислый газ в водорослях превращается в сложные органические соединения. Кораллы забирают кислород для собственного метаболического цикла. Поскольку мы тоже аэробные существа, мы не считаем кислород «отходами жизнедеятельности», но вот с точки зрения водорослей все обстоит именно так: для них кислород – бесполезное вещество, которое выбрасывается из организма в рамках метаболического цикла. Сам коралл вырабатывает свои отходы – углекислый газ, нитраты и фосфаты, благодаря которым растут водоросли. Эта замкнутая цепь переработки – одна из главных причин, благодаря которым коралловые рифы способны поддерживать настолько разнообразную и многочисленную популяцию живых существ, хотя растут они в тропических водах, обычно бедных питательными веществами. Коралловые рифы – настоящие морские «города».
Причин у большой плотности населения бывает много – и неважно, состоит это население из скалярий, паукообразных обезьян или людей, – но без эффективных методов переработки отходов плотное население долго не протянет. Большая часть этой переработки – как в далеких тропических джунглях, так и в городских центрах – проходит на микробном уровне. Без процессов разложения и гниения, которыми заведуют бактерии, вся Земля уже давно была бы завалена трупами и потрохами, а поддерживающий жизнь атмосферный покров превратился бы в подобие кислотной, необитаемой поверхности Венеры. Если бы какой-нибудь вирус-убийца уничтожил всех млекопитающих планеты, жизнь на Земле продолжилась бы, и эта потеря даже не стала бы сильным ударом. Но вот если исчезнут все бактерии, то все живое на планете погибнет буквально за несколько лет3.
В викторианском Лондоне, конечно, микробов-мусорщиков никто не видел, и подавляющее большинство ученых – не говоря уж о простых людях – даже не представляли, что мир буквально кишит микроорганизмами, благодаря которым они, собственно, и живы. Но их можно было распознать с помощью другого органа чувств: обоняния. Ни одно сколько-нибудь подробное описание Лондона того периода не обходилось без упоминания вони, висевшей над городом4. Часть запаха была обусловлена сжиганием промышленного топлива, но самые отвратительные «ароматы» – те самые, благодаря которым в конечном итоге была создана вся инфраструктура здравоохранения, – были порождением неустанной работы бактерий, разлагавших органическую материю. Смертоносные скопления метана в канализации – это результат работы миллионов микроорганизмов, прилежно перерабатывавших человеческие экскременты в микробную биомассу; отходами этого труда служат разнообразные газы. Можно даже представить подземные взрывы своеобразными битвами между двумя видами мусорщиков – сточными охотниками и бактериями, – которые живут на разных уровнях бытия, но при этом конкурируют за одну и ту же территорию.
Но в конце лета 1854 года, пока медники, грязевые жаворонки и сборщики костей обходили свои территории, Лондон превратился в поле еще более ужасающей битвы между микробами и людьми, оказавшейся одной из самых смертоносных за всю историю города.
На подпольном лондонском рынке мусорщиков существовала собственная система рангов и привилегий, и практически на самом верху располагались ночные почвенники. Словно обожаемые всеми трубочисты из «Мэри Поплине», ночные почвенники работали как индивидуальные предприниматели на самых дальних краях «законной» экономики, хотя их работа была куда более отвратительной, чем у медников или грязевых жаворонков. Городские домовладельцы нанимали их, чтобы убрать «ночное золото» из переполненных выгребных ям возле своих зданий. Сбор человеческих экскрементов был почтенной профессией; в Средние века сборщиков называли разгребщиками или золотарями, и они играли важнейшую роль в системе переработки отходов, которая помогла Лондону вырасти в настоящий мегаполис: они продавали эти отходы фермерам, живущим за городскими стенами. (Позже изобретателям удалось разработать способ извлекать из экскрементов азот, который применялся для производства пороха.) Рейкеры, конечно, неплохо зарабатывали, но условия труда бывали смертельно опасными: в 1326 году бедолага-рабочий, известный под именем Ричард Рейкер, упал в выгребную яму и в буквальном смысле утонул в дерьме.
В XIX веке ночные почвенники разработали для своего ремесла точнейший технологический процесс. Они работали в ночную смену, между полуночью и пятью утра, бригадами из четырех человек: «веревочника», «ямника» и двух «кадочников». Команда закрепляла фонари на краях выгребной ямы и убирала деревянную или каменную крышку (иногда приходилось поработать киркой). Если экскременты поднимались уже достаточно высоко, то веревочник и ямник для начала вычерпывали их кадкой. В конце концов, удалив достаточно «ночного золота», рабочие спускали вниз лестницу, ямник слезал по ней и наполнял кадку доверху. Веревочник помогал поднимать полную кадку наверх и передавал ее кадочникам, которые выливали содержимое в тачки. За работу ночным почвенникам, по обычаю, предлагали бутылку джина. Один работник рассказывал Мэйхью: «Должен сказать, что я выпивал бутылку джина после уборки двух из каждых трех, а может, и больше, выгребных ям в Лондоне; даже, если подумать, трех из каждых четырех».
Выгребные ямы находились в подвалах домов. В резиденции английских королей – Виндзорском замке – в середине XIX века насчитывались 53 заполненные выгребные ямы. В богатых домах хозяйки часто настаивали на том, чтобы на этаже с детской не было раковин, чтобы у прислуги не возникал соблазн выливать туда содержимое ночного горшка, не донося его до подвала.
Работа была отвратительной, но оплачивалась хорошо. Как выяснилось – даже слишком хорошо. Географическое положение надежно защищало Лондон от вторжения извне, и он превратился в один из самых больших по площади городов Европы, выйдя далеко за пределы древних римских стен. (Население другого огромного мегаполиса XIX века, Парижа, было практически таким же, но людям приходилось тесниться на вдвое меньшей территории.) Для ночных почвенников это означало долгое время перевозки – пахотные земли начинались теперь милях в десяти от города, – и цены на их работу поползли вверх. Во времена королевы Виктории ночные почвенники брали по шиллингу за выгребную яму – оклад, по меньшей мере вдвое превышавший стандартную оплату квалифицированного рабочего. Для многих лондонцев финансовые затраты на вывоз экскрементов превышали экологические издержки от их накопления – особенно для домовладельцев, которые чаще всего сами не жили в домах, сдаваемых внаем. Виды, подобные тем, что описал один гражданский инженер, которого наняли отремонтировать два дома в 1840-х годах, стали обычным делом: «Я обнаружил, что немалая часть подвалов обоих домов заполнена ночным золотом, поднявшимся на высоту трех футов – оно явно накапливалось там не один год… Пройдя через коридор первого дома, я обнаружил, что двор сплошь покрыт ночным золотом из переполненной уборной, высота его составляет шесть дюймов, и по двору разложены кирпичи, чтобы жители дома могли ходить, не запачкав ног». В другом рассказе описывается навозная куча в Спитал-филдс, в самом сердце Ист-Энда: «Куча навоза размером с довольно-таки большой дом и искусственный пруд, в который сбрасывают содержимое выгребных ям. Этому содержимому дают высохнуть на открытом воздухе и часто перемешивают с подобными целями». Мэйхью описал эту абсурдную сцену в статье об эпицентре эпидемии холеры, опубликованной в лондонской газете Morning Chronicle в 1849 году:
Затем мы вышли на Лондон-стрит… В доме № 1 по этой улице семнадцать лет назад впервые появилась холера и распространилась с ужасной заразностью; но в этом году она появилась с другого конца улицы и пронеслась по ней с подобной же суровостью. Когда мы шли вдоль вонючих берегов сточной канавы, солнце осветило узкую полоску воды. В ярком свете она имела цвет крепкого зеленого чая, а в тени выглядела определенно такой же твердой, как черный мрамор, – собственно, она представляла собой скорее водянистую грязь, а не грязную воду, но тем не менее, как нас заверили, именно эту воду вынуждены были пить несчастные жители. Мы с ужасом увидели, что в эту канаву уходят сточные и канализационные воды; потом заметили ряд открытых уборных, общих для мужчин и женщин, построенных прямо над нею; мы слышали, как туда ведро за ведром выплескивают помои; а руки и ноги мальчишек-беспризорников, купавшихся в ней, по контрасту казались белыми, словно паросский мрамор. Тем не менее, все еще не веря глазам и этому ужасному зрелищу, мы увидели, как маленькая девочка с той стороны улицы спустила в канаву жестяную банку, чтобы наполнить водой стоявшее рядом с нею ведро. На каждом балконе, нависавшем над канавой, мы видели одинаковые корыта, в которых обитатели отстаивали грязную жидкость, чтобы она через пару дней хоть сколько-нибудь отчистилась от твердых частиц грязи, скверны и болезни. Пока малышка со всей осторожностью спускала в канаву свою банку, из соседнего дома туда вылили ведерко ночного золота.
В викторианском Лондоне, конечно, были и прекрасные достопримечательности, которые все видели на открытках, – Хрустальный дворец, Трафальгарская площадь, новые пристройки к Вестминстерскому дворцу. Но такими же потрясающими были и другие, не менее заметные «чудеса»: искусственные пруды с нечистотами, навозные кучи величиной с дом.
Завышенные зарплаты ночных почвенников были не единственной причиной этого растущего количества экскрементов. Резкий рост популярности унитазов лишь усилил кризис. Устройство для спускания воды изобрел в конце XVI века сэр Джон Харингтон и установил его в Ричмондском дворце для своей крестной, королевы Елизаветы. Но настоящее распространение оно получило лишь в конце 1700-х годов, когда часовщик Александр Каммингс и краснодеревщик Джозеф Брама подали два отдельных патента на улучшение устройства Харингтона. Брама сделал отличный бизнес, устанавливая унитазы в богатых домах. Согласно данным одного исследования, между 1824 и 1844 годами количество устанавливаемых ежегодно унитазов выросло в десять раз. Еще один скачок произошел, когда фабрикант Джордж Дженнингс на Всемирной выставке 1851 года впервые установил публичные туалеты. По некоторым оценкам, ими воспользовались 827 000 человек. Посетители, безусловно, восхищались потрясающими чудесами всемирной культуры и современного инженерного искусства, но для многих самым поразительным опытом стало первое в жизни использование унитаза…
Унитазы стали невероятным прорывом с точки зрения улучшения качества жизни, но вот для городской системы уборки нечистот это была настоящая катастрофа. Функционирующей канализационной системы в Лондоне не было, так что содержимое большинства унитазов просто сливалось в уже существующие выгребные ямы, из-за чего они переполнялись куда быстрее. По некоторым оценкам, в среднестатистическом лондонском доме в 1850 году расходовалось 727 литров воды в день. После невероятного успеха унитазов расход вырос до 1109 литров.
Но главнейшим фактором, повлиявшим на кризис с нечистотами в Лондоне, был простой вопрос демографии: количество людей, от которых появлялись отбросы и отходы, за пятьдесят лет практически утроилось. Согласно переписи 1851 года, в Лондоне жило 2,4 млн человек – он стал крупнейшим городом на планете; на рубеже веков его население составляло всего миллион. Даже современной гражданской инфраструктуре трудно было бы справиться с таким взрывным ростом населения. Но в отсутствие инфраструктуры два миллиона человек, которых внезапно собрали на девяноста квадратных милях, – это не просто рецепт скорой катастрофы: это скорее можно назвать постоянной вялотекущей катастрофой; огромный организм убивал себя, засоряя собственную среду обитания. Спустя пятьсот лет после ужасной смерти Ричарда Рейкера Лондон постепенно воссоздавал ее, захлебываясь в собственных нечистотах.
Если в городе начинает жить намного больше людей, то, очевидно, в нем начинает появляться и больше трупов. В начале 1840-х годов 23-летний пруссак по имени Фридрих Энгельс отправился в Англию на разведку для своего отца-промышленника; эта миссия стала вдохновением и для классического текста по урбанистической социологии, и для современного социалистического движения. Вот что Энгельс писал о своем лондонском опыте:
С мертвыми обращаются не лучше, чем с живыми. Бедняка закапывают самым небрежным образом, как издохшую скотину. Кладбище Сент-Брайдс, в Лондоне, где хоронят бедняков, представляет собой голое, болотистое место, служащее кладбищем со времен Карла II и усеянное кучами костей. Каждую среду умерших за неделю бедняков бросают в яму 14 футов глубиной, поп торопливо бормочет свои молитвы, яма слегка засыпается землей, чтобы в ближайшую среду ее можно было опять разрыть и бросить туда новых покойников, и так до тех пор, пока яма не наполнится до отказа. Запах гниющих трупов заражает поэтому всю окрестность.
Одно частное кладбище в Ислингтоне умудрилось похоронить 80 000 трупов на площади, предназначавшейся всего для трех тысяч. Один могильщик рассказал лондонской Times, что стоял «по колено в человеческой плоти, прыгая на телах, чтобы как можно лучше утрамбовать их на дне могилы и затем положить сверху свежие трупы».
Диккенс хоронит таинственного юриста, умершего от передозировки опиума вскоре после начала романа «Холодный дом», примерно в такой же ужасной обстановке, вдохновившей один из самых знаменитых и страстных авторских монологов:
…затиснутое в закоулок кладбище, зловонное и отвратительное, источник злокачественных недугов, заражающих тела возлюбленных братьев и сестер наших, еще не преставившихся… на кладбище, которое со всех сторон обступают дома и к железным воротам которого ведет узкий зловонный крытый проход, – на кладбище, где вся скверна жизни делает свое дело, соприкасаясь со смертью, а все яды смерти делают свое дело, соприкасаясь с жизнью, – зарывают на глубине одного-двух футов возлюбленного брата нашего; здесь сеют его в тлении, чтобы он поднялся в тлении – призраком возмездия у одра многих болящих, постыдным свидетельством будущим векам о том времени, когда цивилизация и варварство совместно вели на поводу наш хвастливый остров.
Читая эти строки, вы видите рождение риторического направления, которое стало ведущим в философской мысли XX века; оно искало способ осмыслить высокотехнологичную резню Первой мировой войны и доведенную до предела тейлоровскую эффективность концентрационных лагерей. Социолог-теоретик Вальтер Беньямин переработал оригинальный слоган Диккенса в своем загадочном шедевре «Тезисы о философии истории», написанном, когда Европу поразила чума фашизма: «Нет ни одного документа цивилизации, который не был бы одновременно документом варварства».
Во второй половине XIX века в Англии возник культ траура в среде высшего и среднего класса. Основоположницей «моды на траур» стала сама королева Виктория, которая крайне тяжело перенесла смерть горячо любимого супруга, принца Альберта, скончавшегося в возрасте сорока двух лет, вероятно, от брюшного тифа. Виктория пережила его на сорок лет и до конца дней продолжала скорбеть по мужу.
Противостояние между цивилизацией и варварством началось, едва были построены стены первого в мире укрепленного города. (Как только появились ворота, вместе с ними появились и варвары, готовые в них ворваться.) Но Энгельс и Диккенс дали нам новый взгляд: развитие цивилизации создает варварство как неизбежный продукт жизнедеятельности, столь же необходимый для обмена веществ, как и блестящие шпили и продвинутое мышление воспитанного общества. Варвары не штурмуют ворота: их вскармливают внутри города. Маркс воспользовался этой идеей, завернул ее в диалектику Гегеля и определил тем самым все течение XX века. Но порождена она была непосредственным жизненным опытом – «на земле», как до сих пор любят говорить активисты. Отчасти – видом этих похорон, осквернявших и живых, и мертвых.
Но в одном важном смысле и Диккенс, и Энгельс ошибались. Каким бы ужасным ни был вид кладбища, сами по себе трупы, скорее всего, не распространяли «злокачественные недуги». Запах был ужасным, но никого не «заражал». Массовое захоронение разлагающихся тел, конечно, оскорбляло и чувства, и личное достоинство, но запах, который оно источало, не угрожал здоровью жителей. Ни один человек в викторианском Лондоне не умер от вони. Но десятки тысяч лондонцев умерли, потому что страх перед вонью отвлек их от настоящих опасностей, грозивших городу, и заставил их принять целую серию ошибочных реформ, лишь усугубивших кризис. Диккенс и Энгельс были не одиноки: практически вся медицинская и политическая элита, от Флоренс Найтингейл до реформатора Эдвина Чедвика, от редакторов журнала The Lancet до самой королевы Виктории, совершили одну и ту же смертельную ошибку. История познания пронизана прорывными идеями и революционными концепциями. На ее пути белые пятна непознанного, темные континенты ошибок и предрассудков, которые несут на себе печать загадочности. Как могли столько умнейших людей так ужасно заблуждаться так долго? Как могли игнорировать огромное количество данных, которые противоречили самым основам их теории? Эти вопросы тоже заслуживают своей дисциплины – социологии ошибок.
Страх смерти и заразы иной раз держится веками. Во время Великой чумы 1665 года граф Крейвен купил участок земли, который назывался Сохо и располагался к западу от центра Лондона. Там он построил тридцать шесть небольших домов «для призрения бедных и убогих душ», больных чумой. Остальной участок использовали под братские могилы. Каждую ночь с телег в землю бросали десятки трупов. По некоторым оценкам, за несколько месяцев там похоронили более четырех тысяч умерших от чумы. Жители соседних районов дали Сохо зловещее название «Чумного поля графа Крейвена», или, если короче, «Крейвенского поля». Целых два поколения никто не решался там ничего строить, боясь заразиться. Но в конце концов дефицит крова пересилил страх болезни, и чумные поля превратились в модную площадь Голден-сквер, где обитали в основном аристократы и иммигранты-гугеноты. Но в конце лета 1854 года Голден-сквер накрыла еще одна эпидемия, заставившая содрогнуться несчастные души тех, кто нашел успокоение под ее камнями.
Сохо в десятилетия, последовавшие за чумой, быстро превратился в один из самых фешенебельных районов Лондона – если, конечно, не обращать внимания на Крейвенское поле. К 1690-м годам там жила почти сотня дворянских семей. В 1717 году принц и принцесса Уэльские оборудовали себе резиденцию в Лестер-Хаусе в Сохо. Сам Голден-сквер застроили элегантными особняками в георгианском стиле – идеальным убежищем от шумной площади Пикадилли, располагавшейся чуть дальше к югу. Но к середине XVIII века элита продолжила свой неумолимый марш на запад, построив еще более грандиозные дома и резиденции в растущем новом квартале – Мейфэре. К 1740 году в Сохо осталось лишь сорок жителей-дворян. Появился новый тип «обитателя Сохо»; наилучшим олицетворением его можно считать сына чулочника, родившегося в 1757 году по адресу Брод-стрит, 28. Талантливого, проблемного ребенка звали Уильям Блейк, и он стал одним из величайших поэтов и художников Англии. Когда ему было около тридцати, он вернулся в Сохо и открыл печатный двор рядом с лавкой покойного отца, которой теперь заведовал брат. Еще один брат Блейка открыл пекарню напротив, по адресу Брод-стрит, 29, так что в течение нескольких лет семья Блейков создала на Брод-стрит свою мини-империю: целых три лавки в одном квартале.
Эта смесь художественного видения и предпринимательского духа стала определяющей для Сохо в течение нескольких поколений. Город все больше превращался в промышленный, старые деньги заканчивались, и район постепенно мрачнел; домовладельцы разделяли старые особняки на отдельные квартиры, дворики между зданиями заполнялись импровизированными свалками, конюшнями, пристройками. Лучшее описание этому дал Диккенс в «Жизни и приключениях Николаса Никльби»:
В той части Лондона, где расположен Гольдн-сквер[4], находится заброшенная, поблекшая, полуразрушенна я улица с двумя неровными рядами высоких тощих домов, которые уже много лет как будто таращат друг на друга глаза. Кажется, даже трубы стали унылыми и меланхолическими, потому что за неимением лучшего занятия им остается только смотреть на трубы через дорогу… Судя по величине домов, их когда-то занимали люди более состоятельные, чем нынешние жильцы, а теперь в них сдают понедельно этажи или комнаты, и на каждой двери чуть ли не столько же табличек и ручек от звонков, сколько комнат внутри. По той же причине окна довольно разнообразны, так как украшены всевозможнейшими шторами и занавесками; а каждая дверь загорожена, и в нее едва можно войти из-за пестрой коллекции детей и портерных кружек всех размеров, начиная с грудного младенца и полупинтовой кружки и кончая рослой девицей и бидоном вместительностью в полгаллона.
К 1851 году район Берик-стрит в западной части Сохо был самым густонаселенным из всех 135 районов Большого Лондона – 106 704 чел/км2; даже со всеми небоскребами плотность населения Манхэттена составляет «всего лишь» 25 846 чел/км2. В приходе церкви Св. Луки в Сохо на одном квадратном километре размещалось более семи тысяч домов. В Кенсингтоне, например, их было около 500 на одном квадратном километре.
Но несмотря на все более тесные и антисанитарные условия – или, может быть, даже благодаря им, – район был настоящим очагом творчества. Список поэтов, музыкантов, скульпторов и философов, живших в Сохо в тот период, читается как учебник по британской культуре эпохи Просвещения. Эдмунд Бёрк, Фанни Бёрни, Перси Шелли, Уильям Хогарт – всем им в тот или иной период довелось пожить в Сохо. Леопольд Моцарт снимал квартиру на Фрит-стрит, когда в 1764 году прибыл в Лондон вместе со своим восьмилетним сыном-вундеркиндом Вольфгангом. Ференц Лист и Рихард Вагнер тоже останавливались в этом районе, когда в 1839–1840 годах посещали Лондон.
«Новым идеям нужны старые здания», – однажды написала Джейн Джейкобс, и это утверждение идеально подходит для Сохо времен зари Промышленной революции: целый класс провидцев, эксцентриков и радикалов поселился в полуразвалившихся зданиях, которые почти столетие назад бросили богачи. Сейчас подобный сюжет – художники и маргиналы захватывают обветшалый квартал и даже наслаждаются окружающим упадком – хорошо нам известен, но в те времена, когда Блейк, Хогарт и Шелли впервые поселились на людных улицах Сохо, такой метод заселения был в новинку. Царившая вокруг нищета, похоже, лишь придавала им сил, а не вызывала ужас. Вот описание одного типичного дома на Дин-стрит, написанное в начале 1850-х годов:
[В квартире] было две комнаты, одна, с видом на улицу, служит гостиной, другая – спальней. Во всем жилище нет ни одного хорошего, прочного предмета мебели. Все сломано, истрепано и порвано, повсюду слой пыли толщиною в палец, все в полнейшем беспорядке… Когда входишь в… квартиру, внутри все затянуто табачным и угольным дымом, так что поначалу приходится ходить на ощупь, словно в пещере, пока глаза не привыкнут к клубам дыма, и, словно в тумане, начинаешь различать очертания предметов. Все грязно, все покрыто пылью; присаживаться просто опасно.
На этом двухкомнатном чердаке жили семь человек: семейная пара, переехавшая из Пруссии, их четверо детей и служанка. (Судя по всему, служанка не любила вытирать пыль.) Тем не менее это тесное, истрепанное жилье нисколько не сказалось на производительности главы семьи – хотя, с другой стороны, становится понятнее, почему он так полюбил читальный зал Британского музея. Этому человеку было немного за тридцать, а звали его Карлом Марксом.
К тому времени как Маркс переехал в Сохо, квартал превратился в классический смешанный, экономически разнообразный район, который современные «новые урбанисты» прославляют как фундамент для любого успешного города: двух-четырехэтажные жилые здания с торговыми площадями почти по любому адресу, а кое-где – крупные магазины. (Впрочем, в отличие от типичной новой урбанистской среды, была в Сохо и своя промышленность: бойни, мануфактуры, варщики требухи.) Жители района были бедными, практически нищими, по меркам современных индустриальных стран; правда, по викторианским стандартам это была смесь работающей бедноты и предпринимательского среднего класса. (Ну а уж с точки зрения грязевых жаворонков они вообще все были богачами.) Но Сохо был своеобразной аномалией богатого Вест-Энда: островок бедняков и зловонной промышленности, окруженный роскошными особняками Мейфэра и Кенсингтона.
Этот неоднородный состав населения до сих пор заметен в расположении улиц вокруг Сохо. Западная граница района проходит по широкой Риджент-стрит с блестящими белыми фасадами магазинов. К западу от Риджент-стрит располагается изысканный анклав Мейфэр, и по сей день сохранивший прежнюю пышность. Но вот с маленьких улочек и переулков западной части Сохо шумная, находящаяся в постоянном движении Риджент-стрит практически не заметна – в основном потому, что дорог, напрямую выходящих на Риджент-стрит, почти нет. Если пройтись пешком по району, может показаться, словно там построили баррикаду, чтобы не дать вам добраться до знаменитой улицы, находящейся буквально в нескольких футах от вас. И, собственно, улица изначально и планировалась как баррикада. Когда Джон Нэш прокладывал Риджент-стрит, чтобы соединить Марилебон-парк с новым домом принца-регента Карлтон-Хаусом, он сделал ее своеобразным санитарным кордоном, отделявшим богачей из Мейфэра от растущего рабочего населения Сохо. Нэш в открытую заявлял, что его цель – создать «полное разделение между улицами, где живут Аристократы и Дворяне, и узкими Улицами и бедными домами, где живут механики и ремесленники… Моя цель – построить новую улицу, которая будет пересекать все восточные входы улиц, где живут высшие классы, и оставит к востоку все плохие улицы».
В XVI веке на территории современного Сохо по приказу Генриха III был разбит королевский парк, где придворные могли охотиться. Считается, что свое название район получил от окрика, которым егерь подбадривает охотников.
Эта «социальная топография» сыграла ключевую роль в событиях, развернувшихся в конце лета 1854 года, когда ужасная болезнь поразила Сохо, но соседние районы при этом остались совершенно невредимыми. Избирательность эпидемии, как казалось на первый взгляд, подтверждала все возможные высокомерные клише: от болезни страдали развращенные и нищие, а людей первого сорта, живших всего в паре кварталов в стороне, она пощадила. Конечно же, болезнь разорила «бедные дома» и «плохие улицы»; любой, кто бывал в этих нищих кварталах, понимал, что рано или поздно что-то такое случится. Нищета, разврат и плохое воспитание создают среду, где процветают болезни – об этом вам сказал бы любой человек достаточно высокого положения в обществе. Собственно, для этого и были построены баррикады.
Но вот на другой стороне Риджент-стрит, за «баррикадой», ремесленники и механики вполне справлялись с тяжелыми условиями Сохо. Район был настоящим двигателем местной торговли – почти в каждом доме располагалась какая-нибудь лавка. Перечисление, возможно, прозвучит причудливо для современного уха. Были там, конечно, бакалейщики и пекари, которые и сегодня не затерялись бы в городском центре; но рядом с ними трудились машинисты и производители искусственных зубов. Если бы вы в августе 1854 года пошли по Брод-стрит, к северу от Голден-сквер, то встретили бы последовательно: бакалейщика, шляпника, пекаря, производителя седельных лук, гравера, торговца скобяными товарами, парикмахера, производителя пистолетных капсюлей, торговца гардеробами, производителя распялок для обуви и паб «Ньюкасл-на-Тайне». Если говорить о профессиях, то портных там было намного больше, чем любых других представителей сферы услуг; их было примерно столько же, сколько башмачников, домашних слуг, каменщиков, магазинных продавцов и модисток, вместе взятых.
В викторианской Англии были популярны бутылочки и питательные смеси для кормления. Но видные доктора той эпохи, такие как Чарльз Вайн, советовали именно грудное вскармливание, указывая на большое количество микробов на резиновых сосках бутылочек и несовершенство смесей.
В конце 1840-х годов лондонский полисмен Томас Льюис с женой переехал по адресу Брод-стрит, 40, по соседству с пабом. То был одиннадцатикомнатный дом, в котором изначально жила одна семья и несколько слуг. Теперь же там размещались двадцать человек. Дом был довольно просторный для той части города, где в среднем в одной комнате жило пятеро. Томас и Сара Льюис жили в гостиной дома 40, сначала – с маленьким сыном, болезненным младенцем, умершим в десять месяцев. В марте 1854 года Сара Льюис родила девочку, которая с самого начала выглядела куда более жизнеспособной, чем покойный братик. Сара Льюис не могла кормить ребенка грудью из-за собственных проблем со здоровьем, но давала дочери молотый рис и молоко из бутылочки. На второй месяц жизни девочка перенесла болезнь, но почти все лето оставалась относительно здоровой.
С этим вторым ребенком Льюисов связано несколько тайн, развеянных ветрами истории. Например, мы не знаем, как ее звали. Не знаем, какая серия событий привела к тому, что в конце августа 1854 года она заболела холерой – ей и шести месяцев от роду не было. Вспышки болезни наблюдались в некоторых районах Лондона в течение последних двадцати месяцев – в прошлый раз холера проявила себя в революционные 1848–1849 годы. (Эпидемии и политические беспорядки часто циклически следуют друг за другом5.) Но большинство вспышек холеры в 1854 году случались к югу от Темзы. Голден-сквер практически не страдал.
Но 28 августа все изменилось. Около шести утра, пока остальной город пытался выгадать последние несколько минут сна в тяжелую, жаркую летнюю ночь, у малышки Льюисов начались рвота и водянистый, зеленый, зловонный стул. Сара Льюис послала за местным врачом Уильямом Роджерсом, у которого была практика в нескольких кварталах от дома, на Бернерс-стрит. В ожидании врача Сара замочила испачканные пеленки в ведре с прохладной водой. Когда дочка на несколько минут заснула, Сара Льюис прошмыгнула к погребу дома 40 по Брод-стрит и выплеснула грязную воду в выгребную яму перед домом.
Вот так все началось.
Генри Уайтхед
Суббота, 2 сентября
Запавшие глаза, синюшные губы
В следующие два дня после того, как заболела дочь Льюисов, жизнь на Голден-сквер шла своим чередом. Неподалеку, на Сохо-сквер, приветливый священник Генри Уайтхед вышел из комнаты, которую снимал вместе с братом, и отправился на утреннюю прогулку до церкви Св. Луки, на Берик-стрит, где его назначили помощником викария. Уайтхеду было всего двадцать восемь лет; он родился в приморском городке Рамсгейте и учился в престижной государственной школе Чатэм-Хаус, директором которой работал его отец. Уайтхед стал одним из лучших учеников Чатэма, окончив школу с наивысшей отметкой за сочинение по английскому языку, после чего поступил в Линкольнский колледж в Оксфорде; там он быстро получил репутацию общительного, доброго человека, которая сопровождала его всю жизнь. Он стал большим приверженцем интеллектуальной жизни в таверне: очень любил сидеть в кругу друзей за ужином, смакуя трубку, рассказывать истории, или дискутировать о политике, или обсуждать философию морали до поздней ночи. На вопрос об университетской жизни Уайтхед обычно отвечал, что люди дали ему намного больше хорошего, чем книги.
До появления законов, ограничивающих употребление алкоголя, в Лондоне XIX века пиво пили все: мужчины, женщины и даже дети. Это было естественно, ведь люди запивали этим напитком любой прием пищи. На каждые пять домов приходилась одна таверна.
Окончив Оксфорд, Уайтхед решил посвятить жизнь англиканской церкви и через несколько лет был рукоположен в Лондоне. Религиозное призвание, впрочем, никак не уменьшило его любви к лондонским тавернам, и он стал завсегдатаем старых заведений на Флит-стрит – «Петуха», «Чеширского сыра», «Радуги». Уайтхед был либерален в своих политических взглядах, но, как часто отмечали друзья, консервативен в моральном плане. Кроме религиозной подготовки, он обладал острым, эмпирическим умом и хорошей памятью на детали. Больше того, он был необычно открыт для неортодоксальных идей и имел хороший иммунитет против банальностей общественного мнения. Он часто говорил друзьям: «Знаете, что? Если человек в меньшинстве, значит, он практически точно прав».
В 1851 году викарий церкви Св. Луки предложил Уайтхеду место помощника, сказав, что этот приход – для тех, кому «больше важно одобрение, а не аплодисменты». В церкви Св. Луки он работал своеобразным миссионером для жителей трущоб на Берик-стрит и быстро добился уважения в беспокойном квартале. Один из современников Уайтхеда описал хаотичные виды и звуки на улицах вокруг церкви Св. Луки в тот период:
Проходя по Риджент-стрит, невозможно понять, насколько же небольшое расстояние по улицам и переулкам отделяет «неведомое малое от неведующего большого». Но если кто-либо рискнет пройти в неизведанную землю трущоб в Сохо через Бик-стрит или Берик-стрит, он многим поразится и заинтересуется, если, конечно, изучает жизнь лондонской бедноты. Ваш кэб вдруг остановит уличный торговец с тележкой и спросит, не едете ли вы к церкви Св. Луки, что на Берик-стрит; если вы ответите, что да, именно туда и направляетесь, то вам ответят вежливо, но с характерной для Сохо прямотой, что доедете вы туда к концу следующей недели, и вскоре вам придется признать, что в этом пророчестве есть немалая доля истины. Узкая улочка сплошь уставлена лотками и тележками торговцев. Продавец мяса для кошек, продавец рыбы, мясник, торговец фруктами, игрушками, старые тряпичники – все они толкаются и наперебой предлагают товары. «Лучшее мясо! мясо! мясо! купите! купите! Вот! вот! вот! телятина! телятина! свежая телятина сегодня! чего изволите? Продано, продано! рыба задаром! вишня свежая!» Ваша цель – церковь Св. Луки на Берик-стрит; вскоре вы увидите тусклый ряд окон, наполовину готических, наполовину – вполне обычных. Напротив закрытых на засов ворот стоит человек, потрошащий угрей; потом вы слышите крик и сразу понимаете, что несчастная тварь, не желающая покориться судьбе, вырвалась из его рук и пытается улизнуть в толпу.
В конце августа жарко и влажно, так что запахов Сохо избежать просто невозможно – они доносятся из выгребных ям и сточных канав, с фабрик и из печей. Отчасти запах вызывается еще и повсеместным присутствием рогатого скота. Гость из современного мира, перенесшийся в викторианский Лондон, не удивится, увидев на улицах города многочисленных лошадей (и, соответственно, их навоз), но что его определенно поразит, так это огромное количество сельскохозяйственных животных в густонаселенных районах вроде Голден-сквер. По городу бродят целые стада; на главном скотоводческом рынке в Смитфилде за два дня регулярно продают по 30 000 овец. Мясники из бойни на окраине Сохо, на Маршалл-стрит, в среднем убивают по пять быков и семь овец в день, кровь и грязь с туш стекает в сточные канавы. За неимением нормальных амбаров жители переоборудуют обычные жилые здания в «коровьи дома», запихивая в одну-единственную комнату до 25–30 коров. В некоторых случаях коров поднимали на чердак с помощью лебедки и держали там в темноте до тех пор, пока у них не заканчивалось молоко.
Преуспевающий мусорщик в день мог насобирать полное ведро собачьего помета, которое затем продавал в кожевенную мастерскую. Полное ведро стоило от восьми пенни до шиллинга в зависимости от качества продукта. Нечистые на руку собиратели отколупывали строительный раствор со стен домов и смешивали его с экскрементами для большего веса или лучшей консистенции.
Даже домашние питомцы, впрочем, могли заполонить все имеющееся пространство. Житель верхнего этажа по адресу Сильвер-стрит, 38, держал в одной комнате двадцать семь собак, а чудовищное, должно быть, количество собачьих экскрементов выкладывал сушиться под палящим летним солнцем на крыше дома. Работница-поденщица, жившая на той же улице, держала в однокомнатной квартире семнадцать собак, кошек и кроликов.
Не менее тесно жили и люди. Уайтхеду нравилось рассказывать историю о том, как он пришел в один густонаселенный дом и спросил бедную женщину, как ей удается жить в таких условиях. «Ну, сэр, – ответила она, – нам было достаточно нормально, пока не заявился джентльмен посередине». Потом она показала на обведенный мелом круг в центре комнаты, обозначавший место, отведенное этому «джентльмену».
Прогулка Генри Уайтхеда тем утром наверняка была извилистой и долгой, и он, скорее всего, встретил много знакомых: остановился у кофейни, облюбованной машинистами, побывал дома у прихожан, пообщался немного с обитателями работного дома Св. Иакова; там поселили пятьсот лондонских бедняков, и в обмен они должны были целыми днями тяжело работать6. Возможно, он даже заглянул на фабрику братьев Или, на которой трудились 150 работников, выпуская одно из самых важнейших военных изобретений столетия – капсюль, благодаря которому огнестрельное оружие могло работать в любую погоду. (Старые кремневые зарядные системы отсыревали даже при слабом дождике.) Несколько месяцев тому назад началась Крымская война, и бизнес братьев Или процветал.
Семьдесят работников пивоварни «Лев» на Брод-стрит занимались своими делами, попивая солодовый ликер, входивший в их оклады. Портной, живший над семьей Льюисов на Брод-стрит, 40, – он известен под именем мистер Г. – тоже работал как ни в чем не бывало, иногда ему помогала жена. По тротуарам ходили толпы лондонских уличных работников высшего разряда: лудильщики и изготовители, торговцы фруктами и уличные продавцы, предлагавшие буквально что угодно, от пышек и альманахов до табакерок и живых белок. Генри Уайтхед знал многих из них по имени, и его день, наверное, прошел бы как череда приятных, спокойных бесед на улице и в гостиных. Несомненно, главной темой для разговоров была жара: температура уже несколько дней подряд держалась выше 32 градусов, а с середины августа не выпало ни капли дождя. Скорее всего, упоминалась бы в разговорах и Крымская война, и назначение нового главы Комитета здравоохранения, которого звали Бенджамин Холл; он обещал продолжить кампанию по борьбе за санитарию, начатую его предшественником Эдвином Чедвиком, но при этом не выводить из себя столько людей. Горожане как раз дочитали резкую отповедь Диккенса в адрес промышленных «Кокстаунов» на севере страны, «Тяжелые времена», последняя глава которых вышла в журнале Household Words несколькими неделями ранее. И, конечно, нельзя было обойтись без подробностей личной жизни – раннего брака, потерянной работы, ожидания внука, – которые Уайтхед с готовностью обсуждал: он на самом деле хорошо знал своих прихожан. Но, как позже не без иронии вспоминал Уайтхед, ни в одном из разговоров, которые он вел в первые три дня той судьбоносной недели, не упоминалась холера.
Представьте вид на Брод-стрит тех времен с высоты птичьего полета, который показывают на ускоренной киносъемке. По большей части это будет обычная городская суматоха: «буйные и дерзкие, наглые и угрюмые, тщеславные, спесивые и злобные люди стремились… своим обычным шумным путем», как выразился Диккенс в конце «Крошки Доррит». Но и в этом турбулентном потоке начинают появляться определенные закономерности, словно водовороты в хаотично текущей речке. Улицы заполняются народом, на рассвете начинается эдакий викторианский эквивалент часа пик, который постепенно сходит на нет после заката; толпы людей заходят на дневные службы в церковь Св. Луки, вокруг самых популярных уличных торговцев собираются небольшие очереди. Перед домом 40 по Брод-стрит, буквально в нескольких метрах от страдающей малышки Льюисов, целый день собираются люди, каждый раз – разные, словно вихрь молекул, сливающихся в трубу.
