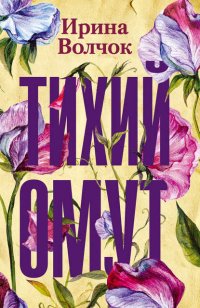
Читать онлайн Тихий омут бесплатно
- Все книги автора: Ирина Волчок
Глава 1
Вера неторопливо бежала по своей любимой дорожке под старыми липами и радовалась жизни. Кажется, жизнь с утра сложилась – ни одного прохожего, ни одного собачника, ни одного дворника, даже ни одного бомжа. Нет таких сумасшедших прохожих, собачников, дворников и даже бомжей, чтобы вставать в пять утра. Ух, здо́рово! Ни одна рожа не пялится, ни один рот не разевается, ни один идиот не свистит, не улюлюкает, не лыбится, не скалится, не хватается за сердце или – еще глупее – не пытается ее догнать. Конечно, ей давно уже наплевать на всякие такие разевания ртов, свисты и хватания за сердце. Она не практикующий врач, чтобы обращать внимание на каждого идиота. Вот она и не обращает. Но все-таки как хорошо, когда их вообще нет. Надо каждый раз бегать в пять утра, и тогда можно будет каждый раз радоваться жизни на законном основании.
Та-а-ак… Похоже, поспешила она радоваться. Нашлись сумасшедшие, которые встали сегодня в пять утра. Хотя эти – вряд ли. Эти, скорее всего, еще и не ложились. Наверное, из кабака какого-нибудь прутся. Из казино. С тусовки какой-нибудь идиотской. И вот почему-то – мимо именно этого парка, мимо именно ее любимой дорожки под старыми липами. И именно с ее любимой скоростью неторопливой утренней пробежки – не больше десяти километров в час. Прямо скажем, необыкновенная скорость для джипа.
Вера резко остановилась, наклонилась, делая вид, что завязывает шнурок на кроссовке, и из-за локтя быстро глянула в просвет между деревьями на улицу за железной решеткой ограды, окружающей парк. Громадный черный джип тоже резко остановился, черные стекла поползли вниз, в окна высунулись две – нет, даже три! – идиотские морды и с открытыми ртами уставились на нее. Морды были как минимум сутки не бриты. Одна небритая морда тихо присвистнула, другая захлопнула рот и впала в печальную задумчивость, а третья хриплым голосом задала оригинальный вопрос:
– Девушка, вы не подскажете, как проехать к площади Революции?
Вера выпрямилась, обернулась к джипу, серьезно посмотрела каждой морде в глаза, перевела взгляд на заднее колесо и с холодноватой вежливостью сказала:
– Доброе утро.
Глаза у морд были не красные, не похмельные и не наркоманьи. Немножко обалделые, но это ничего, это как раз понятно.
– А? – растерянно сказала одна морда.
– Ого! – растерянно сказала вторая морда.
– Доброе утро… – растерянно сказала третья морда.
Вера оторвала взгляд от колеса, на всякий случай опять серьезно посмотрела каждой морде в глаза и заговорила, ни к кому конкретно не обращаясь, размеренно и звучно, как с кафедры:
– Чтобы проехать к площади Революции, надо сначала доехать до перекрестка, свернуть направо, доехать до следующего перекрестка, свернуть налево, выехать на Московское шоссе, по нему доехать до объездной, на выезде из города есть указатель на Москву, до Москвы по трассе километров триста пятьдесят, от Москвы до Санкт-Петербурга несколько больше, кажется, в два раза, точно не помню, надо посмотреть в Большой советской энциклопедии, а в Санкт-Петербурге вам любой прохожий покажет, где находится площадь Революции. Кстати, разве ее до сих пор не переименовали?
Морды, зачарованные ее речью, молчали и таращились.
– Чего она говорит, а?
Четвертая морда. Ну да, там же еще водитель.
– Я говорю, что до площади Революции не очень далеко, – так же размеренно и звучно ответила она. – Но вы вряд ли доедете. У вас заднее колесо, кажется, спущено.
– Блин! – хором сказали морды, мгновенно выходя из ступора.
Дверцы джипа распахнулись, и из него полезли туловища. Туловища очень гармонировали с мордами, к тому же их было четыре штуки, поэтому Вера вежливо сказала «До свидания», повернулась и побежала в обратную сторону. И немножко быстрей, чем до этого, – раза в два примерно.
– Эй! – заорали морды за спиной. – Эй, ты куда? Стой! Погоди! Тебя как зовут?.. Познакомиться!.. Встретиться!..
И еще что-то, такое же оригинальное и неожиданное. А одно туловище затопало было вслед за ней, и даже довольно шустро, но Вера оглянулась на бегу – и туловище споткнулось, отстало, а потом и совсем остановилось. Наверное, сообразило, что через парковую ограду все равно не сумеет перелезть, а бежать по разные стороны железной решетки и беседовать на романтические темы – это все-таки несколько странно. Особенно в пять утра. Ну и что теперь делать? В четыре утра бегать, что ли? Так и в четыре какой-нибудь джип может по улицам рыскать. Джипов развелось – как бродячих собак. Хорошо хоть, что эти бродячие джипы не умеют через заборы прыгать и между прутьями ограды пролезать.
Низкая ветка цапнула ее за волосы – сильно, даже заколка расщелкнулась и улетела куда-то в сторону. Чтоб же ей… Всегда одно и то же. Вера затормозила, завертела головой, соображая, в какую сторону на этот раз улетела проклятая заколка, заколки не увидела, зато увидела этот бродячий джип. Бродячий джип с выключенным мотором совершенно бесшумно катил по липовой аллее, едва не задевая сверкающими боками шершавые стволы старых деревьев.
Это что же – бродячие джипы научились прыгать через заборы или пролезать между прутьями ограды? До чего дошел прогресс… Вот не зря она так не любит этот технологический путь развития цивилизации. Хотя нет, на этот раз на технологический путь она возводит напраслину. Там, дальше, в железной ограде огромная дыра, метра четыре, наверное. Раньше эту дыру ворота закрывали, но их давным-давно сняли и, скорее всего, сдали в металлолом. Одно время в металлолом сдавали все подряд, даже урны, крышки от канализационных люков и мемориальные доски с памятников архитектуры. Эту парковую ограду, наверное, тоже сдали бы, но она была намертво вмурована в бетонное основание, уходящее в землю на противоестественную глубину. Говорят, эту ограду зэки строили, дай им бог здоровья, они в железных оградах толк знали. А ворота наверняка вольнонаемные халтурщики навешивали, чтоб им век свободы не видать… Вот вам и результат – черный бродячий джип на липовой аллее, бесшумно, с выключенным мотором, катящийся под уклон с хорошей скоростью. Мог бы и догнать. Вот идиоты. Двери-то они открыть все равно не сумеют. Как раз на этом участке аллеи деревья растут почти без просветов между стволами, а эти вплотную к стволам идут, даже удивительно, как бока до сих пор не ободрали – или джиповые, или липовые. Очень хороший водитель. Но легкомысленный. Прямо перед носом джипа, буквально метрах в трех, из ровной шеренги мощных стволов, стоящих плечом к плечу по стойке «смирно», одно дерево шагнуло вперед почти на полметра. Добровольцы, шаг вперед! Ну, оно и шагнуло. Все-таки, что бы там ни писали мэтры мутной науки психологии, а жажда подвига – это великая загадка до сих пор. Грудью на амбразуру, с гранатой под танк, коня на скаку, в горящую избу… Или вот: из ровного строя, стоящего по стойке «смирно», – навстречу черному железному уроду, воняющему выхлопными газами экскременту цивилизации на ее технологическом пути развития. Так что крепче за баранку держись, шофер. Приехали.
Идиотские морды в джипе тоже догадались, что приехали. Высунулись в окна, пялились на подступившие вплотную деревья с таким изумлением, как будто не сами сюда влезли, а неведомая сила их, бедненьких, во сне телепортировала незнамо куда и теперь того и гляди выкуп за освобождение потребует. Даже двери попытались открыть, идиоты.
Вера с горячим сочувствием посмотрела на водителя – все-таки очень хороший водитель, чего уж там, а она была неравнодушна ко всему хорошему, – виновато развела руками, пожала плечами, похлопала глазами, повернулась и скользнула между двух почти вплотную растущих стволов вбок от аллеи. Говорят, эту аллею в прошлом веке посадили юные пионеры на каком-то коммунистическом субботнике в честь какой-то годовщины Великого Октября. Вере казалось, что это досужий вымысел. Ну, кто ж деревья в октябре сажает? Деревья сажают весной. Так что липовую аллею юные пионеры, скорей всего, посадили в честь Первого мая, Международного дня солидарности всех трудящихся. Или Дня международной солидарности?.. Впрочем, не важно. Все равно молодцы. И после этого кто-то еще поднимает язык на коммунистический режим вместе с его юными пионерами, субботниками и солидарностью! Не умеют люди ценить наследие славного прошлого. Правда, еще говорят, что эти липы выросли до таких почти баобабских размеров потому, что были посажены на месте нелегального кладбища жертв того самого коммунистического режима, на земле, хорошо удобренной прахом как действительных противников режима, так и подвернувшихся под руку режиму случайных прохожих на пути к светлому будущему. Может быть, может быть. Диалектика.
– Стой! Ну что ты хоть, а?.. Не убегай! Слушай, не бойся! Я же только познакомиться!
Это морда с хриплым голосом хочет с ней познакомиться. Как будто другие не хотят. Но другие сидят и помалкивают, а этот разорался на весь парк. В пять утра. Никакого самолюбия у человека. Сидит, можно сказать, как кот в мышеловке, и еще орет «стой!». Совершенно не закомплексованный идиот. С точки зрения мутной науки психологии случай довольно интересный. С точки зрения братской науки психиатрии – еще интересней, наверное. Но она не практикующий врач, так что пусть этот идиот знакомится с практикующим. Так о чем она сейчас думала-то? Ах, да, диалектика…
– Ну подожди, а? Ну не убегай! Я ж все равно тебя догоню!
Нет, не дадут ей подумать о диалектике. Догонит он ее! Пусть сначала из своего катафалка вылезет. Люка на крыше у этого бродячего джипа, кажется, нет, а в окно ни одно из этих туловищ не пролезет. Теперь их хорошему водителю придется пятиться из этой ловушки задом наперед, и какой он ни будь хороший водитель, а багажником хоть разок да зацепится за какую-нибудь пионерскую липу, посаженную в прошлом веке на коммунистическом субботнике в честь…
Багажник! Как же она раньше об этом не подумала! Кажется, во всех джипах багажный отсек соединен с салоном, и этим идиотам ничего не стоит выбраться из машины через багажный отсек! Или она чего-то путает? Вера совсем не была знатоком машин, тем более – джипов, просто один раз видела, как из джипа, похожего на этот, выгружали что-то громоздкое, и один из выгружающих влез в салон, а вылез из багажного отсека… Может быть, этот бродячий джип устроен все-таки как-нибудь по-другому? Иначе эти идиоты вспомнили бы о багажнике раньше, чем она…
Ага, все-таки вспомнили. Хоть и не раньше, чем она. Чем и гордиться даже не хочется – идиоты же, с кем там равняться. Это как обогнать безногого на беговой дорожке. Даже стыдно.
Да, но эти туловища – с ногами. Опять, что ли, в догонялки играть? И это в пять утра! То есть уже в пятнадцать минут шестого, но все равно обидно. Можно было бы еще почти целый час неторопливо шлепать по липовой аллее туда-сюда, дышать утренней прохладой, думать о какой-нибудь диалектике и наслаждаться жизнью. А вместо этого приходится удирать от каких-то идиотов. Нет, от одного идиота. Остальные хоть и вылезли из мышеловки, но остались возле нее, стоят, в затылках чешут – ситуацию анализируют. Может быть, и не совсем идиоты. А вот этот, который за ней поперся, – тот совсем. Бегать по пересеченной местности в черном костюме, при галстуке, а главное – в лаковых штиблетах! По недавно подстриженной траве, мокрой и скользкой, будто маслом политой. По крутому склону, утыканному невидными в этой траве кочками и камнями, которые даже она не все изучила. Безумству храбрых поем мы песню.
Вера, прыгая по знакомым кочкам и камням, как по ступеням лестницы, быстро сбежала с крутого склона к набережной и оглянулась. Идиот пару секунд помедлил наверху, посмотрел на крутой склон, посмотрел на спокойно стоящую внизу Веру, что-то неразборчиво пробурчал и тоже стал спускаться. В лаковых штиблетах. И, конечно, тут же поехал по мокрой траве, как на лыжах, а по курсу как раз трамплинчик незаметненький торчал, а идиот никак не ждал такой подлости от природы, вот и навернулся с этого трамплинчика, ахнулся всем своим черным костюмом прямо посреди склона и доехал вверх штиблетами почти до самого низа. Повозился, переворачиваясь вниз штиблетами, пошевелил руками-ногами, потряс головой и попытался встать.
– Ой, – озабоченно сказала Вера, внимательно наблюдая за его шевелением. – Вы осторожней, пожалуйста! А то там яма еще есть, прямо у вас под ногами, такая коварная… Я тоже все время здесь падаю. И иногда даже травмируюсь. А вы ничего не травмировали?
– Даже и не надейся, – сердито буркнул идиот и вдруг захохотал. Отсмеялся, вытер испачканные зеленью ладони о свой черный пиджак, полазил по карманам, наверное, проверяя, не выронил ли чего-нибудь ценного во время полета с трамплина, и церемонно представился: – Константин Дмитриевич Сотников. Генеральный директор фирмы «Артдизайн».
Он, не вставая, сделал попытку слегка поклониться – очень смешно получилось, – и ожидающе уставился на нее.
– Вера Алексеевна Отаева, – так же церемонно представилась Вера и тоже слегка поклонилась. – Вы точно ничего не травмировали? Впрочем, я не практикующий врач, так что вряд ли могу быть полезна. Приятно было познакомиться.
Она повернулась и неторопливо потрусила по набережной, время от времени посматривая на вершину поросшего травой склона – не обнаружатся ли там остальные идиоты из бродячего джипа. Нет, не обнаруживались. Ну и правильно делали. У них у всех штиблеты, кажется, тоже лаковые. В пять утра! Что за народ?..
– Вера! – хрипло заорал за ее спиной идиот, который оказался генеральным директором какой-то там фирмы. – Подожди! Я ж познакомиться… Я ж ничего такого… Постой, Вера!
Она остановилась, оглянулась и строго уточнила:
– Вера Алексеевна, если вы забыли. И мы ведь уже познакомились, господин Сотников, разве вы и этого не помните? А вы уверены, что не стукнулись головой? При травмах черепа это бывает. Я хоть и не практикующий врач… ну да, я это уже говорила. На вашем месте я бы какое-то время не двигалась. Покой, покой и еще раз покой. Тогда полное выздоровление намного вероятней, хотя на сто процентов тоже не гарантируется. Будьте здоровы, господин Сотников.
Господин Сотников опять попытался встать, но опять не сумел и скатился до самого низа склона на своем черном костюме, слегка дрогнув туловищем на той коварной яме, о которой Вера его честно предупредила. Ну, почти честно – о существовании ямы она ничего не знала, но раз уж яма все-таки оказалась, значит, предупредила она господина Сотникова все-таки честно. А он не прислушался к ее предупреждениям. Его черный костюм теперь ни одна химчистка не возьмет. Ну и правильно – нечего шастать в черных костюмах прямо посреди июня. Да еще в пять утра.
Господин Сотников потрогал подошвой лакового штиблета бетон набережной, как обычно трогают голой ступней воду, прежде чем войти в речку. Это тоже было смешно. Вера чуть не спросила, как бетон – не скользко? Но тут господин Сотников наконец встал, потопал ногами, похлопал руками, с недоумением оглядел свой черный костюм, старательно размазал по нему несколько особенно ярких пятен земли и зелени, после чего вытер ладони об относительно чистые места на пиджаке, вздохнул, поднял взгляд на Веру и торжественно заявил:
– Вера! У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
– Смогу, – успокоила его Вера. – Я от любого предложения смогу отказаться. Так что вы можете даже ничего и не предлагать. Считайте, что уже предложили, а я уже отказалась. – Она отвернулась и, не спеша, пошла прочь, на ходу оглянулась и укоризненно добавила: – Тем более, после такого… э-э-э… оригинального знакомства.
Как раз ничего оригинального в этом знакомстве не было, если не считать черного костюма и лаковых штиблет господина Сотникова. В июне. В пять утра. В сочетании с простуженным голосом и суточной небритостью. А так – все как всегда, до мелочей, просто как под копирку. Вплоть до падения очередного туловища с заросшего травой склона с последующим торжественным заявлением о том, что она, видите ли, не сможет отказаться от его предложения. Абсолютно все как всегда. Но господину Сотникову это знать не обязательно. Пусть господин Сотников думает, что это он один виноват в том, что его предложение даже выслушивать не хотят. Тем более что он действительно виноват. А если бы на ее месте оказалась какая-нибудь впечатлительная барышня? В смысле – нервная? А тут – черный джип преследует! С целой толпой идиотов в лаковых штиблетах! В пять утра! Барышня просто умерла бы от разрыва сердца! Хотя нынче от разрыва сердца барышни не умирают… Ну, тогда от удивления – точно бы умерла. Жалко барышню. Может быть, со временем она стала бы полноценным членом общества. Научилась бы печь торт «Ленинградский» или создала бы новую политическую партию. Написала бы полное собрание сочинений в шестидесяти девяти томах и связала бы мужу свитер, пуловер, жилет, шарф и носки… Нет, сначала носки, а потом шарф. Носки мужьям нужнее. Или даже нарожала бы детей, любила бы их, воспитывала бы правильно, и выросли бы ее дети нормальными людьми, и никогда бы не носили черных костюмов и лаковых штиблет, по крайней мере – в пять утра… да и в двадцать пять минут шестого тоже. Но, встретив на своем жизненном пути бродячий джип, застрявший в узенькой липовой аллее, нервная барышня умрет от удивления, и поэтому никогда никем не станет, не научится, не создаст, не напишет, не свяжет и не нарожает детей. Да, кстати о детях. Ей ведь и самой пора вплотную заняться этим вопросом. Давно пора, если быть честной хотя бы с собой. С другой стороны – ребенок может пойти и в папу. А где в наше непростое время взять благонадежного – в смысле наследственности – папу? В смысле наследственности Вера знала только одного благонадежного, но во всех остальных смыслах на роль потенциального папы ее ребенка он не годился категорически. Судьба – злодейка. Или индейка? В общем, с ее везением папой ее будущего ребенка наверняка окажется какой-нибудь идиот.
– Вера! – хрипло заорал за ее спиной идиот… то есть господин Сотников. – Да что же это такое… Что ж ты убегаешь все время… Даже выслушать не хочешь! Ты что, боишься меня?
Вера не убегала, просто шла себе не спеша, воздухом дышала, думала о возвышенном… Она же не виновата, что он не успевает за ней хромать? Она же его с откоса не сталкивала? Ну, и какие у него к ней еще вопросы? А на его невысказанное предложение у нее есть контрпредложение: а шел бы господин Сотников к практикующему врачу, вот что. Случай-то клинический.
Она остановилась, оглянулась и сочувственно вздохнула – господин Сотников действительно хромал. Довольно сильно. Но все равно упрямо перся за ней, страдальчески морщась и держась грязной рукой за тазобедренный сустав. Утопить его, что ли? Чтоб не мучился.
– Конечно, я вас боюсь! – Вера серьезно посмотрела в глаза господину Сотникову, отчего тот сразу остановился. – А кто бы на моем месте не боялся, как вы думаете? Одинокая девушка – и вдруг черная машина какая-то! И люди все черные! И бегут за ней! Может быть, даже вооруженные! Вы понимаете, какая это серьезная психическая травма? На всю жизнь! А главное – и на детях отражается!
– Ты смеешься, что ли? – неуверенно спросил господин Сотников. – Какая травма, ты чего? Я просто познакомиться хотел… уже давно… Я сколько раз видел: ты бежишь, или просто идешь, или в магазине, или еще где – а рядом обязательно кто-нибудь… Ну, мужики всегда рядом. Я и не подходил. А тут мы с ребятами едем, смотрю – а ты одна… Я и подумал…
– Господин Сотников, у меня к вам два вопроса, – перебила его Вера. – Во-первых: вы что, следили за мной? Во-вторых: откуда и куда вы ехали с ребятами в пять утра?
– Из командировки возвращались…
Господин Сотников замолчал и ожидающе уставился на Веру. Она поощрительно покивала ему, как косноязычному троечнику на экзамене, и выразила лицом готовность слушать дальше. Господин Сотников вздохнул, отвел глаза и признался:
– Следил… То есть не следил, а видел часто… не очень. Иногда. Ну вот и…
– Достаточно, – остановила его Вера и опять благосклонно кивнула. – Удовлетворительно. Можете быть свободны.
Она опять внимательно оглядела косогор, ничего подозрительного не обнаружила и полезла вверх по склону, по знакомым камням и кочкам, как по ступенькам. Надоел ей этот господин Сотников, как горькая редька. Нет, правильно надо говорить «хуже горькой редьки». Хотя с ее точки зрения – это совершенно неправильно. Сейчас бы горькой редечки, солененькой, с подсолнечным маслицем. Что может быть лучше горькой редьки с подсолнечным маслом? Только такая же горькая редиска со сливочным маслом. Но о редечке с редисочкой сегодня приходится только мечтать, потому что ее любимые редечка и редисочка для большинства народа не благоухают божественно, а нестерпимо воняют. Странные люди. А ей сегодня целый день с этими людьми практически вплотную общаться. Ладно, редечку и редисочку придется отложить на вечер. Это даже и неплохо. Говорят, самые приятные занятия, самые положительные эмоции и самые вкусные блюда всегда надо откладывать на вечер, буквально на сон грядущий. Тогда они влияют на организм особенно благотворно. А после такого нервного дня ее организму обязательно понадобится особенно благотворное влияние. Значит, в перерыве надо сбегать на рынок за редечкой и редисочкой. Заодно купить кусочек хорошей свинины – небольшой, на пару отбивных, – баночку красной икры и, для усугубления благотворного влияния, бабаевскую шоколадку «Аленка»…
– Вера!.. Вера Алексеевна! Да подожди же ты, пожалуйста! Ну, я тебя прошу!
…Нет, две шоколадки «Аленка». Говорят, шоколад – мощный антидепрессант. После такого нервного дня ей понадобится много мощного антидепрессанта. Вон что делается! Не хочет этот идиот господин Сотников оставить ее в покое. Лезет вверх по склону, держась одной рукой за свой травмированный тазобедренный сустав, а в другой несет свои лаковые штиблеты. Теоретически – остроумное решение. Но практически – бессмысленное. Опять диалектика. Единство и борьба противоположностей. Наверное, господин Сотников диалектику учил не по Гегелю. Может быть, он ее вообще никогда не учил. Иначе все-таки сумел бы сообразить: ну, допустим, долезет он до верха, а дальше что? Его же даже толкать не надо, достаточно будет серьезно посмотреть ему в глаза – и господин Сотников опять полетит вниз по склону, покатится по мокрой траве, окончательно перекрашивая свой черный костюм в зеленый цвет. И бережно прижимая к груди лаковые штиблеты. Говорят, в минуту опасности люди инстинктивно спасают то, что для них дороже всего. На месте господина Сотникова она все-таки пересмотрела бы систему ценностей – вряд ли тазобедренных суставов у него больше, чем лаковых штиблет. Впрочем, как учит нас мутная наука психология, собственную систему ценностей люди способны пересмотреть только под влиянием сильных потрясений. Надо полагать, падение с откоса – это не слишком сильное потрясение для господина Сотникова. Во всяком случае, не настолько сильное, чтобы господин Сотников забыл о своих лаковых штиблетах. Первое, что он сделал, добравшись наконец до верха, – сел на краю откоса, на самом краешке, прямо на мокрую, скользкую – как маслом политую – траву, и стал обуваться. А как он на ноги поднимется, на этих-то лыжах? Или решил повторить свой скоростной спуск? Очень интересный случай. Но безнадежный. Может быть, при падении господин Сотников все-таки получил травму черепа в дополнение к травме тазобедренного сустава? Но скорее всего – отягощенная наследственность. И такие люди становятся генеральными директорами каких-то фирм! Руководят коллективом! Определяют стратегию и тактику развития! И эту, как ее… маркетинговую политику! Теперь совершенно ясно, почему у нас все сферы деятельности в таком удручающем состоянии. А подчиненные?! Боже мой, что за кошмарная жизнь у подчиненных такого начальника! Такого генерального директора с отягощенной наследственностью, да еще и с травмой черепа!
– Господин Сотников, вы бы отодвинулись от края, а то вдруг опять поскользнетесь, – сочувственно подсказала Вера, наблюдая за возней этого идиота со своими любимыми лаковыми штиблетами.
Сочувствие ее вообще-то относилось к его несчастным подчиненным. Жизнь у них и так нелегкая, а если их начальник заработает еще одну травму черепа, то хоть караул кричи. Хоть увольняйся совсем и другую работу ищи. Говорят, потеря работы – это очень серьезный стресс. А ведь еще не известно, какой начальник окажется на новой работе. Может быть, такой же травмированный. Вот, например, на прошлой неделе с этого откоса свалился какой-то менеджер какой-то компании… Ничего удивительного, что все эти компании без конца разоряются, при таких-то менеджерах. И при таких-то генеральных директорах.
Генеральный директор наконец обулся, повозил подошвами по скользкой траве, сообразил, что встать все равно не сумеет, тяжело вздохнул, оглянулся и с горьким упреком сказал:
– Вот видишь, что ты наделала! Главное – даже выслушать не хочешь!
– Я что-то неправильно сделала? – испугалась Вера. – Ой, извините, пожалуйста… Но этот косогор не я камнями засыпала, честное слово… И яму там не я выкопала… И траву не я водой полила… И ботинки не я вам выбирала, по крайней мере, в этом я точно не виновата, и вы должны сами это знать, а если не знаете, кто покупает вам ботинки, так зачем же обвинять посторонних людей? Буквально первого встречного… первую встречную!
– При чем тут ботинки? – серьезно буркнул господин Сотников и, не вставая, попытался отодвинуться от края косогора.
Вера уже собралась подробно и в доступной форме рассказывать господину Сотникову о судьбоносной роли его лаковых штиблет, но тут заметила, что господин Сотников смотрит не на нее, а мимо, что с точки зрения мутной науки психологии объяснить было невозможно ничем, кроме травмы черепа или…
Она оглянулась. Все-таки «или». По дороге, идущей вдоль косогора над набережной, пылил бродячий джип. В окна высовывались небритые морды. Морды выражали тревогу и озабоченность. Это хорошо.
– Мужайтесь! – Вера изобразила насквозь фальшивую бодрость, как у постели умирающего. – Спасение уже близко! Верные друзья спешат на помощь! Сейчас я их потороплю.
Господин Сотников опять завозился, пытаясь встать, и опять что-то закричал, но она уже не слышала, что он там кричит, потому что сама кричала, сломя голову несясь навстречу джипу, размахивая руками, тараща глаза и вообще всеми доступными способами изображая неконтролируемые эмоции. В последний момент, когда джип резко затормозил перед ней и дверцы стали открываться, Вера сообразила, что кричит: «Ой-е-ей, ай-я-яй, в лаковых штиблетах!», – что в данной ситуации могло показаться крайне неуместным и даже подозрительным, поэтому с ходу перестроилась и закричала прямо в небритые тревожные морды уже вполне уместное:
– Скорее! Не останавливайтесь! Вы что – с ума сошли?! Не задерживайтесь! Костя ногу повредил! Срочно в больницу!
При этом она прерывисто дышала, всхлипывала, хваталась за сердце и под шумок даже сумела втолкнуть обратно в машину одно наполовину вылезшее туловище и захлопнуть дверцу. И, не переставая заполошно верещать, что Косте плохо, уперлась обеими руками в багажник машины – с самого краешка, чтобы они видели – и затопталась на месте, делая вид, что изо всех сил толкает тяжелую машину, даже разок лбом ее боднула.
Они поверили – может быть, потому, что она назвала идиота господина Сотникова Костей, может быть, потому, что пыталась подтолкнуть громадный джип своими слабыми и нежными руками… Ведь это было так убедительно глупо, так самоотверженно, так по-женски! Коня на скаку остановит.
Водитель высунулся в окно, испуганно закричал:
– Девочка, не надо! Отойди, отойди, что ты, ей-богу…
Багажник мягко ушел от ее рук – это чтобы она случайно не упала, хороший водитель, – и джип тут же рванул на помощь господину Сотникову, который встал уже на четвереньки. Того и гляди, поднимется на задние лапы. Вера отряхнула ладони, еще немножко подержалась за сердце и повытирала сухие глаза – на случай, если эти идиоты оглядываются, – потом повернулась и побежала к мосту. И даже не слишком быстро. Торопиться было уже незачем. Мост лет десять назад объявили пешеходным, потому что для транспорта он был непригоден в силу преклонного возраста, собрались ремонтировать и делать пригодным, но с тех пор успели только снять перила, огородить середину моста низким заборчиком из легких переносных секций да повесить на фонарных столбах несколько дорожных знаков: «въезд запрещен», «стоянка запрещена», «идут земляные работы», «внимание: сужение дороги», «впереди крутой поворот» и «ограничение скорости до двадцати километров». Вообще-то Вера в дорожных знаках ничего не понимала, просто ей когда-то в порядке анекдота объяснили их смысл, но она надеялась, что хороший водитель этого бродячего джипа в дорожных знаках разбираться должен, так что на мост не попрется.
Она добежала почти до середины моста, когда заметила, что джип на мост все-таки поперся. Может быть, водитель не такой хороший, как она о нем думала? Знаки на всех столбах – гроздьями, и ни одного он не заметил! Милиции на него нет! ГАИ и патрульно-постовой службы! ОМОНа и налоговой полиции! В центре города, средь бела дня, на глазах возмущенной общественности какой-то бродячий джип нагло нарушает все правовые и морально-этические нормы, а правоохранительных органов поблизости что-то не наблюдается! Правда, не наблюдается и белого дня, рано еще, и шести нет. Возмущенной общественности тоже не наблюдается. Кроме двух дядек с удочками, дремлющих на том берегу возле недостроенного, но уже заросшего ряской лягушатника. Нет, эти – не общественность. Да ладно, обойдемся без общественности. Говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Она уже давно убедилась, что правильно говорят. А все-таки жаль, что нет восторженных зрителей. Хотя с точки зрения мутной науки психологии жажда славы – это свидетельство глубоко сидящих детских комплексов, непрощеных обид, нереализованных амбиций и всякого такого…
Вера на бегу перемахнула через низкое ограждение из легких переносных секций, в три шага добежала до края моста, взялась за одиноко торчащий столбик от бывших перил и заглянула вниз. Здесь, что ли? Нет, метра на два ближе к середине. Да и там такая грязь… Говорят, речку последний раз чистили в начале прошлого века, когда кто-то из идеологических предков нынешних «зеленых» пустил остроумный слух, что в начале позапрошлого века здесь затонул корабль с грузом золотых монет. Конечно, ничего не нашли, очень разочаровались, поэтому с тех пор больше уже не чистили. А у нее кроссовки новые, только во второй раз надела.
За спиной раздался визг тормозов и одновременно – хриплый испуганный голос:
– Стой! Вера, стой! С ума сошла… Ты что?! Не надо! Все, мы уезжаем, все!
Она с сомнением оглянулась, на всякий случай изобразив взгляд беззащитной лани, загнанной стаей волков на край обрыва, и попятилась вдоль моста поближе к середине. Как же, уезжают они. Господин Сотников пытается вылезти из машины, помогая своему травмированному тазобедренному суставу руками, а один из его братьев по разуму уже вылез, уже топает к ней, уже перешагивает низкое ограждение из переносных легких секций, даже, кажется, не заметив его, потому что не отрывает от Веры взгляда, полного героической решимости немедленно ее, Веру, спасти. И тянет к ней верхние конечности – по-видимому, с той же благородной целью. Вот ведь идиот.
– Сашка, стой! Не подходи к ней! Назад! – опять хрипло заорал господин Сотников и наконец вывалился из машины вместе со своим тазобедренным суставом. – Вера, пожалуйста… Вера, не надо, отойди от края, пожалуйста… Мы уезжаем, все, уже уехали, Сашка, иди сюда… Идиот, кому говорю!!!
Ага, диагноз по крайней мере одного из своих они знают. Но этот их Сашка со своим диагнозом, наверное, не согласен, во всяком случае, на него не отзывается, к машине не возвращается и даже не оглядывается. Правда, все-таки остановился, но это, скорей всего, не от вопля господина Сотникова, а от серьезного взгляда Веры прямо ему в глаза. А глаза-то у него аж побелели от напряжения. И протянутые вперед руки трясутся. Жалко идиота – столько переживаний выпало на его долю прямо с утра! Ничего, сейчас еще больше выпадет. Заодно – и на долю всех остальных идиотов. Чтобы впредь не шастали на джипах в пять утра мимо ее любимой липовой аллеи. И тем более – по мосту, который объявили пешеходным еще лет десять назад.
– Ах, господин Сотников! – сказала Вера с отчаянием и прижала руку к сердцу, проверяя, застегнут ли карман рубашки, где лежали ключи. – Боже мой, как вы могли?! В лаковых штиблетах!.. По косогору!.. И на джипе – по пешеходному мосту! Нет, этого пережить я уже не могу. Прощайте. Наша встреча ошибкой была.
Она еще немножко попятилась к краю и быстро глянула через плечо. Ага, вот в этом месте более-менее безопасно. Если, конечно, за последнюю неделю туда не успели сбросить чего-нибудь вроде недоразобранного на запчасти трактора. Ладно, будем надеяться, что недоразобранный трактор все-таки сдали в металлолом. Правда, говорят, что сейчас модно сдавать в металлолом провода с линий электропередачи высокого напряжения и детали приборов точных измерений, но Вера не была пессимисткой и считала, что у любого недоразобранного трактора тоже есть шанс…
– Сумасшедшая, – с ужасом прохрипел господин Сотников, выпустил из рук свой тазобедренный сустав и схватился за голову.
Ну да, Вера с самого начала подозревала, что голову он тоже ушиб.
А идиота Сашку бестактное заявление господина Сотникова вывело из комы и толкнуло на решительные действия. Он пошевелил пальцами протянутых к ней рук, подвигал бровями и проницательно заметил:
– Ты ведь упасть можешь… А там высоко. И глубоко.
– Да, – печально согласилась Вера, на всякий случай опять прижимая руку к карману с ключами и серьезно глядя ему в глаза. – Высота высока, глубина глубока, а жизнь коротка. Ну, что ж теперь… Все там будем.
Она еще немножко попятилась, сделала испуганное лицо, на вдохе сказала: «Ах!», сильно оттолкнулась от края моста и прыгнула вниз, очень надеясь, что это выглядело падением без признаков профессионализма. Уже возле самой воды услышала вопль нескольких глоток и немножко позлорадствовала: ну что, идиоты, нарвались на приключение? Будете еще устраивать сафари на джипах? То-то. Она удивится, если никто их них не поседеет за это утро.
Вода оказалась очень холодной. Ну да, шесть утра, чего и ожидать-то было… Но зато в ней не было никаких недоразобранных тракторов, и Вера без проблем прошла над самым дном, только слегка зацепив новыми кроссовками вязкую илистую муть, и вынырнула под мостом, между двумя опорами чрезвычайной толщины, местами слегка выщербленными. Говорят, этот мост в сорок третьем по очереди долбили две авиации и две артиллерии – и немецкие, и советские. Раздолбили в пыль несколько кварталов вокруг, а мост – вон, только опоры слегка выщерблены. И зачем его чинить собрались? Он бы еще пару тысяч лет простоял. Административная жажда псевдодеятельности. С точки зрения мутной науки психологии…
У-у-ух ты… Что это было-то? Похоже, в речку все-таки свалился какой-нибудь недоразобранный трактор. Или эти идиоты глубинные бомбы стали в нее кидать? Вера в пару гребков подплыла к опоре и осторожно выглянула из-за нее.
Никакого трактора там не было. И глубинных бомб, похоже, тоже не было. Вообще ничего не было, кроме мощных кругов по воде, – очень мощных, волны даже до берега доходили. Наверное, сейсмическое явление. Подземный толчок. Она покачалась на волнах, раздумывая, откуда бы в наших краях взяться сейсмическим явлениям. Говорят, лет тридцать назад здесь был зарегистрирован подземный толчок, но его, кроме ученых, никто не заметил.
– Сашка! – хрипло заорал господин Сотников с моста. – Идиот!
На зов господина Сотникова из воды показалась голова идиота Сашки, что-то неразборчиво квакнула и опять ушла под воду.
– Ребята, стойте! – орал на мосту господин Сотников. – Не прыгайте, здесь мелко! К берегу, скорее, утонет ведь, идиот чертов! Разбился ведь, чертов идиот!
На взгляд Веры, идиот Сашка уже должен был утонуть. Тем более что в том месте, куда он свалился, действительно мелко, метра два, наверное. А в идиоте Сашке – килограммов сто живого веса… Будем надеяться, что пока живого. Вот ведь еще канитель на ее голову… Три шоколадки «Аленка», не меньше. После такого нервного дня потребуется ударная доза мощного антидепрессанта.
Вера оттолкнулась от опоры, нырнула, доплыла под водой до того места, куда, предположительно, ухнулся глубинный идиот, и наугад пошарила в жирном придонном иле, взбаламученном до самой поверхности воды сейсмическим явлением по имени Сашка. Никакого сейсмического явления в жирной мути не нашаривалось. Вера вынырнула, глотнула воздуха и опять собралась нырять, но тут за ее спиной сильно плеснуло, ухнуло, квакнуло и закашлялось. Она оглянулась – над водой торчала голова этого идиота и с ужасом таращила на нее белые глаза. С ужасом! Вы подумайте! Конечно, вид у нее сейчас не очень… в общем, не очень. Но чтобы – с ужасом?! На себя бы посмотрел.
По мосту к берегу топали два туловища, а господин Сотников стоял на краю моста, держась одной рукой за одинокий столбик, оставшийся от снятых перил, а другой – за свой тазобедренный сустав, и что-то хрипло орал.
– Эй, там, на палубе! – тоже заорала Вера, и почему-то тоже хрипло. – Отбой шлюпочной тревоги! Живой ваш утопленник!
Господин Сотников замолчал с открытым ртом, вытаращился на нее с таким же ужасом, как идиот Сашка, и даже оторвал руку от тазобедренного сустава и прижал ее к нагрудному карману своего бывшего черного пиджака. Два туловища резко затормозили и стали осторожно подбираться к краю моста, вытягивая шеи и пытаясь заглянуть вниз.
– Ты ведь живой? – на всякий случай уточнила Вера, подплывая поближе к этому идиоту и присматриваясь к выражению его небритой морды.
– Ага, – квакнул идиот и опять закашлялся. Откашлялся, отдышался и в свою очередь спросил с явным недоверием: – А ты чего, тоже живая, что ли?
– Да, – ответила она со сдержанным ликованием в голосе. – Тоже живая. Такое невероятное совпадение, правда?.. Ты чего к берегу не плывешь? Товарищи вон волнуются, переживают, нервные клетки жгут… А тебе до них и дела нет. Ты эгоист, Александр, вот что я тебе должна сказать. И не надо бледнеть лицом, на правду обижаться не следует, а следует делать выводы и вставать на путь исправления… ты чего покалечил-то? Руками двигать можешь?
– Могу, – неуверенно отозвался эгоист, едва шевеля синими губами и едва двигая раскинутыми в стороны руками. – Только без толку… Ногой зацепился. Там железка какая-то… Ногу разодрала, а потом – за штаны… не могу отцепить, уже пробовал…
– Стой смирно, ногами не дергай, – приказала Вера. – Сейчас посмотрю, что можно сделать.
Ничего там посмотреть было невозможно, конечно. В такой грязи вообще глаза не откроешь. А на ощупь удалось определить только то, что идиот Сашка стоит на каком-то железном крюке, намертво вросшем в дно, крюк насквозь проткнул штанину, и снять штанину с крюка нет никакой возможности, потому что конец у крюка не гладкий, а с двумя острыми отростками, под углом отходящими назад. А разорвать штанину тоже не удается – крепкая штанина, качественная. А вокруг ноги этого идиота в холодной воде расплывается теплое облако. Наверное, сильно нога разодрана. Не хватало только, чтобы на запах крови пиявки какие-нибудь толпой набежали… Хотя в такой грязи, наверное, и пиявок никаких не водится. Это хорошо. Однако и без пиявок этот идиот может потерять много крови. Это плохо. Придется штаны снимать.
Вера вынырнула, отдышалась и деловито поинтересовалась:
– У тебя в карманах штанов что-нибудь ценное есть?
– Кажется, мобильник, – неуверенно вспомнил идиот. – Платок… Сигареты, зажигалка. Мелочь какая-то. Ножик.
– Давай сюда.
– Чего давать? – Сашка, кажется, на самом деле ничего не понял.
Вера серьезно посмотрела в его ошалелые глаза, грустно вздохнула, насколько позволяли мелкие волны, все время лезущие в рот, и доверительно призналась:
– Курить страсть как хочется. А у тебя в карманах и сигареты, и зажигалка. Не поняла только, зачем ты ножик носишь.
Сашка наконец понял, обрадовался, глаза его заметно оживели, а слегка синие губы попытались изобразить одобрительную улыбку.
– Молодец, – похвалил он Веру. – Надо же, догадалась… Правда молодец.
И полез руками шарить по карманам. Сразу обеими. И, конечно, тут же ушел под воду с головой – течение здесь было хоть и пустяковое, но парусность у Сашкиного туловища была выдающаяся, так что ничего удивительного, что на своем якоре он отклонился от вертикального положения градусов на тридцать. Идиот. Вера ухватила его за шкирку, выдернула на поверхность, дождалась, пока он откашляется и отдышится, и жалобно сказала:
– Знаешь, я ужасно замерзла. И кушать хочу. Может, я поплыву потихоньку, а?
– Как это? – испугался Сашка и клацнул зубами. – А я?
– А ты еще поныряй, раз это тебе так понравилось, – предложила она. Понаблюдала, как из его глаз опять уходит всякое соображение, и сжалилась: – Ладно, работай плавниками и больше не ныряй. Я сама твой ножик найду.
Господи, сколько мусора у этих идиотов в карманах! Она три раза выныривала с тем, что могло быть складным ножом, и каждый раз это была какая-нибудь бесполезная дрянь – фонарик величиной с авторучку, авторучка величиной с отбойный молоток, зажигалка, конфигурацией и весом больше всего похожая на кирпич. А нож оказался вообще в кармане пиджака. Обыкновенный складной ножичек, практически перочинный, но открыть его она так и не сумела. Она держала Сашку за шкирку, Сашка долго и неловко открывал нож, отплевываясь от мелких волн и бормоча, что эта работа не для слабых женских рук, господин Сотников с моста хрипло интересовался, не пора ли вызвать спасателей, два туловища лежали на мосту, свесив вниз головы и время от времени спрашивая друг у друга, что делать, дядьки с удочками проснулись и стали махать руками, показывать пальцами и что-то неразборчиво кричать, и все это было уже скучно. Сколько можно здесь еще торчать? И часы у нее остановились. Совсем скучно.
Сашка наконец-то открыл этот почти перочинный ножик, при этом чуть его не утопив. Вера едва успела подхватить, для восстановления душевного равновесия располосовала лацкан Сашкиного пиджака, якобы проверяя, насколько нож хорошо заточен, и нырнула в жирную придонную муть. Одним взмахом откромсала кусок штанины, нанизанной на острый конец крюка, и осторожно толкнула Сашкины ноги в сторону – свободен, мол. Он понял, шарахнулся от своего якоря с неожиданной прытью, задев ее плечо ботинком, – не больно, но ведь наверняка тоже лаковые штиблеты, вот что возмутительно. Она вынырнула – и совсем расстроилась: этот идиот барахтался, безграмотно и практически безуспешно борясь с абсолютно пустяковым течением, и при этом кричал господину Сотникову со товарищи, что все в полном порядке, сейчас он доберется до берега, сейчас, сейчас, вот только девочке поможет доплыть…
– Эй, на палубе! – закричала Вера, заглушая кваканье этого идиота. – Идите на берег, вон к тому месту, где лестница! Аптечку обязательно захватите, Сашка серьезно ранен!
Два лежачих туловища испуганно переглянулись, спросили друг у друга, где аптечка, отползли от края моста и исчезли из поля зрения. А господин Сотников стоял столбом и глядел на нее, как кот на голубя. Как хищный, но хромой кот на слабую и беззащитную, но вполне здоровую голубку, упорхнувшую прямо из-под носа. Судя по выражению морды, с таким постыдным недоразумением хищный кот прежде никогда не сталкивался. Бедненький.
– Чего это я ранен? – квакнул рядом идиот Сашка. – Подумаешь, царапина… Держись за меня, сейчас я мигом до берега…
Он неловко барахтался, медленно и с явным трудом поворачиваясь в воде, как в цементном растворе, и Вера совсем заскучала. Придется его до берега волочь, идиота. Наверное, и вправду серьезно ранен, идиот. Вон, еле шевелится. Как муха в варенье. Муха величиной со слона… с мамонта. Говорят, мамонты вымерли потому, что то и дело попадали в ямы с водой, протаявшие в вечной мерзлоте, а выбраться не могли – плавать не умели. Идиоты.
– Послушай моего совета, – сердито сказала Вера, хватая этого мамонта за шкирку. – Как только выйдешь из больницы – тут же пристрели своего тренера по плаванью… Ложись на спину и не барахтайся. Ты фарватера не знаешь, а тут на дне, кроме твоего любимого крюка, много чего валяется.
Метров через пять было уже мелко, уже можно было бы и по дну дойти, но Вера все-таки плыла почти до самого берега, с печалью думая о своих новых кроссовках и с трудом волоча за шкирку мамонта Сашку. Мамонт Сашка послушно волокся, глядел в небо ошалелыми глазами, не трепыхался и даже передние лапы на груди сложил. Репетирует, что ли? Самое время. Если действительно много крови потерял, да еще переохлаждение организма…
Сашка проехал спиной по дну и вышел из комы. Сел, повертел головой, пооглядывался, не вставая, неловко выбрался на нижнюю ступеньку каменной лестницы, спускающейся к самой воде, и с тоской сказал:
– Нет, какие ноги, а? И что теперь делать?..
– Ты что, разве обе поранил? – удивилась Вера. – Я думала, что одну… Ладно, не бойся, главное – кости целы. Покажи, что там у тебя.
– А чего у меня? – рассеянно отозвался Сашка. – У меня ничего… То есть нормально. Я говорю: у тебя ноги-то какие…
– Ну, грязные, – отметила Вера с раздражением, мельком глянув на свои ноги в бывших новых кроссовках, во второй раз надетых, чтоб они провалились, идиоты. – Ну, синие… Так ведь нелегкая это работа – из болота тащить бегемота. На себя посмотрел бы… Ладно, пойду я уже. Замерзла. Прощай, утопленник. Передавай пламенный привет господину Сотникову, генеральному директору фирмы… черт, забыла название. Ну, ты постепенно сообразишь, кому привет передавать. Пламенный.
Она было шагнула к речке, заранее мысленно уговаривая себя, что вода не такая уж и холодная, вполне терпимая вода, а по сравнению с температурой ее тела в данный момент – так даже, может быть, теплая вода, даже очень теплая, прямо парное молоко, сейчас она в этой воде согреется, особенно ноги согреются, окоченели совсем. Только ангины ей не хватало…
И тут Сашка схватил ее за ногу. Обхватил ее холодную, как сосулька, лодыжку своей горячей, как утюг, ладонью. Горячей! Это как понимать?! Или они не в одной воде только что остывали? Или этот терминатор на батарейках работает? Или у этого идиота уже температура поднялась?.. Или…
– Попробуешь удержать – утоплю, – очень спокойным голосом пообещала Вера, глядя на два туловища, которые только что сошли с моста и теперь рысили по набережной в их сторону.
Лучше было бы не на туловища смотреть, а в глаза Сашке. Ее фирменным серьезным взглядом. Тогда бы он послушался. А слова – так, сотрясение воздуха. Когда они на такие мелочи внимание обращали? Но на Сашку она не смотрела, и ее нога сейчас растает в его ладони или, наоборот, раскалится, уже раскаляется, от нее уже температура распространяется по всему организму, уже бедный организм трясется в ознобе, все, можно с уверенностью закупать этот быстрорастворимый… как его? Который снимает симптомы… И нужно немедленно посмотреть серьезным взглядом прямо в Сашкины глаза, а то он ее ногу никогда не отпустит, и ее нога расплавится, а потом сплавится с его рукой, и что тогда делать? Тогда уже ничего не сделаешь, надо делать что-то прямо сейчас…
– Нет, что ты, я не чтобы удержать, – испуганно сказал Сашка и отпустил ее ногу. – Я просто… не удержался. Извини. Никогда не верил, что такие ноги бывают. Один раз на картинке видел. Не фотография, а так, нарисованные. Но это же не считается, да?
Тема была привычная, и Вера мгновенно пришла в себя. Подумаешь, горячая рука! Подумаешь, мурашки по коже! Резкий перепад температуры, законы химии… или физики? Да хоть бы и мутной науки психологии, это уже не принципиально. Ничего быстрорастворимого закупать не надо, а надо быстренько добраться до дома и влезть под горячий душ. А времени и так в обрез. Наверное, целый час на эти догонялки угробила. Сколько там натикало? Нисколько. Стоят часы. Сколько раз говорила себе: не надо надевать часы во время утренней пробежки! И вечерней тоже! Часы, конечно, копеечные, но все равно обидно – третьи с начала купального сезона… Вера с трудом расстегнула зачуханный мокрой тиной пластиковый браслет и раздраженно выбросила часы в речку. В холодную и грязную воду, в которую ей сейчас придется опять лезть. Четыре шоколадки «Аленка», две большие черные редьки, свиная отбивная, красная икра, песочное пирожное, заварное пирожное… два заварных пирожных, стаканчик вишневого желе, хорошо бы малосольных огурчиков найти, и тогда можно будет нажарить много-много картошки. И сожрать все это на сон грядущий. Интересно, вынесет ее организм такое массированное благотворное влияние в один прием? Ничего, вынесет. И не такое выносил. Вон вода какая мерзкая. Совершенно ничего общего с парным молоком.
– Вера…
– Крепись, Александр, спасение уже близко, верные друзья спешат на помощь, – скороговоркой пробормотала она, медленно заходя в воду, ежась и с отвращением чувствуя под бывшими новыми кроссовками похрустывание ракушек в вязком илистом дне.
– Вера!
Она зачем-то оглянулась. Верные друзья были уже близко, но это ничего, не полезут же они за ней в воду. И господин Сотников, судя по всему, сигать с моста не собирается, у него перед глазами чуть живой пример идиота Сашки. А вот идиот Сашка, кажется, все-таки мечтает утопиться. Встал и руки к ней тянет. Сейчас в речку полезет со своей разодранной ногой в разодранной штанине.
– Сидеть, – строго сказала Вера и для доходчивости указала пальцем на ступеньку лестницы. – Второй раз тебя с якоря снимать мне некогда. Я и так на работу уже опаздываю.
Сашка послушно сел на ступеньку боком, вытянул перед собой раненую ногу и радостно заявил:
– Вера! А ты к тому же еще и красивая!
С точки зрения информативности ничего нового она не услышала, но формулировка ее поразила.
– Это к чему же «к тому»? – подозрительно спросила она, впервые внимательно разглядывая идиота Сашку.
– Как это к чему? – заметно растерялся тот. – К тому, что умная… Умная, да к тому же еще и красивая!
– Это кто тебе сказал? – еще подозрительнее спросила Вера. – Насчет того, что я умная… Не верь сплетням, Александр. Люди по злобе чего только не болтают.
– Никто не сказал, – упорствовал Сашка. И сиял, как ясно солнышко. – Что, я сам не вижу, что ли? И к тому же еще красивая! С ума сойти! Эй, ты куда опять?.. Ты зачем опять?.. Да не лезь ты в воду, мы тебя до дома довезем!
– Спасибо, не надо, – вежливо отказалась Вера, хмуро поглядывая на два туловища, которые уже топали вниз по лестнице. – Мы пойдем своим путем. Мне этот путь как-то привычней.
Она отвернулась, зашла в воду по пояс, оттолкнулась бывшими новыми кроссовками от вязкого дна и поплыла на другой берег – мощно, всерьез, как на соревновании, не слыша, кто там что кричит ей вслед, вообще ничего не слыша, кроме плеска воды и собственного дыхания. И холодно в общем-то не было. А ноге так и вовсе жарко было, как будто там осталось тепло от Сашкиной ладони, и это тепло не тратилось, а постепенно разрасталось, чего, конечно, быть никак не могло ни с точки зрения химии, ни с точки зрения физики. С точки зрения мутной науки психологии могло быть что угодно, поэтому Вера, выбравшись из воды на бетонный бортик недостроенного лягушатника, первым делом осмотрела лодыжку, которая горела, как под перцовым пластырем, и даже потрогала ее на всякий случай: может быть, и вправду горячая? Да нет, вполне холодная. И никаких следов ожога она не увидела, она и знала, что не увидит, какой там может быть ожог… Знала, что ничего такого быть не может, но увидеть что-нибудь такое все-таки ожидала. Бросать надо эту психологию к черту, а то так и до самоанализа докатишься… Ладно, пора домой.
Навстречу ей по бортику лягушатника торопливо и неуклюже топал дядька – один из тех двоих, кто сначала с удочками дремал, а потом весь этот цирк смотрел. Вера пригляделась – дядька был совсем не старый, можно сказать, в самом соку дядька… Поэтому она на всякий случай серьезно посмотрела ему в глаза. Дядька остановился прямо перед ней, ответил на ее серьезный взгляд еще более серьезным взглядом, протянул какую-то тряпку и деловито сказал:
– Вытрись-ка… Это ветровка, чистая, моя только вчера постирала. Вытирайся, вытирайся, простынешь еще, утро знобкое, не юг – Черное море, а ты как утка полчаса в воде туда-сюда, туда-сюда…
– Ой, нет, не надо, я грязная вся, – отказалась Вера, с неловкостью вспоминая свои подозрения и свой серьезный взгляд. Такой дядька нормальный оказался… – Ваша жена только-только выстирала, а я тут же и угваздаю… Это нехорошо.
– Вытирайся давай, – строго сказал дядька и попытался сам вытереть ей голову скомканной ветровкой, но чуть не свалился в воду, смутился и сунул куртку ей в руки. – Нехорошо мокрой на ветру стоять, вот что нехорошо… А моя понятливая, я ей все расскажу, так она еще и похвалит, что правильно сделал… Эти-то за тобой чего гоняются? Бандиты, что ли? Или от своего бежишь?
– Какие там свои, – сердито буркнула Вера, вытирая волосы дядькиной курткой. – Нет у меня среди них своих… Вроде бы и не бандиты. Идиоты какие-то. Развлекаются так. Гоняются на джипе за одинокими девушками, чтобы познакомиться.
– Да, умного мало, – согласился с Верой дядька. – Этого-то, которого бинтуют, зачем вытащила? Пусть бы свои в воду лезли.
– Да он вроде ничего, – нерешительно сказала Вера, оглядываясь на противоположный берег и тут же ощущая тепло в лодыжке. – Он меня спасать бросился, а сам на железку напоролся.
– Тебя? Спасать?! Он?!! – не поверил дядька. – Ну это… это… вообще! Ты ж с моста спорхнула, как… ну, я не знаю! Я думал, мне сон снится! Я такое только в кино видел! А этот свалился как самосвал!
– Я думала, что это трактор упал, – призналась Вера, уже без всякой серьезности, а с горячей симпатией глядя на нормального дядьку.
– Во! – согласился тот. – Трактор! И плавает так же, да? Спасать бросился, ты подумай… Герой. Надо своей рассказать. А тебя еще один на горке ждет. Переехал на своем драндулете на эту сторону – и ждет. Так что мы с Алексеичем тебя проводим до дому. Алексеич уже дрын приготовил. Мало ли что…
Ждет, значит… Ну что ж, кто ждет – тот дождется. Ах вы, господин Сотников, отчаянный генеральный директор, большого риска человек. Дрыном бы вас, господин Сотников, вас и ваш бродячий джип, и вашу фирму, и ваше невысказанное предложение, и ваши лаковые штиблеты, и ваш черный костюм… Хотя черному костюму и так уже досталось больше, чем он заслуживает. Ладно, дрын – это на крайний случай.
– Не надо дрын, – не без сожаления отказалась Вера. – Этот идиот и так уже травмированный. И провожать меня не надо. Мне тут два шага, пешком он меня не догонит, а на машине не проедет – я дворами пройду, а дворы перекопаны все… Вроде бы кабель телефонный собираются тянуть, а канавы понарыли – прямо противотанковые рвы. Ни за что не проедет. Да и поговорить с ним надо бы наконец. Раз уж он так мечтает.
– Бить будешь? – оживился дядька, повернулся и потопал по бортику лягушатника к берегу, на ходу деловито приговаривая: – Руками не бей, что ж такие руки портить… Ты ногами бей… Или вон дрын у Алексеича возьми, хороший дрын, крепкий, сучковатый… А мы рядышком побудем, мало ли что.
Вера шла за ним и рассеянно думала, что бы это могло означать с точки зрения мутной науки психологии – такое полное и очевидное отсутствие мужской солидарности. По всем законам дядьки должны были бы сейчас осуждать ее и сочувствовать господину Сотникову. В подобных ситуациях мужики, оказавшиеся свидетелями, всегда осуждали ее и сочувствовали братьям по разуму. А тут вон чего… Или это классовая ненависть в дядьках заговорила?
По набережной подошел второй дядька, точно такой же, как первый, но с дубиной, и подтвердил ее догадку:
– Стоит джипешник-то. Блестит. Новый совсем. Так бы и засветил в лоб. А пацан чего-то сильно уделанный. Но тоже крутой. По мобиле треплется без перекура. Так бы и звезданул в ухо.
Вера вздохнула, слегка разочарованная тем, что дядьки ввязались в бой за правое дело все-таки не из-за ее прекрасных глаз, и полезла по заросшему травой склону вверх, туда, где ее ждал сильно уделанный крутой идиот господин Сотников. Дядьки с кряхтением лезли за ней, и первый на ходу объяснил второму, почему господину Сотникову в лоб и в ухо пока не надо, а надо постоять в сторонке и подождать, как дело повернется. Второй разочарованно ворчал. Судя по всему, он уже тщательно спланировал дальнейшую печальную судьбу и господина Сотникова, и его бродячего джипа. Нарушение планов его сильно огорчало.
Господин Сотников, не подозревая о своей возможной печальной судьбе, легкомысленно торчал рядом со своим сверкающим джипом, прямо напрашиваясь на дрын борцов за правое дело. Сашке ногу бинтуют, неизвестно, чего они там набинтуют грязными руками, его в больницу срочно надо везти, а господин Сотников бросил соратника в беде, ухватил единственное транспортное средство – и смылся. Причем – через пешеходный мост! И по мобиле треплется без перекуров. Крутой.
Вера сунула мокрую ветровку в руки кому-то из дядек, решительно шагнула к господину Сотникову, подбоченилась а-ля баба Клава со второго этажа и, вживаясь в образ, пронзительно заверещала:
– Крутой, да?! Познакомиться, да?! Щас так познакомишься – на гипсе разоришься! Джипешник рихтовать запаришься! Там человек умирает! А он тут по мобиле треплется! Имеешь право, да?! Хозяин жизни, да?! Крыса!
Она перевела дух, вспоминая любимые ругательства бабы Клавы, и вспомнила самое сильное:
– Фашист недобитый!
– Твою мать! – с уважением сказал один дядька.
– Во чего знает, – с удивлением сказал другой дядька.
– Подожди, Саш, – с замешательством сказал в телефон господин Сотников. – При чем тут я? Да ничего не сделал! Да слова не сказал! Это она о тебе беспокоится! Сейчас…
Господин Сотников протянул Вере сотовый и, наверное, догадываясь, что она может его и в речку швырнуть, торопливо объяснил:
– Сашка тебе чего-то сказать хочет… Слышит, что кричишь – думает, что это я тебя обидел. Ругается. Скажи ему, что я ничего…
Вера, не успев выйти из образа, грубо вырвала сотовый из протянутой руки заметно растерянного господина Сотникова, замахнулась на него телефоном, но тут же спохватилась, оглянулась на противоположный берег, где два туловища все еще суетились вокруг Сашкиной ноги, ярко белеющей свежим бинтом, и прижала телефон к уху.
– Чего ты там шумишь? – смешливо спросил Сашкин голос. – Я аж через речку слышу, никакого мобильника не надо. Опять какую-нибудь корриду затеваешь?
– Слушай, а откуда у тебя мобильник? – удивилась Вера. – Я же его собственными руками у тебя из кармана вынула и на дно бросила!
– Да это не мой, ребята дали… Не важно. Так ты чего кричишь-то? Костя чего-нибудь не то?.. Или опять развлекаешься? Ты его не обижай, он хороший.
– Ага, хороший! – Вера оглянулась на господина Сотникова и саркастически хмыкнула. – Тебя в больницу срочно надо, а он умотал… Как там твоя нога?
– А твоя? – после паузы спросил Сашка странным голосом.
– Да при чем тут… – Вера почувствовала, как в лодыжке возникает и разрастается тепло, испугалась и сухо сказала: – Не понимаю, о чем ты говоришь.
– Не ври, – посоветовал Сашка. – Никогда не ври без крайней необходимости. Особенно мне. Я же тебе не вру. Я честно признаюсь: у меня рука до сих пор как огнем горит. Вот ты умная, ты должна знать: что это такое?..
– Это у тебя температура, – перебила его Вера сердито. – Вот что это такое. Ладно, пока, я побежала, опаздываю уже.
– Подожди, не убегай… Две минуты, ладно? Отдай мобильник брату.
– Какому брату? – удивилась Вера. – У меня никакого брата нет.
– Косте отдай! Костя – мой брат. Ты что, не разглядела еще?
Вера обернулась к господину Сотникову, поразглядывала его, пожала плечами, сказала в трубку:
– Не ври. Что за крайняя необходимость?..
И вложила сотовый в протянутую руку.
Господин Сотников несколько секунд молча слушал, буркнул: «Там посмотрим», потом сунул телефон в карман и ожидающе уставился на Веру. Вера ожидающе уставилась на него.
– Ну, – наконец не выдержала она. – Сашка сказал: пару минут. Первая минута на исходе. Что вам от меня надо?
Господин Сотников покосился на стоявших невдалеке дядек, кашлянул, сделал решительное лицо и вдруг ляпнул:
– Ребенка.
Да уж… И почему это он решил, что Вера не сможет отказаться от его предложения? И не от таких отказывалась.
– Вот сейчас все брошу – и рожать побегу, – раздраженно буркнула она. – Все, вторая минута на исходе. Прощайте, господин Сотников.
– Подожди! – заволновался тот. – Ты не поняла! Не надо рожать, я суррогатную мать найду, надо только клетку твою, одну клетку, а деньги хорошие… Ну, хочешь, сама сумму назови.
– Так, – сказала Вера строго. – Так, мне все ясно. Крутой, деньги, можете себе позволить… А почему бы вам не жениться и не нарожать себе детей традиционным способом?
– Да я два раза женат был, – хмуро признался господин Сотников и опять покосился в сторону дядек. – Обе не захотели детей. Ни сами, ни с суррогатной матерью. Да и наследственность там была… не очень.
– А с чего вы взяли, что у меня наследственность – очень? – удивилась Вера. – Может, у меня стригущий лишай, плоскостопие и эпилепсия?
– Смеешься, да? – неуверенно спросил господин Сотников. – Нет, обследование пройти, конечно, придется… Но это ж и так видно, что здоровая. Спортом занимаешься. Ведь занимаешься, да? Бегаешь, как «Энерджайзер». И утром, и вечером. Да нет, здоровая, чего там… Да и красивая какая. Если девочка родится, так это тоже важно. В смысле – чтобы внешность.
– А в смысле – чтобы внутренность? – сдерживая злость, поинтересовалась Вера. – В смысле извилин и общего состояния психики? Почему вы решили, что ребенок пойдет в маму, а не в папу?
– Ну так и пусть, – согласился господин Сотников, нисколько не обидевшись на ее выпад. Может, просто не понял. – Я же тоже не урод. И с извилинами у меня полный порядок. Да тебе-то чего переживать. От тебя – только клетка, остальное – мои проблемы.
Вере вдруг стало его жалко. Вот ведь бывают такие мужики, которым позарез дети нужны. Сами родить не могут, жены – не хотят… Трагедия.
– А Сашка тоже два раза женат был? – неожиданно для себя спросила она.
– Не, Сашка не был. Да ему зачем? У него уже Витька есть… Ну, племяш наш, сын Ленки, сестры нашей. Она во Францию когда еще умотала, замуж там вышла, а Витьку Сашке оставила. Сначала вроде бы как на время, а получилось, что насовсем. Витька Сашку папой зовет.
– Константин Дмитриевич, а вы уверены, что вы с Сашкой родные братья? – опять неожиданно для себя спросила Вера, пристально рассматривая господина Сотникова.
– Ничего себе! – изумился тот. – Еще бы не уверен! Мы же близнецы! Ты что, не видишь, что ли? Мы ж как под копирку! Нас же вообще никто не различает! Только мама и Сашкин Витька!
– Странно, – задумчиво сказала Вера. – По-моему, ничего общего… Просто совершенно разные люди. А почему сестра оставила ребенка именно Сашке, а не вам? Или бабушке?
– Ну, оставила и оставила… Откуда я знаю? У матери и оставила, а Сашка потом забрал. Ты мне лучше по делу ответь: ты как, согласна?
Вера опять оглянулась на противоположный берег, где два туловища все суетились вокруг Сашки, подумала, поставила ногу на колесо бродячего джипа и заявила:
– Господин Сотников! У меня к вам встречное предложение. Не могли бы вы немножко подержать меня за ногу? Вот в этом месте, если вы не против. Это… как бы вам сказать… ну, что-то вроде теста.
– Чего это я против? Тем более что такие ноги… сроду таких не видал. Только на картинке, но там нарисованные, – сказал господин Сотникова и ухватил холодную Верину ногу большой горячей ладонью.
Ладонь была правда горячая, но нога почему-то не согревалась. Ноге в этой горячей ладони было даже как-то неуютно. А когда ладонь поползла вверх, к колену, ноге стало и вовсе противно, она даже чуть не брыкнула господина Сотникова сама собой, без всякого Вериного веления.
Господин Сотников следил за собственной рукой, как зачарованный.
И тут у него в кармане журавлиным голосом закурлыкал мобильник. Господин Сотников выпустил Верину ногу, вынул носовой платок, тщательно вытер руку, а потом уже достал из кармана телефон. Немножко послушал, сердито буркнул что-то невразумительное и сунул трубку Вере.
– Ну? – сказала Вера в трубку и оглянулась на противоположный берег. Сашка показывал ей кулак, а трубка сердито сопела в ухо. – Ну, что такое? Случилось что-нибудь?
Сашка стукнул кулаком себя по колену здоровой ноги, а трубка сказала его злобным голосом:
– А ты считаешь, что ничего не случилось?!
– Считаю, – подтвердила Вера, вдруг развеселясь ни с того ни с сего. – Абсолютно ничего! Можешь себе представить? И вот что я тебе должна сказать, Александр: вы с господином Сотниковым никакие не близнецы. И, скорее всего, не братья. И вообще не родня, хотя бы даже дальняя.
Она отдала мобильник господину Сотникову, помахала рукой Сашке, подмигнула слегка обалдевшим от обилия впечатлений дядькам и собралась убегать, но тут господин Сотников всполошился.
– Вера, подожди! Ты куда?! Ты ж ничего не ответила! Что ты решила-то? Хоть телефон скажи! Может, потом поговорим! В нормальной обстановке!
Вера остановилась, оглянулась и немножко понаблюдала, как господин Сотников хромает за ней, размахивая мобильником, а другой рукой цепляясь за свой многострадальный тазобедренный сустав. Ребенка ему… А если у ребенка будет врожденный вывих бедра? Телефон ему… А если… Нет, почему. Это можно. Это даже полезно будет.
– Семь-пять-четырнадцать-ноль-три! – крикнула она так, что, наверное, и на другом берегу услышали. Ну, что ж, им тоже полезно будет. – Запомнили? После двадцати ноль-ноль! Обязательно ждите ответа!
И понеслась к дому, как наскипидаренный «Энерджайзер», не обращая внимания на ошалелые лица пока еще немногочисленных прохожих и ласточкой перелетела через многочисленные противотанковые рвы, вырытые якобы для какого-то кабеля. Все-таки еще под душ надо, и волосы потом долго сушить, и позавтракать нормально, а то до перерыва терпеть, и юбку она вчера забыла погладить… И часы! Надо найти запасные часы, без часов она не умела жить, совершенно не ощущала времени. Вот, например, сколько времени она потеряла с этими идиотами? Час? Полтора? Может быть, все два?! Ужас! Тогда она точно опоздает! Чтоб они провалились! А настроение у нее было почему-то замечательное.
Глава 2
– Фольклор! Истоки родной речи! Жемчужное месторождение русского языка! Совсем ничего не знают! Ни-че-го! Как же это можно? И это – будущие педагоги! – Мириам Исхаковна бросила на подоконник сумку и полезла в шкаф за своей чашкой, не переставая горестно причитать: – Даже былин не знают! Даже пословиц не знают! Особенно девки! Сидят, глазками хлопают, губки надувают, причесочки ручками трогают!.. Мерзавки тупые!
– А жемчужное месторождение – это где? – спросила Вера, с треском сдирая с шоколадки фольгу.
Вообще-то у нее было прекрасное настроение, к Мириам цепляться она не планировала, но ведь Мириам сама напрашивается. Девки ей не нравятся, ишь ты! Мерзавка тупая.
Мириам Исхаковна дернулась как ужаленная, грохнула посудой в шкафу, резко повернулась и с ужасом уставилась на Веру:
– Вы что, даже этого не знаете, Верочка, дорогая?!
– Не-а, – безмятежно ответила Вера и сунула в рот сразу половину шоколадки.
– Жемчуг образуется в морских раковинах, которые водятся в определенных широтах, – флегматично заметил Георгий Платонович Отес, не отрываясь от газеты. – Главным образом, в теплых водах. В Индийском океане, например. У побережья Японии тоже водятся. Но японцы уже давно научились разводить таких раковин на специальных морских фермах.
– Георгий Платонович, при чем тут японцы? – возмутилась Мириам Исхаковна. – Мы говорим о русском народном творчестве! Самобытном!
– Ни при чем, – покладисто согласился Отес. – Если о самобытном – тогда, конечно, японцы ни при чем.
Он невинно глянул поверх газеты, перевернул страницу и опять уткнулся в текст. Отесу было семьдесят пять лет, до нынешнего литературоведения он прошел огни, воды, медные трубы, горячие точки, холодные льдины и все остальное. Индийский океан и японское побережье он наверняка тоже прошел. Отес был умен, как бес, добр, как ангел небесный, студенты его боялись и обожали, за глаза звали «Отес родной», даже самые безбашенные учили его литературоведение всерьез, всерьез же расстраивались, если получали тройку, а двоечников у него вообще не было. Вера смутно сожалела, что Георгию Платоновичу уже семьдесят пять. Мириам об этом не помнила и строила ему глазки.
– Месторождение жемчуга – в навозе, – вдруг подал голос Петров, открыл глаза, потянулся и зевнул во весь рот. – Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно… Вера! Ты даже этого не знаешь!
– И этого не знаю, – согласилась она. – А вот что я знаю совершенно точно: через полтора часа второй курс, и трое с дневного на пересдачу, и Семенова с утра на после обеда попросилась, ей ребенка не с кем было оставить… Я ж тут до вечера застряну, а дома только шоколад и пачка соли. Между прочим, ты меня на базар обещал отвезти, а сам дрыхнешь.
– Ну, разбудила бы, – ответил Петров и с кряхтением полез из кресла. – Обещал – отвезу. Подумаешь, полтора часа… За полтора часа мы три базара объедем.
– Принято говорить не «базар», а «рынок», – как бы между прочим заметила Мириам Исхаковна. – «Рынок» – это по-русски. А «базар» – это по-турецки, кажется. Или по-арабски. В общем, как-то по-восточному.
– Ну, вам виднее, – согласился Петров. – По-восточному так по-восточному. Хотя… минуточку…
Он полез в карман, вытащил плотно сложенный полиэтиленовый пакет, неторопливо развернул его, удивленно уставился на крупную черную надпись на желтом фоне и с недоумением спросил:
– Это разве арабская вязь? Гляньте, Мириам Исхаковна! По-моему, это все-таки не по-восточному.
На боку пакета было написано BAZAR. Мириам Исхаковна обиделась.
– Ну, уж точно – не по-русски, – начала она склочным голосом, на глазах закипая. – Уж чего-чего, а кириллицу от латынщицы я могу отличить!
– Латынщица – это кто? – с любопытством спросила Вера, с треском разворачивая вторую шоколадку.
– Вы и этого не знаете! – со злобным торжеством заорала Мириам Исхаковна, мигом поворачиваясь к ней.
– Не знаю, – призналась Вера и виновато повесила голову. – Даже не слышала никогда.
Петров заржал. Отес невинно смотрел поверх газеты. Мириам Исхаковна задыхалась от гнева. Наконец отдышалась, закрыла глаза и трагически прошептала:
– И такие люди преподают в университете. Учат будущих педагогов. Интересно, чему могут научить? Пить чай с шоколадом в рабочее время? Спать посреди дня в деканате? Сводить со студентами личные счеты? По базарам шляться?
– По рынкам, – подсказал Петров, старательно рисуя на своем пакете толстым красным фломастером новую надпись: RYNOK.
Мириам Исхаковна открыла глаза, схватила с подоконника свою сумку и потопала из комнаты, на ходу угрожающе пообещав:
– Я чай пить не буду!
Дверь за ней оглушительно хлопнула. Отес сложил газету и с удовольствием отметил:
– Вы хулиганы, молодые люди.
– Ну, уж прям, – обиделась Вера. – Я ж не виновата, что ни одной латынщицы в глаза не видела. И не слышала никогда. А вы слышали, Георгий Платонович?
– Ну, как сказать, – задумчиво отозвался Отес. – Кажется, ее все-таки по-другому звали. Давно это было.
Они с открытой симпатией поулыбались друг другу, а Петров отобрал у Веры шоколадку, сунул ее в рот и важно, хоть и несколько шепеляво, объявил:
– Я догадался, в чем дело. Она тебе шоколад не может простить. У нее диета, а ты тут нарочно фольгой шуршишь. А что за личные счеты со студентами? Вот этого я не понял.
– А я Кошелькова только что зарезала. Наверное, нажаловался уже.
Кошельков был любимчиком Мириам Исхаковны, надеждой и опорой русского народного творчества, красавцем мужчиной и клиническим идиотом.
– У-у-у, это серьезно, – загрустил Петров. – Это жди разборок. У него же мама не то в газете, не то на телевидении… Склочная – базар отдыхает. И рынок тоже… А за что ты его?
– А за руки хватает.
– Как это? – в один голос удивились Петров и Отес.
– Да как всегда, – недовольно сказала Вера. – Сел отвечать, ручонку через стол тянет, мои пальцы потрогать норовит, а сам через каждое слово: «Вы понимаете? Вы понимаете?» Конечно, не понимаю. Никто бы не понял. Абсолютную ахинею несет.
– А Исхаковна говорит, что у него исконная русская речь. Или посконная? – Петров повспоминал и нерешительно уточнил: – Или сермяжная. В общем, жемчужное месторождение: тудыть, мабуть, надысь… Инда взопрели озимые.
– Надо же! – искренне удивилась Вера. – А с остальными он нормально. В смысле: отстой, о-кей, непруха, сидюшник… За «клаву» с нуля бабок немерено забашлял. И все такое… Может, не надо было его резать? По крайней мере, бытовую психологию он превзошел. Молодец. Хотя за руки хватал. Идиот.
– А не родись красивой, – злорадно заявил Петров.
Вера помрачнела.
– Ты поспал? – ласково спросила она.
– Поспал… – Петров насторожился.
– Поразвлекался?
– Поразвлекался. Немножко.
– Шоколадку мою слопал?
– Слопал. Но она маленькая была.
– Спасибо сказал?
– Э-э-э… забыл.
– Скажи, – потребовала Вера.
– Спасибо, – сказал Петров.
– Ну и что ты сидишь? – возмутилась Вера. – Кто обещал меня на базар отвезти?! И на рынок тоже! В доме пачка соли и литр кипяченой воды! А шоколадку ты слопал! А я, между прочим, не на диете! А почти через час еще группа, и еще двоечники, и наверняка Кошельков опять припрется! Смерти ты моей хочешь! Вот все Тайке расскажу!
– У-ф-ф-ф… – Петров перевел дух и помотал головой. – Умеешь ты человека до нервного срыва довести. Посмотришь – вся такая… такая вся… неземное создание. А как чего – так сразу и сожрешь. Главное – за что? Не характер, а серная кислота.
– Петенька, у умных людей не бывает ангельского характера, – подал голос Отес. – Они все знают, все понимают, все анализируют и всех нас видят насквозь. И от этого характер неизбежно портится.
– Но у вас-то не испортился, – недовольно заметил Петров.
– Но я ведь и не такой умный, как Вера Алексеевна, – возразил Отес.
Настроение у Веры поднялось.
– Конечно, не такой, – весело сказала она, подталкивая Петрова к выходу. – Вы гораздо умнее.
Отес недоверчиво хмыкнул, покачал головой и опять взялся за свою газету, а Вера в который раз со смутным сожалением подумала, что ему уже семьдесят пять. Зачем он так рано родился? Родился бы лет хотя бы на сорок позже – и… Да ничего не «и». Женился бы на какой-нибудь Тайке. И был бы счастлив. И Тайка, конечно, тоже была бы счастлива. А Петров куда бы делся? А Петров женился бы на Вере. И Вера тоже была бы счастлива. Наверное. Во всяком случае, дети у нее были бы не хуже, чем у Тайки. При таком-то отце. С такой-то наследственностью.
– Ты чего молчишь? – осторожно спросил Петров, выруливая со стоянки за университетом. – Сердишься? Или устала сегодня?
– Встала рано, – неохотно ответила она. – Побегала немножко больше, чем надо. Да еще и попрыгала. Да еще и поплавала… Кроссовки новые испортила. Заколку потеряла. Правда, тёзке клиентов нашла. Ой, да! Ее же предупредить надо! Совсем забыла.
Вера выудила из сумки мобильник, на всякий случай проверила счет и с некоторым душевным трепетом позвонила своей лучшей – и единственной – подруге, коллеге, и к тому же – полной тёзке.
– Вера Алексеевна, – бодро начала Вера без вступления. – Должна предупредить. Тебе сегодня звонить будут. Ты же с двадцати ноль-ноль дежуришь? Ну вот. Не знаю… Скорее всего – двое… Может быть, четверо… Или шестеро. Но шестеро – это вряд ли. Ну что ты орешь? Да ничего не сумасшедшие, так, некоторые отклонения… лаковые штиблеты и черные костюмы в пять утра… Я сумасшедшая?! Ты это официально заявляешь? Ладно, тогда я тоже позвоню. Попозже. Ты, главное, их выслушай, а потом мне о впечатлении расскажешь. Что – сама? Сама… Вода утром очень холодная, а больше никаких впечатлений.
Тёзка орала ей в ухо грубые слова, но Вера слушала невнимательно. Потому что кроме впечатления от холодной воды очень явственно вспоминала еще одно – горячую руку. Вот ведь наваждение…
– Я потом еще позвоню, – торопливо сказала она, почему-то испугавшись, что тёзка сейчас прочтет ее мысли. Ее впечатления. – Потом, ладно? Петров меня на базар везет, мы уже подъезжаем… Пока.
Она сунула мобильник в сумку и машинально потрогала ногу. Да нет, нога как нога. Опять показалось. Не хватало только невроз заработать.
– Между прочим, мы еще не подъезжаем, – недовольно буркнул Петров. Повздыхал, похмыкал и еще более недовольно спросил: – Что, опять сафари устроила?
– Ну, конечно, это я устроила! – рассердилась Вера. – И сафари, и корриду, и автопробег Париж – Даккар! Мужская солидарность, да? Вам все можно, да? И на джипе через пешеходный мост, и знакомиться в пять утра! А как утопленника до берега волочь – так это забота слабой девушки… Кроссовки, между прочим, совершенно новые были.
Машина вдруг резко вильнула вправо, остановилась, Петров обернулся к ней и испуганно спросил, понизив голос:
– Ты что, серьезно?.. Кто-нибудь утонул?
– С чего бы ему тонуть? – удивилась Вера. – Я ж там рядом была. Вытащила. Так, ногу немножко ободрал. Ничего страшного, вряд ли ампутируют. А у второго вообще пустяк, даже перелома нет. Вот разве только травма черепа… Это может быть. Заговариваться стал.
– И сколько всего пострадавших? – поинтересовался Петров, задумчиво разглядывая ее.
– Только я, – уверенно сказала она. – Чего им-то страдать? Подлечат – и будут дальше бегать. В лаковых штиблетах. А я кроссовки испортила – раз, часы утопила – два, в холодной воде вымокла – три, позавтракать нормально не успела – четыре, юбку не погладила – пять… И психическая травма, опять же… Да! И еще заколку потеряла. Вот это особенно жалко. Очень красивая заколка была, расписная, настоящая Хохлома.
– Хохлома! – неожиданно рявкнул Петров.
Вера вздрогнула и посмотрела на него жалобно.
Петров злобно фыркнул, но продолжил уже спокойнее:
– Знаешь, Вер, иногда я тебя просто ненавижу. Ну вот что ты делаешь, а? Ну вот как ты живешь? Ну вот почему ты все время кого-то травмируешь?
– Не знаю, – беспомощно призналась она и чуть не заплакала. – А действительно – почему?
Петров опять злобно фыркнул и отвернулся. Посидел, помолчал, завел мотор и уже совсем спокойно, даже вроде бы с интересом, спросил:
– Сколько всего их в этот раз было-то?
– В джипе или вообще? – уточнила Вера. Послушала, как Петров опять начинает фыркать и что-то рычать сквозь зубы, и устало сказала: – Да ладно, Петь, не злись. Ерунда все это. Что ж мне теперь – вообще не бегать, что ли? Может, и из дому не выходить? Может, лечь, помереть и в гробу спрятаться? Все-таки странные вы все… Как будто я виновата.
– Лучше бы ты в спортклуб какой-нибудь ходила, – буркнул Петров. – Все-таки у людей на глазах.
– А я не ходила? – удивилась она.
– А, ну да… Забыл. Тогда я не знаю, как быть. Тогда тебе замуж надо выходить. Не могу ж я тебя везде провожать. Да и мог бы – Тайка обидится. И так уже намеки всякие делает.
– Да ладно тебе, – не поверила Вера. – Чего ты выдумываешь? Тайка – и намеки! Врешь ты все.
– Не вру, – гордо заявил Петров. – Делает намеки. Вчера сказала, что мы с тобой красивая пара. Ревнует.
– Чего тут ревновать… – Вера даже расстроилась. Не хватало еще, чтобы Тайка ее от дома отлучила. – Красивая пара! Чушь какая. То есть красивая, конечно, но ведь не пара же. Ежу понятно. Чего там, даже Мириам – и то понятно. А Тайка намеки делает. Ревнует! Нет, Петь, ты чего-то перепутал.
– Ревнует, – стоял на своем Петров. – Ты считаешь, меня и ревновать даже нельзя?
– Даже нельзя и даже глупо. И даже смешно. И даже, я бы сказала, противоестественно. Вот ответь как на духу: если бы Тайки не было, ты бы на мне женился?
Машина опять резко вильнула вправо и остановилась. Сзади загудели. Петров повернулся к Вере и гневно уставился на нее:
– Ты чего, а? Как это – Тайки не было бы?! С ума сошла совсем?!
– Ладно, ладно, – психотерапевтическим тоном заговорила Вера. – Была бы твоя Тайка, успокойся. Была, есть и будет. Но заметь: на главный мой вопрос ты даже внимания не обратил. Это показатель. Ревнует его Тайка! У тебя, Петенька, мания величия, вот что я должна тебе сказать. Впрочем, я за тебя тоже замуж не пошла бы. Ты плохой водитель, а я не люблю плохих водителей. Поехали уже, что ты все время тормозишь, того и гляди – ЧП на дороге устроишь.
– ДТП, – поправил Петров машинально. – Трепло ты, Вер, жуткое. И никогда не поймешь, всерьез или шутишь. С тобой просто невозможно общаться. М-да… И не общаться невозможно. Сестренку бы мне такую.
– Вот именно, – печально согласилась Вера. – Сестренку. А мне бы – такого братика. В этом вся беда.
– В чем беда? – не понял Петров. – Что за беда? Брат и сестра – это хорошо. Родня – это вообще хорошо… Все, придется дальше пешком, я ближе не подъеду. Выходи. И – ни на шаг от меня.
Вера вышла и стала ждать, когда из машины выберется Петров. Пока он выбирался, вокруг начались беспорядки: несколько мужиков, дравшихся в соседней подворотне, прекратили драться и даже замолчали, несколько прохожих затормозили с разбегу, будто на стену наткнувшись, кто-то ахнул, кто-то свистнул, кто-то за сердце схватился. Маленькая старушка с большими сумками переложила обе сумки в левую руку и, недоверчиво глядя на Веру, торопливо перекрестилась. Две девчонки лет по семнадцать одинаково ойкнули, схватились за руки и вытаращили глаза. Мент, скучающий возле своей сине-белой машины, заметно побледнел и стал машинально хвататься за кобуру. Застрелиться, что ли, собирается? Ну и правильно. Интересно, где он был в пять утра…
Из машины с трудом, как цыпленок из яйца, выбрался наконец Петров, и жизнь Вселенной начала возвращаться в привычное русло. Мужики из подворотни пригладили волосы, поправили футболки и, не глядя друг на друга, молча растараканились в разные стороны. Прохожие оживели, зашевелились и сделали понимающие лица. Маленькая старушка удовлетворенно сказала: «Ну вот, это совсем другое дело», – и побежала своей дорогой, время от времени цепляя сумками асфальт. Девочки разомкнули руки, слегка шарахнулись друг от друга и закрыли глаза. Мент у своей машины перестал царапать кобуру, покраснел, как кетчуп, и сказал в рацию: «Да не, ничего… Обошлось». Вера удивилась – что обошлось? Рация тоже удивилась, потребовала объяснений. Мент ничего объяснить не мог.
А и никто бы ничего объяснить не мог. Может, мутная наука психология могла бы чего-нибудь объяснить, но ее никто не спрашивал.
А ведь следовало бы спросить, – подумала Вера, шагая рядом с Петровым, чувствуя покой, исходящий от его тяжелой руки, лежащей у нее на плечах, и с любопытством поглядывая по сторонам. Следовало бы спросить мутную науку психологию, в чем тут дело. Явление-то и в самом деле уникальное…
Петров был не менее красив, чем Вера. Она считала, что – даже более. Но это совершенно не мешало ему жить. Бабы цепенели при виде него, но на шею не кидались. Не звонили ему домой и не дышали в трубку. Не строили глазки, не поправляли прически и не выставляли напоказ ножки. Студентки смотрели на него, как загипнотизированные, но толпой за ним не бегали, в глаза не заглядывали, не хихикали, не краснели, не заикались на экзамене и вообще учили его русскую литературу старательно. Знали, что за красивые глаза Петров глупости не прощает. Он вообще не считал красоту достоинством. Впрочем, и недостатком тоже не считал. Ничем не считал. И никому не приходило в голову сказать, что раз такой красивый – то обязательно дурак.
А Вере ее красота всю жизнь изгадила. Ну, не всю, конечно, а ту, которая уже была. Впереди оставалось еще довольно много жизни, но Вера подозревала, что и дальше будет все то же самое: свисты, улюлюканье, хватание за сердце, бег по пересеченной местности, невосполнимые потери материальных ценностей… Эх, кроссовки жалко. Заколка – это ладно, про настоящую Хохлому она Петрову наврала, да и все равно стричься уже пора, а вот кроссовки жалко… И всякие Кошельковы будут протягивать к ней свои поганые ручонки. И на переменах говорить о ней в кругу таких же Кошельковых: «Да ладно, чего трясетесь… Сдадим элементарно. Бабам сдавать – как два пальца об асфальт. Тем более – красивым. Они же дуры все». Ручонки тянул, жемчужное месторождение!..
Вот это было самое гадкое – ручонки. Ручищи. Лапы. Грабли. Щупальца их поганые. Все норовили дотянуться до нее своими погаными щупальцами. Иногда и дотягивались, если она не успевала серьезно посмотреть идиоту в глаза. В его свинячьи зенки. В его пластмассовые пуговицы. В пластмассовых пуговицах всегда светилась одна, но пламенная страсть: «Мое!» И поганые щупальца протягивались к ней жадно и уверенно, как будто имели на это право. Ее мнение на этот счет никого не интересовало. Как будто она какая-нибудь бесхозная вещь, кто первый схватил – тот и хозяин. От ее серьезного взгляда идиоты хоть ненадолго замирали, в пластмассовых пуговицах разливалось мутное недоумение: «Чего это такое? Не вещь? Как же так? А я почти дотянулся…»
Собственная красота Веру не защищала.
Ее защищала красота Петрова. Когда он вот так шел рядом, положив свою тяжелую спокойную руку на ее плечи, Вера могла себе позволить с любопытством поглядывать по сторонам. Никто не свистел и не хватался за сердце. Не говоря уж о щупальцах. Смотрели, конечно, не меньше, но в пластмассовых пуговицах читалось тоскливое понимание: «Не, не мое… Куда уж нам…»
Петров наивно считал, что идиотов отпугивают его метр восемьдесят семь и вызывающие мускулы. Мускулами он гордился. Смешной. На их пути попадались и двухметровые амбалы с мускулами, как астраханские арбузы. И уважительно уступали дорогу. И задумчиво смотрели вслед. Вера знала – не только на нее смотрели, и на Петрова тоже. На Петрова даже больше. Красота Петрова была действительно страшной силой. Тайка считала, что ее Петров «так, ничего себе, главное – здоровый и не пьет». Петров не знал, красивая его девяностокилограммовая Тайка или некрасивая. Он об этом не задумывался. Он ее просто любил. И двух своих круглых – копии Тайки – пацанов любил. Вот их он считал красивыми. Вообще-то они и были красивыми. И здоровыми. Еще бы, при такой-то наследственности… Может быть, и у Веры дети получились бы не хуже.
Она прислушалась к ощущениям от руки Петрова на своих плечах. Теплая рука, даже горячая. Ну да, жарко сегодня, вон какое солнце. Но никакого тепла от горячей руки Петрова в ее плечах не возникало. То есть тепло было, но не от руки, а само по себе, от погоды. И никакого ощущения ожога, хоть и горячая рука. Вера пошевелила плечами, Петров передвинул руку и понимающе сказал:
– Потерпи, сейчас поедем.
Тетка с укропом засмотрелась на них, с завистью сказала:
– Вот ведь дети какие бывают… И красивые, и дружные.
– Где? – удивилась Вера и даже оглянулась.
– Да я о вас, – с задумчивой полуулыбкой объяснила тетка. – Хорошо, когда брат с сестрой дружные. Мои лаются и лаются, все чего-то не поделят… А вы вон какие, смотреть радостно. Вот матери счастье-то…
– Точно, – подтвердил Петров. – Счастье. Особенно от нее. Сестренка у меня – просто ангел. И умница, и рукодельница, а главное – скромница. Золотой характер. Мухи не обидит. Не покалечит и не утопит. Такая тихая, такая тихая…
Вера незаметно ущипнула его за бок, Петров наклонился, поцеловал ее в висок и, уводя от прилавка, пробурчал над ухом:
– Такая тихая, такая тихая… Прямо как тихий омут.
…Петров лез в машину, и это выглядело так же нелепо, как если бы цыпленок лез в скорлупу, из которой недавно вылупился. Скорлупа качалась и потрескивала.
– Вот в джипе тебе удобно было бы, – ни с того ни с сего сказала Вера. – Надо бы тебе джип купить.
– Купи, – согласился Петров. – Джип, самосвал и самолет. И ракету земля-земля.
– Отпускные получу – куплю, – пообещала Вера. – Если что-нибудь от ремонта останется. Дом бабушкин совсем плохой. Мастеров я уже нашла. Чужие. Придется там весь отпуск проторчать.
– Много они наремонтируют, если ты рядом торчать будешь…
– Да бабы мастера-то. Ничего, наремонтируют…
– Ну, смотри… Звони, если что.
Они лениво обменивались какими-то необязательными репликами, а Вера все время думала о своем. Наверное, и Петров о своем думал. Скорее всего – о Тайке и детях. И о том, что он сегодня принесет им в желтом пакете с черной надписью BAZAR и с красной – RYNOK. А Вера думала о том, что ей сегодня никто ничего не принесет. И завтра тоже. И вообще, похоже, никогда. А думают о ней только всякие идиоты. А что могут думать всякие идиоты? Всякий идиотизм, что же еще.
Например, Мириам думала, что Вера попала на кафедру по протекции какого-нибудь крутого козла, с которым спит. Да сто процентов! И на других мужиков не смотрит именно потому, что козел сильно крутой, за левые взгляды и пришить может. Или просто позвонит кому надо – и выкинут Веру с работы за несоответствие. И куда она пойдет? Ведь дура набитая…
А полу-Дюжин думал, что Вера лесбиянка. Да сто процентов! А то чего бы ей на мужиков не смотреть? На других – ладно, это еще можно понять. Но ведь и на него, такого неотразимого, – никакой нормальной реакции. На природу приглашал – как будто не понимает, к ней в гости напрашивался – как будто не слышит. Дура набитая. И на экзаменах режет только парней. Девчонки у нее всегда сдают с первого раза. Даже самые красивые. Это нормально?
Всякие Кошельковы смотрели на нее пластмассовыми пуговицами и думали: «Мое!» На лекциях она замечала эти взгляды и запоминала эти морды. И на экзаменах с треском проваливала всяких Кошельковых, а потом Петров беседовал с их мамами. С их папами, которые, случалось, тоже приходили качать права, Вера беседовала сама. Иногда после этих бесед родители забирали своих идиотов с филфака и переводили в институт культуры. Они не знали, что психологию там преподает тоже Вера. И тоже считается дурой набитой. Да сто процентов! Красавицы все дуры, общеизвестный факт.
«А не родись красивой…»
Она и не рождалась красивой, Петров просто не знает, о чем говорит. Она родилась такой страшненькой, что мама плакала, а врачи в роддоме болезненно морщились и отводили глаза. Большая лысая голова с крошечными прижатыми к черепу ушками, вместо носа – едва различимый пупырышек с двумя дырочками, рот – как утиный клюв, сдавленный с двух сторон круглыми щеками… Но ужаснее всего были глаза. Слишком большие, слишком широко расставленные и слишком раскосые. Тогда как раз была мода на всяких пришельцев из летающих тарелок, с пришельцами то и дело кто-нибудь контактировал, а потом подробно описывал журналистам их внешность. А потом в газетах, в журналах и даже на телевидении появлялись пришельческие портреты. Вернее, фотороботы, составленные со слов контактеров. Сейчас Вера была уверена, что ни с какими пришельцами контактеры не контактировали, а просто случайно видели ее, когда мама с ней гуляла, после чего в голове у контактеров что-то переклинивало, и они бежали рассказывать журналистам всякие ужасы. А мама, когда видела в средствах массовой информации дочкины портреты, да еще и в зеленых тонах, очень переживала. Папа тоже переживал, хотя, кажется, и не очень. Одна бабушка не переживала, а, напротив, была очень довольна.
– В меня, – гордо сказала бабушка, впервые увидев принесенного домой новорожденного пришельца в розовом одеяле. – Вылитая я в молодости… то есть в детстве. Красавицей будет.
Бабушка всю жизнь думала про себя, что необыкновенная красавица. Впрочем, и другие про нее так же думали. Вера считала, что бабушка – обыкновенная красавица. Во всяком случае, ЧП на дорогах – то есть эти, ДТП – из-за нее случались сравнительно редко. Со временем – то есть с возрастом – даже реже, чем из-за гололеда. И к тому же бабушка вовремя свою красоту взяла под контроль и поставила на службу собственным интересам. А когда красота начинала выходить из-под контроля, бабушка безжалостно ставила ее на место. Иногда даже губы красила и химическую завивку делала. Или замуж выходила. Тогда красота какое-то время не выходила за рамки, соответствующие образу замужней женщины, вела себя смирно и в глаза всем подряд особо не бросалась. А если все-таки бросалась, очередной муж очень обижался, за это бабушка с ним быстренько разводилась, вздыхала с облегчением, говорила: «Да чтобы еще когда-нибудь?!» – и вскоре выходила за следующего. Бабушка выходила замуж шесть раз. Последний раз – в шестьдесят четыре года. Шестому мужу было пятьдесят лет. Когда через пару лет семейной жизни бабушка намекнула мужу, что пора бы и разводиться, муж пошел и утопился. Впрочем, может быть, и не нарочно утопился. Может быть, нечаянно утонул, потому что плавать почти не умел, а купаться любил и лез всегда не куда-нибудь, а в Тихий Омут. А бабушка после этого еще десять лет прожила и замуж уже категорически не выходила, потому что от выходки последнего мужа у нее осталось неприятное впечатление.
Вера бабушку любила. Она проводила у бабушки в Становом каждое лето, а однажды прожила целый год, весь девятый класс проучилась в Становской школе. Это когда родители разбежались в разные стороны: мама – в сторону дяди Паши, папа – в сторону тети Лиды. Дядя Паша был намного глупее мамы, можно сказать, совсем дурак. А тетя Лида была заметно умнее папы, хотя и делала вид, что такая дурочка, такая дурочка… Вере это не понравилось, и она уехала к бабушке.
И как раз тогда, в Становом, в самом конце девятого класса, вдруг выяснилось, что бабушка была права: Вера – красавица. До этого она все время была пришельцем, и уже привыкла к этому, и уже ничего другого не ожидала, а тут – нате вам…
– О, вылупилась, наконец, – как-то утром сказала бабушка. – Да и вылупилась-то какая! Ай-я-яй… Меня переплюнешь. Пора принимать меры.
Меры были приняты в тот же день. Сначала единственная становская парикмахерша Александра Степановна, сильно пьющая по причине хронического одиночества и по той же причине ненавидевшая всех представительниц женского пола, тупыми ножницами обкромсала Верины волосы так, что в двух местах даже кожа головы просвечивала, потом бабушка купила Вере джинсы фасона «сурок в кальсонах» – точно такие же, какие носили все становские девчонки, – розовую кофточку, бесформенную, но поперек всю перетянутую резинками, и клеенчатые туфли со скошенными каблуками и медными нашлепками на пятках. Дома Вера все это на себя напялила, посмотрелась в зеркало и пожала плечами: все равно тот же пришелец, только замаскированный под Нинку Сопаткину. Бабушка постояла рядом, посмотрела в то же зеркало, с сомнением пожевала губами, сбегала к соседке Калерии Валерьяновне, которая последние пятьдесят лет вела позиционную войну со своей давней соперницей при помощи психических атак в виде запредельно интенсивного макияжа, и вернулась с полупустой коробочкой ярко-голубых теней для век и перламутровой помадой несовместимого с жизнью цвета. Вера намазалась, как для участия в позиционной войне, критически поразглядывала свое отражение, но опять увидела того же пришельца, только сильно испачканного.
– Да, – подтвердила бабушка ее сомнения. – Не очень-то помогает. Иди умойся, черт с ними, может, не сразу заметят. А хоть и сразу… Умойся, здоровье дороже.
Заметили не сразу. Наверное, не меньше недели прошло, прежде чем заметили. И то не все, а сначала Валентина Васильевна, математичка. После какой-то контрольной она устроила разбор полетов, на котором обещала Нинке Сопаткиной оставить ту на второй год – это в девятом-то классе, кто ж поверит? Наглая Нинка и не верила, равнодушно пререкалась с Валентиной Васильевной и одновременно стреляла накрашенными глазками в сторону Генки Потапова, тоже двоечника и раздолбая, но личности харизматичной. В его сторону все девчонки глазками стреляли, отчего он невыносимо зазнался и с прошлого года стал даже носить перстень-печатку с черепом и костями. Идиот.
– Нина! – нервничала Валентина Васильевна. – Мама у тебя бухгалтер, а ты дважды два до сих пор не выучила! Как ты собираешься жить? Я не понимаю! Кем ты собираешься работать?
– Артисткой, – заявила наглая Нинка и опять стрельнула глазками в Генку. – Мне дважды два без надобности, я в кино сыматься буду.
– «Сыматься»! – ужаснулась Валентина Васильевна. – Нет, ну вы подумайте! Уж кому и сниматься в кино, так это Вере Отаевой, а девочка, между прочим, уверенно идет на золотую медаль!
– Ага, Отаевой самое место в кино, – занервничала наконец и Нинка. – В триллере…
И оглянулась на Веру.
Вера с сочувствием и жалостью смотрела ей в глаза. Вообще-то ей сейчас больше всего хотелось треснуть Нинку по башке учебником математики, но она уже тогда серьезно интересовалась психологией, накануне как раз прочла одну хорошую книжечку и кое-что из прочитанного запомнила. Нинка наткнулась на ее взгляд, заткнулась на полуслове, отвесила нижнюю губу и пошла красными пятнами.
– Нашествие марсиан, – харизматичным голосом сказал идиот Генка. – Мумия возвращается.
И тоже оглянулся на Веру.
Вера и ему в глаза посмотрела – очень серьезно и даже печально. И Генка тоже заткнулся, дернул кадыком и побледнел.
Вот с этого дня и начались неприятности, которые не шли ни в какое сравнение с прежними. Пока Вера была пришельцем, все постепенно привыкли, что так и надо, относились с пониманием и особо не обижали. Вера всегда была будто немножко в стороне, со всеми общалась ровно, в разборках ни на чью сторону не вставала, пятерки свои никому в нос не совала, жила себе тихо и незаметно. Чего ее обижать, такую тихую? Никакого интереса.
И вдруг – красавица! Здрасте вам… Девки тут же стали врагами, все до одной, не только Нинка Сопаткина. Дня не проходило, чтобы одноклассницы хотя бы по одной гадости ей не сказали. Гадости были так себе, вполне средненькие были гадости, и сейчас Вера иногда вспоминала их даже с улыбкой, а тогда очень страдала.
– Ну что такое опять? – спрашивала бабушка, всегда все замечавшая, хоть Вера и пыталась свои страдания скрывать, считая их мелкими и стыдными.
Но от бабушки разве что-нибудь скроешь?
– Светка говорит, что у меня не ноги, а ходули клоунские.
– Ах ты, боже ты мой! – огорчалась бабушка. – Бедная девочка! Ой, какая бедная девочка! Ой, несчастный ребенок…
Вера уже готовилась заплакать, но тут бабушка договаривала:
– Мне ее так жалко, так жалко! А тебе разве не жалко? У Светочки врожденный вывих бедра, ты разве не замечала, как она ходит? Ну да, со стороны, может, и не очень заметно, да и привыкли все… Но она-то знает, она-то все время об этом думает… Как же ей на чужие здоровые ноги смотреть? Ах, бедная девочка!
Постепенно Вера привыкла жалеть девочек. Некрасивых – потому, что она знала, каково им живется. Красивых – потому, что она знала, каково живется и им. С некоторыми девочками даже подружилась… Ну, не то чтобы подружилась, а так… Как бы заключила договор о ненападении. Она не любила войны, даже позиционные. На самом деле очень тихая была.
А мальчиков жалеть она не привыкла. Не за что их было жалеть, идиотов. Ручонки свои поганые протягивают. Причем с таким видом, как будто имеют право. Гадость какая! И ведь ни одному объяснить невозможно, что никаких прав он не имеет. Не верят.
– А ты не объясняй, – посоветовала бабушка. – Ты чуть чего – и сразу в пятак. Ты девка здоровая, с любым справишься. Но сильно не зверствуй, просто разок в пятак – и удирай.
Вера действительно была девкой здоровой, мама ее с пяти лет в бассейн водила, а с десяти – еще и в секцию легкой атлетики, а с двенадцати – еще и на спортивные танцы. Мама надеялась, что в спорте Вера найдет себе друзей. В спорте все дружат, это общеизвестный факт. Особых друзей Вера и в спорте не нашла, но выросла очень здоровой. Очень. Плавала, как щука, бегала, как заяц, прыгала, как кенгуру. Килограммовыми гантелями жонглировала – просто так, для развлечения. А на фигуре это почему-то не сказалось. Когда раздетая была – еще ничего, шкурка гладенькая, а под гладенькой шкуркой мышцы гуляют. Вроде бы и не очень заметно, а чистое железо. У Веры лет с двенадцати уже не было ни одного мягкого места. Самое мягкое место – тверже дверного косяка. Мама ее никогда не шлепала. Какой смысл дверной косяк шлепать? Косяк даже и не заметит, а рука потом неделю ноет… А в одетом виде Вера была вылитым картофельным ростком – длинная, тонкая, бесцветная, да еще глаза эти стрекозиные… В общем, пришелец и пришелец. Какая сила может быть у пришельцев? У них вся сила – в мозгах, общеизвестный факт. Своими пятерками Вера этот факт подтверждала.
Когда она только-только пришла в Становскую школу, физрук перед своим уроком хмуро оглядел ее и брезгливо поинтересовался:
– Освобождена, конечно?
– От чего освобождена? – не поняла Вера.
– От физкультуры, конечно…
– Почему? Я спортом занимаюсь.
– Ага, – саркастически хрюкнул физрук. – Шахматами, конечно?
– И шахматами тоже. Немножко.
После первого же урока, на котором Вера слегка побегала, чуть-чуть попрыгала, повертелась на брусьях и покидала из руки в руку полупудовую гирю, физрук впал в сумасшедший энтузиазм, на педсовете кричал о необходимости создания спортивных секций и даже поперся в районную администрацию с требованием немедленно построить в Становом спортивный комплекс, а лучше – сразу базу олимпийского резерва. Его никто не слушал, потому что Становое – поселок неперспективный, все промышленные объекты, которые там были, давно приватизировались, потом обанкротились, потом позакрывались, народ из Станового разъезжался кто куда, а в первый класс Становской средней школы набрали в этом году восемь детей. Двое из восьми были немножко олигофренами, но что ж теперь… Спецшколы-то в Становом не было. В Становом практически ничего не было, ну так и базу олимпийского резерва незачем затевать.
Физрук отсутствие энтузиазма у других принял как личное оскорбление, но из собственного сумасшедшего энтузиазма не выпал и решил, раз все такие сволочи, самостоятельно и без всякой базы готовить Веру в олимпийские чемпионки. Стать ее единственным тренером по всем видам спорта. Вера согласилась – тренером физрук оказался неплохим, хоть и нервным немножко. И даже не сказать, что немножко. В общем, совершенно сумасшедшим. Вера бегала, прыгала, растягивала эспандер, приседала по сто раз с гантелями в вытянутых в стороны руках, зимой часами гоняла на лыжах в единственном в Становом парке, а в начале лета физрук специально для нее обустроил Тихий Омут, ступеньки в крутом береге до самой воды прорубил, из расколотой молнией березы, торчащей на самом краю обрыва без всякой пользы, сделал вышку для прыжков, у берега намертво пришвартовал крепкий удобный плотик. Хотел мостки сделать, но мостки на сваях должны держаться, а сваи забивать было некуда – до дна-то Тихого Омута не достать. В общем, можно сказать, что за время своего пребывания в Становом Вера физической формы не потеряла. То есть до такой степени не потеряла, что ее сумасшедший тренер-физрук стал смотреть на нее все более и более недоверчиво и опять бегать в администрацию и орать на педсоветах. Вера удивлялась: как он может не понимать очевидных вещей? Какой еще олимпийский резерв? Она во всем Становом одна такая, может быть, и не только в Становом, у нее врожденные способности, да еще и развиваемые с самого детства. Все ее одноклассники были нормальными подростками, более или менее здоровыми, с более или менее заметной физической подготовкой. Братья Субботины даже входили в юношескую сборную области по многоборью. И всё. Вера могла бы дюжину таких Субботиных со всем их многоборьем – одной левой. «В пятак»! Бабушка просто не знает, что советует. Вера свою силу знала, поэтому обращалась с ней осторожно. Как раз тогда она и начала совершенствовать свой серьезный взгляд. В большинстве случаев помогало. А когда идиот оказывался уж совсем клиническим, Вера испуганно говорила: «Ой!» – и отмахивалась, совсем как Нинка Сопаткина. Только Нинка, отмахиваясь, никогда не задевала их поганые щупальца. А Вера задевала – так, чуть-чуть, чтобы никакой инвалидности, а просто синяк недели на две.
Постепенно и пацаны – почти все и из ее класса, и из десятого, – стали ее врагами. И гадости они говорили о ней гораздо более гадкие, чем могли придумывать девки. Некоторые из этих гадостей Вере до сих пор обидно было вспоминать. Нет, пацанов жалеть было совершенно не за что.
А Генка руки почему-то не протягивал. Нет, правда, – даже странно. Уж от него-то, казалось, можно было ожидать. Уж он-то давно научился протягивать свои щупальца ко всему, что в поле зрения мелькнет. Ему ничего не стоило любую девчонку по заднице шлепнуть, например, или за бедро ущипнуть, или за талию облапить. А девчонки при этом не взвизгивали, руками не размахивали, не хихикали и не говорили: «Отстань, дурак», – а замирали и страшно смущались – все, даже самые наглые. Даже Нинка Сопаткина.
Веру Генка ни разу не шлепнул, не ущипнул и не лапнул. И вообще близко не подходил. А издали смотрел все время. Когда думал, что не видит – кусал губы, хмурился, желваками играл. Когда встречался с ней взглядом – дергал кадыком и сильно бледнел. И глаза у него были не как пластмассовые пуговицы, а как у раненого волка, которого объездчики привезли однажды зимой в Становое. Не стали добивать, а связали и привезли к ветеринару: может, вылечит. А то один знакомый собачник давно молодого волка ищет, идея у него – овчарку и волка скрестить, посмотреть, какие щенки получатся. На волка посмотреть сбежалось полпоселка, и Вера пришла. Волк лежал связанный на столе, ветеринар готовил инструменты и с сомнением посматривал на его разодранный бок, а в дверях толпились любопытные, говорили: «Ух, ты!» – и уходили, новые заглядывали и тоже говорили: «Ух, ты!» – и тоже сразу уходили. И Вера заглянула, увидела, как жестоко затянуты ремнями сильные сухие лапы, как опасно разодран черно-серый мохнатый бок, и пожалела волка: как же ему сейчас больно, страшно и тоскливо… Волк, будто почуял ее взгляд, открыл глаза и посмотрел на Веру. И она совершенно ясно поняла: да, ему больно, страшно и тоскливо – и он отключил все это, чтобы не сойти с ума, чтобы это не мешало ему выжить… Но он был связан, связан, связан, это невозможно было отключить, это было самое страшное, самое непонятное и самое несправедливое, что только может случиться с живым существом, и он не может ничего с этим сделать, даже рану зализать не может, даже уползти не может – куда-нибудь в темноту, в лес, в снег, и умереть там свободным.
– Его надо развязать, – сказала Вера.
– Зверя-то? – удивился ветеринар. – Бог с тобой, девочка, зверя развязывать нельзя. Это зверь, девочка, хищник. У хищника, девочка, всегда одна мечта: кого бы сожрать.
Вере не понравились эти слова. Она была на стороне волка.
Генка смотрел на нее глазами того раненого волка. Как будто он был тоже связан, связан, связан, и это было самое страшное, самое непонятное, самое несправедливое, что только может случиться с живым существом.
Начались каникулы, одноклассники почти все разъехались кто куда, взрослые мужики тоже разъехались – на заработки, в город, особняки бандитам строить. Не разъехались только совсем уж конченые алкаши, с утра до вечера толкли пыль возле единственного в Становом магазина или смирно лежали под заборами. У алкашей жизнь была до краев наполнена своими проблемами, и Веру они не замечали. А если вдруг замечали – то крестились, плевали через левое плечо или говорили что-нибудь вроде: «Все, завязывать надо…» В общем, жить не мешали.
Немножко мешал жить физрук. Летом он ее в покое не оставил, гонял каждый день даже больше, чем в школе, не выпускал из рук секундомер, испуганно таращился на него, хватался за голову, говорил: «Да чтоб же вам всем!..» – и по четвергам ездил в районную администрацию, по четвергам там были приемные дни, так что Вера по четвергам сачковала. Так, поплавает немножко – и за книжки. Единственная в Становом библиотека была замечательная, там и Фрейд был, и Адлер, и Фромм, и кое-что из современных американцев… Однажды она даже Ломброзо нашла в библиотечной кладовке, читала потом полночи и радовалась: если верить теории Ломброзо, физрука надо без суда и следствия прямо завтра отправить на каторжные работы. А лучше – вчера… А лучше – в первый же день каникул. Вот и чего он не уехал куда-нибудь? Ведь почти все уехали…
Генка не уехал. Матери на огороде помогал. В Становом почти все жили только со своих огородов, работать-то негде было. Правда, Генкина мать еще хорошо устроилась – нянечкой в единственном в Становом детском саду. Деньги, конечно, никакие, но там хоть поесть можно было, да и домой чего-нибудь принести. Так, по мелочи – хлеб оставшийся, миску макарон с мясной подливкой, иногда даже горсточку сахарного песку, аккуратно сметенного с кухонного стола в пакетик. Детям-то просыпанное не дашь, а домой – ничего, можно. Генкина мать была человеком совестливым, никогда лишнего не хапала, забирала только то, что вовсе на выброс оставалось. Да она и того бы не забирала, но ведь дома четыре вечно голодных рта – у нее кроме сына еще три дочери было, маленькие, первый-второй-третий классы. Повезло еще, что муж три года назад от пьянки помер, все на один рот меньше. Живность кое-какую держали, как же без этого… Кур, поросенка, двух коз. Но и яйца, и козье молоко, и свинина – это ведь почти все на базар шло. Девок обувать-одевать надо, Генке тоже то и дело что-то новое, дом каких расходов требует… а учебники нынче почем? И каждый год – все что-то другое придумывают, совсем совести у людей нет… так что питались главным образом с огорода. Огород – большой, пятьдесят соток. Это в центре Становое считалось поселком городского типа, на главной улице даже четыре пятиэтажки было. А на окраинах – хорошо, земля немереная, на окраинах почти у всех огороды по пятьдесят соток. А такую работу в одни руки – дело немыслимое. Вот Генка матери и помогал на огороде. Генка мать жалел, и сестренок тоже. Вот интересно: раздолбай – а о своих заботился. С утра до ночи на этом огороде пахал. Совсем запахался, даже, кажется, похудел. Или это из-за загара казалось. Совсем черный стал.
Вера каждый день бегала вдоль речки за окраиной поселка, от Тихого Омута до старого парка и обратно, мимо всех этих окраинных огородов, на каждом из которых бессменно торчала согбенная спина, обтянутая выгоревшими ситцевыми узорами. Одна Генкина спина была без ситцевых узоров, просто голая спина, совершенно обыкновенная, только очень загорелая, а так – и смотреть, в общем-то, особо не на что. Вера и не смотрела.
А Генка на нее смотрел. Волчьими глазами. Издали. Она делала вид, что не замечает, но замечала все. Даже когда он прятался в кустах на другом берегу Тихого Омута и не шевелился все полтора часа, пока она без остановки плавала от берега до берега или прыгала в воду с расколотой молнией березы. Генка даже по четвергам не шевелился, когда она плавала без присмотра физрука, по Ломброзо – потенциального преступника, может быть, даже убийцы. По четвергам физрук присматривал потенциальную жертву в районной администрации.
Один четверг, второй четверг, третий четверг… Физрук в четвертый раз уехал искать жертву, Вера переплыла Тихий Омут и не без труда выбралась из воды – дна и здесь не было, и пришвартованного к берегу плотика не было, так что приходилось выбираться на руках, цепляясь за ненадежные ветки плакучих ив. Зато берег на этой стороне был пологий, весь заросший чистой низкой травой, мелким белым клевером и аптечной ромашкой. Вера села на чистую траву, подставила лицо солнцу и, не оглядываясь, сказала:
– Вылезай, я тебя вижу.
Тишина, потом хрустнула ветка, потом опять тишина, а потом на ее плечи опустились тяжелые, горячие, шершавые ладони. Вера даже не вздрогнула, хотя этого не ожидала. Она ожидала, что Генка или по-тихому смоется, или выломится из кустов с треском, с дурацкими шуточками или не менее дурацким недовольством: кто это, мол, тут шумит? Я, мол, рыбу ловлю, а тут шумит кто-то! Но тяжелые, горячие, шершавые ладони опустились на ее плечи, и она даже не вздрогнула, как будто ожидала именно этого.
– Аэлита, – тихо сказал Генка. Голос был не очень похож на его.
Вера оглянулась – Генка стоял за ее спиной на коленях, довольно далеко, примерно в шаге, во всяком случае, чтобы положить ладони ей на плечи, ему пришлось вытянуть перед собой руки во всю длину, а они у него длинные были. Стоял на коленях, смотрел на нее глазами связанного волка и говорил не своим голосом:
– Аэлита…
– Ты читал? – удивилась Вера.
Вообще-то, не очень удивилась. И даже совсем не удивилась. И даже ожидала чего-нибудь такого. То есть не чего-нибудь, а именно такого: «Аэлита». В конце концов, она столько лет была пришельцем, что имела право наконец дождаться соответствующего обращения.
– Библиотекарша сказала, что ты Аэлита, – говорил Генка глуховатым голосом без интонаций. Как сквозь сон бормотал. – Я говорю: кто это?.. Она говорит: почитай… Я почитал… Ты на Аэлиту похожа… Ни на кого не похожа… Не как все… Совсем другая…
Он бормотал, а сам подползал на коленях все ближе, не снимая ладоней с ее плеч. Вера хотела сказать, что трава молодая, жирная, зачем же он по ней на коленях, ведь зелень потом ни за что не отстираешь… Но ничего сказать не успела, Генка подполз на коленях вплотную, прижался своей горячей грудью к ее мокрой спине, лицом – к ее затылку, и повел ладонями вдоль ее рук, от плечей к запястьям, обхватил их, оторвал от травы, завел за голову и положил себе на шею, а потом осторожно обнял ее за талию, и ладони его становились, кажется, все горячее и горячее. И кожа Веры под его ладонями становилась горячей, просто раскалялась, как утюг, и даже странно было, что мокрый купальник не шипит и не высыхает на глазах, как от раскаленного утюга. Сердце билось где-то в горле, и Вера испуганно задержала дыхание: что это? Никогда у нее сердце в горле не билось, даже после марафона с препятствиями… Генка осторожно уложил ее на траву, вытянулся на боку рядом и обнял ее, она тоже повернулась на бок лицом к нему, и тоже обняла его. Он смотрел ей в глаза волчьими глазами и медленно гладил ее спину, и плечи, и шею, и руки, и бедра, и Вера пожалела, что его грудь прижимается к ее груди – плотно, без зазора, – а то бы он и ее грудь, наверное, погладил. Ей нравилось, как он к ней прикасается. Он не хватал ее, не тискал и не лапал, как других… Мелькнувшая мысль о других ее даже не обидела. Он так прикасался к ней, так гладил, так… ласкал!.. Да, вот что это было – ласка. И от этой ласки в ней возникала благодарность, огромная, удивленная и немножко недоверчивая благодарность, будто она вдруг получила подарок, о котором давно мечтала, а потом и мечтать перестала, а потом и вовсе забыла, что мечтала о подарке, а подарок – вот он, и не очень верится, что он – ей…
– Аэлита, – бормотал Генка и осторожно гладил ее горячими ладонями. – Аэли-и-ита… Ты не-е-ежная…
– И ты не-е-ежный, – благодарно говорила Вера, глядя в его волчьи глаза, и гладила его спину, и плечи, и руки, и шею, и шершавые взрослые щеки, и подбородок.
Генка зажмуривался, скрипел зубами, и под шершавыми щеками ходили твердые желваки. Вера вспоминала связанного волка, и ей становилось почему-то жалко Генку.
Так, обнявшись и осторожно гладя друг друга, они почти молча пролежали на пологом берегу Тихого Омута часа два, наверное. Пока со стороны недалеких отсюда окраинных огородов не раздался пронзительный крик, жалобный и раздраженный одновременно:
– Ге-е-ен! Где ты-ы-ы?! Иди домо-о-ой!
Вера дернулась, выскользнула из Генкиных рук, села и испуганно завертела головой – ей вдруг представилось, что кто-то мог все это время видеть их.
– Мать, – усталым голосом сказал Генка. – Надо идти. Ей одной трудно и с сеструхами, и с хозяйством… Идти надо.
А сам подтянул колени к животу, подложил ладони под щеку и закрыл глаза, будто спать собрался.
– Ну так ты иди, – тревожно сказала Вера. – Что ты калачиком свернулся? На ночевку, что ли, устраиваешься? Иди, зовут же!
– Ге-е-ен! – опять понеслось от огородов. – Где ты-ы-ы?!
– Сейчас, – бормотнул Генка, не открывая глаз. – Вер, уходи… Ты первая, а то я не уйду.
Вера немножко расстроилась, что Генка не назвал ее Аэлитой, но тут же решила, что это потому, что он сам расстроился – из-за того, что приходится расставаться. Это ее утешило.
– Приходи завтра, – сказала она как можно ласковее. – Вечером, ладно? После тренировки. Палыч уйдет – и я на этот берег переплыву. Хочешь?
– Да, – почему-то сердито сказал Генка, открыл глаза и уставился на нее волчьим взглядом.
– Я обязательно приду, – радостно пообещала она, с разбега прыгнула в воду, за несколько секунд переплыла на другой берег, выбралась на плотик и оглянулась.
Генки уже не было. Ну и ничего. Его мама звала. Он ответственный. Он любит свою маму, и сестренок тоже любит. И Веру любит. Сказал, что она не такая, как все. Аэлита.
– Ты где это допоздна пропадаешь? – насыпалась на нее бабушка. – О, мокрая! Опять без Палыча в Тихом Омуте бултыхалась? Сколько раз я тебе говорила: не ходи туда одна!
– Я не одна была, – весело откликнулась Вера. – Я с Генкой.
– Вот уж успокоила! – рассердилась бабушка. – С Генкой! Сколько раз я тебе говорила… Ты помнишь, что я тебе говорила?





