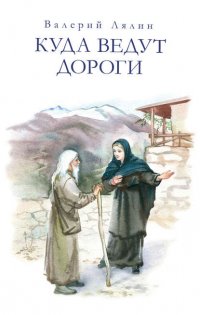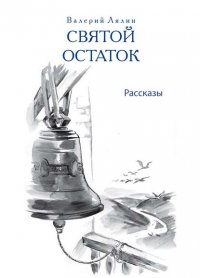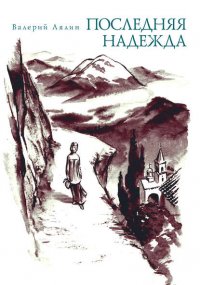
Читать онлайн Последняя надежда (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Валерий Лялин
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви
ИС 11-106-0634
Изограф
Инвалидам-колясочникам посвящаю
В полутемной избе, освещаемой мигающим огнем лучины, за столом, сидели сродники Марьи Журавлевой. Муж ее был забран еще на Успенье в солдаты и служил на далеком и опасном Кавказе, где участвовал в усмирении бунтующих Дагестана и Чечни. Сама Марья, взятая в село Утевки из богатой крестьянской семьи, лежала на чистой хрустящей соломе, постланной на полу в хорошо протопленной баньке, и маялась третьими родами. Банька освещалась тремя масляными коптилками, а роды принимала повивальная бабка Авдотьюшка, да еще тут была замужняя золовка Дашка, которая грела воду и раскладывала на лавке чистые тряпки и пеленки. Хотя роды были и третьи, но подвигались туго, и бабка уже применяла и мыльце, и выманивала ребеночка на сахарок, и даже послала девку к батюшке Василию открыть в храме Царские Врата и сотворить молебен с водосвятием преподобной Мелании Римляныне, которая благопоспешествует в родах. То ли мыльце, то ли отверзание
Царских Врат, но что-то помогло, и банька вскоре огласилась пронзительным криком младенца. Но вслед за этим криком раздался отчаянный вопль Авдотьюшки. Золовка схватила коптилку, поднесла ее ближе к новорожденному и тоже завизжала.
Ребенок родился без рук и без ног.
Двери избы распахнулись, и вбежала запыхавшаяся Дашка. Сродники, сидевшие за столом, все повернулись к ней с вопросом:
– Ну что там?
Дашка всплеснула руками и заголосила. Все всполошились.
– Что, Манька померла?!
– Да нет же.
– Ну не вой ты, дура, говори толком, наконец!
– Ребенок народился урод!
– Как так урод?
– А так, ручек нет, ножек нет, одно тулово да голова. Все гладко. Вроде как яйцо.
Все вскочили из-за стола и бросились в баньку смотреть. В избу из церкви пришел отец дьякон за получением требных денег. Узнав такое дело, он раскрыл от удивления рот и стоял так минуты две, крестясь на образа. А потом сам побежал к баньке, подобрав края рясы.
– Пропустите отца дьякона, пропустите, – расталкивая локтями сродников, кричала Дашка.
Дьякон завернул полу рясы, достал черепаховый очешник, степенно надел очки и тщательно оглядел ребенка.
– М-да, – произнес он, – комиссия. Действительно, конечности отсутствуют, даже культяпок нет. Срамной уд в наличии и мужеского пола. Значит, это мальчик. Эфедрой – сиречь задний проход – имеется. Вона, и орет-то во всю мочь, пузцо надувает, губами плямкает, значит, к трапезе приступать желает.
– Отец дьякон, как же это могло случиться? И девка наша Манька здоровая и крепкая как репка. Да и мужик ейный был как жеребец, а дите получилось бракованное? – в недоумении спрашивали Манькины сродники.
– М-да, православные, вопрос этот сложный. Здесь только докторская наука в состоянии на него ответить. Но что касается моего мнения, то я, как церковнослужитель, могу сказать, что здесь сам сатана поработал. Без него, проклитика, здесь дело не обошлось. Видно, Господь усмотрел в этом младенце великого человека. Может быть, он назначен Господом быть генералом, а может быть, даже архиереем. А дьявол по злому умыслу взял да ручки и ножки-то отнял у младенца. Вот тебе и архиерей. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, так простите меня Христа ради. А от требных денег мы отказываемся и в таких скорбных обстоятельствах не берем.
Родительницу с ребенком из баньки привезли в избу и поместили в углу, отгородив его ситцевой занавеской. Сродники толпились около кровати и подавали советы.
– Ты, Манька, тово, титьку ему не давай, – говорил дядя Яким, – он денька два покричит, похрундучит да и окочурится. И тебя развяжет, да и сам в Царствии Небесном будет тебя благодарить. Нет ему места в энтой жизни, такому калечке. Ты вот сама раскинь умом-то: ведь он вечный захребетник – ни рук, ни ног. Один только рот для еды да брюхо. Куда он сгодится такой, разве что цыганам отдать, чтобы на ярмарках за деньги показывали.
Но все же через восемь дней младенца принесли в церковь.
– Крегцается раб Божий Григорий. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь.
– Эк, какой он гладкий, – ворчал батюшка Василий, – не за что ухватиться. Едва не утопил в купели.
Дядя Яким был восприемником. Принимая окрещенного Гришу в сухие пеленки, он ворчал:
– И что это за робенок такой, один только рот.
Батюшка Василий, укоризненно посмотрев на восприемника, сказал:
– Мы, Якимушка, еще не знаем, какой Божий Промысел об этом ребенке. А что касается рта, то этим ртом он может сотворить еще большие дела. Ведь рот служит не только для вкушения ястий, но сказано в Писании: «В начале было Слово». Погоди, погоди, еще не ты, а он тебя будет кормить. У моей матушки об этом ребенке был интересный промыслительный сон.
– Хотя и сон, но ты, батюшка Василий, ты это не тово, не тово толкуешь. Ну как такой калекша будет мне, здоровому мужичище, пропитание предоставлять? Нет, не может быть такой возможности.
– Что человеку невозможно, то Богу возможно, – сказал отец Василий, приступая к ребенку со святым миро.
А сто лет спустя, в 1963 году, в Югославии, сербский историк живописи Здравко Кайманович, проводя учет памятников культуры Сербской Православной Церкви, в селе Пурачин, около Тузлы, обнаружил икону, на оборотной стороне которой имелась надпись по-русски: «Сия икона писана в Самарской губернии, Бузулукского уезда, Утевской волости, того же села, зубами, крестьянином Григорием Журавлевым, безруким и безногим, 1885 года, 2 июля».
Государственный архив СССР дал подтверждение.
Плохо бы пришлось маленькому Грише, если бы не старшие брат и сестра. Особенно сестра. Крестный, дядя Яким, сработал для Гриши особую низкую колясочку, которую привез во двор со словами: «Для моего будущего кормильца». И где бы братик и сестра ни ходили, они везде возили с собой Гришу, который рос смышленым мальчиком и смотрел на мир Божий ясными вдумчивыми глазами. Обучать его грамоте и закону Божию приходил сам отец дьякон. Гриша, сидя на лавке, навалившись грудью на стол и держа в зубах карандаш, старательно выписывал на бумаге буквы: аз, буки, веди, глаголь, добро. Вся деревня его жалела, и все старались для него что-нибудь сделать, чем-то услужить. Дети, обычно безжалостные к юродивым, дурачкам и калекам, никогда не обижали и не дразнили Гришу. Отец Гриши так и не вернулся с Кавказа. Видно, где-то сразила его лихая чеченская пуля. Но нужды в семье не было, потому что мир взял на себя заботу о ней. Распахивал и засевал земельный надел, собирал урожай и помогал общинными деньгами. Помогал и настоятель храма, батюшка Василий, помогал и барин – предводитель уездного дворянства отставной генерал князь Тучков.
Рисовальные способности у Гриши проявились рано. И создавалось впечатление, что через свои страдания он видел многое такое, чего другие не видели. Своим детским умом он проникал в самую суть вещей и событий, и порой его рассуждения удивляли даже стариков. По предложению барина Гришу каждый день возили в колясочке в усадьбу, где с ним занимались учителя, обучавшие генеральских детей. Но особенно притягательной для Гриши была церковь. Село Утевки было обширное, и народу в нем жило много, а вот храм был маленький и тесный и всегда наполненный прихожанами. Гриша постоянно просился в храм Божий, и терпеливые братик и сестра, не споря, всегда отвозили его ко всенощной, к воскресной обедне, а также на все праздники. Проталкиваясь с коляской через народ, они подвозили Гришу к каждой иконе, поднимали его, и он целовал образ и широко открытыми глазами всматривался в него, что-то шепча, улыбаясь, кивая головой Божией Матери, и часто по щекам его катились слезы. Его с коляской ставили на клирос позади большой иконы Димитрия Солунского, и он всю службу по слуху подпевал хору чистым звонким альтом. Барин, князь Тучков, не оставлял Гришу своей милостью и, с согласия матери, отправил его учиться в Самарскую гимназию. Вместе с ним поехали его брат и сестра. Перед тем князь был у самарского губернатора и все устроил.
Городской попечительский совет снял для всех троих квартиру неподалеку от гимназии, внес плату за обучение, а барин оставил деньги на прожитье и на извозчика.
Брат отвозил Гришу в гимназию и оставался с ним в классе, а сестра хозяйничала дома, ходила на рынок, готовила нехитрую снедь. На удивление всем, Гриша учился хорошо. Одноклассники вначале дичились его и сторонились, как губернаторского протеже и страшного калеку, но со временем привыкли, присмотрелись и даже полюбили его за веселый нрав, недюжинный ум и способности, но особенно за народные песни, которые он пел сильным красивым голосом.
– Надо же, никогда не унывает человек! – говорили они, – Не то что мы – зануды и кисляи.
Кроме гимназии Гришу возили в городской кафедральный собор на богослужения и еще в иконописную мастерскую Алексея Ивановича Сексяева. Когда Гриша оказывался в мастерской, он был просто сам не свой. Вдыхая запах олифы, скипидара и лаков, он испытывал радостное праздничное чувство. Как-то раз он показал хозяину мастерской свои рисунки на бумаге карандашом и акварелью. Рисунки пошли по рукам, мастера покачивали головами и, одобрительно пощелкивая языками, похлопывали Гришу по спине. Вскоре они, не ленясь, стали учить его своему хитрому мастерству тонкой иконной живописи, с самого изначала.
– Хотя и обижен он судьбой, но Господь не оставит этого мальца и с нашей помощью сотворит из него мастера, – говорили они.
Хозяин, Алексей Иванович, специально для него поставил отдельный столик у окна, приделал к нему ременную снасть, чтобы пристегивать Гришу к столу, дал ему трехфитильную керосиновую лампу и от потолка на шнурке подвесил стеклянный шар с водой, который отбрасывал на стол от лампы яркий пучок света. А Гришиного брата учили тому, чего не мог делать Гриша: изготовлению деревянных заготовок для икон, грунтовке и наклейке паволоки, накладке левкаса и полировке коровьим зубом, а также наклейке сусального золота и приготовлению специальных красок. Самого же Гришу учили наносить на левкас контуры изображения тонкой стальной иглой – графьей, писать долинное, т. е. весь антураж, кроме лица и рук, а также и сами лики, ладони и персты. Брат давал ему в рот кисть, и он начинал. Трудно это было поначалу, ой как трудно. Доска должна была лежать на столе плашмя, ровно, чтобы краска не стекала вниз. Кисточку по отношению к доске нужно было держать вертикально. Чем лучше это удавалось, тем тоньше выходил рисунок. От слишком близкого расстояния ломило глаза, от напряжения болела шея. После двух-трех часов такой работы наступал спазм челюстных мышц, так что у Гриши не могли вынуть изо рта кисть. Ему удавалось раскрыть рот только после того, как на скулы накладывали мокрые горячие полотенца. Но зато успехи были налицо. Рисунок на иконе выходил твердый, правильный. Иной так рукой не сделает, как Гриша зубами. Молодой мастер, заглядывая на Гришин стол, кричал другим: «Эк, Гришка-подлец, ворона-то с мясом как ловко отработал! Гля, братцы, как живой, право же, к Илье Пророку летит!» В иконных сюжетах Гриша ориентировался на «Лицевой подлинник» – сборник канонических иконных изображений. Начал он с простых икон, где была одна фигура святого, но потом понемногу перешел к более сложным сюжетам и композициям. Хозяин, Алексей Иванович, его поучал:
– Гриша, ты икону пиши с Иисусовой молитвой. Ты человек чистый, в житейских делах не запачканный, вроде как истинный монах. Пиши истово, по-нашему – по-русски. Мы бы хотели так писать, да не получается. Опоганились уже, да и водочкой балуемся, и бабы в нашей жизни как-то путаются. Где уж нам подлинно святой образ написать! У нас не обитель монастырская, где иноки-изографы перед написанием образа постятся, молятся, молчат, а краски растирают со святой водой и кусочком святых мощей. Во как! Святое послушание сполняют. А у нас просто мастерская, с мирскими грешными мастерами. Нам помогает то, что иконы после наших рук в храмах Божиих специальным чином освящают. Тогда образ делается чистый, святой. Ну, а ты – совсем другое дело. У тебя совсем по-другому – благодатно получается. Но только не забывай блюсти канон, не увлекайся. Будет бес тебя искушать, подстрекать добавить какую-нибудь отсебятину, но держись канонического. Потому как каноническое – есть церковное, а церковное – значит соборное, соборное же – всечеловеческое. Не дай тебе Бог допустить в иконе ложь. Ложность в иконописании может нанести непоправимый вред многим христианским душам, а правдивость духовная кому-то поможет, кого-то укрепит.
Шли годы, и многому научился Гриша в мастерской Алексея Сексяева. В двадцать два года закончил он Самарскую гимназию и возвратился в родное село Утевки, где стал писать иконы на заказ. Написанные им образа расходились в народе нарасхват. Мало того, что иконы были хороши и благодатны, но особенно в народе ценили и отмечали то, что это были не обычные иконы, а нерукотворные. Что Сам Дух Святый помогает Григорию-иконописцу, что не может так сработать человек без рук и без ног. Это дело святое, это – подвиг по Христу. Очередь заказчиков составилась даже на годы вперед. Гриша стал хорошо зарабатывать, построил себе просторную мастерскую, подготовил себе еще помощников и даже взял на иждивение своего дядю Якима, который к тому времени овдовел и постарел.
К 1885 году, в царствование благочестивого Государя Императора Александра Александровича, в богатом и хлебном селе Утевки начали строить соборный храм во имя Святыя Живоначальныя Троицы и Гришу пригласили расписывать стены. Для него по его чертежу были сделаны специальные подмостки, где люлька на блоках могла ходить в разных направлениях. По сырой штукатурке писать надо было быстро, в течение одного часа, и Гриша, опасаясь за качество изображения, решил писать по загрунтованному холсту, наклеенному на стены. Около него все время находились брат и еще один помощник, которые его перемещали, подавали и меняли кисти и краски. Страшно тяжело было расписывать купол храма. Только молитвенный вопль ко Христу и Божией Матери вливал в него силы и упорство на этот подвиг. Ему приходилось лежать на спине, на специальном подъемнике на винтах, страдать от усталости и боли, и все-таки он сумел довершить роспись купола. От этой работы на лопатках, крестце и затылке образовались болезненные кровоточащие язвы. Работа со стенами пошла легче. Первым делом Григорий начал писать благолепное явление патриарху Аврааму Святыя Троицы у дуба Мамврийского, стараясь, чтобы вышло все, как у преподобного изографа Андрея Рублева.
Прослышав о таком необыкновенном живописце, из Петербурга приехали журналисты с фотографом. Стоя у собора, они расспрашивали работающих штукатуров: «Как это Григорий расписывает собор, не имея конечностей?» Псковские штукатуры ухмылялись, свертывали из махорки толстые цигарки и окуривали едким густым дымом любопытных журналистов.
– Как расписывает? Известно как – зубами, – говорили мужики, попыхивая самокрутками, – берет кистку в зубы и пошел валять. Голова туды-сюды так и ходит, а два пособника его за тулово держат, передвигают помалу.
– Чудеса! – удивлялись журналисты, – Только на Руси может быть такое. А пустит он нас поснимать?
– Как не пустит. Пустит, без сумления. Пускай народ православный, хучь не в натуре, а все же на ваши фотки поглядит. Иконы у Григория уж больно хороши, для души и сердца очень любезны. Одним словом сказать – нерукотворенные.
Несколько лет подряд расписывал храм Григорий. От напряженной работы и постоянного вглядывания в рисунок почти вплотную – испортилось зрение. Пришлось ехать в Самару заказывать очки. Очень беспокоил рот. Постоянно трескались и кровоточили губы, основательно стерлись передние резцы, на языке появились очень болезненные язвочки. Когда он, сидя после работы за столом, не мог есть от боли во рту, сестра, вытирая ладонью слезы и всхлипывая, говорила:
– Мученик ты, Гришенька, мученик ты наш.
Наконец храм был расписан полностью, и на его освящение прибыли сам епархиальный архиерей, самарский губернатор, именитые купцы-благодетели, чиновники губернского правления и духовной консистории. Из окрестных деревень собрался принарядившийся народ. Когда начальство вошло во храм и оглядело роспись, то все так и ахнули, пораженные красотой изображений. Здесь в красках сиял весь Ветхий и Новый Завет. Была фреска «Радость праведных о Господе», где праведные, ликуя, входят в Рай, было «Видение Иоанна Лествичника», где грешники с лестницы, возведенной на воздусях от земли к небесам, стремглав валятся в огненное жерло преисподней. Изображение настолько впечатляло, что две купчихи так и покатились со страху на руки своих мужей и без памяти были вытащены на травку. Было здесь и «Всякое дыхание да хвалит Господа», и «О Тебе радуется, Обрадованная, всякая тварь», где были изображены всякие скоты, всякая тварь поднебесная, дикие звери и красавец павлин, а также само море с гадами и рыбами, играющими в пенистых волнах.
Освящение было торжественное. Пел привезенный из Самары архиерейский хор. Ектении громовым гласом произносил соборный протодьякон, к радости и восторгу его поклонников, самарских купцов-толстосумов.
А Гриша в это время был болен и лежал у себя дома на коечке. Перед ним на полу сидел, звеня цепями, юродивый Афоня и по-собачьи из миски со щами хватал зубами куски говядины, крестился и утробно икал, жалобно прося согреть душу водочкой.
Примерно через месяц после освящения собора из Самары в Утевки в щегольской коляске, запряженной парой гнедых гладких лошадей, приехал чиновник по особым поручениям при губернаторе с толстым большим конвертом, запечатанным гербовыми сургучными печатями. В конверте было письмо от министра Двора Его Императорского Величества с приглашением Григория Николаевича Журавлева в Санкт-Петербург и с приложением пятисот рублей ассигнациями на дорогу.
Провожали Гришу к царю в Петербург всем селом. Отслужили напутственный молебен, напекли пирогов-подорожников. Осенним светлым днем бабьего лета, когда к югу потянулись треугольные стаи птиц, а в чистом, пахнущем вялым листом воздухе полетели легкие паутинки, соборный дьякон выпевал ектению: «О еже послати им Ангела мирна, спутника и наставника сохраняюща, защищающа, заступающа и невредимо соблюдающа от всякаго злаго обстояния, Господу помолимся».
Григория сопровождали брат и сестра. От Самары вначале плыли на пароходе «Св. Варфоломей», а потом ехали чугункой во втором классе. В купе заглядывали праздные зеваки, чтобы поглазеть на необыкновенного урода, которого, как они полагали, везли на ярмарку напоказ. Петербург их встретил резким западным ветром и холодным дождем. На вокзале встречали посланные от графа Строганова люди с каретой. Григорию было известно, что граф – большой ценитель русской старины и обладатель самой большой коллекции древних русских икон. Карета подкатила к Строгановскому дворцу на Невском проспекте, и приезжих поместили во флигеле для гостей. Они расположились в трех комнатах. Кроме того, для Григория была приготовлена иконописная мастерская со всем набором кистей и красок. Буквально с первого дня к Григорию стали приходить посетители. Первым явился именитый первогильдейный купец Лабутин – антикварщик и обладатель крупной, правда бессистемной, коллекции икон. Он осмотрел Гришу своим немигающим совиным взглядом, легкий, поджарый, сел в кресло, потер сухие ладони и предложил Грише заключить контракт на изготовление пятидесяти икон за хорошую плату. Тут же выложил на стол крупную сумму задатка.
– А если помру, – сказал Гриша, – что тогда будет?
Лабутин опять потер руки и пожелал ему многая лета, но если все же будет такая Господня воля, то он неустойки не потребует, а просто понесет убытки. Вслед за этим потянулся нескончаемый поток посетителей. Были здесь студенты Академии художеств, были любопытные великосветские дамы, были газетчики и журналисты, были ученые – профессора медицины Бехтерев, Греков, Вреден и даже один известный академик анатомии. Навестил его и земляк, приехавший с Поволжья, – знаменитый иконописец Никита Савватеев, писавший образа для Царской Семьи. Он подарил Грише икону преподобного Сергия Радонежского, кормящего в лесу хлебом медведя. Гриша икону принял с удовольствием и долго рассматривал подарок, дивясь тонкому строгановскому письму. При этом он припомнил, что блаженный Афоня – юродивый из его села Утевки – как-то говорил ему, что звери без страха, с любовью идут к святому, потому что чуют в нем ту воню, которая исходила от праотца нашего Адама до его грехопадения.
Как-то раз к Грише зашел сам граф Строганов и предупредил, что ожидается Высокое посещение Государя Императора Александра III и его Супруги Императрицы Марии Феодоровны. Что им угодно познакомиться с Гришей и посмотреть его в работе.
И вот, в один прекрасный солнечный зимний день, во двор Строгановского дворца въехала карета Государя в сопровождении казачьего конвоя. Казачий сотник и хорунжий первыми вошли в помещение и тщательно осмотрели его. Гриша сидел на диване в ожидании высоких гостей и смотрел на входную дверь. И вот дверь открылась, и вошел Государь с Императрицей.
Государь был видом настоящий богатырь. Приветливое широкое лицо его было украшено густой окладистой бородой. Одет он был в военный мундир с аксельбантом под правый погон и белым крестом на шее, широкие шаровары заправлены в русские сапоги с голенищами гармошкой. Государь сел рядом с Гришей. Напротив в кресла села Императрица. Взглянув на Гришу, она сказала Императору по-французски: «Какое у него приятное солдатское лицо». Действительно, на Гришу приятно было смотреть: глаза у него были большие, ясные и кроткие, лицо чистое, обрамленное темной короткой бородкой. Волосы на голове недлинные и зачесаны назад.
Окружавшие Гришу люди засуетились и стали показывать иконы его письма. Иконы были безукоризненно прекрасны и понравились Августейшей Чете. Императрице особенно приглянулся Богородичный образ – «Млекопитательница», который тут же и был ей подарен.
– Ну, а теперь посмотрим, как ты работаешь, – сказал Государь, вставая с дивана.
Гришу перенесли в мастерскую, посадили на табурет и пристегнули к столу ремнями. Брат дал ему в зубы кисть. Гриша оглядел свою недоконченную икону, обмакнул кисть в краску, немного отжал ее о край и начал споро писать лик святого. Вскоре его кисть сотворила чудо, и с иконы глянул благостный образ святителя Николая Чудотворца.
– Шарман, шарман, – посмотрев в лорнет, сказала Императрица.
– Ну, спасибо, брат, уважил, – сказал Император и, отстегнув золотые карманные часы с репетицией, положил их на столик рядом с Гришей. Затем обнял его и поцеловал в голову.
На следующий день из Канцелярии Двора Его Величества принесли указ о назначении Грише пенсии – пожизненно, в сумме 25 рублей золотом ежемесячно. А также еще один указ самарскому губернатору о предоставлении Григорию Журавлеву резвого иноходца с летним и зимним выездом. Пробыв в Петербурге до весны, когда с полей стаял снег, а по Неве прошел лед, Гриша с сопровождающими вернулся назад в родные Утевки. И там жизнь пошла по-старому. С утра звонили в соборе, и изографа на иноходце с летним выездом везли на раннюю и сажали в кресло на клиросе, где он от души пел весь обиход обедни. Как почетному лицу и благодетелю на серебряном блюдце в конце службы дьякон подносил ему антидор и, в ковшике, сладкую винную запивку. После службы тем же путем ехали на иноходце домой, где он вкушал завтрак, смотря по дню, скоромный или постный. Помолившись в Крестовой комнате, он перемещался в мастерскую и с головой уходил совсем в другой мир, где не было кабаков, пьяных мужиков с гармошками, вороватых цыган, бранчливых краснощеких баб и усохших сплетниц-старух. А был там мир удивительных красок, которыми он на липовых и кипарисовых досках буквально творил чудеса. На поверхности этих досок его Богоданным талантом рождалось Святое Евангелие в красках. Там был и радостный плач, и умиление, и неистовый вопль, и неутешные скорби.
Когда он уставал, то просил кликнуть блаженного Афоню, который не всегда – «шалам-балам» – нес всякую непонятную чушь, но мог говорить и удивительные речи. Обычно он садился на пол и, обсмоктав принесенную из кухни большую говяжью кость и выбив из нее жир, начинал разговор о том, что бывает мир праведный и неправедный: «Мир – грешный повселюдный и прелюбодейный – принадлежит людям и бесам и пишется через десятеричное «и» – МIРЪ, а мир праведный Божий, по-древнежидовски называемый ШАЛОМ, пишется через букву «иже» – МИРЪ. Так что ты, Гришуня, в надписании титлов на образах не дай промашки».
Удивлялся Гриша: и где это блаженный Афоня успел набраться премудрости такой?
Гриша часто задумывался о иконописном каноне. Иногда у него возникало искушение добавить что-то от себя, но совесть и религиозное чувство удерживали его от этого. Он знал, что иконописный канон создается, во-первых, святыми, через мистические видения и через их духовный опыт, во-вторых, через откровения Божиим людям в чудесах наитием Святаго Духа, и, в-третьих, он черпается из сокровищницы Священного Писания и Предания. Иконописцы были только ревностными исполнителями, но при этом они обязательно должны были быть людьми праведной жизни. Что касается последнего условия, то как раз оно-то соблюдалось довольно слабо, если, конечно, не считать богобоязненных монастырских изографов. Еще можно было поручиться за старообрядческие иконописные мастерские, откуда были изгнаны табак, водка, и вообще все было строго и по чину.
У Гриши в Самаре был знакомый иконописец – выкрест Моисейка. Таланта у него было хоть отбавляй. Учился в Московском училище живописи и ваяния, стипендиат фабриканта-миллионера Рябушинского. Но был Моисейка человеком неукротимой плоти, силой и ростом походил на Самсона, сына Маноева, и жил, как говорится, «нога за ногу». То он, как одержимый, запирался в мастерской и писал иконы, то целый месяц бражничал по кабакам с непотребными девками, пока не пропивался дотла. Иконы его расходились больше по дворянству, интеллигентам-русофилам, а также по богатым кабакам и гостиницам. Так все больше для антуража, или, как сейчас говорят, – интерьера. Православный народ их не брал, и не потому, что цена на них была высока, а потому, что они были безблагодатны, лишены высокого духа святости. Бесспорно, они были красивы и эффектны, но какие-то приземленные, портретные. А все потому, что Моисейка был блудник и пьяница. Много раз его Гриша укорял за эти пороки, но Моисейка, ухмыльнувшись, возражал:
– Тебе, Гриша, легко быть праведником: рук нет, ног нет, девку обнять нечем, а мне-то каково?! Если во мне два беса сидят лютых – пьяный бес и блудный? Они меня долят (одолевают), и я ничего не могу с собой поделать.
И когда он, по своему обыкновению, напился в Утевках и подрался с кабатчиком, Гриша велел его связать и везти к Владыке в Самару, чтобы тот его упек в монастырь на исправление и покаяние.
Конечно, изографы были только исполнителями воли святых. Так, преподобный Андрей Рублев никогда бы не написал своей знаменитой «Троицы», если бы не наставил его преподобный Сергий Радонежский. В сравнительно недавние времена, в конце XIX века, преподобному старцу Амвросию Оптинскому было явление Божией Матери на воздусях, благословляющей хлебную ниву. И вот по этому случаю стали писать новый Богородичный образ – «Спорительница хлебов». Правда, икона эта пока еще мало распространена, но впоследствии, благодаря своей благодатной идее напитать всех труждающихся и обремененных хлебом духовным и хлебом ржаным, по милости Божией распространится она по всей Руси Великой.
Итак, минуту за минутой отстукивал маятник старинных часов в Гришиной келии, день за днем раздавался мерный колокольный звон с собора Святыя Живоначальныя Троицы. Год за годом с шумом шел по реке ледоход, предвещая приход Пасхи и унося в Вечность времена и сроки. И вот наступил новый, двадцатый век, век, в котором человечество опозорило себя неслыханно кровавыми войнами, чудовищными злодеяниями, наглым и гордым богоборчеством, глумливым и гордым прорывом в космос – этим современным аналогом Вавилонской башни.