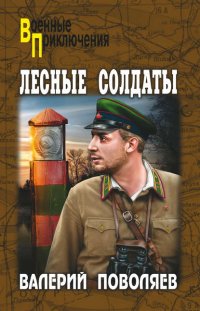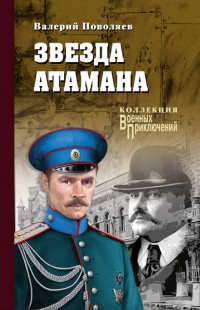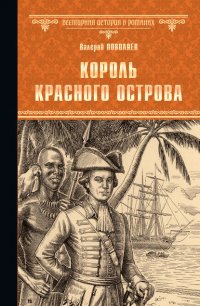
Читать онлайн Король Красного острова бесплатно
- Все книги автора: Валерий Поволяев
© Поволяев В.Д., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
* * *
Валерий Дмитриевич Поволяев
Об авторе
Российский писатель, прозаик Валерий Дмитриевич Поволяев родился 13 сентября 1940 года в г. Свободный Хабаровского края в семье военного. Его отец погиб в первые дни Великой Отечественной войны. Воспитывался будущий писатель в доме бабушки Л.Ф. Поволяевой в селе Семенёк Становлянского района Липецкой области. После окончания средней школы села Ламское работал электриком на заводе в Тульской области. В 1965 году он окончил художественный факультет Московского текстильного института, в 1974 году заочно – сценарный факультет ВГИКа.
Печататься В.Д. Поволяев начал с 1969 года. В отделе литературной жизни «Литературной газеты», которым он со временем стал заведовать, начинался его творческий путь журналиста и писателя. Публиковались на 16-й полосе и рисунки Валерия Дмитриевича – художника по образованию, участника ряда выставок. Затем он работал заместителем главного редактора журнала «Октябрь», секретарём правления Союза писателей и председателем Литфонда России, главным редактором журналов «Земля и небо» и «Русский путешественник», заместителем главного редактора газеты «Семья». Ныне – председатель Московского пресс-клуба (ЦДРИ), председатель Федерации спортивной литературы России.
Первая книга В.Д. Поволяева – сборник рассказов «Семеро отцов» – вышла в 1979 году. Он – автор более девяноста книг. Это и лирические рассказы, и повести, и исторические романы, и детективы, и путевые очерки. В.Д. Поволяев стремится примирить в нашей истории белых и красных, ибо и тем и другим была дорога Россия. Это находит свое отражение в таких его произведениях, как «Всему свое время», «Первый в списке на похищение», «Царский угодник», «Верховный правитель» (об адмирале Колчаке), «Атаман Семенов», «Охота на охотников», «Если суждено погибнуть» (о генерале Каппеле), «Браслеты для крокодила» (о Гумилеве), «Жизнь и смерть генерала Корнилова», «Чрезвычайные обстоятельства», «Тихая застава», «Северный крест» (о генерале Миллере), «Бурсак в седле» (об атамане Калмыкове), «Русская рулетка», «Оренбургский владыка» (об атамане Дутове), роман в 3 книгах о Рихарде Зорге. Ряд его книг переведен на английский, немецкий, французский, арабский, датский, казахский, украинский, азербайджанский и другие языки.
По мотивам его повести «Тихая застава» был снят одноименный фильм (более 30 наград). Прототипов героев этой повести Валерий Дмитриевич встретил в Афганистане, где был четыре раза. В числе тех, с кем общался писатель, оказались и липчане. Вообще в своем творчестве он немало внимания уделяет описанию родных мест. Так, в рассказе «Среди ночных полей» действие происходит в селах Семенёк и Ламское Становлянского района Липецкой области.
В.Д. Поволяев с 1974 года – член Союза писателей СССР. В 1980 году он удостоен звания заслуженного работника культуры СССР, а в 2001 году – заслуженного деятеля искусств России. Ему присуждено около 30 различных творческих премий, в том числе премия Ленинского комсомола, а также литературные премии им. К. Симонова, А. Фадеева, Б. Полевого. Он действительный член Русского географического общества, Международной академии информации, Академии российской словесности. В.Д. Поволяев награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», Красной Звезды, 3 афганскими наградами.
В. Кичин
Часть первая
Волки появились в синеющей вечерней темноте внезапно – произошло это в ту пору, которую знающие люди называют «между волком и собакой», все предметы на пятнадцать-двадцать минут теряют свои очертания, делаются размытыми, иногда вообще становятся невидимыми, подобраться к человеку в эти минуты вообще ничего не стоит и серые разбойники, наверное, это знают.
Дорога, которую Маурицы Беневский должен был одолеть от Братиславы до своего родного имения в Вербове, была неблизкой – более трехсот километров, деревни по пути встречались редко, поэтому звери и чувствовали себя так вольно на понравившихся им пространствах.
Стоял конец декабря, темнело рано, если днем небо было чистым и потрескивал от мороза снег, то вечером на нежном темном бархате обязательно зажигались яркие звезды, похожие на дорогие каменья – зеленые, голубые, оранжевые, слепяще белые, как бриллианты, к которым подносят свечу. Так и сегодня. Пестрый переливающийся полог завораживал, рождал в душе восторженный стон, и Маурицы откидывался назад, на спинку возка и любовался затейливой игрой цвета над головой.
Лошадь шла ходкой рысью, снег под копытами повизгивал, рождал в душе забытые чувства – Маурицы (или Морис, кому как нравится) ехал домой, в Вербово, к матери. Если повезет, то в имении может оказаться и отец, боевой генерал австрийской армии. Полк отца на зиму обычно отводили в Буду, военных действий с пруссаками, которые очень уж сильно досаждали австрийской короне, в холодные месяцы почти не было, и Маурицы рассчитывал увидеть отца.
Вдруг лошадь захрапела и, вскидывая голову, перешла на галоп – только снежная пыль взвихрилась за возком, звезды на небе побледнели разом, яркий свет их стал тихим, и Маурицы ощутил, как у него сильно и громко забилось сердце, отозвалось оглушающим стуком в висках, а в груди образовалась щемящая пустота.
Страха не было. Он приподнялся, глянул за спинку возка и невольно сжал зубы – по дороге наметом шли волки, целая стая, голов восемь, не меньше.
Маурицы поспешно отбросил полог, прикрывавший его ноги – в ногах стоял сундучок с добром, закупленным в Вене. Среди добра находились и два кремневых пистолета – по той поре лучше этих пистолетов еще ничего не было придумано.
Купил их Маурицы специально – знал, что в дальнюю дорогу в Вербово пускаться невооруженным опасно, сведующие люди предупредили об этом его венскую тетушку Матильду, ну а тетушка постаралась как следует собрать своего племянника в дорогу, денег – звонких талеров на это не пожалела.
– Стой, стой! – кричал лошади молодой словак-кучер, подрабатывающий извозом, но та не слушалась, неслись вперед, испуганно храпя и задрав голову. Хорошо, что хоть дорога не ускользала из-под копыт, вылетевший на обочину открытый возок запросто мог опрокинуться, и тогда хана придет всем – и лошади, и вознице, и вояжеру Маурицы Беневскому.
Ах, как хорошо, что были куплены пистолеты! Маурицы мог бы приобрести пистолеты попроще, одноствольные, подешевле, с тяжелыми рубчатыми рукоятями, но он взял пистолеты двухдульные, с калеными стволами, способными выдержать усиленный заряд, с рукоятками, к которым были привинчены деревянные щечки. Итого у него сейчас была целая батарея, он мог сделать четыре выстрела. А четыре выстрела – это четыре выстрела, волкам это вряд ли понравится.
Он снова приподнялся, глянул назад. Волки огибали возок подковой, по насту, отвердевшему на обочинах, шли они и слева и справа, легко, как по земле шли, не проваливались, из светящихся глаз их, кажется, сыпались искры.
Маурицы выхватил из сундучка один пистолет, положил рядом с собою, потом вынул второй, щелкнул курками.
Страха в нем по-прежнему не было, он словно бы исчез куда-то, хотя у Маурицы, конечно, бывали случаи, когда ему становилось боязно. Например, в католической семинарии аббатства Клостернойбург, – правда, тогда он был совсем маленьким. Впрочем, он и сейчас не такой уж и большой, если говорить откровенно. Отец ректор тогда посадил его на неделю в карцер за непослушание.
Ночью Маурицы увидел, как у его подстилки в карцере сидят две здоровые крысы и внимательно смотрят – что-то им не нравилось в человеке.
«Уж не людоеды ли?» – невольно подумал Маурицы, и ему сделалось страшно, даже мороз по коже побежал. Он поспешно поджал под себя ноги и прижался к холодной каменной стенке карцера. Впрочем, когда на следующий день, точнее, ночь, крысы появились снова, он отнесся к ним более спокойно – уже не боялся их, – перевернулся лицом к стенке и уснул.
А крысы, как известно, не трогают тех, кто их не боится.
Стая приближалась.
Впереди стаи шел крупный, серый, почти растворившийся в стремительно темнеющем вечернем пространстве волк с готовно распахнутой пастью – это был вожак. Главное – завалить вожака, остальные быстро присмиреют, может быть, даже отстанут, чтобы сожрать вожака. Таков закон стаи.
Маурицы прицелился в вожака, тот словно бы почувствовал, что дуло пистолета направлено на него, неожиданно подпрыгнул, срываясь с мушки, Маурицы вновь поймал его на мушку, но опытный вожак опять умело соскользнул с нее.
В это время нарисовался волк около самого возка – молодой, необтершийся, еще неопытный, жадный, Маурицы перевел ствол на него и спустил курок. Пятка собачки выбила из кремня длинную искру, хорошо видную в вечернем мраке, из ствола вымахнул клубок черного дыма, затем выплеснулся огонь.
Пуля попала волку в голову, просадила насквозь, зверь взвизгнул надорванно и ткнулся лбом в снег, перевернулся несколько раз и, быстро оплывая кровью, задергал лапами.
Несколько волков, шедших рядом с подбитым зверем, шарахнулись в сторону, двое круто развернулись и помчались назад. А волчий вожак продолжал скакать, в следующий миг он прыгнул на лошадь, впился зубами в шею.
Та заржа ла надрывно, замотала головой, пробуя сбросить с себя волка, но тот держался прочно – сильный был зверь. Возок остановился, словак слетел с облучка, схватил волка за уши, отрывая его от коня, Маурицы подскочил к нему, просипел севшим, забитым холодом голосом:
– Поберегись!
Сунул волку ствол пистолета в ухо и нажал на спусковой крючок.
Громыхнул выстрел. Волк с разможженной головой свалился под ноги лошади.
В возницу в ту же секунду вцепился другой волк, ухватил за край расшитого карпатского тулупчика, дернул на себя, возница что было силы ударил его кулаком, Маурицы добавил ногой – у волка только зубы лязгнули, но от человека он не оторвался, Маурицы добавил еще раз, потом перекинул пистолет, из которого стрелял, в другую руку, взвел курки на другом пистолете.
Волк знал, что такое оружие, как опасен металл, от которого исходит запах горелого пороха, взвизгнул по-собачьи, отпрыгнул в сторону и по твердому снегу откатился назад. Следом за ним откатилась и вся стая, уселась метрах в двадцати от возка на насте, голодно щелкая зубами.
Маурицы, держа пистолет наготове, подскочил к вознице, который все-таки очутился на снегу, подал ему руку:
– Вставай!
Возница, кряхтя, поднялся, выругался по-польски:
– Пся крэв!
Знакомый язык для Маурицы Беневского. Если в отце его намешаны разные крови, о которых отец только догадывается, но точно не знает, кто же конкретно оставил след в его родословной, то мать была чистокровной полячкой. Очень набожная, тихая, она почти все время пропадала в костеле, либо молилась в домашней церкви.
Рывком подняв возницу со снега, Маурицы спросил его:
– Ты поляк?
– Не! Словак…
– Ладно. Словак – это тоже хорошо, – Маурицы развернулся к волкам лицом и, держа перед собою пистолет, пошел на них. Волки зарычали, но с места не сдвинулись. Они глядели на человека и одновременно на вожака, подергивающего в агонии лапами, глядели и на второго волка, также предсмертно дергающегося – живучи были звери. Было понятно: пока волки их не съедят, не сгрызут пропитанный кровью снег – не уйдут.
Маурицы махнул пистолетом, отгоняя их, но волки не сдвинулись с места, лишь оскалили зубы. Из глоток их вырвалось хриплое рычание.
Возница обхаживал раненую лошадь, стирал тряпкой кровь с прокушенной шеи.
– Ну как? – окутавшись звонким паром, выкрикнул Маурицы.
– Надо быстрее уезжать отсюда, господин, – просипел в ответ возница, – иначе они сейчас будут нападать снова.
– Лошадь как?
– Терпимо. Волк не успел перегрызть ей горло.
Стая, расположившаяся позади возка, зашевелилась с глухим рычанием, в сгустившемся темном пространстве задвигались горящие огоньки: ночь навалилась буквально в несколько минут – рядом находились горы, они и диктовали дню, как и зиме, свои законы. Возница оглянулся на стаю.
– Уезжаем, уезжаем, господин, – заторопился он.
Маурицы прыгнул в возок, возница взмахнул кнутом и легкий, как пушинка санный экипаж с режущим снежным визгом понесся по дороге. Маурицы продолжал держать пистолет наготове.
Волчья стая разделилась надвое: одна часть кинулась на еще живого, дергающего лапами сородича, вторая взялась за вожака. Обе половины, не медля ни секунды, приступили к трапезе. Только клочья волос полетели в воздух, волки рычали и выплевывали целые куски кожи вместе с шерстью. Маурицы, перегнувшись через спинку возка, внимательно следил за ускользающей в темноту дорогой: не увяжется ли кто за ними вновь?
Нет, не увязались. Маурицы аккуратно спустил курки пистолета и положил рядом с собой на полог, второй пистолет, разряженный, сунул в сундучок – в ближайшей деревне его надо будет зарядить снова.
Если бы не пистолеты, они вряд ли бы так легко выпутались из этой передряги.
Через сорок минут впереди показалась нестройная цепочка огней, в воздухе запахло теплым хлебам. Маурицы схватился было за пистолет, но в следующее мгновение положил его на полог – впереди, в снегах, лежала большая деревня. И располагалась она очень недалеко. Сердце, забившееся вдруг громко и заполошно, стало биться тише и спокойнее.
Трудная дорога, – как и день нынешний, – осталась позади, в деревне им надо будет основательно отоспаться, подлечить лошадь, купить небольшой запас еды, чтобы было чем перекусить на коротких остановках, и утром двинуться дальше.
Остановились они в веселом месте – в корчме, где в пристройке имелась специальная комната для заезжих постояльцев, стоила комната недорого, Маурицы заплатил за ночевку и растянулся на кровати, покрытой чистым домотканым рядном. Раздеваться не хотелось.
Возница, подхватив деревянную бадейку с теплой водой и выстиранную тряпку, приготовленную на всякий случай еще на прошлой стоянке, побежал к лошади – надо было промыть рану и смазать ее заживляющей мазью, которую в родной деревне словака готовил глухонемой старик-знахарь, умевший одинаково успешно лечить и людей и зверей. Лекарем он был великим.
Маурицы потянуло в сон. В другой раз он успешно бы погрузился в мир безмятежных сновидений, но сейчас, прежде чем уснуть, решил зарядить разряженный в волков пистолет – в путешествии надо быть готовым ко всему, в том числе и на ночных стоянках: тут тоже могли водиться волки, двуногие.
Помотав головой ожесточенно – иначе сон было не прогнать, Маурицы достал из дорожного сундучка, обитого для прочности полосками металла, деревянную шкатулку, украшенную маленьким медным замочком. В ней хранились оружейные припасы – кожаный кисет, перетянутый шелковым шнурком, мешочек с продолговатыми свинцовыми пулями, пыжи и приспособления для зарядки – стоячок с плоской пяткой на конце, чтобы утрамбовывать войлок пыжей и складной шомпол.
Для зарядки пистолета ему понадобилось двадцать минут – голова была тяжелой, падала на грудь, глаза слипались – веки не разодрать, но Маурицы все-таки довел дело до конца, забил оба ствола порохом и пулями, заткнул заряды пыжами.
– У-уф-ф!
Едва он произнес это «у-уф-ф», как в комнате появился возница, подул на озябшие руки.
– Ну, как лошадь? – спросил Беневский.
– Ничего страшного, – возница снова подул на скрюченные посиневшие пальпы, – серьезно покусать волк не успел. Хотя…
– Что хотя? – Маурицы поднял голову.
– Бывает, волк залезает в хлев, где находится пятьдесят овец, одну-две зарежет сразу, остальных начинает рвать, кусать зубами – ни одной непокусанной не оставит, прежде чем уйти, – так из всех покусанных выживают одна-две овцы, не больше. Остальные погибают.
Маурицы удивленно наморщил лоб. Поинтересовался:
– У волков что, зубы ядовитые?
В ответ возница неопределенно покачал головой:
– Если бы я знал… Но этого, кроме Всевышнего, не знает, по-моему, никто.
Маурицы потянулся, вскинул над собой руки.
– Ну что? Пора спать.
– Мне как-то неудобно спать с вами в одной комнате, – тихо проговорил возница.
– Почему? Неудобно панталоны через голову надевать, – Маурицы рассмеялся. – А спать вдвоем в одной комнате – обычная вещь. Да и других комнат в корчме нет.
– Как правило, богатые вояжеры в одном помещении с кучерами стараются не ложиться. Вояжер отдельно, возница отдельно – только так.
– Все мы рождены, сударь, одной землей и в одну землю уйдем, – рассудительно проговорил Маурицы, – и живем под одним небом. И никто из нас ни богатства своего, ни знатности, ни титула графского не возьмет туда с собой – все останется здесь. Так что чего раздувать щеки и пыжиться? Это грех. Ложитесь спать и ни о чем не думайте.
– Ночью еще надобно будет пару раз выйти на улицу, – голос возницы сделался виноватым, – посмотреть, как ведет себя раненая лошадь…
– Ради Бога, сударь. Раз надо – значит, надо. А с лошадью все будет в порядке. В этом я уверен. Не тревожьтесь.
– Вдруг волк бешеный?
– Бешеные волки бывают только в сказках, по-моему. В жизни ни разу не встречал такого. Собаки – да, эти бывают, лисы бывают, а волки – нет.
Задумчивая тень проскользила по лицу возницы.
– И я, если честно, не встречал, – пробормотал он со вздохом. Ему хотелось верить в это. А с другой стороны, вдруг люди ошибаются? – Хотя старики говорили, что в Карпатах им такие волки попадались.
Маурицы сунул под подушку один из пистолетов, сбросил с себя сапоги и, улегшись набок, быстро уснул – приключении на нынешний день было более, чем достаточно.
Утро занялось розовое, бодрое, в ровном, без единого облачка, небе безмятежно плавало сливочное, похожее на свежую головку сыра, солнышко.
За окнами корчмы звонко галдели воробьи.
Открыв глаза, Маурицы с удовольствием потянулся, вытащил из-под подушки пистолет, положил его в сундучок, под ключ.
Возницы на соседней кровати не было – явно находился возле лошади. Кровать возницы была тщательно застелена.
Ждать себя возница не заставил – возник в проеме двери, поклонился, стянув с головы шапку.
– Ну как там лошадь?
– Хорошие все-таки мази делает у нас в деревне дед Атилла. Лошадь в порядке. Можно двигаться дальше.
– Вот это добрая новость. Чего еще слышно?
– На кухне корчмы нам готовят завтрак.
– Это тоже неплохая новость, – Маурицы вздернул над собой руки, сжал и разжал кулаки, сжал и разжал. – Самое время заесть добрый сон шкворчащей яичницей с салом.
Он соскочил на пол, сделал несколько резких приседаний. Присел – поднялся.
– Что это вы делаете, сударь? – поинтересовался возница.
– Гимнастику. Штука очень полезная не только для тела, но и для души.
Через полтора часа они покинули деревню – отсюда прямая дорога вела в самое Вербово, в имение Беневских.
Как-то его встретят там? Мать, конечно, будет недовольна, когда узнает, что он сбежал из семинарии, а отец… Дай Бог, чтобы отец находился не у себя в полку, а в имении. Если он находится в Вербово, то обязательно поддержит сына. В этом Маурицы Беневский был уверен совершенно.
Половину своей жизни отец провел в войнах, дома не бывал месяцами, и мать, задумчивая бледная паненка, за эти годы здорово подурнела, состарилась и все чаще и чаще стала уединяться в молельне.
Когда сыну исполнилось двенадцать лет (произошло это два с половиной года назад), она пригласила его к себе, приняла в отцовском кабинете, чопорная, прямая, одетая в строгое серое платье без всяких украшений, поджав губы, оглядела его с головы до ног и произнесла неожиданно надменным, каким-то чужим голосом, на «вы»:
– Вам надлежит ехать в Вену, в монастырь…
– Зачем? – удивленно поинтересовался Маурицы.
– Учиться в семинарии.
– Но образование можно получить и здесь, дорогая мама.
– Я дала такое обещание нашему священнику. Здесь получить хорошее образование невозможно. Вы же не хотите, имея дворянское звание, заниматься делами на конюшне?
Маурицы отрицательно мотнул головой:
– Не хочу.
– Тогда собирайтесь, сын мой, в дорогу.
Говорила она, как местный пастор, назидательным тоном, и голос у нее был назидательным, поучающим, и взгляд – такой же, и два сомкнутых, поднятых вверх пальца. Маурицы узнавал и одновременно не узнавал свою мать.
Через два дня он уже сидел в тарантасе, направлявшемся в далекую Вену, где в аббатстве Клостернойбург располагалась семинария святого Сульпиция. В этой семинарии Маурицы и предстояло учиться.
Учился он превосходно, не было наук, по которым он не получал бы «отлично», успел стать любимым учеником отца ректора, а вот секретарь ректора отец Луиджи Лианозо примерного ученика невзлюбил совершенно откровенно, иногда даже специально ловил его на мелочах.
В библиотеке семинарии Маурицы случайно познакомился с книгами, которые были запрещены в аббатстве, и стал подумывать о воле – слишком тесными были стены, в которых он находился, да и понимал Беневский, что священник из него получится никудышний.
Лучше уж быть хорошим солдатом или портным… впрочем, тьфу-тьфу-тьфу, портным он тоже не хотел бы быть, – чем плохим священником.
Он бежал из семинарии.
Хорошо, что Вена – город большой, полно каменных, совершенно неприступных углов, где можно спрятаться. Маурицы спрятался у тетушки Матильды, старой девы с добродушным характером и остроконечным красным носом, похожим на большой вороний клюв, – тетушка любила разные наливки и не отказывала себе в удовольствии пропустить пару-тройку стопок.
Отвалявшись полторы недели у тетушки Матильды, Маурицы высунулся на улицу – а не ищут ли его венские полицейские и отцы ключари из аббатства Клостернойбург?
Его не искали – потратили поначалу на это пару дней, а потом плюнули: ну разве можно найти беглеца в многолюдной Вене, это все равно что отыскать портняжную иголку в стоге соломы, годы потратишь и не найдешь.
Тетка снабдила Маурицы деньгами – отдала ему едва ли не последние, – и уже на следующий день тот купил себе недорого и камзол, зимнюю шапку и длинную куртку, подбитую заячьим мехом, а также высокие зимние сапоги. Следом приобрел дорожный сундучок и пистолеты с пороховым припасом и кульком пуль, приобрел и шкатулку, где эти припасы можно было схоронить.
– В Вене мне, тетушка, нельзя оставаться ни одной минуты, – объявил он в гостепреимном доме Матильды, – я должен уехать в Вербово.
В ответ тетушка Матильда вздохнула – когда она была маленькая, ее вывозили в Вербово каждое лето. Это была счастливая пора. Счастливой она была еще и потому, что она влюбилась в мальчика из соседнего поместья – живого ангела, у которого по недоразумению не выросли крылья.
С годами ангел превратился в щеголеватого юношу с лошадиным лицом, украшенным прыщами, и подскакивающей журавлиной походкой – детская привлекательность развеялась, как дым, осталась лишь неопрятная оболочка.
Молодая особа, – странное дело, но тетушка Матильда когда-то была таковой, – только хваталась руками за голову да стонала беспрерывно:
– Это ужасно… Это ужасно…
Да, это действительно было ужасно. Но не более того. Тетушка Матильда не заметила совершенно, как преобразилась она сама.
Племянника тетушка любила… Хорошо, на венских воротах, на въезде и выезде, не проверяли документов, и беглый семинарист Маурицы Беневский почти беспрепятственно покинул город.
И вот сейчас он, после различных дорожных приключений, держа в ногах сундучок с заряженными пистолетами, потихоньку приближался к родному Вербово.
Каникулы в Вербово продолжались недолго. Было хорошо, что в усадьбе находился отец, он одобрил действия Маурицы, налил по этому поводу стопочку сливовой палинки, протянул сыну с одобрительной речью:
– Можешь выпить. После тяжелой дороги это еще никому не помешало, даже пятилетнему ребенку, – настроен отец был благодушно, и у Маурицы отлегло от сердца: отец станет ему защитой. Маурицы опасался взбучки матери. А взбучка эта могла быть серьезной.
Отецо кинул взглядом фигуру Маурицы, остался доволен.
– Подрос, здорово подрос, – пророкотал он командирским басом, – взрослым стал. Я напишу рекомендательное письмо в Вену, в офицерскую артиллерийскую школу, будешь учиться там. Согласен?
Маурицы готовно наклонил голову:
– Согласен.
Мать решением отца осталась недовольна, но поделать ничего не смогла: отец был главою семьи, его слово считалось законом, и как только мать замечала, что на щеках мужа появляются неровные красные пятна, немедленно закрывала рот на замок и прекращала все споры. Впадая в гнев, муж мог не только ее побить, но и разрушить половину имения.
Тем же вечером отец написал письмо в Вену, а еще через пять дней Маурицы уселся в почтовый возок, идущий на запад. Был он хмур, держался просто и скромно, слугам, которые вышли его проводить, пожал руки, те удивленно переглянулись: никогда не было, чтобы хозяева-дворяне «ручкались» с холопами – хозяева всегда держали дистанцию, и дистанция эта была приличной.
Маурицы натянул на ноги брезентовый полог с подшитым снизу собачьим мехом, и возок выехал с просторного заснеженного двора.
Погода в Вене была совсем не такая, как в Вербове – столица Австро-Венгерской империи располагалась много южнее, здесь и птицы водились другие, и деревья росли не те, что на карпатских отрогах, и небо было выше, и сливочный, плавящийся от собственного жара кругляш солнца был больше, и камни на мостовых имели совсем другой цвет и запах, чем в провинции – тут все было иное.
В офицерской школе Маурицы Беневского приняли как своего – имя его отца было здесь хорошо известно.
Прошло совсем немного времени и Маурицы надел на себя красно-синий форменный мундир. Учеба давалась ему легко. Так же легко, как и в семинарии, память у парня была молодой, цепкой, сидеть за книгами он любил, хуже дело обстояло, когда нужно было заниматься шагистикой и строевыми дисциплинами, но Маурицы одолел и это.
В Европе тем временем вновь запахло войной: прусский король Фридрих Второй решил, что ему должны подчиняться земли, примыкающие не только к Балтике, но и те, на которых живут французы и испанцы, итальянцы и болгары, – губа у короля была, как видите, не дура, и начал он с территорий привычных – с Австро-Венгрии, а точнее, с ее соседки и союзницы Саксонии – и очень скоро очутился у границ лакомого куска – самой Австро-Венгрии.
Попытку подчинить ее себе Фридрих делал не в первый раз, совершал набеги и раньше, но ничего путного из этих набегов не получалось.
Первого октября 1756 года он вступил в бой с австрийцами у города Лободиц. Немногочисленная саксонская армия подняла руки вверх и сдала прусакам Пирну – превосходно укрепленную крепость.
На роскошных венских улицах один за другим начали гаснуть фонари – жители города пребывали в печали. Некоторые маловеры загибали на руках пальцы и говорили, что если со своей помощью не подоспеют русские и французы, то венцам придется учить прусские племенные диалекты, либо разговаривать на языке глухонемых.
До выпуска из офицерской школы оставалось еще полгода, но Маурицы Беневский решил поторопить события – написал прошение, чтобы ему разрешили досрочно сдать экзамены на получение аттестата артиллерийского офицера.
Вместе с Маурицы такие бумаги подали начальнику школы еще несколько человек.
Экзамены Маурицы сдал с блеском, ему был присвоен чин поручика императорской армии.
С новенькими парадными эполетами на плечах свежеиспеченный поручик отбыл по месту службы или, как было принято говорить тогда, в «театр военных действий».
На дворе стояла весна 1757 года.
А в октябре 1758 года в жестоком бою у деревни Гохкирхен поручик Беневский был ранен, пуля, выпущенная из тяжелого мушкета, попала ему в левую ногу и перебила кость.
Для того чтобы вылечить рану и прийти в себя, нужно было отправляться в тыл, иного пути не существовало.
В палатку к раненому поручику пришел сам командир корпуса генерал Гедеон Эрнет Лаудон, усталый, с потемневшим от забот лицом, но довольный – солдаты корпуса чуть не взяли в плен воинственного прусского короля, Фридрих был вынужден удирать от них на простой лошади, отнятой у ординарца.
– Буду ждать вас в корпусе, поручик, – сказал он Беневскому, – вы мне стали дороги, как сын. Да и батюшку вашего я знаю хорошо. На всякий случай держите вот что, – он передал Беневскому бархатный конверт, – это письмо с просьбой, чтобы вас не оставляли без внимания…
Лежавший на походной койке Маурицы лишь слабо улыбнулся в знак благодарности – он страдал от боли, а боль в перебитой ноге была нестерпимой, – еще он страдал от холода…
Вербово встретило его вороньим карканьем, почерневшей осенней листвой, плотным толстым одеялом, лежавшим на земле, и мелкими противными дождями, вгоняющими в сон.
Но спать Маурицы как раз не мог – из-за затяжной ноющей боли, в рану что-то попало, заживала она трудно, Маурицы начал ходить, но очень быстро уставал, покрывался потом и что плохо – сильно хромал. Левая нога у него при ходьбе словно бы подворачивалась под тело.
Похоже, дело складывается так, что ему вряд ли удастся вернуться в образцовый корпус генерала Лаудона – хромые артиллеристы там не нужны. Да и в других корпусах тоже не нужны – в императорской армии не должно быть хромых людей. Обстоятельство это приводило Маурицы в уныние.
Зимой, в феврале, выдавшемся в том году неожиданно вьюжным, резким, с ветрами, валившими с ног не только людей, но и лошадей, Маурицы получил письмо от своего дяди – брата матери, богатого человека, владевшего в Венгрии обширными угодьями – лесами и полями, большим домом, в котором даже водились привидения – старинное было то строение.
Дядя писал, что стал стар, иногда неделями не встает с постели – допекают хвори, но не это беспокоит его – беспокоят сыновья, два выросших под потолок великовозрастных лентяя, которые только и знают, что пить литрами черешневую палинку, да задирать юбки молочницам, работающим в имении.
«Маурицы, приезжай, если есть такая возможность, очень прощу тебя. Может быть, ты сумеешь подействовать на этих ленивых недорослей, образумишь их. Моты они невероятные, нравом – настоящие необъзженные жеребцы, все богатство мое, нажитое с таким трудом, могут пустить по ветру за пару месяцев. Я этого боюсь», – писал дядя.
Получив письмо, Маурицы только посмеялся над своими родственниками, доводившимися ему двоюродными братьями, да головой покачал – ехать к дяде ему не хотелось.
Но через два месяца дядя прислал ему новое письмо, полное умоляющих слов. «Маурицы, прошу тебя, выберись ко мне хотя бы на неделю, помоги навести порядок. Моих недорослей уже три недели нет дома, где они пьянствуют, я не знаю. Умру ведь – и ни один из них не появится, чтобы проводить меня на кладбище. Никогда не думал, что окажусь в таком положении. Маурицы, приезжай!»
Делать было нечего, Беневский быстро собрал дорожный саквояж и поехал в Венгрию, к дяде.
Дядя встретил его у ворот имения и, обняв, заплакал – не выдержали нервы. Слезы лились у него по лицу ручьем, не останавливаясь, Маурицы растерянно смотрел на дядю, переминался с ноги на ногу, подсоблял себе палочкой, поскольку левая нога по-прежнему плохо работала, и не знал, что ему делать. И с одного бока подходил к дяде, и с другого – бесполезно было. Тот продолжал плакать.
Маурицы огляделся: не появятся ли где непутевые недоросли? Никого, кроме слуг, не увидел. Спросил:
– Где же они? Опять их нет?
Дядя вместо ответа проглотил очередной взрыд, вытащил из камзола платок и трубно высморкался в него.
– Дома они так и не появились, – сказал, голос его был наполнен слезами, дрожал, – больше месяца где-то болтаются. Где, в каких пенатах рисуют чертей на стенах – не знаю, – старик вздохнул, свернул платок квадратом и сунул назад, в камзол. – Пошли, Морис, в дом, – наконец произнес он.
Звал дядя племянника, как и многие в мире, Морисом, на модный французский лад, Маурицы не возражал – пусть люди зовут как хотят, только вместо ядра в пушечный ствол не заталкивают, – пошел следом за дядей к дому с гостеприимно распахнутой парадной дверью.
Вечером, за ужином, старик, хлебнув черешневой настойки, заплакал вновь, потом, промокнув глаза накрахмаленной жесткой салфеткой, сказал:
– Я чувствую, что скоро умру. Все, что я оставлю своим непутевым отпрыскам – землю, дом, усадьбу, хозяйственные постройки, людей, они за несколько месяцев спустят, ничего не останется, даже доброй памяти обо мне, – дядя всхлипнул горько, обреченно махнул вялой рукой и опять приложил к глазам салфетку.
Маурицы налил ему в хрустальный фужер холодной грушевой воды, дядя отпил несколько глотков и, немного придя в себя, продолжил дрожащим голосом:
– Назавтра я вызвал к себе нотариуса, священника, управляющего имением и двух соседей, с чьими землями граничат мои угодья.
– Зачем?
Вздохнув сыро, дядя поднял указательный палец.
– Затем, что я хочу завещать все свое имущество тебе, дорогой племянник, а не сыновьям.
Это было так неожиданно, что Маурицы даже вскочил со стула:
– Нет, нет и еще раз нет! – вскричал он громко.
– Да, да и еще раз да, – окончательно успокаиваясь, произнес дядя и потянулся за изящным, но очень вместительным графинчиком, в котором плескалась настойка.
Настойки оставалось в графине немного, и дядя щелкнул пальцами, подзывая к себе дворецкого.
Тот возник из пространства неслышно, молчаливый, как тень. Дядя показал ему опустевший графинчик. Молчаливая тень, как оказалось, имела язык.
– Какой настойки изволите? – низким густым басом спросил дворецкий.
– Давай-ка отпробуем абрикосовой палинки, – сказал дядюшка.
На следующее утро дядюшка поднялся с постели хотя и помятый – в этом возрасте даже наперсток палинки оставляет отпечаток на лице, – но бодрый, по-молодому подвижный.
– Сегодня у нас торжественный день, Морис, – сказал он, – сегодня мы будем подписывать завещание.
Беневский хотел было вновь запротестовать, пуститься в объяснения, но промолчал – отличное настроение, в котором сейчас пребывал дядюшка, не хотелось омрачать отказом.
Вернулся Маурицы в Вербово с дядюшкиным завещанием в дорожном сундучке. Братья, залегшие где-то в пьяном сытом тепле, в имении так и не появились, но зато через месяц с небольшим, когда скончался их отец, – он чувствовал свою смерть, иначе бы не завел разговор о завещании, – возникли с готовно распахнутыми ртами. Когда им объявили о последней воле покойного, о том, что имение принадлежит уже не им, теперь у него новый хозяин, взъярились так, что начали рвать на себе одежду. Отдышавшись, подобрали с земли оторванные пуговицы и помчались в суд.
Через месяц управляющий прислал в Вербово слезное письмо, где рассказывал о проделках молодых мотов: часть имения те уже продали, крестьян притесняют, а иногда вообще безбожно грабят, деревню их зажиточную вообще грозятся спалить – в общем, не братья, не наследники, а разбойники с большой дороги.
Хоть и не хотелось возвращаться в имение дядюшки, а возвращаться надо было – иного пути у Маурицы не существовало. Иначе ему не было дано выполнить волю мертвого человека.
Он собрался и вновь отправился в Венгрию. Управляющий имением встретил едва ли не слезным ревом.
– Вчера вечером братья бегали по деревне с мушкетами, – сообщил он, – грозились расстрелять тех, кто вас признает и станет поддерживать.
– Что было потом? – спокойно спросил Беневский.
– Потом они напились и улеглись спать.
– Где они сейчас?
– Спят. В большом зале, где обычно накрывают стол для больших обедов.
– Возьмите четырех человек и пошли со мной.
Управляющий исполнил просьбу Маурицы молниеносно.
Братья спали в большом зале на полу, на ковре, облепленные мухами. Храп, вырывавшийся из их глоток, был способен вышибить в доме стекла. Маурицы усмехнулся.
– К центральной двери подгоните телегу, – приказал он. Приказание это также было выполнено молниеносно.
Братьев, так и не пришедших в себя, не проснувшихся, погрузили в телегу и вывезли в чистое поле, туда, где кончались границы земли, подаренной дядюшкой Маурицы Беневскому.
Часа через полтора братья, протрезвившиеся от холодной сырости, не понимающие, что с ними произошло, пешком притопали в имение, испачканные грязью, в исподнем, озелененном прошлогодней травой. Кричали, ругались, матерились страшно, от криков их даже вороны поснимались с деревенских деревьев и улетели в лес.
Поскольку находиться в исподнем было неприлично, в деревне были и женщины и дети, Маурицы приказал выбросить в окно одежду братьев: пусть прикроют свой срам. Братья, продолжая оглашать криками округу, поспешно натянули одежду на себя, попробовали вломиться в дом через парадный вход, но этот номер у них не прошел – молодых разбойников быстро и ловко вышибли из дома. И драка, которую они пытались устроить, тоже не получилась, братьев отогнали от имения кнутами.
Потрясая кулаками, плюясь, они покинули деревню и зашагали в сторону тракта, ведущего в Вену.
Через некоторое время они появились в столице Австро-Венгерской империи, в приемной канцлера – хотели пробиться к нему. Шансов у них было мало, но недаром бытовала пословица, имевшая одинаково распространенное хождение и в России, и в Европе, «Дуракам везет», – дуракам действительно повезло, они не только пробились к канцлеру, но и сумели убедить его в том, что Беневский действовал, как бандит из подземелья, подделал завещание отца и попытался присвоить себе дорогое имение.
То ли канцлер оказался простачком, то ли кто-то помог братьям – не бесплатно, естественно, – из высокого кабинета они вышли с бумагой, предписывающей властям, на земле которых находилось отцовское поместье, незамедлительно вернуть имение единоутробным забулдыгам, а Маурицы Беневского арестовать и засунуть в каталажку.
Положение сложилось хуже некуда – Беневскому надо было спасаться. Ни в Вербово, ни в корпус генерала Лаудона возвращаться было нельзя – это все равно, что добровольно протянуть руки, чтобы на них нацепили кандалы.
Поскольку у Беневского с собою находилось рекомендательное письмо Лаудона, лучше всего сейчас было пробираться на север, в Лифляндию, в имение генерала, а там уж, оглядевшись основательно, принимать решение по части своих дальнейших действий.
Денег у Маурицы почти не было, он пустился в дорогу налегке, не успев даже толком собраться – слишком встревожило его письмо управляющего. Поступил Маурицы, конечно, легкомысленно, а сейчас, когда он очутился в опасности, за легкомысленность надо было расплачиваться. Он понимал, что за ним уже едут стражники, очутиться в их руках Маурицы никак не хотел, поэтому поспешно покинул дядюшкино имение.
В результате оказался без денег, без запасов одежды и еды. В чистом поле.
Пробираясь на север, Маурицы ночевал уже не на постоялых дворах, не в пансионатах с мягкими широкими постелями, а в обычных крестьянских хатах, не всегда обихоженных и чистых, на сеновалах, в ригах, иногда даже под раскидистыми кустами, в пути повидал много разных людей, в основном, простых и сделал для себя неожиданное открытие: душа у простого народа много чище, лучше, честнее, чем у людей так называемых благородных, наделенных дворянскими титулами, не всегда соответствующими сути их владельцев, и начал все чаще и чаще задумываться: а почему же мир устроен так несправедливо?
Одним, не заслуживающим за их деяния даже обычного доброго слова, дадено все, а другим, одаренным и нужным для общества, не дано ничего. Странно все-таки устроен мир, он не должен быть таким…
Бедняки делились с Беневским вареной картошкой и огурцами, хлебом и печеной на костре репой, богатые, к классу которых принадлежал сам Беневский, не делились ничем, более того, относились к нему, как к нищему изгою – высокомерно, с презрением, едва скрываемым в глазах и в снисходительных улыбках.
Было над чем задуматься бывшему поручику доблестной императорской армии. Вспомнились уроки доброты, которые он получал в семинарии Святого Сульпиция, книги, что доводилось там читать, и хотя Маурицы не любил отца-секретаря семинарии, пытавшегося засунуть свой нос куда надо и куда не надо – во все места сразу, словом, – к другим педагогам он относился хорошо.
Особенно к отцу-ректору, обладавшему большими знаниями и имевшему доброе лицо.
Беневский пристроился к богомольцам, идущим длинной вереницей в Ченстохово, так было проще спрятаться от стражников.
Много передумал, перебрал в своей голове Маурицы, пока продвигался пешком на север. В одном месте, в селении, он даже заработал серебряную монету, читая молитвы у гроба, в котором лежал нестарый еще мужик, уложенный в деревянный ящик взбесившейся лошадью.
Очень многое понял Беневский, держа эту монетку в руке. Как многое понял и в жизни простых людей, научился распознавать их характеры, понял, насколько народ этот надежен – в пути довелось одолеть не менее трех десятков строгих кордонов, где стражники могли даже раздевать богомольцев, очень цепко ощупывали глазами ряды паломников, но ни разу не засекли Беневского, хотя нетрудно догадаться – портрет его, словесное описание внешности, приметы были разосланы по всей Австро-Венгрии, по всем постам. И чудом было то, что Беневский все посты эти миновал благополучно.
До Ченстоховского монастыря он шел несколько дней и вместе со всеми очутился за толстыми крепостными стенами, внутри просторной обители.
Стоял монастырь, прочно впаявшись в плоть высокой горы под названием Ясная, будто крепость, виден был далеко, стены его были сплошь в выщербинах, в ломинах и вмятинах – следах таранов, а среди кирпичей выделялись своей неопрятной ржавью застрявшие пушечные ядра.
Вид этих ядер невольно рождал в душе опасный холодок. Выйдя за ворота – интересно было, – Беневский приблизился к одному из них, всадившемуся в стену уже на излете, ослабшему, но все равно застрявшему прочно, колупнул пальцем и сочувственно покачал головой, словно бы жалея людей, когда-то защищавших эти стены: у монастыря была богатая боевая биография, на веку своем он повидал много.
Маурицы вздохнул и, обойдя двух монахов былинного сложения, в черных рясах, вновь очутился на монастырском дворе.
В монастыре хранилась икона Божией матери, державшей на руках младенца Иисуса, слава об этой иконе распространилась по доброй половине Европы, она была чудотворной, помогала бороться с недугами, исцеляла хвори и хотя, как знал Беневский, в католических монастырях, в костелах икон, писаных маслом, было мало, в основном преобладали скульптурные изображения, главной же святыней Ченстоховского монастыря была написанная маслом икона Божией Матери.
К иконе, к светлым ликам ее, совершенно не замутненным временем, стояла длинная очередь: люди шли, шли, шли к ней. Поток был нескончаемым.
Беневский тоже подошел к иконе, потянулся к ней, поцеловал пахнущий лаком угол – икону недавно покрыли свежим лаковым слоем, – попросил прощения. За свое прошлое, за ошибки юности, за то, что сбежал из семинарии, за грехи свои – за все, в общем, что совсем недавно было его жизнью.
А жизнь продолжалась.
Надо было как можно быстрее покинуть пределы империи. Он поклонился гостеприимному Ченстоховскому монастырю, дюжим монахам Паулинского ордена, Ясной горе, вздымающейся под самые облака, на земляных проплешинах которой призывно зеленела нежная весенняя трава.
В ушах свистел ветер, бодро покрикивали озабоченные весенними хлопотами птахи, были слышны завораживающие, какие-то журчащие жавороночьи песни.
Он поспешно двинулся с Ясной горы вниз.
Около одного из зажиточных сел, снабжавшего продуктами целые города, Маурицы прихватила гроза, небо, разломленное на несколько частей сильным ударом грома, развалилось, в прореху полился сильный дождь. В несколько минут Маурицы вымок до нитки. Другой бы огорчился невероятно, а Беневский стоял в открытом поле под частыми струями дождя и только посмеивался. С него текло, как с ближайшего грозового облака, стоптанные башмаки потеряли форму, расползлись, а ему хоть бы хны… Маурицы было весело.
Словно бы и не скручивали его в дугу разные житейские тяжести, словно бы и не допекала рана на левой ноге – он хромал сильнее обычного, словно бы и не было кровоточащего пореза в душе – он никак не мог оправиться от несправедливости, допущенной по отношению к нему.
А ведь он и не очень-то хотел заниматься дядюшкиным наследством. От такого наследства легко заболеть и начать кашлять кровью.
По дождю, по вспененным лужам, по мокрой траве Маурицы дошел до околицы деревни, на которой располагалась деревенская кузница. Кузнец сидел на чурбаке, посасывал небольшую глиняную трубочку, заправленную крепким табаком-самосадом, и слушал человека в матросской косынке, сидевшего напротив него.
А человек в косынке рассказывал кузнецу о море. Лицо его показалось Беневскому знакомым. Где-то они встречались, вот только где именно – Маурицы вспомнить не мог.
– Пробовал я работать на берегу, отсидеться от дел морских около юбки своей любимой жены – ничего не получилось… Море – это ведь как болезнь, заболеваешь им и никуда не можешь деться, спрятаться, и лекарств от болезни сей нет, только одно способно помочь – вновь уйти в море.
Маурицы вслушивался в голос этого человека – голос тоже был знакам ему, даже более, чем знаком, – вот только кто этот человек? Где они встречались?
– Сходишь в море, вернешься, успокоенный, на берег, а через некоторое время, через полгода-год вновь начинается старое, нападают приступы тоски… Они как волки, душу грызут до крови, – моряк вздохнул, стянул с головы косынку, чтобы перевязать ее – слишком ослабла, и Маурицы понял, кто это… Упоминание о волках помогло.
Это был возница, с которым они на зимней дороге отбивались от прытких серых хищников. Беневский подошел к моряку, тронул пальцами за плечо.
– Узнаешь меня?
Моряк прищурил один глаз, потом второй, в следующий миг всплеснул руками:
– Господи, это вы?
– Я, – Маурицы утверждающе наклонил голову, и когда моряк поднялся с чурбака, крепко обнял его. – Вот неожиданная встреча!
Такие встречи на пустом месте не возникают, у них есть матерь – судьба человеческая, они бывают, как правило, рождены провидением. Судьба подавала Маурицы свой знак.
До Лифляндии он не дошел. Остался на лето работать у кузнеца. Вместе с возницей-моряком. Работы у кузнеца было много, подручных своих он не обижал, платил исправно, они ему отплачивали, скажем так, верностью: могли уйти летом, в середине, в горячую пору, но ушли осенью, когда деревья покрылись ярким багрянцем, а в воздухе беззвучно заскользили длинные серебряные нити паутины, придающие всякой осени особую печальную нарядность.
Пешком они дошли до тихого польского города Серадзи, несмотря на тихость свою, воинственно ощетинившегося острыми шпилями костелов, украшенными католическими крестами, на берегу Варты им удалось за небольшую плату устроиться на суденышко, неспешно плетущееся по реке, они поплыли на нем вниз, через несколько дней покинули борт и далее продолжили путь пешком.
– Как нога, Морис? – иногда спрашивал моряк озабоченным тоном, и Маурицы в ответ делал знак рукой, словно бы отрезал что-то в себе самом.
– Держится нога, еще не оторвалась, – произносил он негромко, и они шли дальше.
Двое суток им понадобилось, чтобы дойти до Добжиня, стоявшего на берегу Вислы, там они также устроились пассажирами на судно, отправляющееся на север.
Через неделю прибыли в сытый, добротно отстроенный город Кролевец, полный костелов, доходных домов, рестораций, магазинов, булочных, источающих манящий хлебный дух, и дворцов. Город оберегали несколько объединенных друг с другом крепостей, возведенных из темного, хорошо прокаленного кирпича.
Город рассекала на две части медлительная, всклень наполненная водой река Преголя. По обоим берегам Преголи стояли мальчишки и диковинными снастями, которые Маурицы никогда ранее не видел, выдергивали из вяло текущей воды змей. Маурицы даже плечами передернул: надо же, какая опасная река Преголя! Змеи в ней размножаются, как мухи.
Велико же было его удивление, когда на набережной, недалеко от городского собора он увидел маленький базарчик, где этими змеями, еще живыми, торговали. Торговля шла бойко.
– А что, разве змей едят? – недоверчиво спросил Беневский у продавца самого большого лотка, установленного на двух скамейках.
– Еще как, – ответил тот готовно, – только за ушами вкусный хруст стоит.
– Но это же змеи!
– Отнюдь, господин… Это не змеи, а очень благородная рыба – угри.
– И что с угрями делают? Жарят, варят, парят?
– Еще солят. И коптят. В любом виде эта рыба очень вкусная. Деликатес! – торговец в восхищенном жесте вздернул вверх большой палец.
Маурицы недоверчиво покачал головой, опасливо обошел лоток стороной и приблизился к темной спокойной воде Преголи. Вода хоть и была темной, но чистая, в глубине виднелись круглые коричневые горбы – крупные камни, занесенные илом, Беневскому показалось, что он и в прозрачной угольной глуби видит извивающихся змей…
– Ты видел еще где-нибудь такое? – спросил он у своего спутника.
Тот отрицательно покачал головой.
– Нет. Но в странах, где едят змей, я бывал. Например, в Индии.
– Об Индии я только слышал, – с грустью заметил Маурицы. – А побывать хотелось бы.
– Предлагаю наняться на корабль и поплыть в Индию.
– Наняться? Кем? Молотобойцем? – Маурицы демонстративно ощупал пальцами бицепс на правой руке – за лето он здорово окреп. – Старшим помощником младшего матроса?
Его спутник весело рассмеялся.
– Ремесло матроса – несложное. Его можно изучить за полторы недели. Зато впереди – все моря и океаны, жаркие страны и неведомые земли.
– Хороша истина, да не каждому дано ее постичь, – глубокомысленно заметил Беневский, – и уж тем более – потрогать руками.
– И все же это лучше, чем визит в имение к неведомым людям. Кто знает, что вас, господин хороший, ждет в имении генерала Лоудена…
– Что-то слишком уж важно ты начал меня величать – «господин хороший»! – Беневский не выдержал, усмехнулся.
В ответ последовал примирительный взмах рукой.
– А! Я бы не стал разбивать башмаки на дрянной дороге, ведущей в генеральскую усадьбу, и нанялся бы на корабль.
– Мысль хорошая… – начал Маурицы и умолк: а ведь это действительно неплохая мысль, только ее надо, пожалуй, основательно обмозговать, а уж потом принимать решение.
Размышлял Беневский недолго. Поселился в дешевом отеле, построенном на берегу одного из рукавов Преголи, очень небольшом, никак не способном украсить остров Кнайпхоф, расположенный в центре города, где располагались и университет, и ратуша, и кафедральный собор, в деталях пообдумывал свое житье-бытье и через сутки с небольшим, вечером, отправился в гавань, в матросский кабачок, где, как он знал, должен проводить время с кружкой пива в обнимку его попутчик.
Тот действительно находился в кабачке. В воздухе плавал густой сизый дым, гремели голоса, пахло жареным мясом. Маурицы в полумраке не сразу нашел своего спутника, а когда нашел, то подивился его мрачному лицу и потухшим глазам.
– Ты чего? – спросил. – Что-то ты мне не нравишься. Случилось чего-нибудь?
– Ничего не случилось. Просто я думаю о своих. Давно у них не был. Как там мои старики, мать с отцом? Сегодня во сне отца видел – стоит передо мною во весь рост, улыбается, но ничего не говорит. Даже на вопросы не отвечает. Вот думаю, не стряслась ли с ним какая-нибудь беда?
– Я тоже часто вижу во сне отца, но это совершенно ничего не значит.
В ответ раздался глубокий вздох.
– Дай Бог, чтобы ничего не стряслось.
– Ты знаешь, зачем я пришел?
– Догадываюсь. Я даже присмотрел для нас корабль.
– Молодец! – не удержался от восхищенного возгласа Маурицы. – Ой, молодец!
– Можем хоть сейчас пойти к капитану и заключить с ним контракт. Он ждет нас.
– Не будем спешить, нанесем визит к капитану завтра утром, – Маурицы звонко щелкнул пальцами, подзывая к себе проворного скуластого паренька в красном переднике, разносившего по столам кружки с пивом. Паренек немедленно устремился к нему. – Четыре пива, – заказал Маурицы, – четыре жбана. – Опустился на деревянную лавку, до блеска отполированную грубыми матросскими штанами.
Парусный корабль, который присмотрел спутник Маурицы, был большим, тяжелым, тихоходным, с грузно провисшими скатанными парусами и косой кормой, с которой было удобно сбрасывать в воду рыболовецкие снасти. Назывался парусник «Амстердам». Естественно, у судна с таким названием капитаном мог быть только голландец.
Так оно и оказалось – капитан, прокопченный до коричневы, стоял на борту и сбрасывал вниз, мелким рыбехам крошки, оставшиеся от вечерней лепешки. Звали его Франс Рейдаль. Лицо украшала округлая шкиперская бородка, сияюще белая от платиновой седины, какая-то светящаяся… Лицо капитана Рейсдаля было добрым, Маурицы как никто умел отличать добрые лица от недобрых.
– Господин капитан! – крикнул снизу спутник Беневского.
Капитан бросил в воду несколько оставшихся крошек и поднял голову.
– Ну!
– Можно подняться к вам на борт?
Рейсдаль одобряюще махнул рукой:
– Заходите!
На борту капитан внимательно оглядел гостей – глаза у него были цепкими и насмешливыми.
– С чем вы пожаловали, я понял, – негромко проговорил он. – Что умеете делать? – Покосившись на спутника Маурицы, он произнес: – Тебя, парень, я уже где-то видел.
– В Балтийском либо в Немецком морях, господин капитан, больше нигде.
– Это хорошо, – Рейсдаль одобрительно хмыкнул, – море умеет выращивать хороших людей. – Он взял лежавший на боцманском ящике кусок веревки, кинул в руки спутнику Беневского. – Ну-ка, завяжи мне двойной морской узел.
С задачей экзаменуемый справился блестяще, узел получился мертвый, Рейсдаль попробовал его развязать и вновь одобрительно хмыкнул.
Через двадцать минут он объявил, что берет на корабль обоих.
– Идите на камбуз, вам выдадут по лепешке и миске чечевичной похлебки, – сказал он. – Поешьте, пока похлебка горячая.
Простые слова произнес капитан, но тон их был заботливым и это родило внутри тепло. Симпатичный все-таки человек капитан Рейсдаль. С другой стороны, Беневский ощутил, как на него навалилась печаль. Еще совсем недавно он имел все, серебряными монетами, которые сейчас приходится добывать с таким трудом, мог кормить кур, на плечах его блистали эполеты, он ими гордился, а сейчас? Что он имеет сейчас?
В горле возникло невольное жжение. Беневский вздохнул и, опустив голову, пошел следом за своим спутником на камбуз.
Капитан Рейсдаль оказался занятной личностью, настоящим морским волком – много знал, много плавал, но это было раньше, сейчас, на старости лет плавает уже меньше, – попадал в разные океанские передряги, побывал в разных сказочных странах, которые Маурицы мог видеть только во сне, – в общем, был он Беневскому интересен.
А вот команда парусника – полтора десятка горластых, довольно злых матросов – ничего интересного из себя не представляла: обычный человеческий материал, который Беневским был уже неплохо изучен. С матросами Маурицы не ссорился, даже если был с чем-то не согласен, молчал, не выступал – обучился и такой науке.
Парусник «Амстердам» совершал короткие рейсы, стараясь за пределы Балтийского моря не выходить, он даже в Немецком море перестал появляться, – перевозил в основном зерно, пеньку для корабельных канатов, деготь, сушеную рыбу, мануфактуру, железные заготовки, бочки с «земляным маслом», как тогда называли нефть, муку, медь, строевой лес, пассажиров, смолу, кадки с солониной, кожи – если перечислить все, что побывало в трюмах «Амстердама», дня не хватит.
Единственное, что «Амстердам», пожалуй, только уголь не перевозил, и то лишь потому, что капитан боялся превратить свое чистое судно в замызганное помойное ведро, в котором на свалку выносят мусор.
Конечно, капитану Рейсдалю хотелось отправиться в дальнее путешествие, но – возраст, возраст… И волосы на голове у него были белые, и бородка, аккуратно окаймлявшая лицо, она тоже была сплошь белая – ни одного темного волоска. В Кролевце у него, несмотря на голландское происхождение, жили два сына, – оба были моряками, капитанами, – и подрастало шесть внуков. Все – мальчишки, ни одной девчонки, этоим обстоятельством Рейсдаль был доволен.
Беневскому степенный капитан нравился и он с удовольствием отправился бы в дальний поход с ним, да вот только Рейсдаль при мыслях о дальних походах только вздыхал и для того чтобы поплыть куда-нибудь в Индию или в Африку, выбрал целью ее умеренный юг, ничего не предпринимал.
Оставалось Маурицы Беневскому только одно – учиться у седого капитана морскому делу, чем Маурицы, собственно, и занялся, быстро освоил науку, стал разбираться в картах и лоциях не хуже Рейсдаля, познал такелаж и боцманские заботы, вскоре мог ремонтировать мачты, реи, паруса, несмотря на хромоту, лазил вверх и делал это очень ловко – он вообще оказался способным учеником.
Раз в неделю, в самом начале, они обязательно уходили куда-нибудь с грузом, резали форштевнем пенные волны, через несколько дней возвращались, матросы расходились по домам – у всех в Кролевце были свои дома, семьи, Рейсдаль оставлял парусник на Маурицы и его верного спутника и тоже исчезал. Когда команда появлялась на борту, Беневский сходил на берег…
Так тянулись дни, недели, месяцы.
Однажды Беневский сошел на берег, уселся на новенькой деревянной скамейке около одного из крепостных фортов, вытянул ноги в расслабленной позе и стал любоваться окрестностями. Стояла пора «белого неба» – и дни и ночи были одинаково светлыми, безмятежными, очень ясными, лишь где-то часа в четыре после полуночи воздух наполняла слабенькая темнота, но это продолжалось недолго, минут через двадцать темнота снова начинала разжижаться. А вот сам воздух был плотным, густым от медового запаха сирени и цветущих лип. Ах, как вкусно пахли цветущие липы – особенно в вечернюю предзакатную пору. Воздух был таким тугим, что его, кажется, можно было, как засахарившийся мед, резать ножом.
Хорошо было. Даже двигаться не хотелось – ни руками шевелить, ни ногами, думать тоже не хотелось – хотелось только созерцать природу, ловить глазами солнце, которое никак не могло закатиться за горизонт, неподвижно висело в воздухе, да лениво втягивать в себя густой душистый воздух.
Маурицы просидел на скамейке более часа, потом поднялся и направился в гавань, где стоял «Амстердам».
Он уже почти добрался да парусника, оставалось пройти метров сто всего, как услышал за своей спиной тихий предостерегающий голос:
– Стой!
От такого голоса внутри обычно рождается холод. Беневский остановился.
– На корабль не ходи, – предупредил голос, – там тебя арестуют… Не бойся, меня прислал капитан Рейсдаль. Иди сюда!
Беневский оглянулся. За спиной никого не было.
– Сюда иди! – густые кусты сирени, нависшие над дорожкой, раздвинулись с тихим шелестом, в темном прогале мелькнуло лицо. Это был один из матросов парусника.
– Что случилось?
– Тебя пришли арестовать, Морис, – сказал матрос, – два солдата с ружьями и офицер, они сейчас находятся на корабле. В чем-то тебя обвиняют, в чем именно, я не знаю. Капитану учинили допрос, потом начали допрашивать команду, и капитан, улучив момент, послал меня на берег – предупредить. На «Амстердам» не ходи.
Все, начались новые испытания, их очередной виток. Маурицы сквозь стиснутые зубы втянул в себя воздух, раздосадованно покрутил головой.
– Ладно, – глухо проговорил он, – спасибо, что предупредил, брат. И особенное спасибо капитану Рейсдалю. Он – очень хороший человек.
Краски, которыми Беневский любовался всего двадцать минут назад, погасли, мир сделался тусклым, природа больше не радовала Маурицы. Он снова оказался на тропе испытаний. Куда приведет его этот путь, никому не ведомо, и в первую очередь самому Беневскому.
Холод, возникший внутри, усилился, распространился почти по всему телу, Маурицы почувствовал, что ему сделалось трудно дышать. Похоже, он опускался все ниже и ниже, из героев-офицеров корпуса Лаудона переквалифицировался в матросы тихоходного корыта, из вольнолюбивых дворян, имевших вкус к жизни, к путешествиям, к воинским приключениям, к дамам, сполз в изгои, преследуемые законом.
Было, над чем задуматься.
В ту же ночь Маурицы Беневский исчез из Кролевца. Утром двое солдат с ружьями, возглавляемые офицером, вновь появились на палубе «Амстердама».
– Где Беневский? – грозным басом поинтересовался офицер у капитана Рейсдаля, Франс Рейсдаль был человеком неробкого десятка, но в этот раз ему показалось, что вместо Беневского солдаты сейчас арестуют его самого, и он чуть было не дрогнул… Но не дрогнул, устоял, нашел в себе силы развести руки в стороны и доброжелательно улыбнуться:
– Не знаю.
– На ночь он сюда, на «Амстердам», приходил?
– Нет.
– Раз не приходил, значит – виноват, – такой вывод сделал офицер, свысока поглядел на своих солдат, – но из Кролевца уехать он не должен. Будем ждать, когда он появится.
Хозяйским тоном офицер велел солдатам располагаться на палубе, как у себя дома, и ружья свои держать наготове.
Два дня солдаты дежурили на «Амстердаме», ожидали Беневского, но не дождались и покинули парусник несолоно хлебавши, Беневский на судне не появился. Он даже за вещами своими, которые остались в матросском кубрике, не пришел – исчез бесследно.
Где он пропадал – никому из современников не было ведомо.
Одна любопытная деталь – военным комендантом Кролевца в ту пору был славный русский генерал Суворов Василий Иванович – отец великого полководца. Молва до нас с той поры дошла следующая – они встречались, Беневский и Суворов-старший. Суворов-младший и Маурицы Беневский тоже встречались, чин Александр Васильевич тогда имел небольшой, полковник или подполковник – всего лишь…
Но как произошла встреча, при каких обстоятельствах, не знает никто, и вряд ли кто уже узнает, подробности встречи остались в глубинах времени.
Часть вторая
Маурицы Беневский не пропал – всплыл через несколько лет в рядах так называемых «барских конфедератов». Объединение это – Барская конфедерация, – было создано в начале 1768 года в небольшом городе Баре, располагавшемся неподалеку от всем известной Винницы. Борьба, которую вели конфедераты в первую очередь, конечно же, была направлена против России, во вторую – против польского короля, посаженного на престол русской императрицей и плясавшего под ее дудку, а это польским шляхтичам очень не нравилось.
Беневский, имевший военное образование, влился в ряды конфедератов, очень скоро продвинулся по офицерской лестнице вверх и стал полковником. Воевать он умел – недаром генерал Лаудон полюбил его как сына и хорошо отзывался о нем. Через некоторое время Беневский был награжден орденом. Фигурой он сделался приметной, поговаривали, что очень скоро станет одним из вождей «движения за свободу Польши», но не тут-то было: Маурицы неожиданно угодил в плен.
Его скрутили и привезли в штаб русской дивизии, которой командовал князь Александр Прозоровский, боевой генерал, у которого в плену побывали фигуры более крупные, чем Беневский. Человеком генерал был доброжелательным, любил солдат и кровь лишнюю старался не проливать, поэтому Беневского под суд не отдал, а взял с него слово, что никогда тот не будет воевать против русских. Как тогда говорили – «отпустил под пароль». Пароль и был честным словом.
Беневский уже подумывал о том, а не вернуться ли в Вербово, в родные пенаты – он не знал, живы ли его мать и отец, – посмотреть, что делается в имении, хотя опасность была: а вдруг стражники до сих пор пытаются найти его и заковать в кандалы. И дернул же его черт поддаться на уговоры дядюшки и принять злополучное завещание… До Вербово дело не дошло, на Беневского навалились ксзендзы. По поводу слова, данного им генералу Прозоровскому, ксендзы лишь насмешливо развели руки в стороны:
– Слово, данное схизматику-раскольнику, не дороже воздуха, оно ничего не стоит. Его дают для того, чтобы через пятнадцать минут о нем забыть. Совсем другое дело, если слово дано «шляхтецкой вольнице». Вот это слово надо держать обязательно.
Прямолинейная, будто оглобля, логика ксендзов, как ни странно, убедила Беневского, он возвратился в армию конфедератов, получил очередное повышение, но очень скоро вновь угодил в плен. К солдатам того же самого Прозоровского. Его доставили в Краков, в штаб к князю, но Прозоровский даже разговаривать с ним не стал, поглядел как на пустое место и приказал:
– Отправьте этого строптивого господина в штаб округа, пусть там решают, что с ним делать.
В штабе округа размышляли недолго – Беневского отдали под суд. Отделался он, надо заметить, легко: его могли и расстрелять, и, вырвав ноздри, отправить на каторгу, и загнать на рудники в Сибирь, как это было сделано впоследствии с декабристами, и повесить, но военный суд вынес неожиданно мягкий приговор: Беневского выслали в город, не самый плохой в тогдашней России – в Казань и наказали сидеть там под надзором «впредь, до особого на то повеления».
И – никаких оков, ограничений в передвижении по городу, в знакомствах, в общении, в занятиях «ремеслами или искусствами». В общем, жить можно было.
Поселился Беневский на берегу Волги, в чистой просторной избе старика, умевшего лучше всех в Казани ладить лодки. Его лодки бегали по всей реке и их сразу, с первого же взгляда можно было отличить от других лодок. Что-то неуловимое, летучее, завораживающее, присутствовало в их абрисе, были они ловкими, увертливыми, брали много груза, не переворачивались – к дядьке Никите, как звали мастера, выстраивались целые очереди рыбаков, желающих обзавестись новой лодкой.
И дядька Никита старался. Единственное, что было плохо – был он великим молчуном, за сутки мог произнести всего пару слов, тем и ограничиться. Беневского, человека разговорчивого, это обстоятельство угнетало. Понемногу он начал приглядываться к соседям и через некоторое время познакомился с еще одним ссыльным, также решившим жить около волжской воды, на берегу – шведом Альфредом Винбладом[1]. Он, как и Беневский, тоже воевал на стороне Барской конфедерации. В чине майора.
Конечно, швед был более разговорчив, чем дядька Никита, но не настолько, чтобы беседы с ним приносили удовлетворение, и Маурицы понял: надо уходить в самого себя, в книги, в размышления, в воспоминания.
А вспомнить ему было что. Хоть автор и признался, что о жизни Беневского после Кролевца известно мало что, самому Беневскому, естественно, было известно все. И события те были свежи в памяти. И то, как он бежал из Кролевца – чопорного Кенигсберга впоследствии, – позже Маурицы узнал, что в нем заподозрили шпиона (иначе, наверное, и быть не могло, ведь он был австрийским офицером, враждебно относящимся к Пруссии и потому разыскиваемым полицией) и решили задержать; без помех покинув Кролевец, Беневский всплыл в Голландии, потом в Англии, затем в Мальтийском ордене, где начал внимательно присматриваться к рыцарскому одеянию и примерять его на себя, но рыцарем Мальтийского ордена он не стал…
Всплыл в Польше, в рядах борцов шляхтецкой революции, боролся с русскими, – впрочем, совсем не думая о том, что может оказаться казанским узником. А у узников редко бывают друзья, узники, в основном – одинокие люди.
Новый знакомый Винблад чем-то напоминал ему капитана Рейсдаля – был худощав, загорелое длинное лицо его окаймляла короткая, стриженая по-шкиперски бородка, из крепких бледных губ торчала небольшая, заправленная душистым табаком трубка.
Только Рейсдалю уже перевалило за шестьдесят пять, а Винбладу недавно исполнилось сорок.
И другое отличие: Винблад говорил в основном немного, хотя иногда его прорывало и он мог прочитать целую лекцию, но такое случалось редко, – а добрейший капитан Рейсдаль был способен не закрывать рта часами. Впрочем, это нисколько не отражалось на исполнении им своих обязанностей.
Но несмотря на всю немногословность, именно Винблад подбил Беневского на побег.
– Мы здесь, в Казани, протухнем, пока нам простят грехи и отпустят домой, – сказал Винблад. – Надо бежать отсюда.
Беневский вначале заколебался, потом подумал немного и согласно наклонил голову.
– Действительно надо, – он вздохнул. – Но сделать это нужно так, чтобы, говоря словами русских, комар носа не подточил. Куда бежать? На запад, на север, на юг? Каждая дорога имеет свои плюсы и минусы…
По плану, который они разработали, бежать решили в Санкт-Петербург, справедливо посчитав, что полицейские вряд ли будут искать их там – это во-первых, а во-вторых, в городе можно будет легко сесть на иностранный корабль и отчалить за пределы суровой России.
За окном стоял сырой август 1769 года, над Волгой ползли низкие серые тучи, каждый день громыхал тяжелый гром; жители Казани часто навещали окрестные леса, стремясь собрать урожай здешних грибов, ягод, груш-дичков, придающих любой каше аппетитный аромат, запастись целебными травами, чтобы было чем лечиться зимой, всякий свой поход за лесными дарами люди сопровождали песнями.
Беневский явился в околоток, попросил разрешения заняться тем, чем сплошь да рядом занимается местное население – сходить в дремучую чащу, набрать и насушить на зиму грибов, ягод, трав – без этого не обойтись, иначе в пору больших снегов можно задрать лытки, и разрешение такое получил – в нем не было ничего противозаконного.
То же самое сделал и Винблад, и тоже получил разрешение – в околотках сидели такие же люди – сами промышляли по лесам и знали, как трудно выживать в долгую зимнюю пору: если сейчас не запасешься всем необходимым – потом зубы на полку положишь.
Выходило так, что в течение целой недели, а может быть, даже и больше, до Беневского и Винблада никому не будет дела.
Беглецы уложили в заплечные мешки сухари, которые успели приготовить, по паре килограммов вяленого мяса, по десять фунтов копченой рыбы, купленных в слободе у местных умельцев, и хмурым тревожным рассветом в середине августа исчезли из Казани.
Хватились беглецов, конечно же, не сразу, – как, собственно, и было задумано, – те пропустили все сроки и не появились в околотке, тогда в избы, где жили Беневский и Винблад, наведались стражники с ярко начищенными медными бляхами на кафтанах, перерыли в домах все, но ссыльных не нашли.
По тревоге было поднято три околотка, по окрестностям Казани разосланы конные разъезды, с одной целью – найти беглецов. Разъезды добрались до Нижнего Новгорода, задержали несколько десятков бродяг, но ни Беневского, ни Винблада среди задержанных не оказалось – они как сквозь землю провалились.
Герои наши сквозь землю, естественно, не провалились, они потихоньку преодолевали сантиметры самодельной карты, которую срисовал с карты настоящей хитрый швед, и продвигались к блистательному Санкт-Петербургу. Ночевали в лесах, кутаясь в плащи, в деревни почти не заходили.
Еды у них, конечно, было мало, но все же она была: Винблад оказался искусным ловцом птиц – ставил силки на рябчиков, перепелок, коростелей, и пока они ночью отдыхали где-нибудь под кустами на опушке или в копнах сена, в веревочных силках обязательно оказывались две-три птички.
Общипать их было делом нескольких минут, и вскоре на небольшом костерке уже варилась похлебка. Птичья.
Похлебки этой Беневский и Винблад наелись, кажется, на всю оставшуюся жизнь, костерные головешки закапывали в землю – следов после себя не оставляли и неторопливо двигались дальше, – именно неторопливо, поскольку понимали: время работает на них и чем дальше, тем больше о них будут забывать, пока наконец вообще не вычеркнут из списков беглецов, а потом и – вообще из памяти.
В Санкт-Петербург они вошли восьмого ноября, облепленные мокрым снегом, валившим с небес, продрогшие, с красными от ветра лицами и сочащимися простуженными носами, благополучно обогнули несколько городских застав и очутились на дороге, ведущей в гавань, где стояли иностранные корабли. При виде кораблей, снежных куч, плавающих в стылой воде и тумана, низко повисшего над заливом, Винблад невольно вздохнул:
– Мне это очень напоминает родную Швецию, – он неторопливо огляделся. – Если здесь есть хотя бы одна шведская посудина, она нас возьмет к себе на борт.
Но посудин шведских в гавани не было. Ни одной. Винблад вздохнул и молча опустил руки.
Хотелось есть. Так хотелось, что желудки у беглецов, кажется, слиплись, в них поселилась голодная боль. Котомки были пусты. Еду сейчас можно было достать только на кораблях, мрачно покачивающихся на мелких водах гавани.
Но на корабль еще надо было устроиться.
– Что будем делать? – спросил у напарника Беневский.
– Пошли к голландцам, – сказал Винблад, – голландцы и шведы – родственные души, всегда помогают друг другу. Меня послушают и помогут.
– Но я-то не швед…
– Неважно. Зато я швед, – Винблад был упрям, у него на лбу даже волевая складка нарисовалась – видно, упрямство было родовой чертой бывшего майора армии конфедератов.
В гавани стояли три голландских корабля, с носа и кормы привязанных канатами к берегу, чтобы не оторвало и не уволокло в море. На двух голландцах никого не было, безжизненно опустевшие палубы были занесены снегом, и на одном у борта сидел толстый человек в роскошной синей треуголке и, сладко сопя, посасывал длинную трубку с прямым чубуком. Беневский видел такие трубки у англичан: те очень любят длинные чубуки – считают, что вся табачная грязь в этих чубуках и остается, а затягиваются они чистым, вкусным, пропитанным медом и душистыми травами дымом.
– Эй, приятель, – окликнул курильщика Винблад, – не можешь подсказать, где находится шкипер твоего славного судна?
Курильщик внимательно оглядел людей, стоявших внизу, и неспешно вытащил трубку изо рта.
– Ну, я шкипер. А чего требуется господам?
– Извините, – смутился швед, – не признал. Дозвольте подняться на борт.
– Поднимайтесь, – шкипер вновь засунул трубку в губы.
На судне обитали жилые запахи – пахло свежим хлебом, вареным мясом, недавно оструганным деревом, свежепросмоленной пенькой, еще чем-то, рождающим в душе спокойствие и уверенность. Беневский невольно затянулся этим духом, в глазах у него даже мелкие слезы возникли, как от ветра. Он стер их кулаком.
– Господин капитан, вам не нужны матросы? – поинтересовался тем временем Винблад.
– Хорошие матросы всегда нужны, – резонно заметил шкипер.
– Мы хотим наняться только на одно плавание – отстали от своего судна…
– Что случилось, почему отстали?
Винблад, размахивая одной рукой, принялся долго и горячо объяснять причину – откуда только слова взялись у молчаливого шведа, непонятно, Беневский даже не подозревал, что тот знает столько слов, шкипер, слушая его, степенно кивал в ответ, иногда покашливал, похрюкивал что-то под нос, по невозмутимому, словно бы застывшему лицу его нельзя было понять, верит он рассказу или нет.
Наконец Винблад развернулся и махнул Беневскому с борта рукой:
– Поднимайся сюда, Морис.
Беневский, жалея, что костюм его выглядит помятым, замызганным, плащ – в пятнах и такая одежда может вызвать подозрение у всякого хозяина, поднялся наверх. Учтиво поклонился и в тот же миг молча выругал себя: моряки – народ более грубый, с политесом не знакомый… Вдруг шкипер что-нибудь заподозрит?
Голландец, помедлив, поклонился в ответ. Парусник его собирался выйти из Балтийского моря в Немецкое, и он согласился взять с собою двух лишних матросов – Винблад сумел убедить его. У Беневского отлегло на душе: молодец швед, нашел силы приподняться над самим собой и совершить словесный подвиг. Он благодарно сжал локоть Винблада.
Хозяин парусника, судя по всему, понял, что люди, появившиеся у него на борту – непростые, и отвел им небольшую пассажирскую каюту.
– Можете располагаться здесь. Если пассажиров не будет – останетесь до конца плавания.
– Когда отплываем?
– Завтра.
Беневский не удержался, потер руки:
– Завтра – это хорошо.
Господи, какое же блаженство может испытывать человек, когда после двух месяцев ночевок на голой земле, под кустами либо на старой прогнившей соломе прошлогодних копен, на сорванных еловых ветках, он вдруг видит нормальную постель с матрасом, туго набитым сухой морской травой, и подушку с наволочкой… Блаженство это неописуемое! Беневский не сдержал улыбки, буквально осветившей его лицо.
Сдерживая стон, он повалился на койку и несколько минут лежал неподвижно. Винблад сделал то же самое. Беневский приподнял голову и проговорил тихо:
– Даже чувство голода куда-то пропало, надо же!
Вместо ответа Винблад молча подвигал головой по подушке. Два маленьких окошка быстро наполнились темнотой: ноябрь – пора суровая, без пяти минут зимняя, светом людей не балует.
– Продержаться нам надо немного, Альфред, – прежним тихим голосом произнес Беневский, – осталось буквально чуть, и мы окажемся на свободе.
Винблад простуженно покашлял в кулак и вновь ничего не сказал.
Вскоре оба уснули, сны, которые видели беглецы, были светлыми, счастливыми, такие сны бывают только в детстве. И Беневскому и Винбладу казалось, что пробуждение у них будет радостным – ведь все трудности остались позади, впереди свобода и только свобода, но незадолго до пробуждения, на рассвете, в дверь постучали.
Стук был требовательным, жестким, Беневский знал, что означает такой стук, ощутил, как у него тоскливо сжалось сердце и в следующий миг проснулся.
В дверь вновь громко и требовательно постучали. На своей постели зашевелился Винблад.
– Кто это? – встревожено прохрипел он.
– Похоже, за нами пришли, – стараясь быть спокойным, произнес Беневский.
Он оказался прав: у каюты стоял тучный усатый таможенник, рядом с ним – полицейский офицер и двое солдат с новенькими ружьями. Позади веселой компании серела фигура голландца-шкипера, предавшего их. Прочными лошадиными зубами голландец крепко сжимал мундштук своей длинной туземной трубки.
– Хорошенький же договор оказался у тебя, Альфред, с капитаном, – горько усмехнувшись, проговорил Беневский.
Винблад глянул на своего товарища тоскливыми, какими-то загнанными глазами и молча кивнул: стыдно было, что он не раскусил шкипера-голландца, доверился ему, а тот сдал своих новых матросов российским стражникам.
Внизу, на причале, под самым бортом парусника, стояла глухая тюремная карета, заряженная двойкой лошадей.
Дело Беневского и Винблада разбирала специальная судебная комиссия Правительствующего сената, разбирательство было недолгим. В результате граф Польской короны, полковник армии конфедератов, кавалер ордена Белого орла и шведский дворянин Альфред Винблад, майор той же армии, были приговорены к вечной ссылке в Большерецкий острог, расположенный там, где кончается земля – на Камчатке.
Беневскому в ту пору было двадцать восемь лет, шведу – сорок один.
Тогда-то просвещенная публика впервые услышала титул Беневского, который тот огласил лично: «Пресветлейшей Республики Польской резидент и Ее Императорского величества Римского камергер, военный советник и регементарь». Сановный перечень этот был грозным и высокопарным, от него попахивало чем-то авантюрным…
На дорогу от Санкт-Петербурга до Камчатки, до Большерецкого острога, нужно было потратить не менее года: просторы России были огромны…
Что из себя представлял Большерецк той поры?
Входило это поселение в обширную Якутскую область, имелось в нем три острога, самый главный, неприступный, вольно расположившийся на мерзлой земле, где можно было развернуться и заключенным и охранникам, вооруженный пушками, – Большерецкий. Построен Большерецкий острог был в удобном месте, там, где река Быстрая впадала в реку Большую. А река Большая, в свою очередь, впадала в морской залив.
Главным учреждением, которое управляло огромной Камчаткой – реками, вулканами, землей, лесами, была канцелярия капитана Нилова, человека добродушного, красноносого, любителя выпить и хорошенько после возлияния закусить, находившегося в подчинении у командира Охотского порта. Капитан Нилов и был человеком номер один на Камчатке, народ при виде его должен хлопаться на колени – все люди без исключения, но этого не происходило, и капитан-повелитель на неповиновение не обращал внимания. Точнее, старался не обращать, хотя при случае, говорят, мог хлестнуть какого-нибудь наглеца плеткой и просипеть ему в лицо несколько популярных среди простого люда слов.
Домов, которые в Большерецке называли обывательскими – то есть, предназначенных для жилья, было чуть более сорока, точнее – сорок один, рассчитаны они были на девяносто жильцов, имелся также командирский дом, который занимал, естественно, сам Нилов – просторный, светлый, со стеклами в окнах. В остальных домах стекла заменяли хорошо выделанные пузыри, и большерецкие обитатели, довольствуясь малым, особо не роптали.
А с другой стороны, на рыбьих пузырях можно было и деньгу сэкономить: ведь за стекла и печные трубы тогда брали налог, и налог этот был немалый.
Поселок украшала постройка, радующая глаз всякого, кто здесь появлялся – церковь Успения Богородицы, при храме находился и дом настоятеля, имелись еще купеческие лавки, много лавок – двадцать три, и четыре прочных амбара, в которых размещались склады: хранили там съестные припасы, пушнину, порох, свинец. Оберегал это добро специальный человек – магазейный казак Никита Черных, человек суровый, с широкими плечами и мощной грудью, в одиночку ходивший на медведя.
На этой же площади стояли другие важные постройки – низенькая длинная канцелярия, которую звали воеводской избой, это было более привычно, – заморское слово «канцелярия» вызывало неприятные ощущения, прилипало к зубам – не сковырнуть, – покривившаяся, вросшая в землю по самый срез крыши баня и «съезжая», иначе говоря, арестантский дом, куда сажали на хлеб и воду провинившихся жителей Большерецка, а также некоторых приезжих.
Подчиненный Нилову гарнизон состоял из семидесяти казаков, из которых примерно пятьдесят человек всегда находились в разъездах, мотались по всей Камчатке, собирали пушнину, которую потом отправляли на запад, в стольный град Санкт-Петербург: на реке Неве камчатские соболи пребывали в большом почете.
Вот, собственно, и все, что можно было сказать о месте, в котором теперь предстояло жить Беневскому и Винбладу. Винблад приуныл, а Беневский вешать нос не стал. И прежде всего потому, что они были в Большерецке не одни: когда в Охотске их переправляли на небольшой военный галиот, чтобы доставить на Камчатку, на галиоте уже находились ссыльные, которым предстояло тоже прописаться в Большерецке – Иосафат Батурин, Василий Панов и Ипполит Степанов.
Батурин был армейским офицерам, поручиком Ширванского пехотного полка, хотя в ссылке называл себя не иначе, как полковником артиллерии, и только так. Человеком он был тихим, погруженным внутрь собственного «я», в споры вступал редко, шумных компаний сторонился и любил ловить рыбу, из реки Быстрой иногда приносил кижучей по пятнадцать килограммов весом.
Ипполит Семенович Степанов в прошлом считался лихим ротмистром, владевшим в Московской губернии роскошным имением, принадлежал к разряду зажиточных помещиков, гордо носил на плечах неплохую голову и умел складно писать – у него обнаружился литературный дар. Участвовал в работе комиссии, которая занималась созданием нового Уложения законов Российской империи, и проявил себя настолько настырным спорщиком, что государыня Екатерина решила не просто убрать его из комиссии, куда он был выдвинут дворянством Верейского уезда, но и отправить куда-нибудь подальше, чтобы не мешал и не мутил воду в столице.
Более того, Степанов имел неосторожность поссориться с всесильным Григорием Орловым, фаворитом императрицы… В результате бравый ротмистр очутился на краю краев земли, в Большерецком остроге.
Самым ярким из трех бунтовщиков, посаженных в Охотске на военный галиот был, конечно же, Василий Панов, гвардейский поручик, представитель знатного рода – принадлежал, как отмечали историки той поры, «к очень хорошей фамилии с большими талантами и особенной пылкостью ума, но увлеченный порывами необузданных страстей, послан он был за первое, не очень важное преступление в Камчатку».
А что такое «порывы необузданных страстей»? Ни много, ни мало – призывы свергнуть императрицу Екатерину Вторую и возвести на ее место Павла Петровича. А Павел Петрович – это внук царевны Анны Петровны, дочери Петра Великого, и сын Петра Третьего, который, как считали ссыльные, был незаконно лишен престола.
Вникнув – уже на Камчатке, – в сложные перипетии придворных событий и драм, Беневский быстро сообразил, что к чему, и в Большерецке стал называть себя курьером Павла Петровича.
А Батурин к тому, что он – «полковник артиллерии» начал добавлять «кабинетский обер-курьер императора Петра Федоровича» – отца Павла Петровича.
Вот такой сиятельный клубок образовался в Большерецке.
Поселился Беневский в хате поручика, лейб-гвардии Измайловского полка Петра Хрущева. Бывшего, конечно, поручика. Хрущев – подвижной, деятельный, всегда находил себе какое-нибудь занятие, если же занятия не было, играл в шахматы.
Шахматистом он был сильным. Если игра шла на «интерес», мог обыграть кого угодно, даже самого капитана Нилова и заставить его кукарекать. Или сыграть из губах мазурку, занятие это, как известно, было больше достойно сына Нилова, но на губах, случалось, «пиликал» и сам папаша.
Сослан был Хрущев, как и Беневский, на Камчатку навечно, к тому моменту, когда Маурицы появился здесь, пробыл в ссылке уже девять лет, прижился к здешним местам, подружился с людьми, но от одной мысли не отказывался никогда… Он мечтал бежать.
Ему очень хотелось покинуть Большерецк. Но куда бежать? Этого Хрущев не знал. Наверное, вначале на безлюдные острова, расположенные неподалеку от Камчатки, потом на Курилы, а потом… потом в Америку. Говорят, очень недурно живет там народ.
Хотя одно плохо – в Америке может заесть, загрызть тоска. О том, что у тоски может быть медицинское название, точнее, диагноз – ностальгия, – Хрущев не знал. Этого названия не знал даже толковый лекарь, живший в Большерецке, ссыльный швед Магнус Мейдер, крепкий семидесятилетний старик, помогавший здешним поселенцам бороться с хворями в суровых северных условиях.
Грех, за который дворянин Петр Хрущев попал на Камчатку, был велик: он также попытался свергнуть Екатерину Вторую, на ее место посадить Ивана Антоновича – тихого «царственного узника», начавшего в заточении уже заговариваться, но попытка не удалась – блистательный гвардеец был «обличен и винился в изблевании оскорбления величества», как было указано в «Полном собрании законов Российской империи с 1649 года» (том шестнадцатый). «Хотя мы собственно наше оскорбление в таком злодеянии великодушно презираем, но не могли пренебречь правосудием к обиженному народу, видев в нем возмутителя общего покоя», – написала в своем указе Екатерина Вторая и приговорила Хрущева к смертной казни, которую потом заменила вечным поселением в Большерецком остроге. Поскольку Хрущев был не один, в заговоре вместе с ним участвовали трое братьев Гурьевых, – все офицеры, – то старшего Гурьева императрица также приговорила к смертной казни с последующей заменой на ссылку, двух других Гурьевых, Петра и Ивана, – к вечной каторге с отбыванием ее в Якутии…
Сурова была императрица. Хотя и много сделала для России.
В Большерецке Маурицы понравилось. Комендант острога Нилов большей частью пил, когда он шел осматривать крепостные объекты, – дело это капитан считал наиглавнейшим в кругу своих обязанностей, – то нос его светился, как красный фонарь, подвешенный к мачте корабля, чтобы было видно далеко и встречное судно могло избежать столкновения; запах спиртного капитан улавливал мгновенно и тут же сворачивал на него, – но ссыльных Нилов не притеснял и это было для обитателей Большерецка очень важно.
Камчатка славилась своими неописуемыми красотами, Беневский никогда не видел ничего подобного. Ни вулканов, занимавших половину неба, ни речек, забитых рыбой-кетой так, что местные мужики подгоняли к какому-нибудь перекату телегу, заходили в воду с вилами и накладывали целый воз рыбы. С верхом.
Рыбу тут вялили, сушили, кормили ею домашних животных, собак и птиц, заготавливали на зиму, вытапливали из нее жир. Жир шел не только в еду, но и был тогдашним «электричеством» – им освещали низенькие, горбато вросшие в землю дома. Чем ниже хата сидела в земле, тем теплее было жильцам. А зимы здесь выдавались лютые, с морозами, которые легко крушили камни и распластывали деревья от макушки до корней, с ветрами, не позволяющими человеку даже рот открыть – мигом запечатывали снегом, либо набивали глотку твердым, как гранит льдом, способным выломать зубы. Такого Маурицы тоже никогда и нигде не встречал.
Красивы и суровы были, конечно, здешние места, но при виде их внутри возникало что-то протестующее, остужающее, в чем-то даже непонятное, Маурицы со вздохом опускал голову, лицо его делалось задумчивым – оставаться здесь до старости, до гробовой доски было нельзя, нужно было думать о том, как выбраться отсюда.
А вот как выбраться, каким способом, Беневский пока не знал. Но в том, что это произойдет обязательно, он был уверен.
Как-то в хату к Хрущеву зашел купец Холодилов – человек на севере известный, богатый. Чернобородый, в собольем малахае, он зыркнул жгучими цыганскими глазами в одну сторону, в другую, остановил взор на Беневском, сидевшем на лавке, поинтересовался низким прокуренным басом:
– Ты, что ли, большой мастер перекидываться в шахматы?
В ответ Беневский недоуменно приподнял одно плечо:
– Не ведаю.
– Ты, ты! – напористо пробасил Холодилов. – Я это ведаю. Другого такого в Большерецке нет.
– Может быть, – лицо Беневского сделалось усталым и равнодушным.
– На деньги играешь?
– Если ваша милость соизволит – готов сыграть.
– Моя милость соизволит, – Холодилов захохотал, – еще как соизволит, – сдернул с себя малахай, бросил на лавку, где стояло питьевое ведро. – Доставай игральные принадлежности.
Беневский выложил на стол мешочек с деревянными фигурками, снял со шкафа старую доску, украшенную белыми и черными, тщательно прорисованными квадратами.
Беневский расставлял фигурки и пытался сообразить, кого же ему напоминает этот громкоголосый человек? Очень уж похожее лицо.
Через минуту понял, на кого похож купец.
Когда Беневский был доставлен в Большерецк, стражники провели его и Винблада к Нилову. Тот, косясь взором на свой сияющий красный нос, воскликнул с неожиданным торжеством в голосе:
– Давненько я не видывал у себя в гостях иностранцев! Ладно-ть, – он сделал жест, который был хорошо понятен стражникам. – Для иностранцев положен карантин, отведите их… Пусть отдохнут, – хихикнул глухо, в себя.
Их отвели в съезжую, в помещение, где содержали провинившихся большерецких жителей.
Там, на полу, на подстилке из старого крошащегося сена лежал человек с такими же, как у Холодилова, жгучими черными глазами. Увидев гостей, он поднялся на ноги, церемонно поклонился им. Произнес тихо:
– Будем вместе перемогать беду.
Беневскому понравился этот человек, спокойный, уверенный в себе, убийственно вежливый, с умным взглядом. Интересно, за какие грехи он угодил сюда? Беневский бросил в угол мешок.
Ничего другого у него с собою не было, только мешок, излаженный еще в Казани под котомку, у Винблада – тоже мешок. Будто и не принадлежали они к дворянскому роду. Узник, находившийся в «холодной», еще раз поклонился им и вновь опустился на лежалое сено.
Оказалось, узник этот, по фамилии Кузнецов, был простым крестьянином, – правда, знающим грамоту, а таких крестьян на Камчатке было очень мало, – умевшим и хлеб выращивать, и землю, не способную ничего родить, сделать плодородной, и дом крепкий, теплый, сколотить, но вот какое дело – задолжал он деньги барину, отпустившему его на вольные хлеба, не смог заработать, и Нилов, возмущенно посапывая красным носом, запер его в съезжей.
Ну словно бы здесь Кузнецов сумеет что-то заработать, давя своим крепким жилистым телом шуршащих в остьях жесткого ломкого сена тараканов. Ан нет, захотелось Нилову посадить грамотного крестьянина в «холодную», и он задумываться даже не стал, сделал это. И, похоже, выпускать не собирался.
Винблад с Беневским довольно скоро прошли «карантин», через четыре дня лохматый угрюмый стражник вывел их из «холодной» и с глухим недовольным бормотаньем закрыл дверь, оставив в съезжей одного Кузнецова. Беневскому сделалось жаль крестьянина, были бы у него деньги – отдал бы, не задумываясь, погасил бы кузнецовский долг.
О кузнецовском долге он и подумал сейчас.
Окинув острекающим взором шахматные фигуры, купец азартно потер руки и сделал первый ход. Беневский, совершенно не думая, – машинально, – также сделал первый ход, ответный.
– Однако, – привычно молвил Холодилов и задумался над вторым ходом.
Через пятнадцать минут Беневский объявил ему мат. Купец неверяще потряс головой, фыркнул громко и разрезал ладонью воздух – будто тесаком.
– Давай вторую партейку, – потребовал он.
Молча, не говоря ни слова, Беневский вновь расставил на доске фигурки.
– Не может быть, чтобы я тебя не обыграл, чужеземец, – воскликнул Холодилов и опять азартно потер руки. – В этот раз обыграю!
Беневский продолжал молчать, только на лице его появилась далекая, едва приметная улыбка, – появилась и тут же исчезла.
Во второй партии он разбил купца в несколько раз быстрее, чем в первой – поставил мат в четыре минуты, Холодилов лишь изумленно воздел над головой руки да застонал от бессилия: против чужеземца он не тянул.
– Еще партеечку! – воскликнул купец, сорвал с пояса кожаный кошель, сшитый из шкуры лахтака, потряс им. Послышался глухой серебряный звон. – Денег у меня много, играть будем долго.
Беневский вновь молча расставил фигуры на доске и стремительно, невесомым движением двинул вперед одну из пешек. Холодилов сделал то же самое. В то же мгновение, перешагнув через строй пешек, конь Беневского сделал свой сложный Г-образный ход: Морис, кажется, совсем не раздумывал, какой ход сделать в следующее мгновение, все совершал автоматически.
Купец также не стал задумываться, ухватился пальцами за коня и повторил ход Беневского – решил сыграть зеркальную партию, хотя должен был понимать, что в зеркальных партиях обычно выигрывает тот, кто сделал первый ход, это закон. Беневский укоризненно покачал головой.
Холодилов этого не заметил, был увлечен игрой, внимательно следил за руками Беневского – какую фигуру тот схватит? Маурицы в образовавшийся проход продвинул офицера. Купец сделал то же самое. Через полминуты Беневский объявил ему мат.
– Тьфу! – громко отплюнулся Холодилов. – Вот шельма! – Он ожесточенно потряс лохматой головой. – Шельма!
Что такое шельма, Беневский не знал, но догадывался, что слово это не самое хорошее. На лице его ничего не отразилось, оно было очень спокойным, почти неподвижным. Купец вновь встряхнул свой кошель, привычно притиснул ухо к гладкому шерстистому боку.
– Давай еще!
Еще так еще. Беневский привычно расставил на доске фигуры. Он по-прежнему продолжал молчать, словно бы всякая речь, даже несколько коротких слов были для него непосильной нагрузкой. Холодилов потряс головой, потер руки, вытянул их перед собой, проверяя, дрожат пальцы или нет – пальцы дрожали, как у заурядного выпивохи, и он постарался поскорее ухватиться ими за шахматную фигурку.
Игра продолжалась.
Окончилась игра, когда на востоке, рвано повиснув над горизонтом, зажглась красная полоска – занималось тяжелое позднее утро. Всего Беневский выиграл у купца Холодилова пятьдесят с лишним рублей.
Днем эти деньги Беневский отнес в канцелярию Нилова, вручил их изумленному Спиридону Судейкину, заправлявшему вместе с разжалованным казаком Иваном Рюминым большерецким делопроизводством. Такой крупной суммы денег Судейкин, похоже, никогда не держал в руках.
– Выпустите из «холодной» человека, который задолжал деньги своему помещику, – проговорил Беневский суровым тоном. Вытащил из кармана матерчатый кулек, набитый серебряными монетами. Со звоном высыпал содержимое на стол.
Канцелярист мигом сообразил, что к чему, осуждающе покачал головой.
– Ты бы лучше, мил человек, эти деньги для себя сохранил, – сказал он, – пригодятся ведь.
На длинном, с ложбиной носу Судейкина висела мутная простудная капля, глаза слезились – он не понимал поступка, который совершал ссыльный, это просто не укладывалось в его, с годами здорово облезшей голове.
Лицо Беневского напряглось, взгляд сделался жестким.
– Освободите из «холодной» человека, – проговорил он негромко, но очень твердо. – Вот его долг, – Беневский ткнул пальцем в горку денег, выложенных на стол.
– Освободим, освободим, – суетливо закивал головой Судейкин, – не сомневайся.
– И расписку мне выпишите, – потребовал Беневский, – на имя этого человека, чтобы впоследствии к нему не было никаких претензий. Понятно?
– Понятно, понятно, – вновь по-голубиному закивал лысеющей головой Судейкин. Капля сорвалась с его длинного носа и шлепнулась на стол.
Беневский невольно поморщился. Спиридон сорвавшейся с носа капли просто не заметил. Несмотря, что день еще только начинался, от него уже попахивало водкой.
Запас водки был у капитана Нилова практически неисчерпаемый: вместительный подвал комендантского дома, занимали бочки с водкой. Там даже места для сладкой брюквы и репы, без которых тогда не обходился ни один российский стол, не оставалось. Всюду стояла водка – бочки, бочки, бочки… Писарчук Судейкин, считавший себя ближайшим помощником коменданта, имел туда свободный доступ.
– Расписочку, говорите, – Судейкин ухватил скибку брюквы, которая нарезанной горкой лежала на деревянном блюдце, кинул ее в рот. У глаз Спиридона, в уголках, собрались довольные морщинки.
– Расписочку, – подтвердил Беневский.
– Как его фамилия, говорите? – протянул Судейкин и, наткнувшись на жесткий непонимающий взгляд Беневского, засмущался, замахал одной рукой. – Знаю, знаю… Кузнецов его фамилия.
– Вот и начертайте бумажку на имя Кузнецова, – смягчаясь, велел Беневский.
– Чичаз, – Судейкин ухватил пальцами еще одну скибку брюквы и, распахнув рот пошире, издали запузырил в него скибкой. Стрелял он метко, без промаха. Да и уж очень сочной и сладкой была брюква.
Когда расписка была готова, Беневский ухватил канцеляриста за ухо и заставил того оторвать зад от скамьи.
– А теперь, сударь, берите ключ и идите отпирать «холодную».
Судейкин взвизгнул:
– Как вы смеете?
– Смею, – спокойно произнес Беневский, скомандовал: – Вперед! – рука у него хоть и была небольшой, но очень крепкой.
Через десять минут Кузнецов вышел из «холодной», подслеповато щурясь, огляделся – слишком ярким, режущим был свет на улице после сумеречного, как поздний вечер, помещения для нарушителей большерецких устоев, потом с хрустом расправил чресла и направился к себе домой. Жила в маленькой утепленной хате, сколоченной из плавника – деревьев, вынесенных на берег морским течением. Шел и горевал по дороге – в доме оставался кот Прошка, жив он сейчас или нет? Ведь Прошку в отсутствие хозяина никто не кормил.
С другой стороны, Прошка принадлежал к породе котов, которых кормить не надо – он сам себе добудет еду: Прошка умел и рыбу ловить, и лесного зверя преследовать, а что касается еды, то мог отнять ее у любой собаки – большерецкие псы боялись с ним связываться.
Хата кузнецовская, стоявшая на самом краю поселения, двумя окошками на темную воду реки, была закрыта на щепочку, – как ушел хозяин из нее, сунув в петли замка прочный сосновый сучок, так закрытой на сучок она и осталась, вокруг дома – кошачьи следы, густая топанина… Значит, Прошка жив, находится здесь.
Крыльца у хаты не было, стояла без крыльца, на фундаменте, сложенном из легких пузырчатых камней, – как подозревал Кузнецов, такие камни выплевывали из себя горы, над которыми всегда курится дым, горы эти были сердитыми, живыми, иногда внутри у них раздавалось рычание, а под ногами начинала дрожать земля – что-то таинственное происходило там, и люди невольно задумывались: а что это за горы? Не опасно ли жить с ними по соседству?
Сейчас мы знаем, что горы эти называются вулканами, и тогда это знали, только не все. Кузнецов вздохнул, оглядывая пространство подле дома – вдруг где-нибудь неподалеку находится Прошка, кота не засек и выдернул сучок из дужек замка.
Из глубины дома, из темного, пахнущего дымом и травой нутра, на него дохнул холод – всякое жилье обладает способностью делаться не только мерзлым, но и совсем нежилым, стоит только не ночевать в нем пару дней, присутствие кота, правда, обычно продлевало этот срок, но ненадолго – еще на пару дней.
– Эх, Прошка, Прошка, – Кузнецов невольно вздохнул, – где ж ты есть, Прошка? и жив ли?
В тот же миг за дверью, на улице, раздалось радостное мяуканье. Кузнецов резко вскинулся, чуть головой не всадился в низкий потолок, отер кулаком глаза:
– Прошка! Жи-ив!
Прошка был жив. И здоров. Только шерсть на нем висела извалявшимися лохмотьями, да физиономия была исхудалая, лишь скулы да усы торчали в разные стороны. Но желтые крупные глаза горели светом ясным и задорным. Кузнецов распахнул дверь, и Прошка прыгнул ему прямо на руки.
– Прошка! – Кузнецов вновь отер кулаком глаза и прижал Прошку к себе.
Низенькая изба Кузнецова имела вместительный чердак – без чердаков и крутых, с резкими взлетами крыш, над которыми торчали пеньки труб, на Камчатке было нельзя жить, – могло запечатать снегом в избе так, что люди потом не сумеют обнаружить до самой весны. А высокая крыша и труба были гарантией того, что человек, находящийся в хате, не пропадет.
Правда, всякая труба, имевшаяся в Российской империи, здорово терла хозяину карман – за нее приходилось выкладывать деньги, налог на трубы был высок, и капитан Нилов за взиманием денег следил строго.
На чердаке у Кузнецова, на длинных веревках висели снизки вяленой рыбы – жирной чавычи, чавыча считалась самой крупной рыбой в камчатских водах, отдельные особи доходили до ста фунтов весом, а это по нынешним меркам – сорок с лишним килограммов, – и Кузнецов ловил такую чавычу.
Кроме чердака у Кузнецова имелся еще сарай, там тоже вялилась рыба. Но та, которая на чердаке, была нежнее, слаще, жирнее рыбы, вялившейся в сарае.
– Жди, Прошенька, – пробормотал Кузнецов растроганно и полез на чердак, чтобы достать коту сладкий хвост.
Прошка от такой перспективы замурлыкал громко – так, что мурлыканье было слышно на том берегу реки Большой, начал тереться боком о лестницу, приставленную к стенке и чуть не сбил ее вместе с хозяином. Но Кузнецов не дал себя сбить, секанул ножом по рыбьему хвосту, легко отпластал кусок килограмма в полтора, порезал его на куски помельче и выложил коту на деревянной плошке: ешь!
В доме было холодно, холоднее, чем на улице, нужно было срочно топить печь, чтобы иней убрался изнутри, со стен, но Кузнецов не стал этого делать, – потом, все потом, – переоделся в новую рубаху, подпоясал ее шелковым шнурком и, выбрав самую крупную чавычу из всех, что висели на чердаке, взвалил ее, как бревно, на плечо и понес к хате Хрущева, где жил благодетель, вызволивший его из «казенного дома».
Войдя в хату, поклонился в пояс Беневскому, сидевшему в одиночестве над шахматной доской, проговорил тихо, неожиданно дрогнувшим голосом:
– Благодарствую, Морис Августович, – Кузнецов назвал Беневского на российский лад по имени-отчеству, как, собственно, и должно быть у уважающих друг друга людей. Потом, помолчав немного – никак не мог справиться с собой, – добавил: – Век этого не забуду, за все отплачу добром.
Беневский улыбнулся, махнул рукой ответно:
– Не стоит благодарности… Все так и должно быть.
Кузнецов положил на лавку чавычу, завернутую в чистую холстину – даже тряпку для этого не пожалел, так был благодарен Беневскому, а всякий клок материи в хозяйстве на Камчатке был дорогим и стоил немало, – вновь поклонился в пояс и вышел за дверь, на улицу.
Серое небо раздернулось, в нем, прямо посередине образовалась прореха и в прореху эту выглянуло любопытное солнце, похожее на круг мороженого коровьего молока: по белому холодному полю разбросаны желтоватые масляные пятна, в центре круга застыло такое же желтоватое неровное пятно.
Мир разом посветлел, на душе тоже сделалось светлее, Кузнецов не выдержал – на крепком, основательно обработанном здешними ветрами лице его возникла улыбка.
Это ведь здорово, когда на небе появляется солнце, здорово, когда в жизни встречаются такие люди, как этот ссыльный господин…
Иногда у капитана Нилова тоже возникали просветления в сознании, много повидавшая седая голова его начинала рождать что-нибудь толковое. Если пройтись по большерецким, то можно отыскать человек пятнадцать-восемнадцать детишек, имевших справных грамотных отцов, в основном, казачьего звания, которые и лавки держат, и амбары, и пушнину добывают, и самородное золото; люди эти, благодаря грамоте и хватке своей выбились в люди, а вот дети их из-за того, что неграмотные, не смогут преуспеть в жизни, как родители…
Дело это надо обязательно поправить и научить детишек грамоте. Что для этого нужно? Нужно открыть в Большерецком остроге школу. Мысль об этом крепко засела в голову коменданта.
Тем более, что у него самого подрастал сын Гришка, неграмотный оболтус, гонявшийся по берегам реки за чайками и от нечего делать связывавший самцов горбуши друг с другом за хвосты и потом пускавший их плавать в реку Большую. Звонкий Гришкин хохот был слышен, наверное, не только на Камчатке, но и дальше…
Пока жив сам Нилов, он, конечно, Гришке не даст пропасть, но что будет, когда Нилова не станет? Такое будущее – очень туманное, лишенное света, тревожное, беспокоило большерецкого коменданта, и он решил открыть в остроге школу.
Недостатка в учителях у него не будет, это Нилов знал хорошо: любой ссыльный из полутора десятков бедолаг, находившихся в Большерецке, мог дать солидную фору любому профессору – здесь, на краю краев земли, собрались выдающиеся люди…
Подумав немного – не без сомнения, естественно, – Нилов с кряхтеньем поскреб пальцами затылок и послал канцеляриста Судейкина к Беневскому.
– Приведи ко мне этого строптивого поляка, – велел он.
Судейкин бегом, почти вприпрыжку, будто мальчишка, помчался исполнять приказание коменданта. Вскоре он привел Беневского – недоумевающего, с насмешливым лицом и улыбкой, прочно припечатавшейся к губам. Нилов, увидев его, тоже расплылся в улыбке.
«С чего бы это? – невольно мелькнуло в голове Беневского. – Прошлый раз он выглядел зверь зверем, а сейчас – сама доброта. Не человек, а Масленица – праздник, популярный у русских».
– Господин Беневский, предлагаю вам принять участие в добром деле, – сказал комендант, задышал часто.
– Всегда готов! – веселым тоном отозвался Беневский.
– Мы тут подумали и решили… – комендант покашлял в кулак, о себе он говорил во множественном числе и в уважительной форме, совмещая «ты» и «вы» – решили, что на Камчатке должна быть школа.
– Хорошее дело, – одобрил намерение коменданта Беневский.
– И я так полагаю, – расцвел комендант, нос у него засветился и он выкрикнул: – Судейкин! Ну-ка, порежь нам рыбы-красницы и икры подай! Мы с господином Беневским должны закрепить одно хорошее начинание.
– Сей минут! – вскричал канцелярист и привычно затопал ногами по полу.
Он действительно уложился в минуту: и икры принес, и рыбы, и хлеба, нарезанного крупными ломтями, и две очищенные, располовиненные луковицы. Нилов поднялся, достал из самодельного буфета глиняный кувшин, заткнутый деревянной пробкой с вбитым в нее железным крючком, чтобы было удобно извлекать из горлышка. Водрузил кувшин на стол.
– Это водка, – важно проговорил Нилов, – привезена к нам аж из самого Иркутска.
Водку Нилов разлил по глиняным плошкам: культурный был капитан, политес знал, понимал, что водку пить из кружек неудобно – ошпариться можно, хотя в империи Российской нет такого мужика, который умудрился бы ошпариться водкой.
От водки Беневский отказываться не стал, выпил охотно. Нилов проглотил свою порцию едва ли не с плошкой, в последний миг выдернул эту глиняную фиговину у себя из глотки, крякнул довольно.
– После первой, не прерываясь, надо выпить вторую, – поучающе произнес он.
– Это почему же?
– Кончики пальцев могут посинеть, – пояснил Нилов совершенно неожиданно и захохотал, – а потом слезут ногти, господин Беневский.
Беневский посмотрел на него удивленно – не ожидал столь плоской шутки от почтенного человека, командовавшего целым континентом.
– Занятия будем проводить в помещении, примыкающем к канцелярии, – сказал Нилов, наливая по третьей плошке. – Когда сможете приступить к урокам, господин Беневский?
– Да хоть завтра.
– Вот завтра и начнем. Не будем откладывать на послезавтра.
Слух о том, что комендант открыл в Большерецке школу для ребятишек, облетел всю Камчатку, об этом узнали даже коряки, кочующие по Дальнему Северу. В Большерецк с сыном торгового казака Никиты Черных приехал любимый отпрыск попа из Ичинска – а это ни много ни мало, четыреста с лишним верст, – отпрыска звали Алехой и он очень хотел познать грамоту.
Поселился Алеха – он же Алексей Устюжанинов – там же, где жил Маурицы Беневский, в доме ссыльного поручика Петра Хрущева. Домик, казалось, был небольшой, но вот ведь как – очень вместительный, воздуха хватало всем, а главное – жизнь в нем была интересная. Беневский и Хрущев рассказывали такие штуки, что у Алеши даже дух перехватывало – оказывается, их Камчаткой, Ичинском да Большерецком мир не ограничивался, жизнь кипела и на других землях.
Беневский говорил с акцентом, иногда путался в словах и переходил на немецкий либо французский язык, затем, словно бы спохватившись, вставлял фразу по-польски и снова возвращался на круги своя, начинал говорить по-русски. Русский язык был для него труден, да не только для него – длинный сумрачный швед Винблад вообще предпочитал молчать, а не говорить: тяжелый язык не давался ему совершенно. Кроме слов «спасибо» и «здравствуйте» он так ничего и не выучил.
– Далеко-далеко отсюда, примерно в двух месяцах пути морем лежит некая теплая земля, – рассказывал Беневский бывшему гвардейскому поручику, – разные народы зовут ее по-разному. Там нет зимы, нет холодов, как нет и жары, круглый год на деревьях растут сладкие плоды, а на полях вызревает пшеница, в лесах полно оленей и косуль, в реках очень много рыбы… Рыбы примерно столько же, что и здесь, на Камчатке. Вино делают из фруктов, а из пальмового сока получают водку. В языке народа, живущего в тех краях, нет ругательных слов, люди все равны, не существует ни богатых, ни бедных – повторяю, люди там равны, все имеют золотую посуду, из которой они едят не только по праздникам, но и по будням, стада коров, овец, коней невероятно тучны. На деревьях с утра до вечера поют птицы, в домах играет музыка, люди и природа на той земле представляют из себя единое целое. Там не бывает пасмурных дней, только солнечные, солнце и обилие воды позволяют выращивать богатые урожаи и жить в вечном лете…
Тут Беневский неожиданно замолчал, на лице его появилось расслабленное мечтательное выражение.
– А дальше что? – не вытерпев, спросил Хрущев.
– Что дальше? – Беневский вскинул голову. – Дальше – жизнь, дорогой друг, хорошая сытая жизнь, которой можно только позавидовать.
– Как называется та земля?
– Я же сказал: разные люди называют по-разному. Одни называют рапобаной, другие Эоном, третьи Сативией, четвертые Чаруком, я же называю по-своему, – Беневский вздохнул и опять замолчал. Что-то он сегодня совсем не был похож на себя – это был другой Беневский.
– Как? – нетерпеливо спросил Хрущев.
– Государством Солнца.
– Государство Солнца, – эхом повторил за ним Хрущев. – Красиво звучит. – Государство Солнца… Как в сказке. Правда?
Беневский согласно наклонил голову – как и все люди, он любил слышать приятные вещи.
– Кто знает, может быть, когда-нибудь и нам удастся побывать там, – произнес он тихо, прислушался к вою ветра, столбом взвинтившемуся под окном их избенки, такой ветер всегда навевает на человека тоску, – по лицу Беневского проползла и тут же исчезла прозрачная тень. – Если, конечно, мы будем живы, – добавил он.
Алешу Устюжанинова его рассказ ошеломил: неужели такие земли и впрямь есть на белом свете? Он неверяще завозился на топчане, покрытом медвежьей шкурой.
– А что, Морис Августович, – голос Хрущева неожиданно наполнился молодым звоном, – на этом свете все может быть.
Глаза у бывшего поручика загорелись, был он человеком увлекающимся, вспыхивал мгновенно, – хлопнул ладонью о ладонь.
– Готов обсудить любой план, любое предложение, – тихо, каким-то бесстрастным, лишенным выражения голосом произнес Беневский…
Но разговор, к сожалению, на этом и закончился.
В крохотной школе, где насчитывалось всего семнадцать учеников, Беневский вел два предмета: географию и французский язык. Из бумаги и тонких тростинок он склеил глобус, по памяти свинцовым карандашом нанес континенты, разделил их на страны, провел границы… Именно от Беневского Алеша Устюжанинов впервые узнал, что земля, оказывается, не плоская, а круглая и все рассказы о том, что она держится на трех китах, на огромных спинах их – обычные бабушкины побасенки.
Впрочем, насчет китов Алеша сомневался и раньше, еще до того, как он услышал от Беневского удивительную новость о том, что земля круглая. Это какие же должны быть киты, чтобы держать на себе такой груз? Они же ни в какое море не влезут.
Уроки французского были еще более удивительны, чем уроки географии. Французская речь показалась Устюжанинову похожей на птичью – короткие р-р-рокочущие звуки сменялись напевными, долгими, «р», похожее на стук свинцовой дроби, упавшей на каменную плитку, внезапно переходило в раскатистое «ё» – ну будто лахтак игрался с неркой…
– Надо же! – удивлялся он и пробовал родить глухое, очень симпатичное «р», это ему не удавалось и Алексей удивленно щелкал языком: – Надо же!
А ведь кроме французского, как слышал Устюжанинов, есть еще и немецкий язык, и английский… И кое-что еще. Вон долговязый швед Винблад тоже поет, щебечет по-своему, и так забавно это делает, что даже всезнающий Беневский не всегда понимает его.
Удивительные все-таки вещи можно услышать в школе. Устюжанинов удивлялся тому, что видел и узнавал, Беневский же, в свою очередь, тоже был полон удивления – открывал для себя некие штуки, а порою и целые явления, с которыми не был знаком.
Он никогда не видел, чтобы в реках было так много рыбы – она даже не помещается в воде, ее целыми косяками выдавливает на берега, такого нет нигде в мире, даже на Трапобане, скорее всего, нет, а здесь есть…
Беневский выходил на берег Большой реки, либо шел на Быструю, – и удивленно наблюдал, как в воде, у самых ног, цепляясь плавниками за камни, шли тучные рыбины, окрашенные в яркий брусничный цвет, бились яростно, когда их пытались выдавить на берег, на землю, – все происходило в оглушающем безмолвии и давило на виски, затылок, грудь, заставляло учащенно биться сердце.
Интересная все-таки жизнь была на Камчатке.
Что еще удивило Беневского, так факт, что в здешнем море, даже в мутном заливе, куда заходили и где отстаивались, отдыхали, ремонтировались корабли, водились голубые акулы. Он думал, что эти чудища водятся много южнее, в теплых водах, а оказалось, нет – водятся и в холодном море, окружающем большерецкую землю и, вполне возможно, даже зимуют подо льдом.
Мясо акул было несъедобным, от него даже собаки отворачивали морды, повизгивали жалобно, – и вкусом и запахом мясо это напоминало гниль, посыпанную золой и пеплом, но плавники у акул были съедобные, и суп из них, как знал Беневский, в Европе считался лакомством. Еще у акулы была съедобна печень, она у гурманов также считалась лакомством. Важно только, чтобы печень эта была чистая, лишь в этом разе ее можно есть, во всех остальных нельзя.
Однажды Беневский видел, как двое туземцев-камчадалов выволокли на берег акулу, вспороли ей брюхо ножом, вывернули печень и поморщились брезгливо – в печени шевелились крупные белые черви.
В результате камчадалы подхватили акулу и швырнули в воду, отказались даже от плавников.
Ловить акул было несложно, они сами насаживались на любую дохлятину, лишь бы кусок был пожирнее да повонючее, и крючок попрочнее, за таким куском они сами выпрыгивали из воды и подвешивались на крюк. Ловили же акул в большинстве своем ради баловства да забавы.
Зубы у голубых акул были кривые, опасные, и камчадалы их побаивались – даже случайно оцарапанный о зуб палец вспухал тугим нарывом и долго не заживал – челюсти у голубых акул были грязными.
Иногда люди, балуясь, привязывали к акулам кухтыли – надутые воздухом рыбьи пузыри и бросали в залив, акулы долго носились по поверхности воды, не в состоянии уйти в глубину – их не пускали кухтыли, – взбивали буруны, изгибались в опасные дуги, потом, усталые, исчезали.
Долгими темными вечерами Беневский и Хрущев начали засиживаться за столом, чертили какие-то схемы, рисовали, делали расчеты, которые Устюжанинов не мог понять и очень жалел, что не может стать помощником этим серьезным интересным людям.
Перед тем как море окончательно покрылось льдом, уже в морозы, в Большерецкую бухту, кренясь на один борт, вошел военный галиот «Святой Петр». Корабль был основательно облеплен льдом, потерял поворотливость, отяжелел и с трудом встал на якорь недалеко от берега.
Но будь глубина малость позначительнее, он вообще бы прижался к берегу, только вот штурман Максим Чурин, командовавший боевым судном, сделал промеры воды и велел близко не подходить – опасно. А береженого, как известно, Бог бережет.
В Большерецкой бухте галиоту надлежало зазимовать. Поблизости находились люди, целое поселение, ежели что, они не дадут команде пропасть, это Чурин понимал хорошо и на этом строил расчет зимовки.
Вскоре рядом со «Святым Петром» оказался второй галиот, еще более потрепанный, помятый подступающей зимой – «Святая Екатерина». Зимовать двумя экипажами было веселее. И вообще в компании все беды переносятся легче.
На следующий день после прибытия «Святой Екатерины» от берега к боевым кораблям потянулась полоса льда, похожая на дорожку, по которой можно будет через некоторое время ходить. Похоже, скоро должны были ударить морозы.
Беневский послал в залив Кузнецова – пусть острым своим глазом оглядит суда, а потом изложит, что они из себя представляют. Самому Беневскому светиться лишний раз в военной бухте было нельзя: неведомо, что пьяному капитану Нилову взбредет в голову, может ведь подумать что-нибудь плохое и определить ссыльного в «холодную» на долгий срок. В Большерецке все может быть: жизнь есть жизнь, а вечная ссылка есть вечная ссылка.
Получив задание, Митяй Кузнецов пришел домой, глянул, не видно ли где Прошки? Кота не было, видать, унесся куда-то по своим срочным кошачьим делам. Тогда Кузнецов сунул в рот два пальца и оглушительно свистнул. Это он умел – от свиста с его крыши даже дранка посыпалась.
– Прошка!
Прошка свист услышал, примчался к хозяину, выгнул дугою спину.
– Прыгай, Прошка, на плечо, пойдем с тобою прогуляемся в бухту, посмотрим, что за гости к нам пожаловали, – сказал ему Митяй.
Кот глянул на хозяина понимающе, лучисто и, не разбегаясь, с места совершил ловкий длинный прыжок. Привычно уселся на широком плече.
– Молодец! – похвалил его Кузнецов.
Оба галиота были изрядно потрепаны непогодой и у команд пока не было сил ремонтировать их, да и в холодную пору особо не поремонтируешь, надо было немного прийти в себя, отдышаться, оглядеться, запастись кое-какой едой.
Конечно, была у галиотов надежда и на крепостные запасы и капитана Нилова – ведь в остроге провиант всегда заготавливали впрок, с верхом, особенно – рыбу.
Заготавливать ее было, повторюсь, просто: во время нереста, когда кета шла вверх по рекам очень плотно, рыбу добывали обычными вилами, складывали, как сено в телеги и везли в острог.
Там работала специальная команда засольщиков, потрошила кету, укладывая ее ровно, голова к голове в бочонки, пересыпала солью, дроблеными корешками, душистыми травами, чтобы отбить специфическую вонь, появляющуюся по весне, другая команда занималась вялением, сушила рыбьи тушки, подвешивая их на веревки. Так что рыба в Большерецкем остроге была всегда.
Правда, за год до того, как Беневский с Винбладом появились на Камчатке, рыба не пришла в здешние реки и в Большерецке случился голод.
Ели все подряд, что можно было жевать (и вообще разжевать) – кору деревьев, мерзлые водоросли, кошек, собак, всю живность без исключения, добытую в лесу – ворон, вонючих хорьков, коренья растений, лисьи тушки, – ничем не брезговали. Главное было – выжить. Но потом и малосъедобных лисьих тушек не стало – среди зверья также начался голод.
«Трудно описать все бедствия, перенесенные камчадалами, – заметил впоследствии один из исследователей событий, происходивших в восемнадцатом веке на полуострове. – В пищу употреблялись кожаные сумы, езжалые собаки, падаль и, наконец, трупы умерших от голоду своих родственников».
Да, ели даже мертвых людей… Но большерецким обитателям досталось меньше, чем тем, кто жил в тундре.
При этом надо заметить, что годом раньше Камчатку подмяла другая беда. Великая беда. «В зиму 1768–1769 годов свирепствовала на Камчатке оспа, похитившая 5767 инородцев и 315 человек заезжих русских людей, – писал тот же исследователь. – Вслед за этим бедствием обнаружился повсеместный неулов рыбы, которая заменяет здешним жителям хлеб».
Трудно было. И хотя в Большерецке, в комендантских погребах имелись хорошие запасы продовольствия – на случай каких-нибудь серьезных военных осложнений, – выжили далеко не все, продуктовые залежи не помогли, большерецкий погост пополнился несколькими десятками могил, оставшиеся в живых ходили как тени, выплевывали изо рта ослабшие зубы и плакали, когда в небе наконец появилось весеннее, способное обогреть человека солнце.
На кузнецовского Прошку тоже покушались, хотели сварить из него суп, но Митяй забил картечь в стволы двух своих ружей и выставил их в дверной проем. Предупредил:
– Ну, любители кошатины, попробуйте только подойти! Дырки в своих шкурах считать замучаетесь.
В общем, Прошка уцелел. А летом в Большерецк на одном из галиотов доставили полсотни собак и столько же кошек – пусть размножаются, мол.
Но Кузнецов, пока была возможность, из избенки своей старался без особой надобности не вылезать и Прошку за порог не выпускать – сохранял кота. Еды у него, конечно, было, как у всех, может, чуть поболее, но он все-таки был охотником и всегда мог добыть какую-нибудь зверушку (пока они сами не передохли, естественно), умел ловко ставить петли, слопцы, сооружать хитрые ловушки, метко стрелять из ружья и мушкета и вытаскивать рыбу из подо льда.
В общем, голод в его хатенке, сложенной из темных потрескавшихся бревен, с сухим, скручивающимся в косички мхом, вылезающим из пазов, с двумя полуслепыми оконцами, обтянутыми рыбьими пузырями, полютовал меньше, чем в других местах. А в конце января Митяй и вовсе отличился: поднял из берлоги медведя, воткнул ему в живот рогатину, и пока косолапый ревел да рогатиной занимался, выдергивая ее из пуза, Кузнецов выстрелил из ружья и просек ему голову свинцовой пулей.
Медвежатины он оставил себе немного, только заднюю ногу – ее можно было запечь с травами и вынести на мороз, чтобы сохранялась долго, – остальное разнес по Большерецку, по голодным домам, каждой семье дал по куску.
За такие поступки Митяя Кузнецова в поселении уважали, при встрече шапку с головы стягивали даже люди, которые были много старше его по возрасту.
Когда возвращались из бухты, впереди из промерзлых кустов вдруг выскочил кобелек с висячими лохматыми ушами, гавкнул на кота, оседлавшего плечо человека, будто всадник лошадь, и Прошка этого не стерпел – уркнул звонко, зло и спрыгнул с плеча на землю.
Кобелишко понял, что напрасно он обматерил кота – неосторожно это, непродуманно, – сунул хвост себе между задними лапами и что было духу понесся в Большерецк.
Кот – за ним.
Кузнецов хотел припустить следом, чтобы разнять драку, если она затеется, да разве за четырехногими скороходами угонишься? Бесполезная штука.
Так кот и гнал бедного кобелька до самого Большерецка, пока тот на окраине, окончательно выдохшийся, с высунутым до самой земли языком, не нырнул в один из дворов и не плюхнулся в мусорную кучу. Глаза от ужаса прикрыл обеими лапами.
А Прошка уселся посреди дороги и начал как ни в чем не бывало умываться, облизывать шкурку, приводить себя в порядок – хотел встретить хозяина во всей красе и чистоте. Вот каков был кузнецовский кот.
– Ну что там в бухте? – спросил Беневский у своего ходока-разведчика, когда тот появился в доме.
– Один галиот потрепан сильно, второй – терпимо, – ответил Митяй, – оба можно отремонтировать, оба к чистой воде будут на ходу.
– Какой же потрепан сильно?
– «Святая Екатерина».
К этой поре у Беневского уже созрел план побега, решительно поддержанный Петром Хрущевым. Более того – не только отставной измайловский поручик был уже посвящен в дела Беневского, но и Альфред Винблад, и Василий Панов, и Ипполит Степанов, и Иосафат Батурин, и Семен Гурьев, и бывший камер-юнкер императрицы Алексей Турчанинов – высокий сгорбленный старик, у которого были вырваны ноздри и отрезан язык.
Детишки, когда видели его, шарахались в сторону – им делалось страшно.
Наказан был Турчанинов самой матушкой Анной Иоанновной, лично – за то, что дурно отзывался о ней, и наказание это не было смягчено даже после ее смерти. Впрочем, великосветский вельможа, блистательный Алексей Турчанинов домой отправляться уже не хотел, не мог – до стона, до тошноты боялся показаться в родовом имении: люди ведь в обмороки падать начнут от одного только его нынешнего облика. И был прав. Вид у Турчанинова был ужасен.
А вот бежать с Камчатки он был готов. Куда угодно. Хоть в Африку. И когда угодно…
Итак Беневский готовил побег. Сгнить заживо на краю краев земли он не хотел. В хате Хрущева все чаще и чаще стали собираться единомышленники – побег всем им грел душу. Бежать решили весной, когда залив очистится от льдин и можно будет выйти в открытое море. Из двух галиотов решили выбрать один – «Святого Петра».
Вечером всклень наполняли китовым или тюленьим жиром глиняную плошку, поджигали фитилек и долго, вполголоса, стараясь громко не говорить, обсуждали детали побега.
Спорили. Тихо, но жестко. Случалось, миска с жиром выгорала досуха.
Тогда споры прекращались, собравшиеся расходились.
Больше всех Алешу Устюжанинова удивлял Семен Гурьев. Он совершенно не был похож на дворянина. С всклокоченной нечесаной головой, темными полосками грязи под ногтями и блуждающим взором Гурьев скорее походил на клиента из приюта для душевнобольных людей, чем на заговорщика.
Хоть и немного лет было Устюжанинову, и опыт почти отсутствовал – для этого надо стать взрослым, – а глаз он имел вострый, он увидел в Гурьеве то, чего не разглядели другие. Гурьев был раздавленным, ослабшим человеком.
В один из вьюжных вечеров Семен Гурьев вдруг захныкал:
– Раскроют наш заговор, как пить дать, раскроют… И поотрубают тогда нам головы. Вот увидите!
Беневский глянул на него жестко, изучающе и отвел взгляд в сторону. Удрученно покачал головой – не ожидал он такого от Семена Гурьева.
Он не успел ничего сказать, как к Гурьеву подскочил старик Турчанинов, завзмахивал руками, залопотал что-то непонятно, безъязыко, тревожно. Гурьев отшатнулся от старика, но Турчанинов не дал ему уйти, ухватил за отвороты засаленного рваного камзола и притянул к себе.
В следующее мгновение Турчанинов откинул голову назад, примерился и с силой ударил Гурьева лбом в переносицу. Гурьев вскрикнул, повалился на пол. Если бы он не сделал этого, то разозленный старик ударил бы его вторично и точно бы располовинил череп – слишком уж разъяренным было у него лицо и слишком уж сокрушительный удар он готовился нанести.
Помог Гурьеву подняться с пола Панов, подтолкнул его в спину кулаком и сказал:
– С такими заявлениями сюда больше не приходи. Понял, Семен?
Гурьев просипел что-то в ответ и вывалился за дверь.
Собравшиеся добавили в плошку тюленьего жира, запалили огонь поярче и начали обсуждать возможности галиота: сколько людей он способен взять на борт, много ли груза вмещают в себя два его трюма, какую скорость может держать, идя по ветру и какую против ветра, сколько суток плавания осилит, не заходя в порты, и так далее.
Вопросов было много и на все нужно получить ответы. Самым сведущим в корабельных и вообще в морских делах оказался, конечно же, Беневский. Пребывание на голландском паруснике не прошло бесследно.
В разгар спора о возможностях галиота Беневский вдруг звонко хлопнул ладонью по столу.
– А чего мы, собственно, обсуждаем? Разве у нас есть другие корабли, кроме двух галиотов, а? – он оглядел собравшихся и поморщился, будто в сапог ему попал гвоздь. Назидательно вскинул одну руку. – Только лодки, обтянутые нерпичьими шкурами… Ничего другого нет.
– Действительно, – проговорил Панов, только что с воинственным видом нападавший на Батурина. – Ничего другого нету.
– Поэтому следует обсуждать только один вопрос: что мы можем взять с собою и в каком количестве, – сказал Беневский, – понятно?
Здесь надо пояснить, что такое галиот (иногда судно называли гальотом). Это был довольно устойчивый небольшой парусник с округлой кормой, предназначенный для недалеких плаваний – тех, которые ныне называют каботажными. Вместительный – мог взять триста тонн веса.
Длина его по килю составляла семнадцать метров, ширина – шесть метров. И «Святой Петр» и «Святая Екатерина» входили в состав Сибирской военной флотилии и были приписаны к Охотску – главному порту на восточной окраине Российской империи.
Построен «Святой Петр» был в Охотске – там имелись искусные мастера, – на воду спущен в 1768 году – словом, корабль был совсем свеженький, крепкий, не успел ни прогнить, ни просолиться (как известно, из деревяшек, снятых с просолившихся судов, можно было варить суп – ни рыбы не надо было, ни соли), ни проломить себе борт где-нибудь в районе Лопатки. Что же касается «Святой Екатерины», то у автора сведений насчет этого галиота нет.
При всем том надо заметить, что со «Святым Петром» Беневский был уже знаком – на нем, если вы помните, Маурицы был доставлен вместе с Винбладом двенадцатого сентября 1770 года в Большерецк. Подумав об этом, Беневский лишь усмехнулся печально, да едва приметно вздохнул: что было, то было, главное, чтобы былое не повторялось.
Спросил у Митяя Кузнецова:
– Какой галиот стоит ближе к берегу?
– «Святая Екатерина».
– Значит, он больше вмерз в лед, – задумчиво проговорил Беневский, поцокал языком, словно бы в чем-то сомневался.
– Да, – подтвердил Митяй, – вырубить его изо льда будет сложнее «Святого Петра».
– «Святую Екатерину» трогать не будем, – сказал Беневский и положил кулак на самодельную карту – словно бы печать поставил.
На следующую сходку к Беневскому Семен Гурьев не явился.
– Как бы он не заложил нас, – обеспокоенно проговорил Панов, – не то вечерком, в темноте, когда никого не видно, пожалует к Григорию Нилову, да расскажет обо всем… Вот тогда мы попляшем.
– Не попляшем, – жестким тоном произнес Беневский, – до этого дело не допустим… Гурьева придется убить.
Да, Гурьева надо было убирать, иного не дано.
Убить Гурьева не успели, да и Нилову он ничего не сказал, а вот купцу Холодилову проговорился, тот информацию принял к сведению, а потом, когда основательно обмозговал ее, прокрутил в голове варианты «туда-сюда», обмыслил все, то невольно побледнел: если на Камчатке случится бунт, то вся его коммерция сгорит на корню. От нее даже пепла не останется. Допустить это было нельзя, и Холодилов заметался по просторной и чистой избе своей, пристроенной к складам – не знал, как поступить…
Как быть, как быть? Думал, думал Холодилов и придумал.
Одним из самых ценных подарков в Большерецке считался чай – желанный продукт, привозимый из Китая. Даже маленький кулек чая вызывал у любого человека радостную улыбку. Наверное, ценнее чая здесь был только порох. Но порох достать было легче, чем пакетик душистых сушеных листков чая; запасы пороха у люда здешнего всегда имелись, а чая – нет.
Как-то утром в доме Хрущева появился холодиловский работник – разбитной молодец в собольей шапке.
– Господин Беневский и господин Хрущев! – молвил он высоким торжественным голосом.
Хрущев с интересом покосился на него:
– Чего там у тебя, выкладывай!
– Мой хозяин прислал вам подарок, – работник протянул ему плотный холщовый мешочек, на котором, на ткани, приметно чернели иероглифы, нанесенные тушью. – Пра-ашу! – он с театральным пафосом повысил голос.
Взяв в руки мешочек, Хрущев встряхнул его, проговорил недоуменно:
– С чего бы это? Никогда Холодилов не делал нам подарков и вдруг – на тебе! Странно, странно!
– Ничего странного! Господин Холодилов собирается отдать в обучение господину Беневскому своего племянника. Надо подтянуть его по части французского и немецкого языков.
– Да у Холодилова, по-моему, никакого племянника нету. – Хрущев недоуменно наморщил лоб. – Не помню я такого.
– Это здесь, в Большерецке, нет, а в Ичинске есть. Через две недели племянник прибудет сюда.
– Как хоть зовут его? – поинтересовался Хрущев.
– Не могу знать, – ушел от ответа работник. – Хозяин мне не докладывал.
– Ладно, передай хозяину спасибо, – сказал Хрущев и закрыл за работником дверь.
Торговый работник этот был из породы хлыщей, а хлыщи никогда не нравились бывшему измайловскому поручику, он откровенно презирал их. Интересно, что же заставило Холодилова сделать такой богатый подарок, а? Каковы мотивы этого поступка?
В то, что богатый купец был озабочен судьбой своего безродного племянника и его французским говором – форменная чушь, – Хрущев не верил в это. Скорее лягушку можно обучить французскому языку, чем ичинского племянника. Тогда в чем причина?
Ведь Холодилов никогда не был близок к ссыльным, ничего не знал о них, хотя иногда завидовал… Завидовал одному – иностранным языкам, которыми те блестяще владели. Сам же Холодилов к языкам был неспособен совершенно, не воспринимал их, он даже русский, и тот знал кое-как. Зато умел хорошо считать. Для того чтобы стать на Камчатке богатым, знание языков не было обязательным, главное – счет и умение отбирать у камчадалов пушнину, которой аборигены не знают подлинной цены и прежде всего – отбирать соболиные шкурки.
Не то ведь до чего дошли инородцы – до сих пор встречаются отдельные людишки, которые дорогими соболиными шкурками подбивают себе лыжи. Расскажи об этом в Санкт-Петербурге – купцы за головы схватятся. Хрущев не выдержал, усмехнулся. Вообще-то Холодилов и на ссыльных смотрел, как на людей низшего сословия. Интересно, что же все-таки заставило его сделать такой ценный подарок?
Озадаченный Хрущев поскреб пальцами черную трескучую бороду, бороду и позвал Беневского. Показал ему увесистый мешочек с душистым китайским чаем.
– Вот. Купец Холодилов прислал.
На лице Беневского вопросительной дугой выгнулась одна бровь.
– Интересно, что бы это значило? – недоуменно проговорил он.
– Сам голову ломаю. Пока не могу понять.
– Давай поступим следующим образом, Петр Петрович, – Беневский вскинул голову и позвал громко: – Алексей! – Услышав отклик, спросил: – Ты сегодня на школьные занятия собираешься?
– Да. У нас сегодня – арифметические упражнения. Господин Степанов ведет.
– Очень хорошо. Тебе будет поручение… важное поручение, – Беневский крепко завязал горлышко чайного мешка бечевкой. – Передашь господину коменданту, а еще лучше – кому-нибудь из его обслуги. Скажешь, что от купца Холодилова подарок. Просил вручить лично господину-коменданту. Это очень важно, чтобы Нилов знал – подарок просил передать Холодилов. Лично. Понял?
– Понял. Все сделаю так, как велели.
– Тогда с Богом!
– Морис Августович, чаек ведь и нам мог пригодиться, – подал голос Хрущев.
– Слишком уж подозрительный подарок, поверьте. Опробуем его на коменданте. Ежели что не так – будет разбираться он, а не мы. А по нашей части… избави нас Бог от этаких подарков.
Капитан Нилов подарку обрадовался, велел, чтобы Судейкин немедленно поставил самовар. Подкинул мешочек в руке, проговорил обрадовано:
– Заварим свеженького чайку… заварим свеженького чайку!
После вчерашнего у него болела голова, во рту было погано, будто там переночевала пара бродячих собак, И лошадь впридачу. Дыхание было таким, что от него обычно дохли мухи, но зимой на Камчатке мухи не водятся – только белые… Да и то за окном.
Спиридон Судейкин чай тоже любил и по себе знал, как хорошо помогает крепко заваренный чаек с похмелья – и голова делается ясной и руки перестают трястись, – немедленно налил в самовар воды, выгреб из поддона остатки золы, накидал в трубу свежих смолистых чурочек.
– Сей момент, ваше превосходительство, – прокричал он бодро, коменданта Судейкин величал превосходительством, как генерала, – оглянуться не успеете, как самовар вскипит.
Самовар действительно вскипел быстро, и заварной чайник тоже настоялся быстро – всего несколько минут понадобилось, – и связка бубликов не замедлила появиться на скатерти, но Нилов за стол усесться не успел. Под окнами возникли две собачьи нарты и в доме появился знакомый камчадал Терентий Поротов.
Жил камчадал в Ичино, был богат, с властями старался дружить – Нилову регулярно привозил подарки. С подарком он возник в доме и сейчас – в руках держал три искристые соболиные шкурки.
Нилов, знавший толк в соболях, хрюкнул обрадованно – шкурки были завидные, за такими дамочки в Санкт-Петербурге охотятся и выкладывают большие деньги.
С поклоном Терентий подал шкурки Нилову, тот с довольной улыбкой – улыбался от уха до уха, – принял их.
– Однако соболей у нас, начальничка, становится мало, – сказал ему Терентий, – мор среди зверей пошел.
– Ты садись, Терентий за стол, мы за чаем все и обсудим, – Нилов выпрямился и, повысив голос, приказал Судейкину: – Спиридон, подай нам водки. И чавычьего балыка порежь.
– Сей момент, ваше превосходительство, – готовно отозвался Судейкин.
– Я водку сегодня не буду пить, – неожиданно отказался от любимого «блюда» Терентий.
– Чего так? Не заболел ли?
– Нет. Шаман до первой луны запретил пить. Сказал, иначе болезнь не уйдет.
– Новая луна родится через два дня, это скоро… А я выпью.
Терентий словно бы не слышал коменданта… Не выпить водки, когда ее предлагают, было для него мучением. Но Терентий был тверд, хотя лицо его приняло обиженное выражение.
– Шаман велел вместо водки варить траву и пить настой, – задрожавшим голосом пожаловался он. – Вари, говорит, в котле, как рыбу и пей. По кружке в день. Тогда, говорит, молодой будешь.
– Врет твой шаман, – Нилов небрежно махнул рукой, – никогда человек моложе того, что он есть, не будет, увы… Назад дороги, Терентий, нету. Понял?
– А шаман, начальничка, говорит, что назад дорога есть.
– Дурак он, твой шаман. Язык без костей, трепать его можно как угодно. Не хочешь пить водку – пей чай. Свежий. Купец Холодилов из последнего завоза целый куль прислал, – Нилов налил себе из графина водки, кончиком ножа подцепил кусок сочной чавычи. – Ну-с, благославясь, – молвил он и махом выплеснул в себя большую плошку водки.
Выплеснул умело – ни одна капля мимо рта не пролетела, все оказались там, где им положено быть. Зажевав водку чавычей, Нилов произнес довольным тоном – улыбка у него растеклась от уха до уха, даже смятый парик съехал набок:
– Хар-рашо!
– У меня вот какое дело, начальничка, – начал было Терентий, но комендант оборвал его:
– Погоди, погоди… Давай вначале позавтракаем, а потом уж обстоятельно поговорим о делах. Не то все на ходу, да на ходу… Грех это большой – спешка. Понял, Терентий?
– Понял, начальничка, – покладисто отозвался Терентий, – все понял.
– Вот и хорошо, когда попадается понятливый человек.
– А вот и чаек, – торжественно объявил Судейкин, внося в комнату пузатый самовар, сияющий безукоризненно начищенными боками. Кряхтя, водрузил его на стол. – Сейчас заварочку сообразим, – он ловко крутанулся на одной ноге и исчез за дверью.
– Сноровистый мужик, – похвалил его комендант, налил себе еще водки, поднес плошку к носу, затянулся хлебным духом, который любил, водку он называл «жидким хлебом». – А ты, брат, потерпи полминуты, – после пары плошек «жидкого хлеба» Нилов становился особенно словоохотливым, пел, как птица, разные словечки сыпались из него, как мука из-под мельничного жернова. – У-у-ух! – комендант залпом выбил из себя воздух и, широко открыв рот, выплеснул в него водку. – Хар-раша, зар-раза! – он восхищенно помотал головой.
– Недаром русский мужик так любит ее.
Заварной чайник у Нилова был особенный, камчадал раньше не видел таких – с узким горлышком, стремительно расширяющимся к низу, с длинной ручкой, припаянной к боку, – скорее всего, это был не заварной чайник, а что-то другое – чего-то в нем варили, а вот что именно, Терентий понять не мог. Может, рыбный суп, может, травяные снадобья, о которых ичинский шаман так много талдычил, может, солили икру особым способом, Терентию незнакомым, может, делали еще что-то.
Заварной чайник понравился Терентию – богатая была посудина, с зеркальными боками, в которые можно было смотреться, и заварка в чайник была налита такая, что в обморок можно было грохнуться от восторга. Широкое смуглое лицо Терентия распустилось, глаза сделались крохотными, заструился из них сочный сладкий свет.
– Ты наливай себе чаек, наливай, – подогнал гостя Нилов, – хочешь, я тебе налью?
– Не надо, я сам.
Терентий действовал умело – налил в кружку немного заварки, втянул в себя ноздрями воздух – восхищенно мотнул головой от сладкого чайного аромата, вылил заварку обратно, потом налил снова – он священнодействовал.
Судейкин тем временем подал блюдце с твердым, как камень, колотым сахаром. Терентий расцвел – комендант принимал его по высшему разряду, сахар штука лакомая, сладкая, подают его только почетным гостям.
В заварку Терентий добавил кипятка из самовара, продолжающего тихонько пофыркивать, кипящей вода держалась в этом агрегате долго, – потом разогнал ладонью пар, поднимающийся от кружки, сделал несколько аккуратных глотков.
Ему показалось, что он обжегся, хотя Терентий, как все северные люди, любил горячий чай, ни разу в жизни не обжегся любимым напитком, а тут произошло что-то невероятное, неведомое, не знакомое ему совершенно – никогда с ним такого не случалось. Терентий засипел и выпучил глаза. Схватился рукой за горло.
– Ты чего? – недоуменно поинтересовался Нилов. – А, Терентий?
Пол под ногами камчадала поехал в сторону, лицо Нилова, бывшее только что четким, ясным, помутнело и расплылось в воздухе. Изо рта Терентия, из левого края, полезла пена.
Увидев пену, Нилов испугался – понял, что с камчадалом произошло нечто нехорошее, закричал, привставая на стуле:
– Судейкин! Судейкин!
– Чего изволите, ваше превосходительство? – делопроизводитель всунулся в комнату, остановил изумленный взгляд на камчадале, пускающем пенные пузыри. – Чего это с ним?
– Где у нас лекарь? – просипел Нилов грозно. – Сюда его немедленно!
Лекарь – старый Магнус Медер – на счастье оказался в остроге, осматривал одного из казаков, приставленного к пушкам, у которого открылась рана, через несколько минут уже прибежал в дом коменданта.
Опытный медик, он сразу понял, в чем дело, велел перетащить камчадала в канцелярию, там, за занавеской, стянул с незадачливого гостя штаны.
– Ветро черное у вас есть? – спросил Магнус у делопроизводителя.
– Помойное, что ли?
– Пусть путет так, – покивал седыми буклями старый лекарь, – помойное… Только пыстрее, пожалюста.
В быстроте движений Судейкину отказать было нельзя – по хоромам коменданта он носился, как ветер, выметнулся на улицу, вылил помои из ведра прямо под крыльцо, потом, подумав малость, слетел с крыльца вниз и зачерпнул из сугроба снега. Ожесточенно поболтал внутри ведра рукой, чистя емкость, затем снова скрылся в комендантских хоромах.
Капитан Нилов, пребывая в глубокой задумчивости, налил третью плошку водки и произнес знаменательную «вумственную» фразу:
– Однако!
Выдохнув резко, комендант опрокинул плошку в себя. Умел он делать это очень лихо, никто в Большерецке не умел так сноровисто, по-гусарски пить водку. Да и ни у кого в Большерецком остроге не было столько водки, как у Нилова. Он мог плавать по водочному озеру на лодке.
– Однако! – еще раз произнес Нилов, тон был более задумчивым, чем несколько минут назад, – и наполнил «огненной водой» очередную глиняную плошку.
Вид у него был прокурорский. Нужно было разобраться, что произошло с его гостем, камчадалом Терентием и принять соответствующие меры. В конце концов, начальник он на Камчатке или не начальник?
А Магнус тем временем подвесил ведро на кованый гвоздь, вбитый в стену, из потрепанного кожаного баула, который всегда, носил с собою, достал длинную резиновую трубку и велел Судейкину:
– Налей в ветро воты.
– Обычной воды? – изумленно спросил Судейкин.
– Обычьной воты, – подтвердил лекарь.
– Странно, а я думал, что лекари работают с лекарствами, – недоуменно пробурчал делопроизводитель, но перечить не стал, поднялся на цыпочки и вылил в ведро ковш воды. Потом еще несколько ковшей, пока висящее на гвозде помойное ведро не наполнилось.
Магнус поковырялся в заднице у стонущего камчадала и сунул ему в вонючее отверстие конец трубки, второй конец засунул в ведро. И вода сама по себе, без всякой посторонней помощи, потекла в задницу камчадала. Только пузырьки забулькали в трубке. Судейкин удивленно распахнул рот.
– Закрой рот, – посоветовал ему Магнус, – простудишься.
Судейкин поспешно захлопнул рот – действительно, вдруг внутрь проникнет какая-нибудь хворь.
– Молотец! – похвалил канцеляриста Магнус.
Живот у лежавшего вниз лицом Терентия начал раздуваться, Магнус поспешно выдернул у него из задницы резиновый шланг, затем снял с гвоздя ведро и поставил его на пол.
– Теперь наго больного посадить на ветро, – велел он Судейкину, – и притержать, чтопы не упал.
– Как это? – замотал отрицательно головой делопроизводитель, он ничего не понял.
– Телай, чьто велено, – строгим тоном приказал лекарь.
Вдвоем они подняли мычащего, ничего не соображающего камчадала, усадили на ведро и внутри у того словно бы кто-то открыл задвижку – вода сильной, громко звучащей вонькой струей полилась из него.
После первого промывания лекарь сделал второе, а потом прямо там же, в канцелярии, за занавеской, уложил на сколоченную из старых корабельных досок лавку, дал выпить камчадалу какого-то приятно пахнущего снадобья и уложил спать.
Камчадал, немного пришедший после промываний в себя, пробовал сопротивляться, приподнимался с лавки, но лекарь несколькими успокаивающими движениями укладывал его обратно.
– Тиха, тиха, торагой труг, – произносил он решительным тоном, – вам нато лежать.
– Сколько лежать? – из глаз Терентия выбрызнули невольные слезы. – Долго? – он застонал вновь, вяло пошевелил головой.
– Тва тня, – строго произнес лекарь. – Я путу прихотить к вам и тавать микстура.
– Понятно, – слабеющим убитым голосом произнес камчадал, повалился на спину и закоыл глаза.
Через минуту он уснул.
– Зер гут, – произнес Магнус довольно и отправился к коменданту на доклад.
Нилов уже успел принять приличную дозу, нос у него сделался ярким, красным, светился, как луна в тропиках, но глаза еще сохраняли осмысленное выражение, поблескивали ненасытно.
– Ну, чего произошло с Терешкой, отвечай! – потребовал он, наполняя водкой очередную плошку, потом, поразмышляв немного, налил водки в свободную плошку, стоявшую на столе рядом с бутылью, придвинул к лекарю. – Пей!
Лекарь не стал жеманиться и отнекиваться, взял плошку и спокойно выпил. Затем крякнул в кулак – комендантская водка ему понравилась.
– Итак… – Нилов вперил в него свой взгляд и приподнял одну бровь, – излагай!
– Отравы хлепнул, – сказал ему Магнус, – правта, немного… Жить путет.
– Отравы, говоришь? – Нилов насупился, взгляд его налился кровью, отработанным движением он ухватил бутыль за горлышко и ловко наполнил водкой обе плошки, не пролив ни капли. – Ты ведаешь, что говоришь, эскулап? Откуда отрава?
– Не знаю, – невозмутимым тоном произнес Магнус Медер и, ухватив плошку пальцами, опрокинул ее в рот. Водка лишь слабо булькнула в горле и незамедлительно пролилась внутрь, прямо в желудок.
– Судейкин! – заорал Нилов, призывая к себе делопроизводителя.
– Я здесь, – канцелярист незамедлительно возник в проеме комнаты, предназначенной для чаепитий. – Слушаю, ваше превосходительство.
– Приказываю провести дознание, – комендант ткнул пальцем в заварной чайник, – откуда в доме появился отравленный чай?
– Купец Холодилов прислал.
– Сам доставил или кто-то принес?
– Не сам, нет – через мальчишку передал, сказал, что свеженький чаек должен понравиться вашему превосходительству.
– Хм-м! – в горле у Холодилова что-то задребезжало, завозилось – там словно бы свинцовая дробь стукалась друг о дружку, звук был глухой, будто Нилов уже прокатал эту дробь между зубами, сжевал ее, остались только смятые ошметки свинца. – Сам, значит, струсил, мальчишку прислал… Хм-м! Скажи сотнику – Холодилова арестовать и доставить сюда, на допрос. Ишь, чего вздумал – государевых слуг травить…
Лицо у коменданта сделалось красным, светился теперь не только нос – светились щеки, лоб, подбородок, и вообще тело все сделалось у него таким же светящимся, помидорно красным, из глаз источалось негодование, капало, словно слезы, на воротник. Увидев, что Судейкин продолжает стоять на пороге комнаты с остолбенелым видом (арест такого видного и богатого человека, как Холодилов – значимое событие для всей Камчатки, тут в море может подняться высокая волна и покатиться, ломая все на своем пути, на берег, вот Судейкин и медлил), Нилов распалился совсем – свечки можно было зажигать, рявкнул так, что из окон чуть не вылетели слюдяные стекла:
– Выполнять приказание!
Судейкина как ветром сдуло с плоского порога комнаты. Лекарь тоже решил удалиться, – от начальственного гнева лучше держаться подальше, – но едва он встал, как комендант зарычал и на него, адмиралтейского лекаря, всегда имевшего высокое положение не только на флоте, но и в светском обществе:
– А ну, стой!
Магнус остановился. Повернулся к Нилову:
– Я тумал, что вашей милости уже не нужен.
– Ты всегда мне нужен. Погоди-ка, – комендант тяжело поднялся из-за стола, – я сейчас…
Лекарь покорно наклонил голову. Нилов, кряхтя, прошел в соседнюю комнату, принес оттуда чайный мешочек, украшенный иероглифами. Сунул в руки Магнусу.
– Как ты думаешь, что это?
Лекарь недоуменно шевельнул плечами, развернул мешочек, сунул в него нос:
– Вроте пы чай.
– Вроде бы, вроде бы… – Нилов саркастически похмыкал, – я тоже считал, что вроде бы, да только чуть не опрокинулся на землю вместе с камчадалом. А камчадал был отравлен из этого вот кулька, – комендант звонко щелкнул пальцем по плотному матерчатому боку. – Понятно?
Распахнув мешочек пошире, Магнус вновь сунул в него нос.
– У чая всегта пывает сильный запах, он перебивает люпой тругой запах, – произнес лекарь задумчиво. – Но здесь, кроме запаха чая есть тругой запах, – Магнус отвернул лицо в сторону, – вы не пейте этот чай, госпотин коментант.
– Что за запах? – вскинулся Нилов.
– По-моему, еще есть запах мышьяка.
Нилов покрутил головой из стороны в сторону, словно бы на шею ему сильно давил воротник, потом поправил пальцами кадык. Выругался:
– Вот нехристь!
– Кто?
Канцелярист незамедлительно возник на пороге.
– Я здесь, ваше превосходительство!
– Холодилова привели?
– Еще нет. Ушли за ним, но пока не привели.
– Как только приведут – ко мне этого цареубийцу! – тут Нилов, конечно, хватил лишка – никакого царя купец убивать не собирался, скорее наоборот – старался устранить людей, которым власть царя мешала жить. Впрочем, и здесь Холодилов думал не о царе, а о себе самом – эти взбалмошные ссыльные могли принести вред его делу и этого допускать было никак нельзя. Всеми силами, которые имелись у Холодилова.
И плевать ему было на то, что Богу душу может отдать какой-то камчадал. Камчадалов на свете было много, а Холодилов один.
Лицо у купца сделалось белым, когда к нему пришли двое казаков с ружьями, возглавляемые сотником.
– Собирайся!
– Что стряслось? – рот у купца задрожал испуганно, мелко: появление такого конвоя ничего хорошего не предвещало.
– Велено доставить в острог, – пробурчал сотник, сверля Холодилова острыми темными глазами, – лично к коменданту.
– Да я с превеликим удовольствием, – купец затрясся, – гостинец только возьму.
– Никаких гостинцев! – в голосе сотника зазвучали злые шипящие нотки. – Велено доставить немедленно, без всяких сборов. Даже если будешь в исподнем.
– Ва-а-а-а-й, – заголосил купец, задрожал еще больше. – Что случилось-то? – он постарался заглянуть сотнику в глаза, но тот отвел взгляд в сторону. – Может, я тебе гостинец дам, а ты скажешь, что меня не нашел, а?
– Нет, я гостинцев не беру, – из глаз сотника на купца выплеснулось откровенное презрение. – Пошли! – В голосе его послышались угрожающие нотки. – Или тебя казаки возьмут под микитки.
Купец обреченно махнул рукой и больше не произнес ни слова.
Вначале его доставили в «холодную», но комендант возмущенно зарявкал на Судейкина:
– Я же велел этого татя немедленно привести ко мне! Почему не выполнено приказание? Ко мне его!
Несчастного купца, дрожавшего, как осиновый лист, привели к Нилову. Холодилов упал перед комендантом на колени:
– Чем я провинился перед вами, что сделал не так?
– И ты еще спрашиваешь? Скотина! – кожа на лице коменданта заполыхала горячо, в воздухе запахло чем-то горелым. – Пошто хотел меня отравить, да только это у тебя, татя недорезанного, не получилось… Э?
– Помилуйте, ваше сиятельство, – взмолился купец, голос у него завис на высокой ноте, – помилуйте!
– Не помилую! – Нилов изо всей силы саданул кулаком по столу. – Татей миловать не гоже, от этого государству – вред. Докладывай, пошто хотел отравить губернатора Камчатки? – Нилов не сдержался и назвал себя губернатором, повысил в звании и должности. – Э?
Купец хлобыстнулся лбом об пол так, что звон по всему дому пошел: Холодилов не мог понять, что произошло, откуда приползла холера, не мог свести концы с концами, хотя одно осознавал твердо: он находится в большой беде, в такой большой, что запросто может лишиться головы.
Он взвыл.
– Ну как и чем мне доказать, ваше сиятельство, что я не хотел причинить вам никакого зла? Скорее наоборот, я всегда старался делать вашему сиятельству добро и только добро, и сейчас желаю лишь добра и здоровья.
– Хы! – Нилов, рассмеявшись хрипло, упер руки в бока. – Хорошее же у тебя добро, купец, – отправлять людей на тот свет. Признавайся в грехе своем, пока тебя не отвели в пыточную!
Несчастный купец взвыл еще пуще, ему сделалось страшно.
– Никакого греха за мною нет, отец родной, – Холодилов вновь громко саданулся лбом об пол, – не совершал я ничего преступного!
– Значит, не хочешь соглашаться? – зловеще поинтересовался комендант.
До пыточной дело не дошло, да и Нилов, он только грозил, обещая намотать чьи-нибудь кишки на дрючок, на практике же до этого никогда не доводил и вообще комендант не был, как все пьющие русские мужики, отъявленным чудовищем.
Он скоро понял, что Холодилов здесь ни при чем, произошла какая-то ошибка и вообще отраву в мешок сунул не купец, а кто-то из его непутевых помощников. Нилов видел среди них одного хлыща, прыщ этот ему очень не понравился.
Холодилов же, оправившись от смертного испуга, поспешил сообщить коменданту пренеприятнейшую новость:
– Среди подопечных ссыльных зреет заговор, ваше сиятельство, – голос у купца сделался задыхающимся и перешел на шепот.
– Какой еще такой заговор? – выпучив глаза, заревел Нилов. – Ври, ври, да не завирайся. То, что тебя не отволокли в пыточную, еще не означает, что ты там не окажешься. С этим у меня дело налажено на ять! – Нилов потыкал пальцем в пространство над головой. – Понял? Одно легкое движение, и ты будешь болтаться на суку, господин купец!
Хоть и грозен был комендант, но Холодилов сейчас боялся его меньше, чем двадцать минут назад.
– Заговор ссыльных направлен против вас, – шепот купца стал еще тише, немощнее, по лицу его пробежала озабоченная верноподданическая тень, – против царицы-матушки, вона куда они решили дотянуться… Тати – это они.
Плечи у Нилова опустились, сделались бескостными, он шумно задышал и с размаху опустился на лавку.
– Дела-а, – протянул он жалобно, – дела наши грешные.
Нилов вспомнил, что о заговоре ему уже кто-то пробовал донести, поделиться тайной, но комендант даже слушать не стал доносчика, оборвал его раздраженно:
– Не бурови лишнего! Особливо, ежели чего-то не знаешь! Слышал звон… Тьфу!
А оказывается, заговором действительно попахивает, и Нилов поступил недальновидно, отказавшись выслушать доносчика. Это было ему неприятно.
– Заговор, говоришь? – угрюмо прохрипел он, сверля взглядом купца.
– Заговор, ваше сиятельство, – подтвердил Холодилов и меленько, от переносицы до подбородка, перекрестился, – своими детьми клянусь!
– Ладно, проверим это дело, – Нилов отвел взгляд в сторону, – но если ты соврал, то знаешь, что я с тобою сделаю…
– Знаю, знаю, ваше сиятельство.
– Вот что сотворю, – шумно выдохнул Нилов и, наложив кулак на кулак, повернул один кулак влево, второй вправо, – откручу тебе голову, как протухшему петуху. Понял?
– Так точно, понял, ваше сиятельство, – купец поклонился коменданту столь низко, что стала видна его шея в свалявшихся закрутках волос. – Если в том, что я говорил, найдете хоть полслова неправды, можете отрубить мне голову.
– И отрублю, – угрожающе произнес Нилов. – Отрублю обязательно. А пока посиди в моих казематах, мышей покарауль.
Купец начал всхлипывать, биться в истерике, но комендант уже перестал обращать на него внимание, лишь повелительно махнул рукой:
– Уведите!
Холодилова увели.
Вечером того дня Хрущев, наклонившись к уху Беневского, прошептал едва слышно:
– Надо бы переговорить, Морис Августович.
Беневский сощурил глаза, вмиг сделавшиеся жесткими.
– Что-то случилось?
– Еще не случилось, но может случиться.
Оглянувшись на Алешу Устюжанинова, склонившегося над букварем и самозабвенно водившего пальнем по строчкам, Беневский произнес успокаивающе:
– Парня не бойтесь, Петр Петрович, он – свой.
– Я знаю, – Хрущев нервно помял черную цыганскую бородку. – Есть повод для беспокойства: комендант арестовал Холодилова, – Хрущев замолчал и снова помял бородку.
– Интересно, интересно, – по голосу Беневского невозможно было понять, как он отнесся к этой новости. – Ну и чего, собственно? Арестовал и арестовал…
– Холодилов расскажет все, что знает о заговоре.
– Нилов купцу не поверит, – проговорил Беневский убежденно.
И Беневский оказался прав, он был неплохим психологом. Посадив Холодилова под замок, комендант поморщился брезгливо:
– Понапридумывал с перепугу две кучи навоза, чтобы собственную шкуру спасти. Пусть посидит три дня в «холодной», а там видно будет. Новый год опять-таки наступит… Хотя в истории с мышьяковым чаем есть закавыка…
В рассказе купца, пожелавшего с помощью мышьяка, всыпанного в чай, вырубить под корень группу заговорщиков, что-то было, конечно, и заставляло задуматься, но в заговор Нилов не поверил ни на йоту. Беневский рассчитал все точно.
Под Новый 1771-й год на Большерецк навалилась тяжелая, с крутым снегом, и волчьим воем пурга. Мело так сильно и так опасно, что в мутной круговерти снега даже собственную руку невозможно было разглядеть, а уж насчет того, чтобы увидеть крышу соседней хаты или хотя бы собственную печную трубу, то об этом даже помыслить было нельзя.
Метели на Камчатке обладали одной особенностью – они никогда не бывали короткими, пуржить могло неделю, две недели, три, земля съеживалась до крохотных размеров, ничего не было видно, люди делались как слепые. И дышать было нечем.
Митяй Кузнецов прибился к избушке Хрущева, принес свежего мяса – ногу оленя, протянул Беневскому:
– Полакомьтесь, Рождество все-таки, – сказал он. – Не смотрите, что мясо очень темное по цвету, мясо диких оленей всегда такое бывает. Зато оно очень чистое и полезное. Камчадалы никакого другого мяса не признают, только оленье.
– Приходи, Митяй, к нам на Новый год, – предложил ему Беневский.
– Приду, – Кузнецов согласно наклонил голову, – обязательно приду. Может быть, рыбы свежей сумею добыть – угощу тогда. И куропаток принесу – их много летает около Большерецка.
Днем тридцать первого декабря пурга начала стихать, словно бы природа специально давала возможность ссыльным собраться вместе и отметить праздник.
Собрались Беневский, Хрущев, Турчанинов, Гурьев, которого, несмотря ни на что, из компании решили пока не исключать, хотя поначалу думали вообще ликвидировать, Панов, лекарь Медер, Степанов, Алеша Устюжанинов, последним пришел Митяй Кузнецов – в общем, собрались все свои.
Когда разлили по глиняным плошкам водку, Хрущев, повертев плошку в пальцах, сказал:
– У меня на душе – большая тяжесть: через несколько минут начнется очередной год моего пребывания на этой грешной земле, на Камчатке. Хотя как выглядит Санкт-Петербург, я еще не забыл – помню и Невский проспект, и творение великого Монферрана – Исаакиевский собор, и набережные Фонтанки и Мойки, и стрелку Васильевского острова, – все помню очень хорошо, будто только вчера бродил по Петербургу… Но ни вчера, ни позавчера, ни позапозавчера я там не был. Все изменилось по злой воле. И я очень хорошо знаю, кого в этом винить, кто погрузил всех нас в черную беду, кого в этом винить, чье имя сделалось для меня ненавистным… Не только для меня – для вас тоже, – Хрущев замолчал, обвел блестящими глазами собравшихся. – Пусть Новый год принесет всем нам долгожданную свободу, – неожиданно севшим, тихим голосом закончил он.
– Да здравствует долгожданная свобода! – что было силы рявкнул Степанов.
Он уже успел втихую пропустить пару плошек, глаза у него были затуманенными.
– Не так громко, – осадил сподвижника Беневский, – вдруг под окном притаился какой-нибудь соглядатай Нилова и вострит теперь ухо на наши тосты.
– Да я его! – Степанов потянулся к висевшему на стене ружью, но Беневский удержал бывшего сочинителя неудачных проектов:
– Наше время еще не пришло, Ипполит Семенович, – трудное имя Степанова Беневский произнес без запинки, у него вообще была способность легко и быстро одолевать чужие языки и запоминать непростые слова. – Придет позже, потом, так что потерпите немного, пожалуйста.
Степанов мгновенно смолк, Беневский остановил громыхающую телегу на ходу, даже особых усилий не понадобилось.
– Выпьем за Новый тысяча семьсот семьдесят первый год, – торжественно провозгласил Хрущев, чокнулся поочередно со всеми, – пусть он станет годом нашей общей свободы, – он осушил плошку до дна и стряхнул капельки водки на пол.
В честь Нового года водки налили даже Алеше Устюжанинову и он от предложенной плошки не отказался.
Водку он пил первый раз в жизни, до этого не только не пробовал ее – даже не нюхал, от выпитого он чуть не свалился на пол, так ударила в голову «огненная вода», на глазах у парнишки выступили слезы. Он отвернулся от взрослых, чтобы те не видели его слабости, кулаком отер глаза.
Потянулся к куску рыбы, лежавшему на краю тарелки, неторопливо разжевал его – вел себя, как взрослый. Да и вообще Алеша Устюжанинов взрослел не по дням, а по часам.
После третьего тоста с лавки поднялся Семен Гурьев.
– А может, нам и не надо проклинать императрицу, господа? – неожиданно произнес он. Едва различимый шепелявый голос его услышали все, шум разом унялся, сделалось так тихо, что было слышно, как о стенки их дома скребется снег, да где-то недалеко тявкает греющаяся в сугробе собака.
На щеках Беневского заиграли недобрые желваки. А ведь он был неправ, не доведя задуманное до конца – Семена Гурьева нужно было убрать в прошлый раз, после первого его выступления. Убрать и зарыть в снегу до весны.
– Как не надо? – спросил он. Было видно, что Беневский с трудом сдерживает себя. – Как не надо? Ты опять за свое, Семен?
– Царица – женщина добрая, – сглотнув скопившуюся во рту слюну, прежним слабым голосом продолжил Гурьев, – напишем ей прошение в Санкт-Петербург, она и простит нас. А так нам вырвут языки, отрежут ноги и руки, отрубят головы и насадят их на колы. Я готов написать такое прошение, готов поклясться царице, что отслужу благодарностью на полях битв, укрепляя мощь России.
Немо, страшно, как и в прошлый раз, захрипел старик Турчанинов, кинулся на Гурьева: хы-ы-ы-ы! – но его успел перехватить Хрущев. Сдержал.
– Вот что, Семен, – произнес он жестко, тихо, с металлом в голосе, – уходи, не порти нам праздничную компанию. Уходи!
Понимающе кивнув, Гурьев шагнул к двери, дрожащими руками зашарил по вешалке, на которой висела его одежда.
– И еще, Семен, – Хрущев повысил голос. – В прошлый раз ты проболтался про наши дела купцу… Хорошо, Нилов не поверил ни одному его слову, поверил нам. Но если ты ляпнешь еще где-нибудь хотя бы полслова, то можешь догадаться, что с тобою будет, – видя, как ежится Гурьев. Хрущев добавил: – Это наше общее решение. Мы тебя убьем… Понял, Семен?
– Понял, – пробормотал Гурьев глухо и, поспешно потянув дверь на себя, шагнул в темноту, в завихренное колючим снегом ночное пространство.
Пути-дороги с заговорщиками разошлись у него навсегда. Степанов, сжав пальцы в кулак, ожесточенно опечатал им воздух.
– Я бы не стал отпускать его, – прокричал он зло, хрипло, – я бы его… Он предаст нас! Вот увидите – обязательно предаст!
– Посмотрим, – неопределенно проговорил Беневский, – но быть осторожным стоит определенно. Иногда – очень осторожным.
В голове у Алеши Устюжанинова гудело, позвякивало, словно бы кто-то набросал туда железок, он боком пробрался к своей кровати, ткнулся головой в подушку и уснул.
Очнулся он от толчков в бок, открыл глаза и увидел Беневского. Тот стоял над ним и улыбался.
– Мяса оленьего, горячего хочешь? С бульоном. Петр Петрович сварил. С кореньями и сладкими травами.
– Хочу, – Алеша обрадовано потянулся.
– С нынешнего дня, с первого числа января я назначаю тебя своим адъютантом, – произнес Беневский с торжественными нотками в голосе. – Согласен на это?
– Так точно, согласен, – сказал Алеша, хотя не знал, что такое адъютант, а спросить – пороха не хватило.
Он сбросил ноги на пол, поднялся рывком – видел, как это делают взрослые.
– А ты молодец, – сказал ему Беневский, – водку выпил – не поморщился, хотя я по себе знаю, как она ошпаривает рот…
– Очень горькая, – пожаловался Алеша.
– Теперь съешь мяса и выпей бульона, – в голосе Беневского прозвучали теплые нотки, – и все встанет на свои места.
Так Алеша Устюжанинов и поступил.
Большой любитель выпить комендант Нилов на Новый год, как ни странно, не пил, к водке даже не прикоснулся – пребывал в мрачном состоянии, думал о чем-то своем, тяжелом, способном придавить любую душу к земле, на вопросы не отвечал, лишь раздраженно отмахивался, да молчал.
Сын его Григорий – беспечный, белоголовый, капризный, весь Новый год лакомился орехами. Для этого сотник специально отрядил ему караульного солдата, тот разгрызал крепкие скорлупки, вытаскивал из раздавленной оболочки ядра и отдавал мальчишке. Младший Нилов радовался – вкусно очень. И зубы свои не надо портить, ломать – солдат расправляется с ними играючи.
Понимая, что отец подавлен, лицо у него серое, больное, глаза слезятся, с ним вообще происходит что-то нехорошее, Гришка подергал его за рукав.
– Ты выпей, тятенька, тебе легче станет, – посоветовал.
В ответ комендант только вздохнул и отрицательно покачал головой, в глазах его вспыхнула и погасла боль.
– Не время, сынок, – проговорил он тихим незнакомым голосом. – Не время.
Он понял – наконец-то! – что заговор в Большерецке готовится действительно и во главе его стоит человек, к которому он относится хорошо, постоянно жалует вниманием и часто приглашает к себе в дом – Маурицы Беневский.
С Беневским – еще несколько человек: хозяин хаты, приютивший поляка – Петр Хрущев, смешной старик Магнус Медер (смешной-то смешной, но лекарь очень хороший), тут же и второй старик, безъязыкий, с вырванными ноздрями, Алексей Турчанинов, бывшие офицеры Панов, Батурин, Степанов, иностранец Винблад – в общем, набралась полная кошелка злодеев.
Комендант поморщился, словно от боли, повел головой в одну сторону, потом в другую – воротник, который никогда не был тесным, начал туго сжимать ему шею, – ну будто бы на Нилова накинули петлю.
С одной стороны, надо было немедленно действовать и Нилов хорошо понимал это, а с другой – силенок у него было маловато: из семидесяти солдат и казаков, находившихся под началом коменданта, сорок три пребывали в разъездах. Несмотря на зимнюю пору, непролазные снега, они регулярно возникали в самых разных углах Камчатки, собирали дань для царской казны – ясак, «меховую рухлядь», драгоценные собольи шкурки, лисьи и горностаевые снизки… По мнению Нилова, на Камчатке водился самый ценный в Российской империи соболь, он был, на его взгляд, даже ценнее знаменитого баргузинского.
Но местные жители – коряки, алеуты, камчадалы, – цену соболю не знали, иногда дорогими собольими шкурками подбивали себе лыжи.
Такие лыжи хорошо скользили по снегу, а когда охотник забирался на горку, то не устремлялся безудержно назад, мех держал его на месте. Не понимали местные люди, что если лыжи подбить драной собачьей шкурой, результат будет тот же самый: лыжи станут так же хорошо скользить по склону и так же не покатятся назад с крутой горы, а то и с самого вулкана, коих на Камчатке немало.
И все-таки, несмотря, что Нилов уже имел на руках свидетельства заговора, он не мог до конца поверить, что такие милые, такие обходительные люди, как Беневский, Винблад, Панов и другие, которых он хорошо знал (они же обучали его Гришку не только иностранным языкам, но и географии с математикой, черчению и истории, просвещали других камчатских детишек), которые часто бывали у него в гостях – с ними он коротал темное вечернее время, беседовал на приятные темы и потреблял «огненную воду» (в количествах, не всегда, к сожалению, разумных), могли замыслить заговор…
И ладно бы заговор против него, это мелочь, мура – эти вздорные людишки решили затеять заговор против самой императрицы! В общем, было, над чем задуматься коменданту. Поэтому Нилов и колебался… И был так не по-рождественски мрачен.
Сыну Нилова надоело есть ядра, вытащенные из разгрызенных солдатом орехов, и он милостивым взмахом руки отпустил служивого:
– Вали отсюда!
Отец посмотрел солдату вслед и, приходя в себя, проговорил со вздохом:
– Ладно. Как бы прискорбно ни складывались обстоятельства, будем действовать. Пусть только пройдет рождественская седмица – не арестовывать же благородных людей в праздник.
Нилов вновь вздохнул, лицо у него поспокойнело, посветлело, на душе сделалось легче.
О решении коменданта стало известно Хрущеву. Он немедленно созвал заговорщиков на совет.
После пурги установилась хорошая погода, в небе сияло крохотное зимнее солнце, белесое, с желтой налипью посередке, тепла от него не было, а вот маленькая радость в душе засветилась, растеклась внутри легким щенячьим восторгом – жить в такие дни хотелось.
Хрущев был озабочен.
– Нилову про нас известно все, – сказал он, – все-все… Раскопал, зар-раза.
– В этом ничего особенного нет, – невозмутимо заметил Беневский, – мы наши замыслы и не засекречивали, даже наоборот – привлекали людей, а у людей, как известно, языки длинные, тайны выбалтывают быстро. Вот и стало все известно Нилову.
– Не сегодня – завтра он нас арестует, Морис Августович.
– Мы его арестуем раньше, – спокойно произнес Беневский, – сегодня ночью. Надо собирать людей, прежде всего – охотников.
– Жаль, Митяя Кузнецова нет.
– Где он?
– В тундре.
– Это действительно жаль. Кузнецов – решительный человек, охотники его уважают. А охотники нам очень нужны – Кузнецов мог бы их привести… Жаль, что он в тундре. С другой стороны, Нилов еще может пару-тройку дней помедлить, пока казаки не вернутся из своих поездок. Сил у него, скажем прямо, маловато.
Но Нилов медлить не стал, он переменил решение, принятое ранее – немного поразмышлял и переменил и вечером, уже в темноте, отправил в хату Хрущева сотника и двух пеших казаков.
– Приведите ко мне поляка и этого самого… хозяина хаты… Хрущева, – велел он.
Сотник Беневского знал и относился к нему с уважением, Хрущева тоже знал, но недолюбливал за колючий характер и насмешливый язык, так что эти две фамилии были для него неравнозначны. Лицо сотника сделалось угрюмым, он неуклюже поклонился коменданту и, не сказав ни слова, вышел за дверь.
Удалой охотник Митяй Кузнецов был занят неотложным делом.
Три дня назад, в темноте, когда ночь уже накрыла черным холодным одеялом здешнюю землю, в дверь к нему постучали. Стук был громким, настойчивым.
Митяй еще не спал, лежал в темноте с открытыми глазами, обдумывал свое житье-бытье, рядом уютно расположился кот Прошка, мурлыкал, намекая, что хозину пора отойти ко сну; услышав требовательный стук, Митяй похлопал себя ладонью по рту и, обращаясь к Прошке, поинтересовался:
– Это что за разбойники ломятся к нам в дом?
Кот прекратил мурлыкать, насторожился.
Открыв дверь, Митяй увидел двух невысоких, пляшущих на снегу людей, одетых в кухлянки. Одного из них он знал, это был камчадал Паранчин, второго – нет.
– Это мой братка, – сказал Паранчин, хлопнул своего спутника ладонью по плечу. Митяй удивился: вроде бы у Паранчина никаких братьев не было, его всегда видели только с женой, а оказывается, есть брат, и слово какое ласковое для него нашел камчадал, точное и редкое – «братка».
– Заходите – гостями будете, – сказал Митяй, – сейчас свет запалю.
– Беда, однако, Митяй, – Паранчин не стал ждать, когда Кузнецов зажжет огонь светильника, – ты очень нужен…
– Я всем нужен, – Митяй не удержался, хмыкнул. – Что за беда?
– У братки оленье стадо находится в беде, – пожаловался Паранчин.
– У братки? – Митяй, не выдержав, снова ухмыльнулся.
– Да. Вначале стадо обложили и угнали к вулкану волки, а потом волков прогнали росомахи – целая стая.
Митяй невольно покрутил головой: когда речь заходит о росомахе, то охотник начинает невольно задумываться – а зачем природе понадобилось сотворить такого пакостливого зверя? Пакостливее и кровожаднее росомахи зверя в природе нет. С росомахой не связывается даже медведь.
Теперь понятно, почему камчадалы – люди, умеющие хорошо стрелять и не промахиваться, пришли к нему… Малым числом со стаей росомах они не справятся. Митяй поспешно натянул на себя штаны, сшитые из непромокаемой нерпичьей кожи, одел чистую холщовую рубаху, сверху вторую рубаху – толстую вязаную, теплую.
На плечи накинул новенькую кухлянку, в которой никакой мороз не был страшен, со стены снял ружье – с длинным убойным стволом и облегченным прикладом, приклад для него Митяй выточил сам, работал долго, в результате получилось то, что надо, – в долгих охотничьих переходах, в соболиных гонах с таким ружьем устаешь меньше, – в заплечный мешок сунул заранее приготовленный кулек с порохом, следом второй кулек – со свинцовым припасом, пулями и дробью.
Погладил по голове Прошку, который недружелюбно поглядывал на непрошеных гостей.
– Ты снова остаешься в доме за хозяина, – проговорил Митяй негромко, – жди меня. Понял?
Кот все понял, отвел свой недобрый взгляд от гостей.
– Ну, бывай, Прохор, – сказал Митяй и толкнул дверь в крохотный, недавно пристроенный к дому тамбур, пахнущий копченым мясом, из тамбура вышел на улицу. Там, под домом, ночевали его собаки, две лайки – Граф и Маркиза.
Лайки на Камчатке хоть и имели своих постоянных хозяев, а жизнь вели вольную, гонялись по окрестностям за всем, что умело бегать, многие хозяева их даже не кормили – собаки добывали еду сами.
Но если Митяй оказывался дома и никуда не собирался ехать, Граф и Маркиза тоже предпочитали находиться дома – были преданы хозяину.
Услышав голос Митяя, собаки мигом выбрались из-под дома: поняли, что предстоит охота, а это дело они любили больше всего в жизни.
– Маркиза! Граф! – хозяин потеребил лаек за уши. – За мной!
В двух шагах от его дома стояли нарты, запряженные одиннадцатью ездовыми собаками – транспорт паранчинского «братки».
Сверху, из-под небес, на темную, сиротливо сжавшуюся в преддверии новой пурги землю свалился плотный снеговой полог, скрутился в несколько тугих жгутов, попытался накрыть собак, но не успел – те поспешно рванулись вперед и залились дробным лаем. Митяй прыгнул на задок нарт, Паранчин с «браткой» разместились впереди.
Через несколько минут нарты проглотила ночь.
У дома Хрущева сотник замешкался – не хотел выглядеть перед Беневским этаким ворогом, привыкшим выламывать руки хорошим людям, оглянулся на казаков и сказал им:
– Вы меня подождите тут, я вас кликну.
Казаки на это ничего не ответили, стянули с плеч тяжелые мушкеты. Сотник даже не успел постучаться в дом – дверь открылась сама. На пороге стоял Беневский.
– Ба-ба-ба! – воскликнул он приветливо. – Господин сотник! Прошу пожаловать в дом, – он сделал широкий приглашающий жест. – Мы как раз собираемся опустошить графинчик холодной водки. Шкалик ждет и вас, господин сотник. Прошу!
Сотник, не колеблясь, шагнул в дом. Беневский закрыл за ним дверь.
В сенцах было темно, пыльно, у стенки стояли свежеоструганные доски. «Для гроба, что ли?» – подумал сотник и в это время на него накинули рыболовную сетку.
Не понимая, в чем дело, сотник забарахтался в ней, выматерился. В темноте к нему шагнул Панов, зажал рукою рот.
– Тихо, тихо, не делай лишних движений, – предупредил он. – Не станешь делать – все будет в порядке, начнешь размахивать саблей – кончишь плохо.
– Пожалуйста, пожалуйста, гость дорогой, – громогласно произнес Беневский, так, чтобы его слышали казаки.
Скрученного сотника втянули в избу, усадили на лавку.
– Не думай, что это шутка, – предупредил его Беневский, – это далеко не шутка. Разоружите нашего гостя, – приказал он, – на всякий случай.
У сотника выдернули из ножен шашку. Пистолетов, которыми он также должен быть вооружен, при сотнике не оказалось.
Из-за голенища правого сапога вытащили охотничий нож.
– Это все, – сказал Батурин, занимавшийся разоружением сотника, – больше ничего нет. Только кисет с табаком, кресало и огниво.
– Все так все, – доброжелательно произнес Беневский, – пора приглашать остальных.
Сотник дернулся, попытался что-то сказать, но рядом с ним немедленно встал Панов.
– Не дури, служивый, – предупредил он, – не то худо будет.
Плечи у сотника обвяли, на лице возникли горькие складки. Беневский неторопливо выдвинулся в сенцы, открыл дверь, ведущую на улицу. В сенцы влетело целое облако мелкого снега, следом вполз холодный пар.
– Заходите, служивые, – окликнул Беневский казаков, – выпейте по чарке, согреетесь хоть… – заметив настороженный взгляд одного из них, Беневский улыбнулся широко, гостеприимно: – Сотник разрешает.
– Ну раз разрешает, дак мы… – неловко топтавшийся казак с сомневающимся взглядом решительно шагнул к двери, – дак мы завсегда…
Через минуту оба казака, разоруженные, уже сидели на лавке, окруженные взбунтовавшимися ссыльными. Мушкеты их отставили в сторону, мешочки с пулями и порохом содрали с поясов и передали Хрущеву.
– Ведите себя смирно, ребята, – сказал Хрущев и налил каждому по плошке водки. – Все будет хорошо, если вы не станете трепыхаться, кричать, бить в колокола и требовать, чтобы вас выручили… Поняли?
На вопрос не отозвался ни один из задержанных. Но водку выпили дружно. Все. Молча.
– Значит, не поняли, – сказал Хрущев и налил еще по плошке. – Выпейте, ребята, по второй. Для прояснения мозгов это полезно.
Казаки вопросительно глянули на сотника. Тот махнул рукой:
– Пейте! – лишь досадливая тень проскользила по его лицу.
И было отчего сокрушаться ему – угодил в силок, как несмышленый пацаненок, шагнул в дверь хрущевской хаты, не оглядываясь… Тьфу! Под седой острижью аккуратно подрезанной бороды вспухли желваки. Вспухли и опустились – себя надо было держать в руках.
– Поступим так, сотник, – сказал ему Хрущев спокойным тоном, в котором не было ни одной возбужденной нотки, но вот сотнику от этого голоса неожиданно сделалось холодно, он понял, что человек этот, ежели что, не задумываясь, всадит ему пулю в лоб либо в живот. – Ребятам твоим мы свяжем руки и посадим в соседнюю комнату. Ты же сядешь с нами вечерять – перекусим малость. Нилов, конечно же, пришлет тебе подмогу. Чтобы не было стрельбы и не погибли люди, нам эту подмогу надобно обмануть. Понял, сотник?
– Чего ж тут непонятного? – сотник вздохнул.
– Ну и хорошо, – Хрущев вытащил из-за пояса пистолет и положил его на стол.
Рядом с пистолетом на столе, появилась красная рыба, нарезанная крупными ломтями, горячая картошка, ситник в деревянной хлебнице, вареная оленина. Опустевший графин с водкой был сменен другим, полным.
Чутье у Хрущева было отменное, он все рассчитал точно – через час около его дома появились четверо караульных солдат во главе с капралом.
– Что и требовалось доказать, – удовлетворенно проговорил Хрущев, взял со стола пистолет. – Сотник, твой выход! Поступим так – ты сейчас выйдешь в сенцы, откроешь дверь и пригласишь капрала в дом. Знаешь его?
– Знаю. Это Трифонов. Неплохой мужик.
– Действуй, сотник, – Хрущев махнул пистолетом. Предупредил жестким тоном: – Только не шали!
Угрюмо кивнув, сотник прошел в сенцы, распахнул уличную дверь. Распахнул в тот самый миг, когда капрал, с опаскою поглядывая на окна дома, выкрикнул:
– Господин сотник!
Тут капрал увидел сотника и рот у него запахнулся сам по себе, только челюсти лязгнули.
– Вы? – пробормотал он неверяще.
– Я. А что, не похож?
– Да нет, похожи.
– Заходи, мы тут с Хрущевым перекусить решили… Нальем и тебе шкалик.
– А я думал, что вас тут убили, – капрал покрутил головой.
– Еще не убили, – назидательно и сурово произнес сотник, на выражение его голоса Трифонов не обратил внимания. А напрасно. – Заходи, – повторил сотник, посторонился, пропуская в дом капрала.
Капрал постучал сапогами по порогу, стряхивая с головок снег, и вошел в дом.
С ним произошло то же самое, что и с сотником, разоружили его мгновенно, в несколько секунд. В кружку налили водки, дали выпить. Затем в рот сунули кусок рыбы.
– Не обижайся на нас, капрал, – сказал Хрущев. – Так надо… Теперь ты должен будешь сделать то, чего повелим мы, – он поднес к носу капрала ствол пистолета. – Усваиваешь науку?
– Чего ж тут не усвоить? – довольно спокойно проговорил Трифонов.
– Зови сюда солдат, нечего им мерзнуть на улице. И не вздумай шалить, – Хрущев угрожающе приподнял пистолет.
В ответ капрал вздохнул прерывисто, что-то сглотнул и, молча кивнув, выглянул на улицу.
– Заходите, земляки, – сказал он солдатам, – много, конечно, не нальют, но по плошке каждому достанется обязательно.
Солдаты, с хрустом давившие ногами снег на улице, оживились – опрокинуть в себя по плошке и прогнать холод, застрявший внутри – это благодать для тела и духа. Перекрестились.
– Спасибо хозяину!
Их не обошли плошкой водки, налили каждому, дали по куску вяленого кижуча на закуску, а потом присоединили к задержанным казакам и заперли в отдельной комнате.
Вскоре на Камчатку навалилась ночь.
Факт, что в острог, под прикрытие крепостных стен, не вернулись ни сотник с казаками, ни капрал Трифонов с солдатами, не встревожил коменданта Нилова – он лег спать. Правда, на лавку, придвинутую в спальне к кровати, положил два заряженных пистолета.
В крепости было тихо, в самом поселении, в домах, тоже было тихо и вроде бы ничто не предвещало худого. Только вот ни казаки, ни солдаты не вернулись… Почему?
Беневский выжидал. Два-три часа в таком важном деле, как их бунт, никакой роли не играют, поэтому спешить или тем более – ошибаться им было никак нельзя. Должны были собраться сообщники, желательно все до единого. Чем больше их соберется – тем лучше.
Заглянув в комнату, где сидели задержанные солдаты и казаки, Беневский осмотрел каждого из них – не развязались ли? Нет, не развязались, руки у каждого были прочно стянуты веревкой. Беневский удовлетворенно кивнул и позвал зычно, с акцентом:
– Альошка! Адъютант!
Алеша не спал, – да и уснешь разве, когда такие события разворачиваются, мигом нарисовался перед Беневским:
– Сделай доброе дело, Альошка. Возьми-ка графин с водкой и налей каждому арестанту по шкалику.
Алеша недоуменно глянул на шефа:
– А как же они будут пить? У них же руки связаны.
– Неважно. Ты влей водку каждому в рот. Никто не откажется.
– А если прольется мимо?
– Исключено, – убежденно произнес Беневский. – У русского мужика водка никогда не проливается мимо рта. Действуй, Альошка!
Алеша заглянул в комнату, в которой находились пленники, пересчитал их и удрученно помотал головой – если каждому выдать по плошке, то посуду придется занимать у соседей.
Можно было, конечно, каждому налить водку в ладони, а потом повторить и выпили бы, не моргнув глазом, и ни одной капли не пролили бы, но руки-то у пленников связаны, а развязывать, как он понял, опасно. Алеша вздохнул скорбно, понимающе и взял одну плошку – одну на всех.
– Пить будете без закуски, – строго произнес он, налил в плошку водки и подошел к связанному казаку, сидевшему на полу рядом с дверью. – Ну-ка, открывай рот, – велел он.
Казак покорно открыл рот, и Алеша махом выплеснул туда водку, казак проглотил водку, не поморщившись и не упустив изо рта ни капли.
– Молодец! – сказал ему Алеша и вновь наполнил плошку водкой, переместился к черноглазому, готовно улыбающемуся солдату в сбитой на затылок барашковой шапке, поднес плошку к его рту. – Пей!
Солдат покорно запрокинул голову и открыл рот.
Вылив водку будто в разлом, не имеющий дна, Алеша сказал солдату:
– А теперь закрой рот.
Солдат послушно закрыл.
– Молодец! – похвалил его Алеша и передвинулся дальше.
Бунтовщики выступили в середине долгой черной ночи, примерно в половине третьего, в самую глухую пору, когда человека одолевает, буквально пеленая по рукам и ногам, тяжелый сон, – народа на стороне Беневского и Хрущева было немного, чуть более тридцати человек, но и под началам большерецкого коменданта людей тоже было немного – все остальные находились в разъездах.
В общем, силы были равны – фифти-фифти. Конечно, Нилов допустил ошибку – отправил сотника с казаками арестовывать бунтовщиков, затем туда же отправил капрала с солдатами, а делать этого не надо было. В результате он лишился половины своего и без того крохотного войска: ни один из тех, кто был отправлен к Беневскому с Хрущевым, в острог не вернулся. Что произошло с этими людьми, нам известно.
У Нилова были и пушки, но он и ими не воспользовался – отвык от воинских обязанностей и дел в каждодневной пьянке, да в лени… В результате – проиграл.
Часовой, стоявший ночью около дома коменданта, испуганно задергался, когда из поселения в острог прибыли Беневский, Хрущев и еще три десятка человек, сопровождавших их, воевать с мятежниками он не пожелал – понимал прекрасно, что его сомнут, как тряпку, засунут голову под микитки и зашвырнут на свалку. В результате он прислонил мушкет к стенке дома и отошел в сторону.
Заговорщики спокойно поднялись на крыльцо.
Сам капитан Нилов спал – храпел так, что на окнах поднимались занавески и прилипали к потолку, – а вот сын его Гришка не спал, ему было страшно: он лежал под одеялом и стучал зубами.
Когда заговорщики появились в доме, Гришка понял, что надо прятаться. Его перехватили пришедшие:
– Ты куда?
– До ветра, – простучал зубами Гришка, – очень захотелось.
– А-а… Ну ладно, дуй, дуй!
Гришка стремительно, пулей, пронесся в утепленный, стоявший на отшибе сортир и заперся там на крючок. Не отпирал нужник до тех пор, пока ему не объявили:
– Все кончено. Выходи, страдалец!
Продолжая стучать зубами, тряся коленками, Гришка вышел. Над домами, как ему показалось, уже занимался рассвет, очень бледный и нездоровый, – а может, это и не рассвет вовсе был, по утоптанному темному снегу носились проворные вихри.
Говорят, когда по земле стелется крученый, завивающийся в узлы снежный хвост – это веселится нечистая сила, сам господин черт поспешает куда-то, и Гришка, видя такие хвосты, обязательно шарахался от них в сторону, крестился боязливо… Такие вот вихри крутились и сейчас.
– Иди, проведай отца, – сказал кто-то Гришке и он слепо, тычась в чьи-то спины, цепляясь руками за стены, поплелся в дом.
Капитан Нилов лежал в спальне, освещенной тремя рыбьими коптюшками, принесенными от караульных солдат, глубоко вдавившись головой в окровавленную подушку и тихо стонал. Глаза его были закрыты. Белое полное лицо обвяло, сделалось худым, неузнаваемым каким-то, чужим. Шея – обмотана пропитанными кровью полотенцами.
– Тятя! – кинулся Гришка к отцу. – Тятенька!
В ответ Нилов захрипел – он находился в сознании, услышал голос сына, хотел что-то сказать, ободрить Гришку, но сил у него на это не оказалось – комендант умирал.
Бунт, который мог вообще обойтись без крови, оказался, к сожалению, запачкан ею. Когда Беневский, Хрущев и другие ворвались в дом коменданта, Нилов, не выходя из своей спальни, поднял один из пистолетов, лежавших на скамейке около его головы и выстрелил. Он рассчитывал остановить бунтовщиков, но сделал только хуже, и прежде всего – себе.
Пуля, никого не задев, со свистом просекла пространство и впилась в потолок, с которого отвалилось несколько плоских комков известки.
Сделать второй выстрел комендант не успел: в спальню ворвался Панов. Вооружен он был кривым, очень острым ножом, которым на Камчатке разделывают китов и сивучей – раздельщики всегда держали ножи острыми, точили каждый день, иначе при разделке можно было остаться без рук от тяжелой работы, – поэтому ножи эти были острыми и опасными.
Недолго думая, Панов секанул коменданта ножом по шее. Рана была глубокая, но Нилов еще жил.
– Тятенька! – младший Нилов висел на кровати, но к отцу боялся прикоснуться, хныкал, брызгал горючими слезами, мокрил пол, извивался, выкрикивал что-то бессвязное, потом затихал и через полминуты вновь взрывался одним жалобным словом: – Тятенька!
Выжить тятеньке не было дано, но Гришка Нилов этого не понимал, рвал своими вскриками души тех, кто собрался в эту минуту в доме.
Через час душа большерецкого коменданта Нилова отлетела в горние выси.
Стая росомах, отжавшая в тундре оленье стадо, держала и людей и животных в страхе, начертила невидимый круг, в который не впускала ни одного пастуха и из которого не выпускала ни одного оленя.
Как только какой-нибудь простодушный олень слишком близко подходил к невидимой границе, к нему тут же с рявканьем, роняя с клыков слюну, прыгала росомаха.
Олень испуганно прядал назад, врубался в стадо, в крутящийся, обреченно хоркающий олений круг и исчезал, росомаха возвращалась на место.
Росомашья стая уже считала оленей своими, – ни одну голову за пределы круга они не выпустят, – и теперь пасла стадо. Когда надо было пообедать или поужинать, росомахи отжимали от стада пару оленей и заваливали их.
Съедали все, оставались только копыта, обглоданные рога, да пустые черепушки и пара причудливо изогнутых, с рассыпанными позвонками хребтов.
Людей росомахи не боялись, хотя всякое появление человека, – даже далеко, где-нибудь у горизонта, – отмечали и очень внимательно следили за ним, фиксировали каждый шаг, каждое движение…
Митяй Кузнецов разбойные повадки росомах знал – доводилось иметь дело с этими зубастыми зверями, знал и то, что росомаха обязательно уступит дорогу человеку, который сильнее его, более того – постарается не попасться ему на глаза, нырнет в землю, под корень дерева, в старую медвежью берлогу, закопается в снег и в глуби, под снегом, выроет ход и вынырнет на поверхность метрах в тридцати от того места, где закопалась, – более изобретательного зверя по части маскировки, чем росомаха, в природе нет.
Если же росомаха почувствует в человеке слабость, то обязательно обнаглеет, – превращение произойдет в несколько коротких секунд, – может даже кинуться на иного уставшего охотника и сомкнуть на его шее железные челюсти.
– Дело тут, оказывается, сурьезнее, чем я думал, – озабоченно произнес Митяй, соскочив с нарт и глянув на трех бесстрашно взиравших на него хищников. Было похоже, что росомахи растеряли обычную свою осторожность. – Цыц! – махнул он рукой на коренастых длинноногих зверюг, готовых кинуться на него.
Клочковатая коричневая шерсть, похожая на собачью, вздыбилась на их холках.
Злобы в росомахе много, вреда от нее еще больше, а вот пользы совсем мало, можно сказать – никакой. Единственное, что драный темный мех ее обладает удивительным свойством – он не индевеет.
Все другие меховые малахаи, сшитые из лисы и роскошного соболя, из волка и енота, в мороз покрываются густой жесткой махрой, а росомаший малахай нет – ни одной белой индивинки на нем. Даже если мороз запрыгнул за пятьдесят градусов и трещит так, что от него можно оглохнуть.
Отдельные умельцы пришивают к малахаям росомашьи козырьки, чтобы в мороз лучше видеть. Говорят – помогает. Митяй на себе это не испробывал, но изобретательный народ в роскошных собольих малахаях с росомашьими козырьками видел – лица у людей были довольные. Значит – помогает.
Осторожно, стараясь не спугнуть насторожившихся росомах, Митяй вернулся к нартам, присел на них, взял в руки ружье. Проверил, насыпан ли порох на полочку, – убедившись, что насыпан, прямо с нарт, не вставая, выстрелил.
Пуля попала в крайнюю росомаху – грудастого самца с широкими, украшенными опасными черными когтями лапами, – самец вскинулся, выбив из-под себя целый сноп густого колючего снега, заревел громко и отпрыгнул в сторону метра на четыре.
Грохот выстрела не испугал звериную стаю, хотя росомахи дружно присели, стали ниже, неуязвимее, а вот олени испугались, сбились в тесную кучу, в круг. Круг этот заскользил по снегу с убыстряющимся вращением, окутываясь паром и ужасом, скорость вращения была такая, что олени могли легко прорвать росомашью осаду и разбежаться в разные стороны, раствориться в пространстве, но олени этого не делали – не было команды вожака.
Подстреленный самец откатился по снегу еще метра на четыре и, окрашиваясь кровью, со стоном впился клыками в кусок льда, образовавшийся на какой-то кривой кочке, лед, прочный, как железо, под клыками размололся, легко обращаясь в красную влажную крупку, самец приподнял прощально голову, рыкнул на стаю, словно бы передавал обязанности вожака другому самцу, такому же матерому и хитрому, и обессиленно сник.
Все, один готов. Митяй подхватил второе ружье и, почти не целясь, выстрелил.
Он умел стрелять почти наугад – на звук, на промельк тени, на движение воздуха в воздухе и редко промахивался. Вторая росомаха – приземистая, криволапая, с опасным оскалом клыков, самка взвилась вверх, в воздухе перевернулась и тяжело, согнутой крюком спиною рухнула в снег. Даже не пошевелилась – пуля просекла ей грудь и застряла в сердце.
Обезумевший от страха олений хоровод завертелся еще быстрее, животные, сжавшиеся в один живой ком, переплелись рогами и неслись по кругу неведомо куда.
На этот раз росомашья стая дрогнула, часть зверей метнулась в одну сторону, часть в другую. Митяй начал поспешно заряжать ружья – загнал в ствол своей любимой фузеи заряд пороха, потом забил пыж и сверху затолкал шомполом литую свинцовую пулю. Такая тяжелая дуреха не только росомаху уложит – заставит задрать лытки кого угодно. Следом зарядил второе ружье, также забив в ствол увесистую свинцовую пулю.
– Ну-ка, друг любезный, – сказал Митяй Паранчину, – протронь-ка свои санки вдоль оленьего круга. Посмотрим, где прячутся лютые звери.
Ездовые собаки едва не взвыли, им было страшно, но вот вожак, преодолев себя, заперебирал лапами по пространству, забрызгал твердым колючим снегом, выдирая его из-под брюха крепкими когтями, стронул нарты с места вместе со всей собачьей командой – сильный был вожак.
Проехали метров двадцать и увидели еще одну росомаху – убогую какую-то, криво стоящую на лапах, злобно ощерившую пасть. Митяй встал на нартах в полный рост и выстрелил – бил поверх собачьих голов, почти не целясь.
Росомаха взвизгнула по-щенячьи жалобно, заскребла лапами по твердому, словно бы деревянному насту, норовя забраться внутрь, под корку, спрятаться от человека, но не тут-то было – к ней, напрягшись, застонав хрипло, кинулся вожак, потянул за собой упряжку, Митяй понял, что может произойти в следующий миг, подхватил свою верную фузею, спрыгнул с нарт и, опережая вожака упряжки, побежал к раненому зверю.
Хоть и повержена была росомаха, и спрятаться пыталась – сил у нее совсем вроде бы не стало, но собак она может здорово покалечить, порвать им глотки, – всех, конечно, не одолеет, а псов пять-шесть приведет в негодность.
Он добил росомаху прикладом, размозжил ей голову, вогнал костяшки в снег, расколол череп, расплющил его, а потом еще несколько минут дивился тому, что у мертвого зверя дергались лапы, словно бы росомаха пыталась куда-то удрать либо зарыться в снег.
– Тварь какая… Тварь, – дергаясь на нартах всем телом, приподнимаясь нервно и резко опускаясь, мстительно вскрикивал Паранчин и хлопал себя по кухлянке кулаками. – Тварь!
«Братка» Паранчина лежал на нартах, не шевелясь – боялся помешать охотнику. Лай Графа и Маркизы слышался с другой стороны беспокойного оленьего стада – там были росомахи.
– Ну-ка, протронь-ка еще вперед, посмотрим, что там делается, – попросил Митяй Паранчина, камчадал закивал мелко, как-то по-птичьи, крикнул что-то вожаку и тот, косясь на дергающую лапами росомаху, напрягся, потянул за собой нарты вместе с собаками – сильный был пес.
Странное дело, росомах больше не было, они словно бы подевались куда-то, растворились в воздухе, зарылись в снег, кинулись к оленям под ноги и сейчас находятся внутри крутящегося стада – нет их!
Митяй крикнул Паранчину:
– Ты на малом ходу езжай дальше вдоль стада по кольцу, а я двинусь навстречу. Сдается мне, хитрые звери решили нас обдурить. Графа с Маркизой они уже обдурили.
Паранчин, покрикивая на собак, повел упряжку дальше, а Митяй развернулся и, держа ружье наготове, двинулся в обратную сторону.
Он все рассчитал верно, чутье не обмануло его: росомахи быстро сообразили, что к чему, и теперь, спасаясь от пуль Митяя, прятались за оленями, уходили и от упряжки, и от собак охотника. Правильно поступил Митяй, двинувшись в обратную сторону. Через несколько минут он увидел, что на него несутся сразу три росомахи.
Шли росомахи быстро, вскачь, на бегу оглядывались – знали, что дело им иметь придется не только с вооруженным человекам, но и с лающей упряжкой и двумя охотничьими собаками. С оскаленных росомашьих морд на снег падала пена. Митяй вскинул ружье, поймал на мушку росомаху покрупнее и щелкнул курком.
Порох на полочке вспыхнул, в то же мгновение громыхнул гром, ствол выплюнул тяжелую свинцовую пулю.
И на этот раз не промазал Митяй Кузнецов – раскаленный металл всадился росомахе прямо в морду, выкрошил клыки и срезал кусок черепа.
А еще говорят, что башка у росомахи крепче камня. Ничего подобного – и свинцу поддается, и ружейному прикладу.
Последний выстрел решил все – звери с воем развернулись и понеслись прочь от оленьего стада. Граф с Маркизой за росомахами не пошли – это было бы для них гибельно, да и хозяин не давал такой команды.
Митяй подождал, когда собачья упряжка подъедет к нему. Паранчин вбил в наст острый кол и упряжка встала мертво. Паранчин спрыгнул с нарт. Следом за ним с нарт слез «братка».
– Молодец, Митяй, – прокричал Паранчин восторженно, – не подвел! Недаром тебя называют лучшим стрелком Камчатки.
– С этими все, – проговорил Кузнецов неожиданно устало, – они больше не придут.
– Спасибо, Митяй! – Паранчин признательно прижал руку к груди. «Братка» сделал то же самое. – Мой братка – человек богатый, он хочет отблагодарить тебя соболями, самыми лучшими шкурками, на выбор.
– Не надо соболей, – Митяй отрицательно качнул головой, – у меня есть соболя.
– Соболей не надо? – удивился Паранчин. – Тогда чего тебе надо? Денег?
– Ничего не надо.
– Может быть, мой братка все-таки заплатит тебе деньгами?
Митяй улыбнулся скупо, глянул в сторону – подобные разговоры всегда ставили его в неловкое положение, покачал головой.
– И денег не надо, – проговорил он твердо.
Ныне трудно собирать материалы по большерецкому бунту – прошло ведь два с половиной столетия с той поры, – и события забылись, и люди, могилы их, прах покрылись седой пылью, любое неосторожное прикосновение грозит гибелью тем малым останкам, что дошли до нашего времени.
Определить точное количество восставших ныне невозможно совершенно, можно назвать число только примерное.
Даже Беневский, который, казалось бы, все должен был знать точно и не плавать ни в фактах, ни в цифрах, оставивший после себя дневниковую книгу «Путешествия и воспоминания», быстро завоевавшую популярность в аристократической Европе, в одном месте называет число восставших одно, в другом другое: сто девять человек и девяносто девять… Канцелярист Судейкин, прислуживавший Нилову и после смерти коменданта переметнувшийся к бунтовщикам, дает иную цифру – семьдесят человек.
Плохо еще и то, что долгое время все материалы о восстании Беневского находились под спудом, были секретными, сиречь – об этом было запрещено даже говорить, не то, чтобы писать.
Сенат издал специальный указ, где повелел «отобрать всю черновую и беловую переписку о Беневском, а жителям Камчатки объявить, чтобы об этом деле никто не смел писать в своих частных письмах».
Этот запрет длился много лет, были уничтожены едва ли не все следы бунта, в наше время из той поры ничего не просочилось, кроме слухов да воспоминаний, написанных по чьим-то воспоминаниям, вот ведь как. Хотя в архиве древних актов есть документы о «препровождении на житие» в Большерецкий острог разных «злодеев», отчеты иркутского губернатора, командиров портов, разных судейкиных и прочих служивых людей, но из этих отчетов мало что можно понять.
Один документ – очень любопытный. Это так называемое Объявление – бумага, которую можно считать (не без натяжки, естественно) манифестом, где идет речь о бедах народа, о несправедливости, совершаемой теми, кто близок к царскому трону, с разделении людей на тех, кому можно все, и тех, кому нельзя ничего, на богатых и бедных, на «подлых» и «чистых», документ написан от руки на десяти больших листах (бумаги было мало, писали на двух сторонах), было отправлено «во канцелярию Большерецкую, Камчатскую», но дошло до самой матушки Екатерины Второй, от нее попало к генерал-прокурору, и тот собственноручно начертал: «Сей пакет хранить в Тайной экспедиции и без докладу Ее Величеству никому не распечатывать. Князь А. Вяземский».
Сочиняли Объявление в остроге всем народом. Судейкин бодро записывал, помогал ему товарищ, скажем так, более старший и более опытный, – Рюмин.
Господин Рюмин имел, кстати, классный чиновничий чин – в табели о рангах его чин занимал предпоследнюю строчку. Впрочем, у Судейкина тоже имелся классный чин и занимал в табели ту же самую строчку, что и у Рюмина – вторую снизу. В общем, грамотные были ученики, с ними, пожалуй, только Державин Гаврила Романович и мог состязаться.
«Не только российскому народу, но и всему свету известно, что вся Россия по справедливости обязана непосредственно благодарностию своею истинному своему монарху Петру Великому, отцу отечества, которого высокие потомки царствовать над нами должны», – с этих слов начиналось Объявление.
Дальше шло перечисление императриц, сменивших одна другую и присяга человеку, который не был императором – Павлу Петровичу, сыну Петра Третьего. «Виват и слава Павлу Первому, России обладателю, – писали большерецкие бунтовщики. – Спасая ево, Бог спасет и подданных невидимым промыслом. А мы желаем соотечественникам нашим всякого добра»… – этими словами прощались восставшие с Отечеством, с Родиной, прощались озабоченные, очень удрученные.
И одновременно надеялись на государя Павла Первого – он вернет их домой, считали, что ему и никому другому «при восшествии его на наследный всероссийский императорский престол в 1762 году весь российский народ присягал…» и вот – «наш всемилостивейший государь Павел Петрович лишен престола». Это никак не устраивало ссыльных, поднявшихся на бунт в Большерецком остроге. В частности, они не преминули отметить в своем «Объявлении», что «Россия без истинного своего государя одним пристрастным управлением доводится до разорения».
А Беневский, о польских корнях которого было известно широко, от себя добавил: «У польского народа отнимается вольность, которая России не только не вредна, а полезна».
Самое интересное, что через некоторое время Павел Петрович действительно взошел на престол, но это уже совсем другая история, – на престоле он пробыл недолго и ничего путного для России и большерецких бунтовщиков сделать не сумел. А может быть, просто не успел. Или не захотел. Никто этого не знает.
Подписали Объявление практически все, кто находился тогда в Большерецке, – кроме, конечно, казаков и солдат, которых посадили в трюм «Святой Екатерины», как в тюрьму, за несогласие примкнуть к восставшим, Семена Гурьева, давно уже выступавшего против бунта, за что, собственно он был уже дважды бит, и тех, кто находился в «командировке», говоря нынешним языком – собирал ясак для царской казны.
Большерецкие обитатели, не знавшие грамоты, тоже стали «подписантами» – им были прочитаны все листы многословного Объявления, и если они были согласны с текстом, подписи за них ставили грамотные.
Странное дело, но среди длинного списка подписей не оказалось фамилии Хрущева. Почему он не подписал эту коллективную бумагу, что произошло, сейчас уже не узнать – не дано просто. Эта тайна так и останется тайной.
Увы.
Из Большерецка надо было уходить. И чем быстрее, тем лучше. Это хорошо понимали и Беневский, и Хрущев, и тем более понимали офицеры. Такие, как бывший гвардейский поручик Василий Панов – человек «очень хорошей фамилии».
Правда, находились бунтовщики пока в безопасности. Но это «пока» могло очень скоро кончиться. Как только лед, сковывавший море, двинется на юг, из Охотска придут вооруженные суда, тогда головы зачинщиков, – и не только их, – полетят на землю, под ноги тех, кто станет вершить суд.
Да и казаки, которые возвратятся в Большерецк с ясаком, тоже могут причинить немало неприятностей.
Пока время пребывало на стороне Беневского и Хрущева, но может случиться так, что оно перепрыгнет на обратную сторону, и тогда бунтовщикам придется туго.
Надо было спешно, – в очередной раз, – осматривать вмерзшие в лед залива галиоты – в каком состоянии они находится, не продырявлены ли бока?
Галиот «Святая Екатерина», в трюме которого сидели ниловские сторонники, оказался совсем плох, того гляди, начнет протекать корпус, а вот «Святой Петр» был еще крепок.
– Поплывем на «Святом Петре», это решение окончательное, – сказал Беневский. Хрущев перекрестился размашисто:
– Поплывем, благославясь!
Начали готовиться к отплытию. Командиром «Святого Петра» был штурман Максим Чурин, его командиром и оставили, более того, – ему подчинили всех моряков, решивших покинуть Камчатку, командир второго галиота штурманский ученик Дмитрий Бочаров стал у него помощником. В толковых, знающих морское дело не хуже капитана матросах недостатка не было.
В эти дни к Митяю Кузнецову пришел камчадал Паранчин.
– Ты эта, – произнес он смущенно, глянул себе под ноги, под торбаса, с которых на пол быстро натекло целое озеро воды, – ты эта…
– Чего эта, паря?
– Возьми меня с собой.
Митяй не сразу понял, о чем идет речь, а когда понял, развел в стороны руки:
– Этот вопрос решаю не я.
– А кто?
– Морис Августович.
– Поговори с ним, паря, а? Чего тебе стоит? Возьмите меня с собой, я не помешаю. Скорее наоборот – полезным буду. Вот увидишь.
Посопротивлявшись немного, Митяй сдался – в конце концов, переговорить с Беневским несложно, но за положительный результат охотник поручиться не мог – давить на Беневского было бесполезно, можно было только просить, а там уж как карты лягут, криво или прямо.
– Ладно, – махнул рукой Митяй и отвернулся от Паранчина – тот стал откровенно надоедать…
Камчадал потоптался еще немного, размазал торбасами мокреть по полу и исчез. Из холодной притеми тамбура попросил:
– Ты уж постарайся, Митяй, а я тебя не забуду – отблагодарю.
Услышав это, Митяй протестующе затряс головой:
– Никаких благодарностей, Паранчин! Не надо мне ничего.
– Ну вот, уже и спасибо сказать нельзя, – пробурчал на прощание Паранчин.
Беневский отнесся к вопросу насчет того, чтобы взять с собою Паранчина спокойно, хотя в глазах у него возникло протестующее выражение.
– Слишком много людей готово набиться на маленький галиот, – проговори, он, – как бы нам не перевернуться в пути.
А людей набиралось действительно много – покинуть опостылевшую землю захотел едва ли не весь Большерецк, тут не только невеликий галиот, кораблик всего семнадцати метров в длину, тут даже гигантский плот, сколоченный из сплавного леса, может легко перевернуться.
Кроме людей на «Святого Петра» придется ведь взять и пушки с порохом и ядрами, и солидный запас провианта, и шкуры для обмена, и громоздкий такелаж, и различный инструмент – лопаты, пилы, молотки, ящики с гвоздями, запас строительного дерева, и около сотни ружей – Беневский считал, что ружье должно быть у каждого… Это было правильно.
В число тех, кто собрался бежать с Камчатки, записался даже приказчик купца Холодилова Чулошников – осанистый, очень подвижный молодой человек, умеющий хорошо считать – надоел ему хозяин, надоела жизнь в необустроенном краю, надоела работа, требующая подлинно воровского умения, надоело все, и он решил податься в иные края…
В списках будущих пассажиров бунтовского галиота значился и «страшный» старик Турчанинов – «секретный арестант», как было указано во всех бумагах, сопровождавших его, бывший камер-лакей Анны Иоановны, имевший право беспрепятственно входить в царские покои, и блестящие офицеры Василий Панов, Иосафат Батурин, Ипполит Степанов, и адмиралтейский лекарь Магнус Мейдер, и штурманские ученики – кроме Бочарова, – Герасим Измайлов и Филипп Зябликов, и купец Федор Костромин, и посадский из Соликамска, непонятно как очутившийся на Камчатке, Иван Кудрин, и казаки Герасим Березнин, Григорий Волынкин, Петр Сафронов, Василий Потолов, и капрал Михаил Перевалов, и рядовой солдат Дементий Коростелев, и многие другие.
Среди приготовившихся к отплытию было семь женщин, одна из них – камчадалка Лукерья Ивановна, жена Паранчина (Беневский дал «добро» на включение камчадала в список), остальные были либо жены, либо работницы, как это получилось с семьей Максима Чурина, он взял с собою работницу и жену…
В общем, народа на небольшом военном галиоте набиралось много – выдержать бы суденышку.
Медленно, опасно медленно тянулось время, Беневский нервничал – того гляди, нагрянет какая-нибудь карательная экспедиция, с ней бунтовщики не смогут справиться – их задавят. А потом повесят либо отрубят головы. Но вот – наконец-то, – пошли оттепели, одна за другой. Беневский послал Митяя Кузнецова, а с ним еще одного ссыльного, матроса Алексея Андреанова, – на разведку.
– Митяй, пройдись-ка на лыжах по льду, дотянись до кромки, – попросил он, – посмотри там, что к чему, проверь, далеко ли чистая вода, много ли там льдин? Если недалеко и льдин немного – будем прорубаться – нам надо уходить… Все понял, Митяй?
– Все, – Митяй вздохнул неожиданно зажато, чего с ним никогда не бывало, Беневский вздох засек и удивленно приподнял брови.
– Чего случилось, Митяй?
– Ничего.
– Дома все в порядке?
– А что может случиться дома? Там меня ждет роскошное семейство – два пса Граф и Маркиза и кот Прохор.
– Хорошо, – похвалил Беневский. – Чего вздыхаешь в таком разе?
– Мы уплывем, Морис Августович, а семейство мое куда денется, Прошка с собаками? А? – по лицу охотника проползла встревоженная тень.
– С собой возьмем, Митяй, – обнадеживающе проговорил Беневский.
– А можно?
– Все в наших руках, Митяй. Нам обязательно понадобится собственный животный мир. Если бы у меня, например, была коза, я бы непременно взял бы ее с собой, ездил бы где-нибудь верхом. На Формозе, например.
Митяй не выдержал, засмеялся: никак не мог себе представить Беневского, разъезжающего верхом на козе.
– Так что вперед, Митяй, – Беневский подтолкнул охотника под лопатки, – от результатов твоей разведки зависит наша жизнь.
Матрос Андреанов – желтолицый, худой, был человеком неразговорчивым, хмурым, грыз его некий внутренний червь, отчего вид его был таким болезненным – хоть сейчас клади в могилу, но матросом он был исправным, любой капитан желал его заполучить, – на деле, несмотря на болезненный вид, оказался мужиком жилистым, на лыжах перемещался так же ловко и легко, как и Митяй, ни в чем не уступал охотнику.
Море упрямо наползало на ледяной покров, закраина находилась недалеко, подъезжать к кромке не стали – опасно было, Андреанов, который повадки моря знал лучше охотника, остерегающе тронул его за плечо.
– Дальше нельзя, – сказал он, – лед может проломиться.
– Даже под лыжами?
– Так вместе с лыжами под воду и уйдешь.
Недоверчиво похмыкав, Митяй вытащил из чехла, висевшего на поясе, нож, колупнул концом твердую ледяную корку, потом постучал по выковырине торцом, послушал звук.
– Однако, – сказал, – толщина примерно в пол-локтя.
– Так и доложим Морису Августовичу, – глухо пробормотал Андреанов. – Через неделю можно будет прорубаться к чистой воде и выводить галиот.
– А раньше нельзя? Солнце ведь уже сильное…
– Раньше нельзя.
Попробовав лед на прочность еще в двух местах, Митяй подтверждающе покивал головой:
– Толщина прежняя – пол-локтя.
– Через неделю Бог даст – выберемся, – Андреанов закашлялся, в глазах вспыхнули радостные свечечки, погорели несколько мгновений и погасли, на лице появилась неожиданно робкая, какая-то мальчишеская улыбка, преобразившая лик моряка, – и поплывем мы тогда в наше светлое завтра.
Удивленно глянул на него Митяй и промолчал.
Молча и довольно ходко тронулись в обратный путь, обо всем, что узнали рассказали Беневскому. При разговоре этом присутствовал Хрущев, слушая разведчиков, несколько раз удовлетворенно наклонил голову.
– Ну что, Морис Августович, – проговорил он задумчивым тоном, – пора браться за ломы и кирки… Как считаешь?
– Пора, – односложно отозвался Беневский.
Лед вокруг «Святой Екатерины» вырос плотный, толстый, прочный, а вот со «Святым Петром» дело обстояло проще, этот галиот оброс не так капитально, он стоял в проточной воде, на краю течения, заворачивающего в залив, поэтому около «Петра» на следующий день начали аккуратно обрубать лед.
– Нежнее, нежнее, братцы, – умоляюще вскрикивал штурман Чурин, командовавший «Петром», – не повредите ломами обшивку.
– Не бойтесь, ваше благородие, – сипел капрал Перевалов, – мы понимаем, что к чему. Как и то понимаем, что ежели покалечим галиот, то окажемся не в теплых странах, а совсем в других местах.
Чурин, не слыша его, продолжал талдычить свое:
– Нежнее, нежнее, братцы, не проломите мне борт!
Мало было обколоть галиот со всех сторон, надо было еще прорубить канал к чистой воде, иначе судно не выйдет в море как минимум до лета, до жаркого июня, судоходного месяца. И опять Чурин висел над людьми, рубящими лед:
– Нежнее, нежнее, братцы, не утопите казенный инструмент!
Чтобы случайно не упустить какой-нибудь лом, тяжелую железяку привязывали веревкой к руке, к запястью, проверяли, прочно ли держится… Так и работали. Лица людей были светлыми от предвкушения неведомого, от того, что впереди замаячила надежда…
Ломов не хватало. В ход пошли кувалды, их в Большерецке оказалось столько же, сколько и ломов.
Морозы уже угасли – ушли трескотуны на север, прорубленный канал даже не покрывался льдом, иногда только возникала немощная тонкая корка, но долго она не держалась. Хотя старый лед поддавался трудно, был тверд, как камень, легче становилось, лишь когда снизу его подтачивала морская вода.
Но как бы там ни было, вожделенный миг отплытия приближался, он находился уже рядом, совсем рядом…
Одна группа бунтовщиков упрямо пробивала во льду канал, вторая в это время загружала всем необходимым галиот. До нашего времени дошли кое-какие сохранившиеся документы, в которых было указано, что же конкретно забрали с собой отплывающие.
Алексей Устюжанинов, с ранних лет начавший во всем проявлять хозяйственную хватку, составил свой список того, что было погружено в объемистый трюм «Святого Петра». Что же там оказалось? А вот что:
«Муки – 100 пудов
Рыбы – 120 пудов
Солонины – 50 пудов
Китового жира – 30 пудов
Сахару – 12 пудов
Сыру и масла – 10 пудов
Чаю – 12 пудов
Водки – 5 бочонков».
Кое-где Алеша, мне кажется, переборщил, либо ошибся. Пуд – это шестнадцать килограммов, тяжесть приличная. Двенадцать пудов – это 192 килограмма. 192 килограмма чая – гора высотой под мачты галиота; чай – продукт легкий, в тесный трюм, где было полно других грузов, мог не вместиться.
Это первое. И второе – запас еды брали на месяц. За месяц выпить двенадцать пудов чая? Сомнительная штука.
Пить чай «Святого Петра» в таком разе должны были команды всех кораблей и судов, находившихся в Охотском море, в Тихом и Индийском океанах.
В других бумагах указания на чай отсутствуют.
Понимая, что в море может произойти какая-нибудь непредвиденная встреча, Беневский велел взять с собою различные флаги, чтобы в нужный момент их можно было поднять на мачтах и совершить «боковой маневр», уходя от возможной опасности.
Все это время Алеша Устюжанинов находился на «Святом Петре» – помогал взрослым, и на это имелись причины. Там дневал и ночевал. Иногда плакал – выходило ведь так, что он уплывет с Камчатки, не попрощавшись с отцом.
Пространство перед его глазами начинало ползти, раздваиваться, делаться радужным, покрываться мокрыми пятнами, и Алеша невольно всхлипывал, зажимал зубами готовый вырваться наружу стон:
– Тя-ятенька!
Надо было обязательно взять что-нибудь с собою на память о Камчатке. Вот только что? Высушенную голову большой чавычи – очень вкусной местной рыбы с нежным красным мясом, которую любит вся Камчатка?
Или десятка полтора комаров, которые скоро должны проснуться – сунуть их в солонку и сверху накрыть крышкой. Комары на Камчатке водятся знатные, таких в теплых райских странах наверняка нет. Есть еще один камчатский зверь, еще более знатный, обычный комар перед ним – невинный младенец. Этот зверь – гнус. Мелкий, с тощим голоскам, похожий на сгнившее зернышко. Человека стая гнуса может обгрызть до костей. Как гнус оставляет от собак шкуру да хребет, Алеша видел.
Нет, это неприятное напоминание о Камчатке брать с собою все-таки не стоит. Может быть, взять местную раковину? Плоскую, с красивым рельефным рисунком… Но в южных водах наверняка водятся раковины покрасивее, попригляднее…
Думал, думал Алеша, нижнюю губу закусил зубами до крови и не выдержал: рот у него неожиданно задрожал, на ресницах повисли слезы: как же он теперь будет жить без отца?
Вздохнул Алеша, внутри у него возникло что-то сосущее, родившее боль – а может быть, не уезжать с Беневским? Пропадет он.
Дни перед отплытием установились золотые – с высоким солнцем, нежно пощипливавшим щеки, звонким птичьим пением и нестерпимой резью снега, светившимся на макушках недалеких вулканических гор, – иногда оттуда приносился влажный ветер… Если дело пойдет так и дальше, то снега скоро не станет и на вершинах гор.
Снег тает быстро, а вот лед нет, сорок с лишним человек мучились с ним, пробивая канал для выхода в море, но пробить пока не смогли.
На проталинах, из отсыревшей земли наверх проклевывались тугие зеленые стрелки, распускались прямо на глазах, рождая в душе радость и одновременно грусть, – это были подснежники. Подснежники Алеша Устюжанинов любил, они умели отогревать людям душу, гнали прочь из головы недобрые мысли, – удивлялся им Алеша: и как только подснежники умудряются выживать, когда рядом находятся лед и снег? Из бездонного чистого неба тоже может повалить снег – в любую минуту… Нет, не укладывалось это у Алеши Устюжанинова в голове.
Выплакавшись, он снова начинал носиться по судну, помогал взрослым укладывать такелаж, укрывать шкурами порох, чтобы он не отсырел в море, устраивать в трюме бочонки с солониной, подвешивать на крюки связки дорогих собольих и лисьих шкур – весело было…
А вот Беневский, напротив, с каждым днем становился все более хмурым, и Алеша совсем не понимал его: ведь радоваться надо было, скоро – отплытие, с отплытием – свобода, никакой капитан Нилов уже не будет вешать на шею хомут и грозить «холодной», но Беневский, наоборот, мрачнел все сильнее, на лбу возникали вертикальные складки, да на щеках вспухали твердые желваки.
Что-то происходило не так, как должно было происходить, и это Алеша Устюжанинов ощущал буквально кожей своей мальчишеской, еще не огрубевшей, ощущал отчетливо.
В конце концов он решил, что возьмет с собою как память о Камчатке, об отце своем, – кроме двух иконок, которые у него были, Иисуса Христа и Святой Девы Марии, – костяную фигурку косоглазого щекастого человечка с очень добрым улыбающимся личиком. Таких людей на Камчатке было много: и орочены, и коряки, и камчадалы, и алеуты… Да и сам Алеша Устюжанинов был таким же.
Беневский был мрачен потому, что хорошо понимал происходящее и остро реагировал на все, он корнями волос, кончиками пальцев чувствовал опасность, в Охотске ведь наверняка уже знают, что произошло в Большерецке, ждут-недождутся момента, когда можно будет подойти на вооруженных галиотах к острогу, стать на якорь в Чекавинской или в Большерецкой бухте и развесить на деревьях бунтовщиков.
Морщился Беневский, потирал пальцами неожиданно начавшую саднить шею – ну будто ему знак откуда-то из горних высей подавали и его длинная шея уже чувствовала веревку.
В последние дни прорубкой канала руководил сам Хрущев, никому это не доверял.
– Ну как? – спрашивал у него каждый вечер Беневский и получал односложный хмурый ответ:
– Осталось совсем немного.
Беневский понимающе кивал и отворачивался к окну, чтобы скрыть сдавленный вздох: если дело так будет идти и дальше, то несчастная шея его познакомится с грубой, намазанной мылом веревкой не в неприятных мыслях, а наяву. Чего-чего, а этого Беневскому очень не хотелось бы. Жизнь они никак не украшают.
Беневский отталкивался рукой от стены, в которую было врезано оконце и разворачивался лицом к Хрущеву, чтобы поговорить с ним, а говорить было уже не с кем – вконец измотанный Хрущев спал, повалившись спиной на кровать и приоткрыв бледный морщинистый рот, обрамленный спутанным волосом бороды и усов.
От жалости у Беневского сжималось сердце – Хрущев в эти дни работал на износ. Некоторое время Маурицы стоял у окна, соображая, что же делать, если неожиданно появятся люди из Охотска, какой отпор им можно будет организовать, и болезненно морщился: серьезного отпора дать он не сумеет.
Выходит, надо молить Бога, чтобы не покидал их, помог, иначе будет плохо… Из Большерецка нужно уйти раньше, чем сюда придут люди из Охотска.
Вытащив из-за пояса заряженные пистолеты, Беневский пристроил их на самодельной тумбочке, придвинутой к кровати, задул чадящий фитиль коптюшки. Коптюшка была заправлена старым рыбьим жиром и припахивала странной горькой тухлятиной.
Жир, заготовленный осенью, во время нерестового хода кижуча, уже кончился – все запасы съели бунтовские собрания, затягивающиеся до середины ночи.
– Ну что ж, правильно говорят русские: утро вечера мудренее, – пробормотал Беневский, смыкая веки, – подождем, что нам принесет утро.
Через два дня команда Хрущева, прорубавшая канал, работу закончила.
Беневский, обычно невозмутимый, спокойный, не удержался и с веселым школярским гиканьем подбросил вверх треуголку.
– Мы победили! – прокричал он что было мочи, поймал треуголку и снова подбросил ее – вел себя он, как гимназист, перешедший в очередной класс. – Слава тебе, Господи!
Отплытие было назначено на двенадцатое мая. Двенадцатое мая! Беневский удивленно почесал голову – еще вчера отмечали Рождество и Новый год, за стенкой дома свистели кудрявые синие метели, мороз раскалывал пополам камни, а сегодня уже – май, двенадцатое число! Как быстро идет время! Правда, двенадцатое число еще не наступило, но очень скоро наступит.
Хочу повториться и подчеркнуть, что количество тех, кто отплывал двенадцатого мая в неведомое, до сих пор называют разное. Беневский в своих «Путешествиях и воспоминаниях» привел, например, две цифры: 109 и 99, причем, у тех, кто изучал его «Путешествия» с лупой в руке, невольно возникало впечатление, что он путал цифры, блефовал, как в картах, Рюмин и Судейкин называли другое число – семьдесят.
Алеша Устюжанинов в своих записях приводит еще одну цифру – 96. И дает следующий расклад:
«Ссыльных – 8,
Охотников и рабочих – 32,
Матросов с «Петра» и «Екатерины» – 39,
Остальных – 17».
Я все-таки склонен больше верить Устюжанинову: он еще не успел обучиться «ловкости рук» и «невидимым маневрам», житейскому вранью, а значит, не научился обманывать… С другой стороны, подсчет тех, кто плыл на «Святом Петре», можно было производить в разное время – и перед отплытием, и в середине пути, и на островах, где бунтовщики осели на постоянное житье. Везде эта цифра была разной.
Подсчитал Устюжанинов и количество шкур, которые беглецы везли с собой – этим мехом можно было одеть половину Парижа. Впрочем, тогда Алеша еще не знал, что на свете есть такой город.
«Соболей – 1900,
Бобров – 748,
Лис – 682».
Медвежьих шкур, тщательно выделанных, мягких, было целых двести пятьдесят штук.
Когда галиот веревками тащили по каналу, оскользались на льду, падали, Алеша, понимая, что наступает последний момент, когда еще можно спрыгнуть на лед и остаться на этой земле, дальше уже ничего нельзя будет сделать, отрицательно замотал головой и вцепился руками в борт. Пальцы у него сделались белыми, будто их прихватил мороз, лицо тоже внезапно побелело, а перед глазами все поплыло, пространство стало мокрым. Устюжанинов плакал и сам не понимал того, что плачет.
А ведь он покидал эту землю навсегда, на всю оставшуюся жизнь – вряд ли он когда уже сюда вернется. Устюжанинов наклонил лицо близко к борту, плечи у него задергались.
Внизу, под бортом галиота, хрипели, натягивая веревки, люди.
– И-и – раз! И-и – два!
Галиот медленно полз по каналу к чистой воде, до нее оставалось совсем немного. Пространство перед Алешей продолжало плыть, покрываться радужными пятнами, влажной дымкой, в которой ничего, даже солнца не было видно – все тонуло в слезной мути.
За штурвалом галиота стоял Чурин, Беневский расположился недалеко от Алеши, у борта, он также напряженно вглядывался в медленно отползающий от судна берег. От напряжения лицо его сделалось неподвижным, каким-то чужим. Алеша, разглядев сквозь муть и пятна лицо Беневского, стер с глаз слезы и успокоился.
В море вышли благополучно – и борта у галиота не помяли, и дыр в корпусе не наделали, и такелаж, такой дорогой, как жизнь необходимый в предстоящем плавании, не попортили, – Беневский был рад этому обстоятельству, приказал открыть одну из бочек с водкой и выдать каждому участнику операции по паре полновесных плошек.