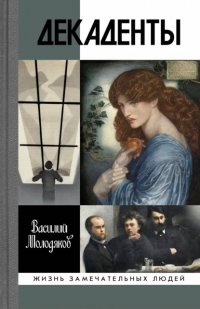Читать онлайн Тайный сговор, или Сталин и Гитлер против Америки бесплатно
- Все книги автора: Василий Молодяков
Введение
К эпохе Сталина историки обращались бессчетное количество раз. Казалось бы, написано уже все: о том, что было, – много; о том, чего не было, – тоже немало. Однако белые пятна остаются, причем в важнейших частях карты. Пришла пора заполнять их – не как попало, а всерьез, с фактами в руках.
«История не знает сослагательного наклонения». Так выносится приговор исследованиям, в которых большое место занимают гипотезы. Да, история как процесс общественно-политического развития не признает «если»: случилось только то, что случилось. Но в исторической науке, в познании прошлого подобная категоричность может сослужить дурную службу. В момент действия и непосредственно перед ним исторический процесс многовариантен. Причем зачастую реализуется не самый ожидаемый вариант, а идеально подготовленный проваливается. Японский историк Миякэ Масаки[1] верно заметил: «Представим, что в некий исторический момент для Японии существовали возможные политические варианты A, В, C, D, E, но только вариант А реализовался; тем не менее полезно рассмотреть и другие возможности, поскольку они углубят наше понимание того, как осуществился вариант А и насколько важным и значительным он был» (1). Поэтому дело исследователя – не только учесть случившееся, но просчитать все то, что могло произойти.
Стоящие перед нами вопросы можно сформулировать очень конкретно. Был ли возможен в 1939–1941 гг., точнее осенью 1940-го – зимой 1941 г., военно-политический союз СССР, Германии и Японии против атлантистского блока США, Великобритании и их сателлитов? Если да, то почему он был возможен? Что думал об этом Сталин и что он делал в этом направлении? Немецкий историк Карл Шлегель явно поторопился, заявив: «Почти уже не осталось секретов, которые надо разгадать» (2). Секретов осталось много, но ключ к их разгадке – в наших руках.
Выражаю признательность Георгию Брылевскому, прочитавшему книгу в рукописи и сделавшему ряд ценных уточнений и поправок.
31 декабря 2007 г., Токио
Глава первая
Гото Симпэй (1857–1929)
Собеседник Сталина
На рубеже XIX и ХХ вв. в японской политической лексике бытовали два примечательных термина: «континентальная политика» (тайрику сэйсаку) и «внешняя политика» (тайгай сэйсаку). Последнюю еще именовали заморской (кайгай сэйсаку), что вполне объяснимо для островной страны. В сфере внешней политики лежали отношения с великими державами и их владениями. Континентальная сосредоточилась на Китае и Корее.
С точки зрения геополитики Япония представляет собой странное явление. С одной стороны, напрашивается сравнение с Великобританией – другим архипелагом, лежащим вблизи континента. Авторитет «владычицы морей» в рассматриваемое нами время был настолько велик, что любое сравнение с ней невероятно льстило японцам. Англо-японский альянс был мечтой японских политиков, усилия которых увенчались сначала первым равноправным договором с Лондоном летом 1894 г., а затем полноценным союзом в январе 1902 г. Исключительно популярными в Стране корня солнца были и теории «морской силы» американского адмирала А.Т. Мэхэна, основанные на опыте Британской империи.
Однако бросались в глаза и несомненные различия, восходившие еще к глубокой древности. Если этногенез японцев остается предметом дискуссий (большинство склоняется к сочетанию малайского и алтайского компонентов), то никакое японское государство, даже самое древнее, пришельцами с континента не завоевывалось. Япония и сама почти не воевала на континенте, исключая разве что походы нескольких древних императоров в Корею в IV–VII вв. да экспедиции туда же военного правителя Тоетоми Хидэеси в конце XVI в. С другой стороны, Япония взяла от континента – более всего от Китая через Корею – все основы материальной и многие основы своей духовной культуры, включая литье бронзы и планировку городов, иероглифическую письменность и буддизм. Контакты с континентом порой замирали, но никогда не прекращались вовсе, даже в годы «закрытия страны» при сегунах Токугава в XVII – первой половине XIX вв.
Но самое главное различие было, пожалуй, в том, что японцы никогда не были нацией мореплавателей. Их активность ориентировалась на континент, а не на море; туда же потом была направлена и их экспансия. Действительно, в последней четверти XIX в. Япония усиленно начала строить военный флот – разумеется, по образцу лучшего в мире британского. Но и его главными задачами были сначала охрана берегов метрополии – дабы не повторить судьбу Китая и Кореи, которые на глазах превращались в полуколонии великих держав, а затем и для ведения внешней экспансии, опять-таки на континенте. Так что отец евразийской геополитики Карл Хаусхофер был прав, называя Японию крайней восточной оконечностью Евразии.
Мысли о внешней экспансии будоражили воображение японцев как в период бакумацу, системного кризиса сегуната Токугава в 1853–1867 гг., когда ее проповедовали идеологи антисегунской оппозиции, так и вслед за Мэйд-зи исин (1868 г.) – консервативной революцией, вернувшей верховную власть императору и приведшей к управлению новую элиту. Впрочем, единства мнений относительно приоритетов развития страны и выработки конкретных мер для этого у нее не было. Сразу после Мэйдзи исин один из ее ведущих участников Кидо Коин провозгласил «покорение Кореи» основной задачей внешней политики, а годом позже Окубо Тосимити призвал к войне с Россией для разрешения спора о территориальной принадлежности Сахалина. Наиболее последовательным сторонником экспедиции в Корею стал военный министр Сайго Така-мори, история которого пересказана в голливудском блокбастере «Последний самурай». Этим он, правда, преследовал не только внешнеполитические, но и внутриполитические цели – надо была куда-то направить энергию самурайства, лишившегося монополии на власть. Однако большинство членов кабинета сделало ставку на ускоренную модернизацию страны по западным образцам и нуждалось в «мирной передышке», а потому решительно отвергло любые экспансионистские проекты. Разумеется, до поры до времени.
Обе противоборствующие группировки были едины в том, что главная стратегическая цель Японии – добиться пересмотра неравноправных договоров, для чего ей надо было повысить свой международный статус, подкрепив его внутренней стабильностью. Фактический глава правительства Ивакура Томоми и его сторонники считали наилучшим путем решение финансовых проблем и проведение внутриполитических реформ в духе вестернизации: доказав таким образом свою «современность» и «прогрессивность», Япония могла требовать от «цивилизованного мира» равенства в правах. Сайго и его единомышленники считали такой курс «соглашательским» и настаивали на продолжении консервативной революции. В повышении обороноспособности и развитии внешней экспансии они видели способ не только укрепления режима, но и поднятия национального духа и достижения национального консенсуса. Противостояние стало открытым и достигло пика во время правительственного кризиса 1873 г., спровоцированного корейским вопросом. Сайго уже был назначен полномочным посланником в Корею, намереваясь завершить свою миссию ее подчинением, но Ивакура добился отмены соответствующего указа императора. Оскорбленный Сайго ушел из правительства и удалился от государственных дел, после чего вокруг него начали собираться недовольные. Кризис привел к расколу правящей коалиции и показал непримиримость противоречий, разделивших тех, кто всего шесть лет назад руководил радикальными преобразованиями Мэйдзи исин. Недовольство самураев, оставшихся не у дел, выплеснулось в Сацумском восстании 1877 г., подавленном правительственными войсками: картечница доказала свое превосходство над мечом, которым Сайго в итоге лишил себя жизни.
Экономические успехи и укрепление внутриполитической стабильности в 1880-е годы привели правящие круги к выводу, что час внешней экспансии пробил. Япония стремилась в «клуб великих держав», для принятия в который в то время были необходимы ведение эффективной «дипломатии канонерок» и обладание колониальной империей или хотя бы арендованными территориями. Технически вести ее можно было только на континенте, но там уже не оставалось «бесхозных» территорий. Значит, надо было искать не только новые способы экспансии, но и новые мотивировки.
В программной речи на первой сессии парламента в 1890 г. премьер Ямагата Аритомо, считавшийся лидером милитаристов, говорил о двух линиях обороны Японии, первая из которых проходит по ее границам, а вторая – по Маньчжурии и Корее. Таким образом, они объявлялись если не прямо зоной «жизненных интересов», то территориями, контроль над которыми необходим для успешной обороны империи. С этого времени термин «континентальная политика» прочно вошел в японский политический лексикон, а ее реализацией активно занялся протеже Ямагата – генерал Кацура Таро, трижды возглавлявший правительство Японии (1901–1906, 1908–1911, 1912–1913). Как раз на эти годы пришлось противостояние России и Японии в Маньчжурии, вызванное прежде всего авантюристической политикой Сергея Витте и в итоге приведшее к войне.
Все это несколько затянувшееся введение понадобилось, чтобы представить читателям пионера японской «континентальной политики», вышедшей за рамки Дальнего Востока (или Северо-Восточной Азии, как обычно говорят в Японии) на просторы всего евразийского материка, – доктора медицины, барона, виконта и, наконец, графа Гото Симпэй (1857–1929).
Сын врача и сам врач, он не собирался ввязываться в политику, но не мог укрыться от нее. В двадцать лет Гото принял «боевое крещение» при подавлении Сацумского восстания. Через пять лет, 6 апреля 1882 г., глава Либеральной партии Итагаки Тайсукэ, один из лидеров мэйд-зийских преобразований, ставший трибуном оппозиции, был ранен политическим противником после выступления в городе Гифу. Его слова «Итагаки может умереть, но свобода – никогда!» вошли в историю, хотя есть основания сомневаться в том, что они были произнесены на самом деле. Местные доктора, зная, что губернатор префектуры принадлежит к противникам Итагаки, отказались лечить его. На помощь пришел Гото, бывший, несмотря на молодость, директором медицинской школы в Нагоя. Итагаки выздоровел и вернулся к активной политической деятельности.
В 1889–1892 гг. Гото учился в Германии, где получил степень доктора медицины, и на всю жизнь проникся уважением к ее государственному аппарату и социальной политике. Бисмарк стал его кумиром, как и кумиром Кацура, постигавшего во Втором рейхе новейшие достижения военной науки двумя десятилетиями раньше. Генерал до конца дней оставался убежденным германофилом и очень хотел присоединить Берлин к «оси» Лондон – Токио. Наверно, хорошо, что он не дожил до начала Первой мировой войны, когда Япония и Германия оказались врагами.
По возвращении на родину Гото поступил на службу в Министерство внутренних дел, где руководил отделением общественной гигиены, т. е. санитарно-эпидемиологической службой. Успешно проведенная под его руководством дезинфекция армии, которая вернулась в 1895 г. с континента после войны с Китаем, обратила на него внимание генерала Кодама Гэнтаро, назначенного в 1898 г. генерал-губернатором Тайваня, первой японской колонии (в то время остров был более всего известен как рассадник всех мыслимых и немыслимых заразных болезней). Гото в должности гражданского губернатора стал правой рукой Кодама. Проработав в этом качестве восемь лет, он из местного администратора стал фигурой национального масштаба, обратив на себя внимание самых влиятельных государственных деятелей – «государственных старейшин» (гэнро) Ямагата и Ито Хиробуми, а также премьер-министра Кацура. В 1906 г. его назначили первым президентом компании Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), которой предстояло осваивать Южную Маньчжурию, ставшую сферой влияния Японии по условиям Портсмутского мира с Россией.
В новом качестве Гото пришлось сразу же вступить в контакты с вчерашним противником. До войны он придерживался антирусских взглядов, выступая против любых уступок и блокируясь с лидером русофобов – главой палаты пэров принцем[2] Коноэ Ацумаро, сыну которого Фумимаро предстоит стать одной из ключевых фигур в истории «континентального блока». Однако уже во время переговоров в Портсмуте Гото призывал правительство: «Мы должны настаивать на максимальных размерах контрибуции и территориальных уступок, но мы не должны поддаваться вульгарному мнению толпы: успех или поражение этих требований не должен тревожить нас… Если они будут удовлетворены и мы получим просимое, очень хорошо. Не получим – тоже хорошо… Нам следует пропустить это без особого внимания, если нам удастся разрешить более широкие проблемы, ценность которых в десятки и сотни раз более велика» (1).
Геополитические взгляды Гото сложились под влиянием германской школы «политической географии», труды теоретиков которой он штудировал в бытность гражданским губернатором Тайваня вместе с многочисленными работами по «научной колонизации» (немецкий был единственным иностранным языком, которым он владел). Гото видел мир разделенным на три блока: старый, пришедший в упадок Запад – Европа; новый, растущий Запад – США; Восток. Экспансия нового Запада направлена, прежде всего, на Восток, поэтому для эффективного противостояния ему Япония и Китай должны объединить свои усилия и сотрудничать с Европой. Российско-японское согласие и партнерство Гото считал гарантией политической стабильности в регионе, которая была необходимым условием его освоения и развития. В союзе с Россией он видел возможность успешно противостоять европейской и американской экспансии в Китае, прикрывавшейся лозунгами «открытых дверей» и «равных возможностей» («доктрина Хэя»). Ито, позже Ямагата и Кацура пришли к тем же выводам. «Перед Японией стоял вопрос о выборе дальнейшего пути: вместе с Россией против США или вместе с США против России. Гото Симпэй лучше, чем кто-либо другой, видел, что последний путь неприемлем для японских капиталистов, так как означал подчинение Японии более мощному и агрессивному американскому империализму. Сближение с Россией не создавало такой угрозы» (2).
Я уже не раз писал о деятельности Гото в области российско-японских отношений, поэтому я ограничусь тем, что отражает его видение грядущих метаморфоз на евразийском континенте. От восстановления в 1908 г. транзита Европа – Азия по русской Китайско-Восточной железной дороге и японской ЮМЖД и увеличения товарооборота между Россией и Японией как необходимой базы политического сотрудничества он перешел к согласованию политики двух империй в Китае. Так не без его прямого участия Петербург и Токио в январе 1910 г. синхронно отвергли предложение госсекретаря США Ф. Нокса о «нейтрализации» маньчжурских железных дорог путем их выкупа международным синдикатом, находящимся под контролем американских банкиров.
«Причина зла в китайских делах кроется главным образом в самом Китае, – писал Гото 24 апреля (7 мая) 1910 г. российскому министру финансов Владимиру Коковцову, с которым у него со времени первого приезда в Петербург в мае 1908 г. установились доверительные, если не прямо дружеские отношения. – Так как в Китае в настоящее время не имеется, так сказать, «политического центра», то отдельные китайские сановники действуют совершенно по личному усмотрению, руководствуясь эгоистическими стремлениями и упуская из виду свои национальные интересы. Кроме того, они думают, что как для их карьеры, так и для их личных интересов будет только полезно, если они в некоторых случаях займут недружелюбное положение в отношении Японии или России. Руководствуясь подобными побуждениями, они вступают в сношения с какой-либо другой державой или с ее представителем. Поэтому в настоящее время как для России, так и для Японии представляется насущно необходимым убедить Китай, а заодно с ним и другие державы, не только словами, но и гораздо более делом в том, что Россия и Япония отныне твердо решились действовать в китайском вопросе вполне солидарно и что именно эта общность интересов обоих государств зиждется на твердом естественном основании» (3).
Через два года, летом 1912 г., в Петербурге, куда он приехал вместе с Гото, Кацура прямо сказал министру иностранных дел Сергею Сазонову, что «предвидит возможность наступления такого момента, когда России и Японии силою вещей придется перейти к более активной политике в Маньчжурии и к военному занятию каждою из них некоторых пунктов в сфере ее влияния» (4). Ну а еще через пятнадцать с половиной лет, в январе 1928 г., Гото в Москве будет излагать те же самые мысли Сталину – правда, в более осторожной форме.
Десятилетие между Портсмутским миром и Русской революцией по праву называют золотым веком российско-японских отношений. Оно было рекордным и по количеству, и по качеству двусторонних соглашений, которые урегулировали почти все спорные вопросы и закончились полноценным военно-политическим союзом летом 1916 г. В октябре того же года к власти в Японии пришел самый прорусский кабинет в ее истории: генерал Тэраути Маса-такэ, бывший военный министр, генерал-губернатор Кореи и председатель Японско-Русского общества (прообраз современных «обществ дружбы»), стал премьер-министром; посол в Петербурге и главный творец российско-японской «антанты» Мотоно Итиро возглавил МИД; Гото получил ключевой в административном отношении пост министра внутренних дел. Окончательно оформившееся партнерство могло изменить весь ход событий в Азии. Однако разительные перемены, случившиеся в России всего за несколько месяцев следующего года, перевернули все вверх дном.
В марте 1918 г. Брестский мир вывел Советскую Россию из войны с Центральными державами. Однако еще в декабре 1917 г. французский премьер Ж. Клемансо требовал «союзной» интервенции против России, предложив использовать для этого японскую армию как наименее задействованную в войне. Британский министр иностранных дел А. Бальфур предложил поручить Японии оккупацию Транссибирской железной дороги. Колебались только американцы, боявшиеся, что японцы, раз придя в Сибирь, добровольно оттуда не уйдут.
Затем «союзников» начали мучить кошмары иного свойства. Приход Гото в апреле 1918 г. на пост министра иностранных дел вместо тяжело заболевшего Мотоно вызвал панику в Лондоне. Английский посол в Токио К. Грин прямо назвал это «самым неудачным назначением из всех возможных». Его донесения рисуют зловещий образ Гото, обычным эпитетом к имени которого было «notorious», т. е. «пресловутый» или «печально известный». В вину ему ставили незнание английского языка – страшный грех с точки зрения тех, кто делит человечество на «англоязычный мир» («English-speaking world») и «остальное» («the Rest»), обучение медицине в Германии, отсутствие энтузиазма в отношении Антанты, помощь индийским революционерам[3] и… принадлежность к «грозной германофильской партии», которой Бальфур в начале марта 1918 г. пугал президента США В. Вильсона и даже вынес этот вопрос на обсуждение кабинета. Опасения Бальфура были не вполне беспочвенны: Грин только что сообщил ему, что в беседе с американским послом Гото прямо заявил, что Япония совершила большую ошибку, ввязавшись в войну на стороне Великобритании. Можно представить, как возросло беспокойство с назначением такого человека министром вместо Мотоно, верность которого Антанте была безусловной, а репутация в глазах союзников безупречной (до Петербурга он много лет был посланником в Париже) (5).
У руля внешней политики Гото пробыл недолго, но успел выступить в поддержку «союзной» интервенции на Дальнем Востоке России летом 1918 г. (в начале года, когда за вмешательство усиленно агитировал Мотоно, он считал ее преждевременной). Кабинет Тэраути пал в конце сентября 1918 г. Новый министр иностранных дел Ути-да Косай был стопроцентным атлантистом, но тревога не проходила. В конце года снова возник призрак сепаратного мира, казалось бы, потерявший актуальность с заключением перемирия. Однако взаимное недоверие и трения внутри «сердечного согласия» только возрастали. Призрак «сильной германофильской партии» во главе с Гото продолжал тревожить воображение вершителей атлантистской политики.
22 и 23 ноября 1918 г. «Известия ВЦИК» сообщали, «со ссылкой на заслуживающие полного доверия (но не названные! – В.М.) источники», о недавнем тайном приезде в Стокгольм японского представителя и о его переговорах с немцами. Когда принципиальное согласие было достигнуто, тот якобы поехал в Берлин для доработки текста договора, но грянула революция 9 ноября и мир не состоялся. Содержание интригующего документа было таково. Стороны собирались, как только позволят обстоятельства, помочь России восстановить внутренний порядок и статус мировой державы (статья 1). Япония признавала права Германии в Персии, Центральной Азии и Южном Китае (статьи 2–3), а также обязалась оказывать ей косвенную поддержку на будущей мирной конференции (статья 4) и содействовать заключению нового договора с Россией после ее «восстановления», читай: свержения большевиков (статья 5). Германия в ответ бралась не допускать в сферу своего влияния в Китае Англию и США и заключить с Японией тайную военную конвенцию, направленную против них (статьи 3, 6). Договор заключался на пять лет с момента «восстановления» России, кроме статьи о поддержке Японией интересов Германии на мирной конференции, которая вступала в силу немедленно (статьи 7–8).
Германия в дополнение ко всему, что уже имела по Брестскому миру, получала прямой транзит на Дальний Восток, «свободу рук» в Южном Китае, Персии и Центральной Азии и, в перспективе, хлопковые концессии в Туркестане. Япония претендовала на Северный Китай, Маньчжурию и Восточную Сибирь. Главным результатом такого раздела сфер влияния становилось полное изгнание английского и американского присутствия из России, Китая и Центральной Азии. Россия, погруженная в хаос гражданской войны, получала политическую стабильность. Ей отводилась роль не субъекта, а объекта политики великих держав. Однако, добавим мы, ее внутренний потенциал – даже с поправкой на войну и революцию – оставался таков, что ей, в отличие от Китая, эта роль явно не подходила. Более того, в каком бы тяжелом положении ни находилась Россия, без ее участия никакое японско-германское сотрудничество было невозможно хотя бы по географическим причинам.
Текст сопровождался анонимной памятной запиской, отражавшей, надо полагать, японскую позицию. В ней критиковалось нежелание Берлина заключить мир с царем до нынешней смуты и превозносилась мудрая политика Токио, пошедшего в 1916 г. на союз, «все значение которого ввиду распада России лежит в будущем». Теперь речь шла не просто о сепаратном мире, но о тройственном союзе Японии, Германии и небольшевистской России против атлантистских держав. «Поддержанная Германией Россия, – говорилось в записке, – уже является мощным фактором, представляющим серьезную опасность для Англии… Однако этот фактор станет куда мощнее, если Япония, поддержанная на континенте Германией и Россией, присоединится к альянсу. Такое сочетание будет очень большой опасностью для Америки и Англии» (6).
История несостоявшегося японско-германского договора в изложении «Известий» очень сомнительна. Германское правительство отрицало сам факт переговоров, не говоря уже о выработке каких-то текстов. Британские дипломаты предполагали фальсификацию со стороны газетчиков, которые, впрочем, могли использовать и некие подлинные документы. Германия действительно делала Японии мирные предложения через посланников в Пекине и Стокгольме, но не в 1918 г., а в 1916 г., о чем сразу же был проинформирован Лондон. Тогда внимание Токио пытались привлечь обещанием «свободы рук» в Азии и сохранением за Японией захваченных ею германских колоний. Также в Берлине рассчитывали на ее посредничество при заключении мира с Россией, сторонниками которого считали императрицу Александру Федоровну, Распутина и премьера Штюрмера. Министр иностранных дел атлантист Исии Кикудзиро велел прекратить тайные переговоры и не откликаться более ни на какие зондажи. Но даже если эти документы – фальшивка, интерес они представляют немалый. В них освещена одна из важнейших потенциальных возможностей мировой политики, тревожившая воображение атлантистов.
28 января 1918 г. британское посольство в Вашингтоне передало Госдепартаменту меморандум, где прямо говорилось: «Пока война продолжается, германизированная Россия будет служить источником снабжения, который полностью нейтрализует воздействие блокады союзников. Когда война закончится, германизированная Россия будет угрозой для всего мира» (7). За этим откровением, возможно, стоял лейбористский депутат Исайя Веджвуд, незадолго до того писавший министру блокады лорду Сесилу: «Россия на деле превращается в германскую колонию или зависимую территорию, вроде Индии у нас… В интересах Британии, чтобы Россия была как можно меньше. Любые ее части, которые захотят от нее отделиться, должны быть поддержаны в этом – Кавказ, Украина, донские казаки, Финляндия, Туркестан и, прежде всего, Сибирь, страна будущего, продолжение Американского Дальнего Запада… Когда их независимость будет признана, будет легче принимать меры, чтобы «гарантировать» эту «независимость» (8). Военный министр Уинстон Черчилль пошел еще дальше, заявив 12 февраля 1919 г. на заседании кабинета, явно под воздействием разоблачений «Известий»: «Если союзники не помогут России, Япония и Германия непременно сделают это и через несколько лет мы увидим Германскую республику, объединившуюся с большевиками в России и с японцами на Дальнем Востоке в один из самых могущественных союзов, которые мир когда-либо видел» (9). Премьер Ллойд-Джордж счел перспективу нереальной и обсуждать вопрос не стал.
Но страсти не унимались. Через два года военно-морской аналитик Гектор Байуотер напоминал читателям, а его читали люди знающие, вроде будущего президента Франклина Рузвельта и будущего адмирала Ямамото Исороку, «автора» атаки на Перл-Харбор: «Некоторые из них (японских военных. – В.М.) зашли настолько далеко, что выступили за германо-русско-японский союз, который, они считают, может господствовать над миром. И они продолжали выступать в защиту этой идеи даже после революции и отпадения России (от Антанты. – В.М.)» (10). Так что Хаусхофер был прав: «Всякий изумится, узнав, что первыми, кто увидел забрезжившую угрозу такого континентального блока для англосаксонского мирового господства, были авторитетные англичане и американцы, в то время как мы сами, даже во Второй империи (1871–1918 гг. – В.М.), еще долго не имели представления о том, какие возможности могли бы возникнуть на основе связей Центральной Европы с ведущей державой Восточной Азии через необъятную Евразию» (11).
С падением кабинета Тэраути Гото оказался в оппозиции и сосредоточил усилия на «внутреннем фронте», став мэром Токио, главой Восточноазиатской ассоциации и ректором ее Высшей школы (ныне университет Такусе-ку), председателем Японско-Русского общества и патроном движения японских бойскаутов. К внешнеполитической деятельности он вернулся в 1923 г., начав переговоры с эмиссаром Москвы Адольфом Иоффе и даже пожертвовав постом мэра Токио ради нормализации отношений с СССР, которой все громче требовали деловые круги. Переговоры закончились ничем, но Гото заявил о себе как о наиболее активном стороннике полноценных отношений с «красными», хотя всего пятью годами раньше ратовал за антибольшевистскую интервенцию.
Причин тому было много, включая тесные связи с промышленными, торговыми и банковскими кругами, но главная одна – понимание необходимости партнерства с Россией, будь она императорской или советской, для успешного противостояния США и Великобритании и для укрепления позиций в Китае, который, начиная с Синь-хайской революции 1911 г., перестал существовать как единое государство, все больше погружаясь в хаос. 10 августа 1923 г. Гото обратился с письмом к наркому по иностранным делам Георгию Чичерину – следующему герою нашего исследования. Это была хоть и не конкретная, но вполне определенная программа сотрудничества двух держав в континентальной перспективе:
«Пришло время, когда уже не только образованные круги, но также и широкие слои населения вполне осознали и придерживаются взглядов, что добрые взаимоотношения между Японией и Россией не только служат счастью обоих народов, но также способствуют стабилизации соседнего государства – Китая и его культурному существованию; они служат также основой мира на Востоке Азии и, наконец, дальнейшим последствием этих добрых взаимоотношений должно быть то, что вместе с Америкой они способствуют установлению мира на Тихом океане и тем самым во всем мире… Я считаю неприемлемой такую политику, которая при установлении международных дружественных отношений лишь склонна следовать по пятам Англии и Америки[4]. Более того: обоим государствам следовало бы взять на себя инициативу и стать примером для прочих держав… Я хочу еще более выразить свое убеждение, что объединенная сила обоих народов могла бы восполнить недостатки и ошибки Версальской, Вашингтонской и прочих международных конференций» (12).
Чичерин и его ближайший соратник – полпред в Пекине Лев Карахан вежливо согласились с рассуждениями Гото. Отношения между Москвой и Токио еще не были нормализованы из-за отказа России признать долги царского и Временного правительств, на чем Япония настаивала как на условии эвакуации своих войск с Северного Сахалина. В пространном письме к Гото от 7 ноября 1923 г. Карахан подсказал выход, прямо связанный с нашей темой:
«Договор, который должен быть заключен между нами и Японией, мне кажется, должен быть типа Рапалльского договора, т. е. того договора, который в 1922 г. был заключен в Рапалло между Россией и Германией. По этому договору над всеми старыми отношениями поставлен крест. Все старое позади, а будущее обоих народов должно строиться на новых, ясных началах, которые не носили бы на себе следов прошлых обид и ненужных расчетов. Это принцип, который я мог бы назвать принципом «взаимной амнистии», и мне кажется, что правильно понятые интересы японского народа должны были бы привести к заключению именно такого договора. Из старых обязательств может быть взято лишь то, что сохранило подлинно жизненное значение для настоящих и будущих отношений обоих народов… Более того, там, где речь идет о жизненных интересах народа, а не о мертвых принципах, там два народа могли бы пойти значительно дальше, чем старые договоры с царской Россией… Мертвыми формулами о старых обязательствах пусть пользуются те страны, которые достаточно экономически самодовлеющи, чтобы не чувствовать острой необходимости дружбы с новой Россией. Но Япония, имеющая свои особые интересы, несравнимые по своему существенному и незаменимому значению с интересами других стран в России, должна идти своим путем. Если другие страны могут не иметь никаких отношений с Советскими республиками и не испытывают от этого никакого ущерба и поэтому сдерживающе влияют на другие страны, поддерживая в них свою собственную непримиримость, то мне кажется, что Япония поступила бы правильнее, если бы искала своих самостоятельных путей, не оглядываясь на других» (13).
Это звучало внушительно и многообещающе. Трудно сказать, насколько Карахан был осведомлен о симпатиях Гото к Германии (в 1919 г. под его редакцией было издано трехтомное собрание речей Бисмарка в японском переводе), но аналогия оказалась подходящей. Мори Кодзо, личный секретарь и доверенное лицо Гото, осенью 1923 г. несколько раз неофициально встречался с Караханом и его помощником Сергеем Шварсалоном, пасынком знаменитого поэта Вячеслава Иванова, и секретарем Иоффе во время пребывания того в Японии. В январе 1924 г. Мори повез в Москву предложение патрона о создании советско-японского банка на Дальнем Востоке, а оттуда поехал в Берлин, где вел беседы с советскими дипломатами. Этот факт привел в бешенство японского посла Хонда Куматаро, не скрывавшего своего негативного отношения и к России, и к Гото (14).
Толки о советско-германско-японском сближении возобновились осенью 1927 г. Сначала премьер-министр генерал Танака Гиити (которому совершенно необоснованно приписывается печально известный «меморандум») отправил в Москву и Берлин специальную экономическую миссию во главе с богатейшим промышленником Кухара Фусаносукэ – своим личным другом, политическим союзником и спонсором. Перед отъездом миссию принял император, а в Москве – Сталин (документы об этой встрече, к сожалению, до сих пор не обнаружены). Затем в поездку по тому же маршруту собрался Гото, не занимавший никаких официальных постов, но лично и политически близкий к премьеру. Коллегия НКИД признала «необходимым по политическим соображениям хорошо принять Гото в Москве».
Семидесятилетний виконт публично настаивал, что едет как частное лицо и не имеет поручений от правительства, хотя Танака, занимавший также пост министра иностранных дел, просил советских дипломатов принять гостя с максимальными почестями. Официально целями визита Гото называл «ознакомление» с новой Россией и ее экономической политикой, неофициально – выяснение вопроса о возможности предоставления японцам рисовых концессий на Дальнем Востоке и о согласованной политике в Китае. Дополнительно премьер попросил его ускорить забуксовавшие переговоры о заключении рыболовной конвенции. О берлинской части визита ничего конкретного не говорилось.
Тем не менее 15 декабря 1927 г. «Нойе Цюрихер Цай-тунг» писала: «Гото считается одним из убежденных сторонников сближения как с Россией, так и с Германией. В более узких кругах его поездке приписывается и более серьезное значение, а именно: заключение четверного союза – Японии, Китая, Германии и России. Формулировка подобного союза, однако, еще не воплощена в конкретный образ, и его заключение должно столкнуться на своем пути с значительными препятствиями. В то время как японские деловые круги притязают на более тесные взаимоотношения с Россией и Германией, политика Токио, несомненно, направляется одним острием против Великобритании, порвавшей свой союз с Японией, другой – против САСШ.
В Лондоне полагают, что Япония уже давно заключила с Россией, а может быть, и с Германией тайное соглашение; в то же время в Вашингтоне за последнее время возникло опасение, что Япония намерена с согласия мексиканского правительства возвести на мексиканском побережье базу для своих подлодок. Москва же стремится извлечь из всех этих трений выгоду и использовать свои отношения с Японией в процессе своих попыток завязать отношения с САСШ».
21 декабря 1927 г., в преддверии визита, перевод этой статьи, сделанный в Наркоминделе, лег на стол высшему советскому руководству (15).
Не касаясь подробно хода московских переговоров Гото, продолжавшихся почти месяц, отмечу лишь, что это «частное лицо» было принято всеми первыми лицами Советского государства, включая Сталина, председателя ЦИК Калинина и председателя Совнаркома Рыкова, не говоря уже о Чичерине и его заместителе Карахане. Цели визита Гото изложил в меморандуме, который по его указаниям еще в начале 1927 г. составил профессор университета Такусеку Мицукава Камэтаро и который был передан советской стороне вскоре по прибытии виконта в Москву. Мицукава по праву считался знатоком Китая, поэтому Гото, собираясь говорить в Москве прежде всего о китайских делах, обратился именно к нему.
«Так как теперешние беспорядки приносят серьезный ущерб соседним странам, – гласил продукт их коллективного творчества, – срочной задачей наших обеих стран является нахождение пути и средств для ускорения восстановления порядка и стабилизации Китая… Следует избегать иностранного вмешательства во внутренние дела Китая. Однако чистосердечное обсуждение и обоюдное согласие между Советским Союзом и Японией относительно их китайской политики является срочной задачей времени, принимая во внимание теперешнее положение, и для того, чтобы не упустить общую цель… Для того, чтобы обеспечить мир в Восточной Азии и, таким образом, во всем мире, совершенно необходимо создать безусловное взаимопонимание и одинаковый образ действий обеих стран в китайской политике. Для этого для обеих сторон необходимо пожертвовать теперешними преимуществами в пользу общего большого дела… Для начала было бы достаточно двустороннего заявления, что китайская проблема должна рассматриваться как затрагивающая обоюдные интересы и может быть разрешена обоюдным сотрудничеством» (16).
Суть понятна, даже с поправкой на витиеватый язык Гото и корявый наркоминдельский перевод. Прочитав меморандум, Чичерин сделал вывод, что он «направлен против Коминтерновской линии в Китае» (17). Ознакомившись с запиской Гото и комментариями наркома, генсек решил разобраться во всем сам.
Перед нами «Листок записи на прием к секретарям ЦК» за 7 января 1928 г. «Фамилия – Гото. Имя, отчество – пропуск. Должность – виконт. № партбилета – пропуск. По какому делу – пропуск. К кому записан на прием – к т. Сталину. Отметка о приеме – принят» (18). Обстоятельные японские записи бесед, сделанные профессором Ясуги Садатоси, который исполнял обязанности переводчика, точно и полно передают их содержание, включая некоторые реплики вождя, воспроизведенные по-русски (19). А вот советские записи так и не обнаружены. Если они вообще были…
Сталин и Гото встречались дважды – 7 и 14 января. Первая беседа началась с прямого и, надо полагать, вполне откровенного обмена мнениями. Гото сказал, что Китай находится в хаосе и оставлять его в этом положении крайне опасно. Сталин ответил, что решение китайской проблемы затруднено по трем причинам. Во-первых, отсутствие единой центральной власти; во-вторых, вмешательство иностранных держав в китайские дела без должного знания и понимания внутриполитической обстановки и местных особенностей; в-третьих, возможность усиления в Китае – в условиях постоянного давления извне – ксенофобских и изоляционистских настроений. Согласившись с собеседником, Гото вернулся к своей излюбленной мысли, что поддержание мира на Востоке зависит от сотрудничества СССР и Японии, а в перспективе – и Китая. «Значит, вы хотите, – переспросил Сталин, – чтобы Россия ничего не предпринимала в Китае, не посоветовавшись с Японией? Таково желание Японии?» Гото поспешил заверить, что это не так, но именно слаженность действий двух стран является залогом успешного поддержания мира и стабильности.
Согласившись в принципе с идеей японско-советских консультаций по китайским проблемам, Сталин спросил, что его гость считает нужным для их успеха. Гото начал с того, что японская дипломатия до сих пор в значительной степени ориентируется на США и Великобританию, но понимание необходимости проведения независимой внешней политики усиливается. Партнерство с Россией и Китаем стало бы проявлением ее независимости. Однако он снова выразил опасения относительно возможной «большевизации» Китая в результате деятельности Коминтерна, сделав вежливую оговорку, что понимает различие между этой организацией и советским правительством и что сам он Коминтерна не боится, но многие в Японии боятся. Сталин парировал, что Коминтерн существует девять лет, а нестабильность в мире возникла куда раньше. Далее разговор зашел о Маньчжурии и ее диктаторе Чжан Цзоли-не, в отрицательном отношении к которому собеседники сошлись полностью.
Для нас особый интерес представляет беседа Гото с германским послом в Москве графом Ульрихом Брокдорфом-Ранцау, последовательным сторонником германско-российской дружбы и символом «рапалльского этапа» отношений двух стран[5]. Как запись их беседы попала в Наркоминдел, я не знаю. Но попала и была, без сомнения, внимательно прочитана всеми, кому следует (20).
Свою главную задачу Гото видел в том, чтобы «почти неразрешимую китайскую проблему довести, по крайней мере, до некоторой стабилизации. Именно поэтому он так интенсивно работает в интересах достижения японско-русского соглашения, а также сотрудничества со стороны Германии; в этой комбинации он видит средство к разрешению проблемы». Однако собеседники сошлись на том, что «идея японско-русско-германского союза принадлежит прошлому». Скептически настроенный Ранцау прерывал исторические экскурсы Гото конкретными вопросами о путях нормализации советско-японских отношений и о возможной роли Берлина в дальневосточной политике, которая на тот момент была сравнительно невелика: германские советники лишь недавно появились в армии Чан Кайши, а отношения с Японией не выходили за рамки дипломатического протокола. Не более чем обменом любезностями осталась и эта беседа двух пожилых сановников.
В Берлин Гото не поехал и вообще не поднимал более этот вопрос. Туда отправился один Мори, но подробностей его вояжа мы не знаем. Главным реальным итогом визита в Москву стало подписание рыболовной конвенции: советская сторона стояла насмерть, и Гото в последнюю минуту сумел убедить премьера Танака пойти на необходимые уступки. В знак признания своих заслуг в октябре 1928 г. он был возведен в графское достоинство, но силы старого евразийца были на исходе: 13 апреля 1929 г. он скончался от кровоизлияния в мозг.
Визит Гото в Москву давал советскому руководству уникальный шанс прорыва в отношениях с Японией, тем более что премьер Танака был готов к взаимовыгодному сотрудничеству. Однако Сталин со товарищи сделали ставку на китайскую революцию, веря в ее скорую победу, что было совершенно неприемлемо для Японии – и, как выяснилось, попросту неосуществимо в данных условиях. Авантюры большевиков в Китае закончились провалом: Москва восстановила против себя и Чжан Цзолиня, и Чан Кайши. В большевистской элите боролись «государственники» и «революционеры», причем большинство ее одновременно сочетало в себе обе ипостаси. Так Иоффе в начале апреля 1923 г., указывая на стабильность государственного строя Японии, откровенно писал в Москву: «С точки зрения России как государства – это очень хорошо, ибо все подачки и реформы утыкаются в русский вопрос; но с точки зрения революции это плохо, ибо никакое успокоение ей не нужно» (21).
Гото еще в конце 1900-х годов, говоря о возможном союзе континентальных держав, применил интересную метафору: «Вспомните о русской тройке. В ней над санями вы видите большую дуговую упряжь с бубенцами, а в центре идет крепкий, норовистый и вспыльчивый конь, выкладывающийся больше всех, но справа и слева бегут две лошади, которые сдерживают коня посредине, и такая тройка в состоянии ехать» (22).
Глава вторая
Георгий Чичерин (1872–1936)
Нарком по евразийским делам
Георгий Васильевич Чичерин, с 30 мая 1918 г. по 27 июля 1930 г. занимавший пост народного комиссара по иностранным делам, по праву может быть назван одной из самых выдающихся и в то же время самых трагических фигур отечественной истории советского периода. Нет, наверно, ни одного мало-мальски образованного человека, который бы никогда не слышал этой фамилии. В то же время много ли мы знаем о нем? И что скрывается за безликим штампом «дипломат ленинской школы», который долгие годы был единственным определением к его имени?
Выходец из родовитой и состоятельной дворянской семьи: мать – урожденная Нарышкина, отец – дипломат, дядя – знаменитый либеральный правовед, профессор Московского университета Борис Чичерин. Советские издания скромно указывали, что Георгий Васильевич родился в «селе Караул» Тамбовской губернии, не уточняя, что это было родовое имение. Выпускник одной из лучших гимназий Петербурга, где его ближайшим другом стал Михаил Кузмин, будущий автор «Александрийских песен» и первого русского гомосексуального романа «Крылья» (что задним числом бросало тень и на пристрастия его друга). Чиновник дипломатического архива (по официальной версии, «желал быть подальше от практической деятельности государственного аппарата царизма») и один из соавторов официальной истории МИД Российской империи, выпущенной к его столетию. Эрудит, знаток поэзии и музыки, прекрасный пианист, ценитель дорогих вин (в одной из статей 1923 г. он разъяснял экономические последствия перенесения производства в третьи страны на примере вермута «Чинзано»). Конечно, он был «классово чужд» победившему пролетариату.
Было и другое – многолетнее участие в социал-демократическом движении (правда, среди меньшевиков), политическая эмиграция, неоднократные аресты и высылки, дружба с Карлом Либкнехтом, тесные связи с французскими и британскими социалистическими кругами. Несмотря на все это, партийный стаж ему записали только с 1918 г., с момента формального вступления в большевистскую партию, хотя у некоторых он исчислялся аж с 1893 г. (!), когда Ленин еще не создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Он никогда не был в Кремле «своим». Политбюро, принимавшее решения по ключевым международным вопросам, интересовалось суждениями наркома лишь как «информацией к размышлению», но не как мнением равного. Искренне веря в правоту своего дела и в то же время дорожа постом министра иностранных дел России – как бы он ни назывался в конкретных исторических обстоятельствах, Георгий Васильевич всеми силами проводил партийную линию, пытаясь приспособить ее к международным реалиям и общепринятой дипломатической практике. А это удавалось далеко не всегда.
Недруги упрекали Чичерина в трусости, слабохарактерности, заискивании перед Сталиным. Нарком, смолоду не отличавшийся крепким здоровьем (колит, диабет и полиневрит) и имевший слабые нервы, страдал от многочисленных психологических стрессов, которые переживал от постоянных склок внутри своего ведомства и от сознания двусмысленности и непрочности своего положения внутри большевистской элиты. Тем не менее он, видимо, хорошо знал, чего боялся.
3 февраля 1923 г., еще при жизни благоволившего к нему Ленина, Чичерин писал своему единомышленнику Льву Карахану, в то время члену коллегии НКИД: «Многоуважаемый Лев Михайлович, я могу якобы попасть под автомобиль или якобы упасть с лестницы – ко мне будет ходить врач, потом можно будет сказать, что организм не вынес, – и назначить меня в Госиздат в коллегию или на маленькую должность в НКПрос (Народный комиссариат просвещения. – В.М.). Пожалуйста, поддержите при разговорах со Сталиным (считалось, что Карахан лично близок к Сталину и имеет на него влияние. – В.М.). Где мне можно будет поселиться? Вам, м(ожет) б(ыть), известна какая-нибудь семья (Чичерин всю жизнь жил один. – В.М.)? Это будет дешевле. Сколько получают члены коллегии Госиздата? Я буду Вам очень благодарен, если Вы отзоветесь. С коммунистическим приветом Георгий Чичерин» (1). Понятно, что это написано в состоянии депрессии. Но дыма без огня не бывает.
Для полноты картины и соблюдения логики изложения здесь необходимо коротко сказать о том, как в двадцатые годы вырабатывалась и проводилась советская внешняя политика, какие тенденции и направления в ней боролись – несмотря на публичные уверения в ее незыблемом единстве – и что творилось внутри Наркоминдела.
Выработка внешнеполитической стратегии была монополией «Инстанции», т. е. Политбюро, поэтому курс советской дипломатии колебался вместе с «генеральной линией» партии. Классический пример – отношение к революционному движению в Германии и в Китае. Важные международные вопросы решались в комиссиях и исполкоме Коминтерна, куда входили многие члены Политбюро и партийные идеологи. Наркомату оставались рутинная работа и легальный сбор информации. К мнению дипломатов в Кремле прислушивались редко. Ни Чичерин, ни его преемник Литвинов не входили в «Инстанцию», а только вызывались на ее заседания по мере надобности. Тем не менее в повседневной работе от Наркоминдела зависело многое. Тон, которым нарком разговаривал с иностранными послами в Москве, а полпреды – с министрами иностранных дел в других столицах, политики, конечно, не делал, но на «погоду» в международных отношениях, несомненно, влиял.
В двадцатые годы НКИД четко разделился на «чичеринцев» и «литвиновцев», которые соотносятся с евразийской и атлантистской ориентациями в геополитике. Чичерин приложил руку к подготовке ратификации «похабного», но необходимого в конкретных условиях Брестского мира, гордился Рапалльским договором с Германией и дружественными отношениями с кемалистской Турцией, Персией, Афганистаном, Монголией и Китаем, считая это направление политики наиболее перспективным как для укрепления позиций СССР – не в последнюю очередь путем ослабления влияния Великобритании, так и для возможного расширения мировой революции, в которую он долгое время верил. Или, по крайней мере, хотел верить. Он также придавал большое значение отношениям с ближайшими западными соседями, странами созданного Антантой «санитарного кордона» – Финляндией, Польшей, прибалтийскими республиками, Румынией, позиция которых в отношении России, для многих – бывшей метрополии, была, как правило, откровенно недружественной. «Наши ближайшие соседи с запада, – говорил Чичерин на II сессии ЦИК СССР 18 октября 1924 г., – всегда являлись объектом воздействия западной дипломатии, ведшей против нас враждебную линию… Мы надеемся, что балтийские государства поймут, что в их же интересах не входить в орбиту западных держав и не участвовать в плане нашего оцепления. Мы знаем, что наиболее дальновидным политикам балтийских государств эта игра справедливо представляется опасной».
Если посмотреть на карту, нетрудно заметить, что таким образом в сферу внешнеполитической активности СССР попадали ключевые территории Евразии – «сердцевинная земля» (heartland), в основном совпадающая с территорией бывшей Российской империи, и «опоясывающая земля» (rimland), территория перечисленных государств. Евразийский «пояс» замыкала Япония, нормализации отношений с которой Чичерин тоже способствовал.
Кто выступал за такую политику? Недобитые империалисты или бывшие царские чиновники? Отнюдь нет. Старый революционер и друг Троцкого, Адольф Абрамович Иоффе возглавлял советские делегации в Брест-Литовске, а затем на переговорах почти со всеми ближайшими соседями, от которых умел добиваться того, что требовалось Москве. Он же представлял Советскую Россию в Пекине и в 1923 г. вел переговоры с виконтом Гото. Лев Михайлович Карахан был секретарем делегации в Брест-Литовске, полпредом в Варшаве и Пекине, а затем в коллегии НКИД курировал восточную политику. Именно он стал ближайшим помощником и соратником Чичерина. Николай Николаевич Крестинский, нарком финансов и член Политбюро в годы Гражданской войны, полпред в Берлине при Чичерине и заместитель наркома по «Западу» при Литвинове, сделал очень много для нормальных, партнерских отношений с Веймарской Германией и стремился не портить их даже с нацистским рейхом. Семен Иванович Аралов был революционером еще с начала века, военным (Русско-японская война, потом Первая мировая, штабс-капитан и кавалер пяти боевых орденов) и разведчиком (первый начальник будущего ГРУ). Полпред в Турции, он установил доверительные отношения с Кемаль-пашой, был одним из заместителей Чичерина в коллегии НКИД, а потом работал в Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ).
Судьба была немилостива к ним. Только Аралов при Советской власти никогда не арестовывался и умер в 1969 г. в своей постели, немного не дожив до 90 лет. Тяжело больной и разочарованный Иоффе застрелился в ноябре 1927 г., протестуя против исключения из партии Троцкого и других оппозиционеров. Через десять лет в подвалах Лубянки расстреляли Карахана и Крестинского. Говорят, что первого готовили на «показательный процесс», но он отказался оговаривать себя. Крестинский же в первый день процесса Бухарина – Рыкова отказался признать себя виновным, но… на следующем заседании уже каялся во всем. Видимо, не обошлось без «мер физического воздействия».
Советский дипломат Григорий Беседовский, служивший в Варшаве, Токио и Париже, а затем ставший невозвращенцем, вспоминал: «По установившемуся внутри Наркоминдела распределению обязанностей, Литвинов был совершенно изолирован от какого бы то ни было отношения к азиатской части работы Наркоминдела. Когда Чичерин уходил в отпуск, политбюро передавало эту часть работы Наркоминдела члену коллегии последнего Аралову, очень милому, но, вместе с тем, недалекому человеку (тут Беседовский явно ошибся! – В.М.). Литвинов обижался и дулся, но в политбюро ему резонно замечали, что ввиду его острой личной вражды к Карахану оставление его в качестве руководителя азиатской работой Наркоминдела вызвало бы немедленно трения с пекинским полпредством, во главе которого стоял Карахан. Политбюро, повторяю, поступало резонно, так как при интриганских наклонностях Литвинова и при его неразборчивости в средствах при сведении личных счетов неминуемо должна была начаться борьба между пекинским полпредством и Наркоминделом, в которой всякие соображения отступили бы перед одной целью: во что бы то ни стало подсидеть Карахана» (2).
Если не верите перебежчику – поверьте Чичерину. В «политическом завещании» (о нем дальше) 1930 г. он писал: «Обязательное участие т. Литвинова в Политбюро по делам Запада упрочивало его роль; я проводил участие т. Карахана в Политбюро по делам Востока для ослабления исключительной роли т. Литвинова. Сам я был политически настолько бессилен, что мое выступление в Политбюро в пользу какого-нибудь мнения бывало скорее основанием для обратного решения («нереволюционно»)». Не зря в наркомате посмеивались, что в день заседания Политбюро у Георгия Васильевича непременно обостряется колит… Став наркомом, Литвинов оставил восточные дела Карахану, затем своим «вторым» заместителям («первый», официально так не называвшийся, курировал Запад) – бывшему наркому финансов (его даже называли «советским Витте») и, что не менее важно, бывшему троцкисту Григорию Яковлевичу Сокольникову[6], Борису Спиридоновичу Стомонякову и Соломону Абрамовичу Лозовскому. Все они погибли в годы террора.
По ту сторону геополитической «баррикады» были Литвинов и его сторонники-атлантисты: Александра Михайловна Коллонтай, Виктор Леонтьевич Копп, Иван Михайлович Майский, Валериан Савельевич Довгалевский, Яков Захарович Суриц, Марсель Израилевич Розенберг. Большая часть их служебной карьеры была связана именно с Европой, которую они считали вершительницей судеб мировой политики, а потому главным направлением советской дипломатии. В отличие от «чичеринцев» они ориентировались не на Берлин, что логично вписывалось в евразийскую ориентацию, а на Париж, Лондон и Женеву. Не были тайной и германофобские настроения Литвинова, рутинная работа которого основательно испортила советско-германские отношения в 1933 г., после прихода к власти национал-социалистов. «Литвиновцы» также были против участия дипломатов в разведывательной деятельности или революционном движении за границей. С началом «большого террора» и особенно после снятия Литвинова с поста наркома в мае 1939 г. они оказались под подозрением, но из перечисленных выше в застенках погиб только Розенберг.
Разумеется, предложенная выше схема не означает, что «чичеринцы» занимались только Востоком, а «литвиновцы» только Западом. Это было бы слишком примитивно. Владимир Петрович Потемкин, вся дипломатическая работа которого была связана именно с Европой (полпред в Греции, Италии, Франции, замнаркома по «Западу»), придерживался евразийской ориентации, приложив немало усилий к нормализации отношений с Третьим рейхом в конце тридцатых. На ниве развития советско-японских отношений успешно трудился Александр Антонович Трояновский, позднее ставший не менее успешным полпредом в Вашингтоне. В то же время Копп и Довгалевский были полпредами в Токио, Майский – советником полпредства там же, Яков Суриц работал не только в Париже и Берлине, но и в Анкаре. И работали они, надо сказать, неплохо. В бытность Сурица послом в Германии генералы, промышленники и банкиры были постоянными гостями полпредства. Хотя еврей-посол при Гитлере смотрелся еще лучше, чем ирландец-католик Джозеф Кеннеди – американский посол в Лондоне.
Напряженными были и личные отношения между ведущими советскими дипломатами: Чичериным и Литвиновым, Литвиновым и Караханом, Караханом и Коппом.
Знавший кремлевскую «кухню» двадцатых изнутри, бывший секретарь Сталина Борис Бажанов вспоминал: «Чичерин и Литвинов ненавидят друг друга острой ненавистью. Не проходит и месяца, чтобы я (не. – В.М.) получил «строго секретно, только членам Политбюро» докладной записки и от одного, и от другого. Чичерин в этих записках жалуется, что Литвинов – совершенный хам и невежда, грубое и грязное животное, допускать которое к дипломатической работе является несомненной ошибкой. Литвинов пишет, что Чичерин – педераст, идиот и маньяк, ненормальный субъект, работающий только по ночам, чем дезорганизует работу наркомата… Члены Политбюро читают эти записки, улыбаются, и дальше этого дело не идет» (3). О том же рассказывает и Беседовский. Германский дипломат Густав Хильгер, обладавший уникальным знанием советской истории и политики, предполагал, что их взаимная неприязнь восходила еще к разногласиям середины 1900-х годов, когда меньшевик Чичерин в период попытки объединения социал-демократов разбирался с криминальными «эксами» большевиков, активным участником которых был Макс Валлах по кличке Папаша, он же Максим Литвинов (4).
17 января 1928 г. по совершенно частному вопросу переговоров о советско-японской рыболовной конвенции, Чичерин писал Сталину: «Абсолютно неверно представление о работе т. Карахана как якобы его личной, оторванной от Комиссариата. Я с тов. Караханом нахожусь в самом тесном и постоянном общении… Это постоянное органическое общение с ним диаметрально противоположно полнейшей и абсолютной разобщенности между мной и Литвиновым, с которым совместной работы у меня нет, никогда не было и, конечно, не будет (выделено мной. – В.М.). Нападки на тов. Карахана суть фактически нападки на меня, ибо его шаги диктуются мною, и Литвинов это отлично знает» (5).
Так что борьба между «товарищами», чинно позировавшими перед фотографами для демонстрации единства советской дипломатии, шла не на жизнь, а на смерть, не затихая ни на минуту. Однако можно сделать вывод, что в первой половине 1920-х годов евразийская фракция Наркоминдела была более активной, что помогло нормализовать советско-германские, а затем и советско-японские отношения.
Весной 1928 г. Чичерин отметил десятилетие пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства. На тот момент ни один из его действующих коллег за границей не мог похвастаться таким долгим сроком непрерывной работы, что было отмечено мировой печатью. «То, что Ваше Превосходительство, – писал ему из Токио 29 июня виконт Гото, – несмотря на быстрые изменения современной политической жизни, в течение 10 лет занимали важный пост министра иностранных дел – не только для Вашей страны, но и в интересах всего мира и в особенности для нашей страны (Японии. – В.М.) надо приветствовать как живой символ дружбы» (6).
«Я очень рад, что Вы по-прежнему здоровы и бодры», – продолжал виконт. Но это, увы, уже не соответствовало истине. Измученный интригами Литвинова и физическими недугами, Чичерин уже летом 1927 г. просился в отставку, проведя более полугода на лечении в милой его сердцу Германии. В августе 1928 г. его здоровье испортилось окончательно, и он снова уехал лечиться за границу, откуда не возвращался почти два года. Руководство наркоматом перешло к Литвинову и Карахану, которые постарались получше «размежеваться», хотя первый не оставлял надежду официально занять пост наркома (о подобных амбициях со стороны Карахана нам неизвестно). Длительное пребывание Чичерина вне России, когда он не участвовал в работе НКИД, но и не покидал официально свой пост, разумеется, вызывало толки как в наркомате, так и за его пределами. Он просился в отставку – Политбюро не отпускало. Возможно, ради поддержания международного престижа, поскольку авторитет Чичерина в мире был очень высок. Возможно, верное политике «разделяй и властвуй», проводившейся и в отношении других ведомств. Большинство членов Политбюро относилось к Чичерину отрицательно, считая его негодным наркомом, но Сталин уговаривал его не уходить с должности и работать хотя бы час-два в день. Чичерин не соглашался.
Картина прояснилась лишь в середине девяностых, когда были опубликованы рассекреченные документы Архива внешней политики Российской Федерации. «Трудность в том, что никак нельзя быть наркомом на 1/2 или на 3/4, – писал Чичерин Карахану 11 ноября 1928 г. – Или нужна полнота сил для наркомства, или надо совсем уйти. Положение наркома не терпит частичной работы. Но в данный момент у меня нет даже сил для маленькой работы!». И в другом письме: «Никогда, никогда, ни в коем случае, ни за какие коврижки не буду декоративной фигурой при фактическом наркоме Литвинове или еще ком-либо».
Конечно, дело было не только в болезни, хотя считать ее исключительно «дипломатической» – даже с поправкой на мнительность и капризы Чичерина – нельзя. Гораздо большую тревогу власть имущих вызывала перспектива того, что Георгий Васильевич может стать «невозвращенцем». Слово это вошло в советский политический лексикон в 1928–1929 гг., когда несколько высокопоставленных дипломатических и торговых работников по разным – отнюдь не только политическим – причинам отказались вернуться в СССР из заграничных командировок. Наибольшую огласку получили истории с бывшим председателем правления Госбанка Ароном Шейнманом и поверенным в делах в Париже Григорием Беседовским. Нарком-невозвращенец! – это было бы уже слишком. 1 апреля 1929 г. Карахан просил у Сталина разрешения съездить в Германию и уговорить Чичерина вернуться. Сталин не разрешил, видимо, надеясь убедить наркома лично. А может, увидел в предложении просто желание прокатиться за границу за казенный счет (да и дата какая-то несерьезная).
В 1929 г. полуопальный нарком написал Сталину несколько длинных писем политического характера, на которые генсек коротко, но исправно отвечал. По ним ясно, что Чичерин уже решил ни к какой работе не возвращаться, но хотел предостеречь московское руководство от возможных ошибок во внешней политике: от преувеличенных надежд на «революционную ситуацию» в Европе, от превратных трактовок фашизма и абсурдной теории «социал-фашизма», от поддержки радикальных коммунистов, вроде Эрнста Тельмана, переходивших к насильственным методам борьбы, от авантюризма крикливой коминтерновской пропаганды. «Как хорошо было бы, если бы Вы, т. Сталин, – писал нарком 20 июня 1929 г., – изменив наружность, поехали на некоторое время за границу, с переводчиком настоящим (выделено мной. – В.М.), не тенденциозным. Вы бы увидели действительность. Вы бы узнали цену выкриков о наступлении последней схватки. Возмутительнейшая ерунда «Правды» предстала бы перед Вами в своей наготе».
Но сделать он уже ничего не мог. «Я смотрю на все эти пестрые картины, – писал Чичерин Молотову из Германии 18 октября 1929 г., – как путник на расстилающуюся перед ним долину, но путник, уже опустившийся на землю, выпустивший из рук посох и ожидающий наступления ночи, которая для него будет вечной ночью».