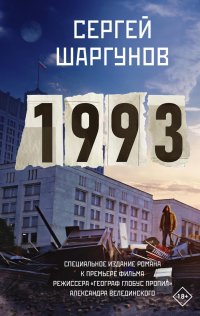Читать онлайн Свои бесплатно
- Все книги автора: Сергей Шаргунов
Террор памяти
Дико устроена память. Что-то кажется мелким и неважным, а ты всё равно возвращаешься к этому драгоценно мерцающему сору.
В моем владении много людей – живых и мертвых, много драматичных сцен и никчемных сценок. Чья-то фраза, не обязательно ошеломительная, какая-то ситуация, не обязательно знаменательная… Где же это было? В том давно не существующем кафе у Чистых прудов (и память высвечивает выпивох за соседним столиком), в вагоне метро на перегоне от «Спортивной» к «Университету» (вижу пассажира напротив – на кого же он похож? на моего деда, которого я не знал?). Всё отчетливо, как в кино. Память может истолочь в прах вчерашний день, но вдруг всплывает дальняя даль – и уже от тебя не отстает. Помнить всё – звуки, запахи, цвет, общий план, топографию случая! Какое это мучительное и радостное сумасшествие!
Зачем-то записалось в голове: девочка Юля, май, легкий хмель, выходим из подъезда дома на Фрунзенской набережной, сорванная мною сирень, впереди женщина с красной коляской, обгоняем, идем в парк Мандельштама за Комсомольским проспектом, где встречаем нашего одноклассника, он выгуливает пса. Юля на поскрипывающих качелях. Вспоминаем вчерашний с ней разговор на перемене, ее «йес, сэр», и она, смеясь, говорит, что это из фильма, там британский солдат так отвечал, прежде чем палить из пушки; смеркается, бежим через проспект обратно, ползет троллейбус; обнявшись, движемся в сторону магазина «Русский лен», темный дворик, ее губы, она говорит, что боится вон того пьяного…
Я понимаю, если бы остался сухой отчет: гулял и целовался. Но зачем железный скрип, шорох шага, огни, которые обострила темень, встречные-поперечные, неразличимый пьяный шатко переходит двор, хватаясь за деревья, шум машин, долетающий до поцелуя?.. Зачем помнить ерунду?
Память расфасовывает события по ящичкам, и на коробке шестнадцатилетнего мая намалевано: романтика-взросление. Память – наставница. Она насыщает тебя приметами реальности, и, поскольку многое повторяется, ты действуешь на автомате, а это и есть зрелость. Ты уже знаешь, как все должно быть, точно дичь, видевшая охотничье дуло. Память примиряет с уходом и одновременно отсылает в бесследно пропавшее прошлое, игриво суля бессмертие.
Она обещает: ангел вострубит, и мертвые вскочат, соединяясь, обрастая плотью. А бывшие исчезнувшие дни вдруг встанут одним цветущим великаном, кадр за кадром, жилка к жилке.
…Я был в храме с синими маковками у священника Александра Меня за неделю до его убийства, мне было десять. Перед исповедью, прохаживаясь, он говорил: «Жизнь – это мост. На улицах нас ждут убийцы», – сделав паузу, он погладил меня в толпе и сказал: «Машины». Исповедь, склоненная голова с темными волнами волос, он приглашал ходить к нему чаще, но почему-то не благословил, не осенил пальцами, хотя я и просил (возможно, реформистски считал это лишним).
Или генерал Лев Рохлин в буфете глотает водку из стакана и щурится, заметив, что с обратной стороны донца прилипла раздавленная городская оса.
Или журналист Юрий Щекочихин звонит и приглашает в Рязань, где его, как считается, и отравят, я говорю, что не получится, прижимая плечом к уху переносную трубку, по комнате плывет пыль, и черная кошка ослепительно зевает, как будто разломили сахарный арбузик.
Или певец Игорь Тальков, чьи щеки щетинисты, а рот приоткрыт в безмолвном пении, лежит в гробу, и кто-то из темной очереди вдруг начинает тихо насвистывать в такт этой мертвой песне.
Помню первое перестроечное шествие по Крымскому мосту, где смешались все флаги и эмблемы, и румяный анархист в кожаных сапогах азартно агитирует, словно торгуется на рынке.
Или вечер 1990-го: сырой палаточный городок напротив Кремля и копошится на коленях среди картонок женщина с родинкой в пол-лица. Память, говори, ори, пищи, распевай! Расклевывай мозг! От женщины нежно, но крепко пахло ванилью.
Есть, есть магия в этой химии памяти.
Мне три года. Стою в шубке на верхней ступени в «Кулинарию». Красный кирпич, серый воздух, мороз, сугробы. Внизу мама и ее подруга. Внезапное озарение: все пройдет, все уже случилось, внятное чувство бренности, парад лет проходит передо мной, словно я попал в поток облаков. Бывает порыв к самоубийству, но бывает безотчетное суицидальное состояние. Иногда выкуришь сигаретку – и впустишь в себя это состояние. Мое первое состояние физиологической тоски (смесь самоотречения и высокомерия) случилось в три, на оледеневшей верхней ступеньке при входе в советскую кулинарию.
Через пять лет на эти ступени рухнул, сломав козырек, балкон и убил двух женщин. Через шесть лет, в 89-м, я встретил в кулинарии свою учительницу труда. Яркоглазая, в кофте с блестками. Незадолго до этого на уроке труда она споткнулась о чей-то ранец и упала в проходе. Она неуклюже поднималась, усаживалась на стул, тяжело, сбивчиво дышала, слепо выпучив яркие глаза, не видя обомлевшего класса. Когда она упала, у меня было желание подскочить и помочь ей. Но я сидел, застыв. И теперь мы столкнулись в кулинарии. «Сереженька, – произнесла она. – Ты единственный, кто помог мне, когда я упала», – вот что она должна была сказать, и губы уже шевельнулись, и в эту секунду и я открылся навстречу этим словам. Но что-то щелкнуло в механизме времени, мы существовали в том измерении, где я остался сидеть за партой, не помог. Разочарованные, отрезвев, мы отступили друг от друга посреди этой кулинарии, но в другой кулинарии, в другом измерении, другие мы говорили по-другому: «Я всегда помню твой поступок. Никогда не забуду, как…» – «Ну что вы, Зоя Филипповна!» – «Ты молодец, настоящий человек…»
Нет, Зоя Филипповна, я не встал, вы самостоятельно вставали, я остался сидеть за партой с девочкой Юлей, чтобы через восемь лет целоваться с ней, когда вы уже умрете. Ветку сирени Юля выкинула под колеса троллейбуса, кокетка. Какой был номер у того троллейбуса? 28?
О, Боже, зачем мне это?
Правда и ложка
Моей жене Анастасии Толстой
– Алло, алло, Сережа! У нас пожар! – голос отца громок и напорист.
Чувствую: само по себе, как чужое, гулко сотрясается сердце.
И вот уже бегу с работы, по коридорам и этажам, напролом и наугад.
Прыгаю в такси на углу. Прошу – быстрее.
– С праздником, – говорит водитель и, обождав, со смешком поясняет: – День огурца. По радио передали.
Погода и впрямь праздничная: машины сверкают бликами и вязнут, кажется, не просто в пробке, а в горячей и яркой небесной синеве.
Мы продвигаемся под милый треп диджеев и веселые песенки, я прошу выключить, потому что звоню маме, таксист выключает, но напрасно, звоню папе, та же хрень, длинные гудки.
Красный светофор. Слишком долгий красный. Спускаю стекло, выставляю лицо под солнце, закрываю глаза, лоб наливается жаром, сквозь веки трепещет алый огонь.
Ну наконец на месте.
Въезд во двор серой восьмиэтажки закрывает красно-белая полиэтиленовая лента, натянутая от кривого тополя до водосточной трубы в тугом ожидании, когда ее перережут.
– Спасибо за поездку и хорошего дня, – чеканит рулевой.
Вылезаю, и взгляд устремляется к небесам: верхние два этажа обожжены, полный мрак до самой крыши.
На нашем седьмом этаже голый, без стекол, оплавленный балкон.
Словно бы дракон налетел и дохнул… Первобытный ужас, как будто за этой дырой не квартира, а пещера.
Поднимаю праздничную ленту над головой и быстро прохожу – мимо красивой пожарной машины и зевак – в открытый подъезд.
За порогом – огромная лужа, по ступеням текут пенные потоки, лифт не работает, бегу вверх навстречу сбегающей воде.
Лестница жизни. На ней курил и целовался. В этом доме я жил двадцать лет. Я здесь уже не живу, но бываю постоянно. Второй этаж. Здесь младенческий чепчик, первые стихи и снимки, пегая собачонка с пластмассой глаз и… Третий этаж. …Отцов иконостас, пожелтевшая гимнастерка суворовца с красными погонами, подрясник, епитрахиль… богослужебные книги в деревянных обложках, покрытых телячьей кожей, а у мамы… у мамы настоящий этюд Врубеля, картины русских авангардистов, ее рисунки… этажерка, козетка, зеркало… во всю стену до потолка в бронзовой раме… в его венецианское стекло смотрелась моя пра, быстрее, праба, через ступеньку, а еще, еще рывок, одна удивительная серебряная ло…
Седьмой. Задыхаюсь. На входе в квартиру – широкая спина с кислородным баллоном. Жирно воняет гарью. Иду мимо черной комнаты, где дворники в оранжевых жилетах споро выжимают тряпки в ведра, дальше, на кухню – на родные голоса.
Так и есть: отец и мама за столом, в небесной синеве, у окна нараспашку. Обнимаю, прижимаюсь, оглядываю. Кажется, они помолодели. У них счастливый вид и разговор наперебой.
– Слава Богу, – это отец. – Я думал, вся квартира сгорит. Началось с балкона. Разбили окно и что-то кинули.
– Если б нас не было дома, все бы и сгорело. И соседи могли сгореть. Пожарные молодцы, сразу приехали, – это мама. – Минута-другая – мы бы не выбрались. Комната моя, конечно, плоха…
– Но не пошло дальше, – веско говорит отец. – Иконы я вынести успел.
– А картины пропали, – добавляет мама.
– Кто это мог сделать и как? – спрашиваю, и мы молчим.
– Мы многое не знаем, – говорит отец негромко, – и часа своего не знаем тоже, – на его щеке след сажи.
Осторожно вступаем в ту самую комнату, откуда дворники уже вынесли ведра. Комната страха. Черный потолок с черной люстрой. На черных стенах спекшиеся картины. Высокое черное зеркало. Ровная пелена копоти. Под копотью – молниевидная трещина. Провожу пальцем, рисуя параллельную линию.
Возле оконного провала на черной этажерке вижу деревянную иконку Сергия Радонежского. Жива. Касаюсь, пытаюсь взять, но она ни в какую, теплая, крепко приваренная. Краска скукожилась, а все же лик различим.
– Ты хоть пообедать успел? – тревожно спрашивает мама.
Оборачиваюсь.
Над обугленной постелью – черный квадрат.
Это был фотопортрет мореплавателя, моего предка.
Что пропало, того не вернешь.
Фамилия Русанов – от прозвища Русан. Так в древности называли человека с русыми волосами.
По другой версии, такое прозвание означало попросту – русский.
В 1591 году Борис Годунов частью покарал, частью прогнал из Углича в Орел эту боярскую семью.
За что? За то, что подняли народ на поминальный бунт, до отчаяния опечаленные гибелью любимого отрока, царевича Димитрия.
Они его любили и ему одному служить желали.
Вызов чести и непокорности видится мне в позднейшем романтически-рыцарском гербе Русановых.
«В красном поле означена серебряная зубчатая стена и на оной крестообразно положены ключ и карабин, а в золотом поле находится дерево дуб натурального цвета. Щит увенчан шлемом и короною со страусовыми перьями».
Если внимательно рассмотреть рисунок, концы гордых воздушных перьев примяты, загнуты и траурного окраса – опалило навек звериным дыханием Смуты.
…Один из героев Бородинской битвы, чье имя выбито на ее скрижалях, храбрый подпоручик из Орла Николай Русанов…
Но давайте заглянем, друзья, говорю я с интонацией экскурсовода, в орловский дом Русановых ближе ко второму распылу их строптивого рода.
В самом конце 1875 года умильная соседушка-купчиха по прозвищу Лиса и виноград одарила крестника Володечку новенькой серебряной ложкой.
– Скок-поскок… На первый зубок, – бормотала Авдотья Андреевна, одержимая милым рифмоплетством.
У Русановых, конечно, без нее хватало серебра: кофейный сервиз, рюмки, приборы, ваза для фруктов, соусница, вдобавок золоченые ложечки и подсвечники, да и золотые часики с крышечкой, при отскоке издававшей сочный щелчок…
Принято дарить младенцам чайную ложечку, но крестная упражнялась в оригинальности: поднесенная ею столовая ложка была не просто большой, а большущей, превосходящей стандартные размеры.
На перемычке, выгнутой спинке, темнели соринки пробы.
Держало покрывали повсюду таинственно-лиственные выпуклости, спустя годы напоминавшие мечтательному мальчику опасные заросли берегов Амазонки.
Обратную сторону черпала, то есть весь затылок, украшал одинокий узел узора – колокольчик «гусиное горлышко».
Читать Володя научился рано, обожал книги о приключениях и странствиях и часто уходил гулять в леса и поля за многие версты от дома, возвращался с карманами, полными разнообразных камней, и складывал свою геологическую коллекцию. Из классической гимназии выгнали «по причине неуспеваемости», выставили и из реального училища, зато отучился в духовной семинарии.
Подпольные кружки, участие в Рабочем союзе, арест. Тюрьма, познакомившая с книгой норвежца-полярника Нансена «Среди льда и ночи». Ссылка в Вологодскую губернию.
Отправляясь туда, он не забрал ничего из накопленного семейного добра и даже памятную ложку бросил в Орле – может быть, как якорь, чтоб вернуться.
Потом был Парижский университет, естественное отделение. Выучился на специалиста по вулканам, исследовал гудящий Везувий вскоре после мощного извержения. Но хотелось обратно: весной 1907 года – снова в России. Прибыл в Архангельск и был приятно удивлен государством – получил одобрение и полное содействие при подготовке экспедиции на Новую Землю, где тогда вовсю хозяйничали норвежцы.
Смертельная страсть ко льдам сбила модный пламень смуты.
Северный морской путь в русской географии – это он, собственной персоной, Владимир Русанов.
Первый человек, который сумел пересечь Новую Землю пешком. Достиг Баренцева моря в одиночку: его спутники, не выдержав трудностей, отстали и повернули обратно. Там, на Новой Земле, познакомился с охотником-ненцем Тыкой Вылкой, чье имя означало «олененок», привез в Москву, сделав знаменитым художником и сказителем.
Русанов возглавил немало великих путешествий, удостоенных царским орденом святого Владимира, пока в 1913-м не сгинул в объятиях ревнивой красотки Арктики.
Ревнивой – потому что вместе с ним пропала и его возлюбленная Жюльетта Жан-Сессин, тоже выпускница Сорбонны.
Чем он ее соблазнил? Наверное, сладким жаром своих перемещений: от крайней точки – Мыса Желания – до восточного входа в пролив Маточкин Шар.
Из-за северных красот из года в год откладывалась их свадьба, и, когда отложили уже в пятый раз, Жюльетта потребовала взять ее с собой. Владимир написал прошение и сумел добиться ее зачисления на судно врачом. Их обвенчала полярная метель.
От Русанова остались бухта, полуостров, гора и долина его имени. От Жюльетты – глубокое озеро.
Их зверобойное судно «Геркулес» кануло во льдах.
Но следы возможных стоянок в пустынных и холодных краях находили даже в 1934-м и 1947-м и обнаруживают до сих пор. Последний раз – в 2000 году на полуострове Таймыр.
Получается, Русанов с тайной своей судьбы перешел в XXI век.
Последняя телеграмма: «Юг Шпицбергена, остров Надежды. Окружены льдами, занимались гидрографией. Штормом отнесены южнее Маточкина Шара. Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам: Уединения, Новосибирским, Врангеля. Запасов на год. Все здоровы. Русанов».
Считается, он опечатался на своем безнадежном острове Надежды. Пропустил частицу «не». Надо было: «если не погибнет судно». А он: «погибнет».
Упало письмо на мэйл: «Сергей Александрович! Твой родственник Русанов Владимир погиб в районе реки Пясина. Выполняя геодезические работы, мы обнаружили нарты и рядом с ними останки тел двух европейцев, что было видно по обрывкам одежды. Один череп принадлежал взрослому, другой как бы подростку. Даже я, малограмотный техник-геодезист, удивился: что тут ребенок-то делал? Я понял, что это были Русанов и его француженка. Сергей Александрович, тебе это интересно? С уважением, Иван Иванович».
Интересно, Иван Иванович.
Я и сам, признаться, все детство мечтал уплыть.
Пожелтевшая, в струпьях хозяйственного мыла, решетчатая доска-сиденье лежала поверх ванной, а сверху в закатном луче покоилась кошка. Я мягко спихивал ее в ванну и принимался вертеть доску, разглядывая со всех сторон, словно первый христианин, чающий воскресения мертвых, представляя, как она обрастет лесом остальных деталей огромного красивого корабля, который, поскрипывая и покачиваясь, повлечет меня мимо диких зарослей Амазонки, а уж хрюкающий нежно серо-полосатый бочонок, кошку Пумку, возьму с собой обязательно…
Другой Русанов, Николай, с юных лет болезненно пытливый и энциклопедически образованный, сделался заметным журналистом и литератором и навсегда уехал в Европу, прихватив шандал в виде страуса с золотым гнездом перьев. Подле шандала и оплывающих свечей он и запечатлен на черно-белом снимке – волнистая шевелюра и вытаращенные глаза пророка (до этого фото, по счастью, пожар не дотянулся).
Он оставил множество публикаций (в основном в журнале «Русское богатство») и несколько книг, в том числе мемуаров.
В книге «На Родине» он в акварельных красках изобразил свое детство в просторном трехэтажном орловском доме с прислугой, полюбив и хорошенько изучив которую, и выбрал «мучительную стезю народничества». Начиналось все с неловкого панибратства. «Меня долго тошнило от первых стаканчиков и от первых цыгарок. Но я считал долгом поддерживать репутацию простоты – “етот наш, етот не ябедник!” – и годами идейно курил и тянул с нижним этажом и со двором всякую дрянь».
Их с будущим мореплавателем дед (то есть мой аж пра-пра-прадед! звучит как барабанная дробь! пам-пам-пам!), «красивый силач» Дмитрий Иваныч писал стихи и имел обширную библиотеку. «Было даже первое издание сочинений Пушкина, понять и полюбить которого было действительной его заслугой, как-никак, а затерянного, несмотря на свои образованные знакомства, в русской провинции тридцатых и сороковых годов. После Пушкина старик не признавал никого, гордился тем, что не читал ни Лермонтова, ни Гоголя, и жестоко ругал их, не прочитав из них ни строчки». «Натура незаурядная», он «тянулся к передовым дворянам и университантам» и то и дело принимался, как сам это называл, «фантазировать» перед домашними: изливать на них смелые рассуждения вперемешку с «истязанием словесностью», а безропотную жену Лизавету и вовсе ночь напролет услаждал в беседке посреди сада нескончаемыми декламациями из Пушкина…
Его сын унаследовал от отца столь же горячечную любовь к литературе, а вольномыслие поменял на охранительство весной 1866 года, когда в Орел прилетела весть об Александре Втором: «В государя стреляли». Коле Русанову тогда было семь.
«Меня родные засадили читать газеты: “Сын Отечества” и “Воскресный Досуг”, слушали, охали и выкрикивали: “Каракозов” (конечно, не русский!), “Общество ада” (и название-то какое злодеи придумали!), “Комиссаров-Костромской” (а! простой человек государя спас!). Отец выкатил из винного погреба бочку водки, которую тут же распили наши рабочие и прохожие. Вечером был приказ от начальства устроить “лиминацию”. Сальные плошки горели и трещали на славу. Один из моих родственников вывесил на нашем балконе транспарант с большим вензелем из переплетенных А (Александр) и М (Мария). А мать даже пожертвовала моими красными люстриновыми шароварами, сделав из них большой круглый фонарь и тем подвергнув испытанию мой юный патриотизм…» В то же время его бабушка по матери Анастасия Пирожкова удалилась в монастырь и приняла схиму под именем Марфы.
Гимназия, медико-хирургическая академия в Петербурге, книжки и кружки. Отправил в Орел к празднику длинное письмо, объявив, что отказывается от наследства и ежемесячного пособия, ибо «теперь, когда у мужика последнюю корову со двора за подати сводят», надо жить одной жизнью с народом. «Домочадцы после рассказывали, что в этом месте мать особенно горько всплакнула, а отец разбушевался и просил ему все показать, да у какого мужика и когда это он свел последнюю корову!»…
В 1880-м его стиль удостоил высоких похвал земляк Иван Сергеевич Тургенев в письме Глебу Успенскому. Прочитав слова живого классика, несговорчивые родители русановской невесты Оленьки перестали противиться сватовству начинающего автора.
Сам он несколько раз бывал в гостях у Тургенева, резко с ним спорил о судьбах народа и вот таким изобразил его, любуясь: «Эффектно-седые волосы, белая борода только еще больше оттеняли поразительную моложавость этого наполовину библейского, наполовину джентльменского лица, на котором и свет лампы лежал как-то особенно правильно и мягко. Он, и сидя за чайным столом, был выше нас целой головой, и его речь, плавная, сытая, я бы сказал, серебряная, как он сам, лилась на нас сверху».
«На нас» – это и на Всеволода Гаршина, друга Русанова, который на его глазах тронулся рассудком и незадолго до самоубийства прислал «сумасшедшее письмецо» о кровавости «скорой революции».
А наш герой, когда-то придумавший для себя опроститься, теперь со все тем же пылом решил европеизироваться, отчасти вдохновившись примером Тургенева, и в 1881-м отбыл к другим берегам.
На страницах его мемуаров «В эмиграции» встречаем Карла Маркса – в Швейцарии, в ресторане у пароходной пристани, – «пожилого широкоплечего господина с лицом, изрезанным глубокими морщинами, с необыкновенно умными черными глазами, мясистым носом и огромной, почти совсем седой бородой». Немолодого теоретика сопровождала очаровательная румяная блондиночка. Пьяный в стельку приятель Русанова, нигилист-эмигрант Соколов (автор частушек, в которых называл себя «соколиком Колей»), некогда «блестящий офицер Генерального штаба», «сейчас же принялся без церемоний бросать вызывающие фразы на французском языке».
– Эй, борода! – горланил хмельной русский. – Ишь, каким буржуа расселся на стуле… Да ты и есть буржуа! С мамзелью на старости лет крутишь!
Блондиночка пугливо затихла. По лепному лицу Маркса побежали тени недоумения.
А Коля уже вскочил и ринулся прямиком к «бороде» с криком: «Какой же ты, Маркс, каналья!», но тут Русанов сгреб приятеля и потащил прочь, «обещая угостить его в соседнем ресторане таким белым вином, какого он еще не пивал».
А вот с Энгельсом – испили эля.
По приглашению уже пожилого Фридриха, поклонника его текстов, Русанов приехал в Лондон и в большой квартире возле парка обнаружил высокого джентльмена «с темным лицом и не по росту маленькой головой». Осушив несколько кружек теплого и горьковатого напитка, они отправились в соседнюю комнату, где хозяин, показывая «старую русскую библиотеку покойного Маркса», извлек с полки одно из первых изданий «Евгения Онегина» с обложкой, толстой и крапчатой, как черепаший панцирь.
Русанов опередил.
«– Дорогой гражданин, вы хотели, очевидно, что-то мне прочитать? Позвольте мне самому прочитать вам цитату, с которой вы собирались познакомить меня.
Энгельс бросил искоса дружелюбно-насмешливый взгляд:
– Сделайте одолжение, – и протянул мне книгу.
Я сжал в руках томик и продекламировал наизусть:
- Бранил Гомера, Феокрита;
- Зато читал Адама Смита
- И был глубокий эконом,
- То есть умел судить о том,
- Как государство богатеет,
- И чем живет, и почему
- Не нужно золота ему,
- Когда простой продукт имеет.
- Отец понять его не мог
- И земли отдавал в залог.
– Donnerwetter!.. Potztausend!..[1] – воскликнул несколько раз по-немецки Энгельс. – Черт возьми, вы угадали… Верно, верно: эту именно цитату я и хотел прочитать вам».
Вернулись к элю, стукнулись кружками, звонко и зло, во славу мировых бурь. Через некоторое время общение, по-видимому, приобрело некоторую бессвязность, и в памяти беллетриста отразилась странная вспышка:
«Энгельс разразился громким хохотом:
– Право, не поймешь вас, русских: у вас, должно быть, в мозгу перегородки…»
Галерея русановских собеседников – окающий Халтурин, «Жоржик» Плеханов с пиками усов, большелобый Владимир Ильич, князь Кропоткин с оттопыренными ушами, идеолог народовольцев Лев Тихомиров по кличке Тигрыч, впоследствии обратившийся в столп консерватизма. И еще не разоблаченный главный террорист, он же – главный провокатор Азеф, «короткошеий, круглая, как ядро, стриженая голова, толстые губы негра и ленивые глаза навыкат».
Сразу после Кровавого воскресенья на парижской квартире Русанова объявился замаскированный священник Гапон, «небольшой брюнет с горячей сухой рукой», беспокойно научавший вере в Бога и уговоривший перевести его «недостойные писания». Дочка Русанова согласилась давать батюшке уроки французского, но вскоре он стал сильно смущать, катая на дорогом авто и одаривая цветами.
Ну а сам Николай, пророк грозы, не принял ее последствий на родной земле и в 1939-м, восьмидесяти лет от роду, почил в швейцарском Берне.
Потомство его разбрелось по Европе…
А кто-то из родни оказался в Азии. Например, уроженец Орловской губернии Александр Русанов. Знаменитый педагог, в 1912-м беспартийный депутат Государственной думы, во время Февральской революции глава Временного правительства Приморья. Попал под арест, эмигрировал в Харбин, в Шанхае возглавил русское реальное училище, там и умер в 1936-м…
Львиная доля ложек, вилок и ножей досталась сестрице Николая Анне как самой близкой к кухонному вопросу.
Анна вышла замуж за орловского потомственного дворянина Анатолия Герасимова – повстречались на народнической сходке.
Он был из усадьбы, что на реке Общерице при ее впадении в реку Неруссу.
Моя прабабка + мой прадед: Толя и Нюся…
Герб рода Герасимовых напоминал о возвращении крылатых певчих сквозь весеннюю лазурь Благовещенья. «В щите, имеющем голубое поле, изображены золотой крест и серебряная подкова, шипами вверх обращенная. Щит увенчан шлемом с короною, на поверхности которой видна птица, имеющая в лапе подкову и крест».
В октябре 1889-го студент Санкт-Петербургского технологического института Герасимов учинил попытку беспоповской панихиды по поповскому сыну Чернышевскому во Владимирском соборе, распевая за компанию с дружками «Вечную память», заздравно гулявшую под гулкими пестрыми сводами (после революции росписи будут невозвратно утрачены)…
А незадолго до знакомства с Анной отправился в деревню – жить среди крестьян и их просвещать. Расположился в избе, пошел купаться на речку. Деревня следила за ним немигающими глазами. Искупавшись, он стал размашисто вытираться полотенцем. Услышав шум за спиной, обернулся: толпой приближались люди. Местные, не привыкшие вытираться после воды, приняли его за колдуна, насылающего дождь на их и без того размокшие в то лето поля, окружили и чуть не убили. Он спешно покинул деревню.
Мценск, Елец, Саратов… Грустный перезвон приборов.
Анна следовала за Анатолием по тюрьмам и ссылкам, стачкам и сходкам, а он в перерывах между арестами выбирал работу поскромнее – то писарь, то слесарь, то конторщик, то аж грузчик, – ближе к простому люду и всё на железных дорогах: чуть что – рвануть дальше. В странствиях она родила ему девочек, Валерию-Валю и Марианну-Мурашу. Столовый набор редел от путешествий.
Это было мутным мартовским утром в Тюмени, когда новый арест, грянувший затемно, а значит, новая нужда и прежняя беда накрыли с головами мать и девочек, еще детей, но уже наделенных опытом скрытности и печали, и все плакали (по-разному, но втроем), обнявшись на топчане, в низком деревянном доме, который нечем оплачивать, и слезы потянули их к водам Туры, левого притока Тобола.
Не так важно, кто говорил: слова превращались в одно родственное журчание, простецкое или от привычки к народничеству, или, всего вернее, от того, что язык горя всегда прост.
– Сестренка ваша Анечка… первая моя… счастливая. Ушла малюткой. Не знает она ничего… Лучше бы тогда в родах и меня не стало…
– А помните, вчера какой папаша был смешной…
– Пел нам…
– Обещал на реку сегодня…
– Теперь-то долго реки не увидит…
– Такая его воля…
– Идемте сами к той реке поганой…
– И потопимся.
– Потопимся?
– И потопимся, и ладно… Зато всему конец.
Пока они так говорили, гремело железное кольцо в двери. По-хозяйски нагло и бодро. Что ли, снова полиция?
– Открой, – сказала мать неизвестно какой из девочек, может, и той, чей призрак воскресила, вспомнив ее младенческую смерть от инфлюэнцы.
Валя потянула щеколду.
Отпрянула, запуская праздник.
Праздник топотал в открытом полушубке, в бредовой роскоши платья, с цветастой шалью вокруг горла, с юбкой-шатром, бумажными и даже серебряными деньгами, вплетенными в смоляные колтуны и косы.
Дородная, неправдоподобная, вся вымышленная цыганка вывалила толстый язык, на миг заполнивший комнату и общее внимание, и одновременно задрала подол, из-под которого привычно и легко, как из-за кулис на сцену, вылетели две девочки-цыганки, зазеркальные двойницы заплаканных сестер.
Незваные гостьи наступали, точно пожар, без извинений, изъяснений, уговоров, а лишь озорно визжа.
Их ор был смешан с их плясом, но все подчинялось какой-то одной безжалостной цели.
Этот танец пугал и завораживал, как одно цыганское проклятье на непонятном цыганском языке.
Казалось, они проклинают сами себя и это они одержимы самоубийством.
Они были похожи на битье о стены бутылок с красным вином: острые брызги, яркие осколки, пропащий звон.
Они пролетели по тесному дому, распахивая и обшаривая шкафы и ящики, и, пока семья выпутывалась из слезного бессилия, налетчиц и след простыл вместе с остатками серебра.
Нежно поскрипывала дверь, голый проем показывал пепельный талый день, и залетал порывистый ветер с близкой реки…
Будто ничего и не было – ни мыслей топиться, ни ареста мужа и отца, ни его самого, ни этой грабижки, да будто бы и не было никогда никаких Русановых и Герасимовых, но был и будет один-единственный веселый ветер над раненым льдом Туры, левого притока Тобола.
Что же привлекло сюда разбойниц? Учуяли жертвенную слабость? Вот и прихватили, зубастые, глазастые, бровастые, букетик вилок, ножей, ложек.
В тот же вечер денег занял товарищ Анатолия, активист-рабочий чугунолитейного завода. На следующий день на последней ступеньке крыльца, покрытой рыбьим жирком талого льда, Мураша обнаружила прилипшую столовую ложку.
Так и осталось тайной – то ли ее проглядели, и одна из воровок обронила впопыхах, то ли (эту теорию немедля выдвинула фантазерка Валя и была одобрена Мурашей) ложку подложили втихаря (например, вернуть ее приказал цыганке грозный голос во сне).
– Она у нас непростая! – распевно, словно баюкая, говорила Валя, обтирая ледяное серебро сухой канаусовой тряпицей. – Она наша родовая!..
Брат Анатолия Виктор, успешный инженер, был не в пример ему законопослушен, но тоже деятелен. Разбогател на строительстве Южно-Маньчжурской железной дороги, связавшей Харбин и Порт-Артур. Устремился в уральский Чебаркуль и там на горном склоне построил паровую мельницу и усадьбу в большом саду, создав точную копию родительского поместья. Обзавелся дачей на одном из островов прозрачного озера Тургояк. Виктор Алексеевич был человеком начитанным, выписывал все толстые столичные журналы, верхняя комната дома была доверху завалена книгами…
Теперь вся бунташная родня потянулась к нему.
Зачастил Анатолий с женой, Валерия и Мураша проводили у дяди каждое лето.
Писатель Юрий Либединский, в то время подросток, жил неподалеку: «Я и сейчас словно вижу перед собой посыпанную песком аллею, полную луну над садом и плавно взмахивающую руками тоненькую фигурку – это танцует Валя, ей, видно, слышалась музыка в самом лунном свете. Я же чинно гулял с ее бледненькой, в то время довольно болезненной тринадцатилетней сестрой, у которой были длинные, до пят, русые косы. Мы говорили о прочитанном, спорили о том, есть ли Бог, даже толковали о политике и социализме… Социализм для Марианны сливался с христианством, у нее дома над кроватью даже висела иконка – Христос с раскрытой книгой…»
(Здесь поделюсь семейной тайной. Их мать, то есть мою прабабушку Анну Сергеевну, до самой смерти – уже в сталинское послевоенное время – посещало видение. Бывало, что утром, во время умывания, когда она брала полотенце, чтобы вытереть лицо, вдруг на мгновенье-другое видела лик Спасителя и начинала плакать…)
Перебрался в эти края и старший из трех братьев Герасимовых Аполлинарий. Поначалу он, как и Анатолий, учился в Санкт-Петербургском технологическом институте и желал блага для народа – скорее и больше. Ум ему мутил и сердце тяготил «грех дворянского происхождения». Уже к концу учебы в первом номере нелегальной газеты «Рабочий» он выступил с заметкой «По поводу фабричных волнений» и после обыска, выявившего на квартире запрещенную литературу, был отправлен в Енисейскую ссылку. В Сибири Аполлинарий нашел любовь и жену Юлию. Вместе и отправились на Урал… Тут он взялся за дело, а именно стал управляющим приисками Горнопромышленного общества. Намывал пуды золота, одновременно учительствуя в воскресной школе и организовав общедоступную библиотеку.
В 1909 году во время разведочных работ утонул в таежной реке Сосьва. Остались вдова и пятеро детей.
Они переехали в Екатеринбург.
В Екатеринбурге же в конце концов обосновался и Анатолий с женой и дочками. Тут девочки закончили гимназию. Учебу оплачивал добрый дядюшка «мельник» Виктор.
Самый мирный и покладистый, он затосковал с началом революции, почуяв, что скрываться больше негде, даже на чебаркульском хуторе, и страшная мельница теперь будет перемалывать всех подряд…
Это отражено у все того же Либединского, в 1917-м обедавшего у Анатолия и Анны и сетовавшего на новые настроения их благодетеля:
«– Виктор Алексеевич стал в церковь ходить.
Анатолий Алексеевич торопился, долго разговаривать о духовной эволюции своего брата ему было некогда.
– Он говорит, что революцию евреи устроили, – сказал я.
Анна Сергеевна всплеснула руками:
– Ты слышишь, Толя?
– А… – Анатолий Алексеевич досадливо отмахнулся, – это все мельница, мельница, мельница…»
Гражданская война с сабельным свистом располосовала семью.
Сначала в Екатеринбурге победили Советы.
Анатолий, будучи редактором газеты «Вольный Урал», выражал им одобрение. В декабре 1917-го шестнадцатилетняя Марианна в коричневой гимназической форме, с двумя золотистыми косами вокруг головы, с блеском выступила на съезде Союза учащихся Урала, где, кроме большевистского большинства, присутствовало и кадетское меньшинство, и ее избрали заместителем руководителя Союза.
Но тогда же Анатолий стал недругом своим племянникам, сыновьям утонувшего Аполлинария, любимого единомышленника, с которым когда-то, еще в царствование Александра Третьего, грезили всеобщим братством, бросая зимние кирпичные кулачки в перламутровое петербургское небо.
Юные Герасимовы большевиков отвергли.
Боевой офицер Борис, обладавший отменным голосом, вернувшись с распавшегося фронта, вместе с братом Владимиром затеял в городе музыкально-драматическую студию. Но имперский репертуар не понравился новым властям, а конкретно – их дяде, и студию закрыли. Тогда же в Екатеринбургской тюрьме очутился премьер-министр Временного правительства князь Львов. Выпущенный под подписку, бежал, пока не достиг Парижа…
В апреле 1918-го в город привезли семью бывшего царя. Летом белые вместе с чехами заняли почти весь Урал. 26 мая был занят Челябинск. К июлю Екатеринбург окружили с трех сторон. За восемь дней до сдачи города семья Романовых была расстреляна.
Белые ворвались на конях и бронепоездах, и одни Герасимовы возликовали, а другим стало худо.
Вдова Аполлинария перекрасила белую скатерть со стола своего буфета в национальный триколор, и сыновья ее, стуча сапогами, понесли этот флаг через Главный проспект Екатеринбурга по плотине городского пруда.
А Марианна за считанные часы до ареста скрылась. Очевидно, по протекции дяди-«мельника» она спряталась в казачьей станице под Челябинском. На стенах и тумбах были наклеены ее портреты с объявлениями о розыске и плате за поимку. Ее красных товарищей убили. Председателя Союза учащихся Илью Дукельского зарубили шашками в лесу. Шестнадцатилетнюю Соню Морозову, секретаря Союза, девочку из семьи бедняка, застрелили, словно в ответ на казнь царевен… «При попытке бежать», – сообщили в контрразведке, хотя стреляли в упор и выдали родителям труп с опаленными на затылке волосами.
Анатолий Герасимов был арестован патрулем чехов, ни слова не понимавших по-русски, и помещен в Екатеринбургскую центральную тюрьму. Об этом он оставил книжку «Год в колчаковском застенке. Дневник заключенного».
«При частых, порой внезапных обысках приходилось прибегать ко всякого рода ухищрениям: обертывать листки вокруг тела и забинтовывать их, прятать в сапоги, в печку под пепел…»
Вокруг себя он почти не обнаружил идейных, случайные арестанты. Все то, что потом стало главными чертами воспоминаний о «советском терроре»: доносы, абсурд обвинений, пытки и скоропалительность расправ, – показано им как меты «террора антисоветского».
Старуха собирала грибы и вздыхала под нос: «При крепостном праве-то лучше было» – замели. Кто-то назвал расстрелянного Николая – Кровавым: взяли. Народный судья постановил, чтоб сосед держал опасную собаку на цепи, тот донес, что он тайный красный, и расстреляли во время «эвакуации», под предлогом которой расстреливали помногу… «Скрипач Виткин арестован за то, что жил против дома Полякова и кланялся М. Х. Полякову – большевику».
И еще чуть-чуть из этой гибельной документальной поэмы:
«Появился ненадолго главный, как говорят, член следственной комиссии.
На вопрос, за что арестован и долго ли будут держать в тюрьме, лаконический ответ:
– Вас расстреляют.
Как нарочно, стоят дивные дни. Золотая осень глядит через решетки.
Про расстрелянных говорят:
– Отправлены в земельный комитет!
Привели тов. Фокина. Его вера: “Россия будет большевистской”. История его ареста. Деревня была оцеплена сотней казаков. Фокина схватили, раздели и гнали 30 верст до станции, босым и раздетым, на аркане, хлеща слева и справа нагайками…
Надвинулась давно ожидаемая гроза – сыпной тиф.
Часто ночью слышу вопли и стоны борющихся с предсмертной агонией.
Интересным афоризмом разрешается один из уголовных:
– Не понимаю, почему боятся мертвецов. Живые всегда страшнее мертвых.
Один парень посажен в тюрьму за то, что плакал по отцу, утопленному в Исети…
Отворивший дверь надзиратель имел весьма услужливый вид, и мы увидели двух юных франтоватых золотопогонников и между ними грубо накрашенную и ярко одетую девицу в громадной шляпе, украшенной цветами.
– Ну что же, находите кого нужно?
Хохот. Дверь с треском захлопывается.
Это известная многим любовница купца Топорищева. По личной ее злобе сюда посадили одного, что сгрубил ей что-то, и вот теперь разыскивает для расстрела.
Мы услышали вихрь летящего снаряда. Другой, третий… О, значит, красные близко и обстреливают Екатеринбург».
Вспоминал вскользь и о встрече с Колчаком, сохранившим ему жизнь.
Анатолий Алексеевич просидел до последнего дня пребывания белых в городе.
Он умер в 1928 году, оставив неизданный «Дневник одинокого человека», в 1939-м изъятый НКВД при аресте его дочери Мураши…
Но мы в Гражданской войне. За то время, что Анатолий томился у Колчака, его племянники расправили плечи.
Их было четверо – Владимир, Алексей, Борис, Сергей.
Старший Владимир выучился на архитектора в Петербурге. В 1916-м занимался строительством Уральского горного института, который торжественно открыли за считанные дни до большевистской революции. Сделался режиссером-постановщиком в музыкально-драматической студии, упраздненной, как мы говорили, его дядей, но после падения большевиков и ареста дяди спектакли и концерты возобновились в английском парке возле грота, где угощали вином и мороженым. Об этом в тюремном дневнике Анатолия Алексеевича: «Больным уколом для меня являются сообщения о “развлечениях” в бывшем Харитоновском саду, превращенном колчаковцами в низкопробный шантан». При подходе красных к Екатеринбургу летом 1919-го эвакуировался вместе с матерью, сестрой Лидией и маленьким братом Сергеем… 20 декабря 1920-го арестован ЧК в Омске по обвинению в участии в Национальном союзе возрождения России. Этапирован в Екатеринбург с главой белого подполья подпоручиком Василием Зотовым, позднее убитым. Владимиру повезло: вместо расстрела – принудительные работы «ввиду возможности его полезного использования». Это полезное использование на благо своей стране продолжалось всю долгую жизнь: с двадцатых по шестидесятые архитектор Герасимов построил множество зданий в Москве, Петрограде-Ленинграде, Риге, Таллине… В 1937-м, который миловал и головы не снес, женился на балерине Мариинского театра Марии Ивановне Долинской, в 38-м родилась дочь…
А у Алексея, названного так в честь его деда (то есть моего прапрадеда), ветер Гражданской жизнь унес. Он учился на экономиста в Петербурге, но убыл на фронт Первой мировой. В августе 1918-го в Екатеринбурге стал начальником команды конных разведчиков-белогвардейцев, участвовал во всех боях. В декабре 1919-го в Томске захвачен и заколот штыком. Конец.
А вот судьба Бориса Герасимова. О нем известно многое. Выпускник Екатеринбургского реального училища. Семнадцатилетним добровольцем ушел на фронт. Воевал за рекой Западная Двина. Получил ранение в ногу и до наступления темноты под обстрелом лежал на нейтральной полосе, прикрываясь телом убитого немца. Только к утру дополз до русских позиций. За отличие в боях был награжден многими орденами. В конце 1917-го вернулся в Екатеринбург, грустя о гибели армии, и встретил 21-летие «с глубоким чувством тщеты», как вспоминал позднее. Быть может, он был среди тех, кто мечтал о спасении царя – по крайней мере, сразу после того, как большевики были выбиты из Екатеринбурга, оказался в одной Первой офицерской роте с участниками белого подполья. И началось стремительное погружение в новую войну…
Уже в августе 1918-го передовой отряд полка горных стрелков под руководством капитана Герасимова дал бой под селом Мостовское по Верхотурскому тракту. В сентябре Борис выехал под Нижний Тагил. В одном из боев, когда новобранцы стали покидать позиции, ринулся вперед и возглавил контратаку. В начале октября Нижний Тагил был взят, а капитан произведен в подполковники. В январе Герасимов зарекомендовал себя у села Орда в бою с превосходящим противником, занявшим господствующие высоты. Вот как о его поведении несколько высокопарно докладывалось верховному правителю Колчаку: «Понимая, что наступает критическая минута, подполковник Герасимов выехал на коне перед цепями и командой “Братья, командир полка впереди, в атаку!” настолько воодушевил солдат, что они яростным натиском бросились на противника и не только приняли его удар, но и обратили последнего в бегство. Не останавливаясь, Герасимов стал наращивать успех, ликвидируя любые попытки сопротивления. Смелость командира позволила, несмотря на крайнюю утомленность солдат, наголову разгромить все три полка неприятеля, занять семнадцать деревень и сел, захватить большое количество пулеметов, винтовок и патронов. Бои продолжались до станции Чернушка…»
23 февраля 1919 года Колчак прибыл в Екатеринбург. Он принял Герасимова в царском салон-вагоне.
Догадка: не тогда ли племянник попросил за дядю? Вопреки ожесточившему разладу, кажется, мог просить. Не потому ли Колчак лично встретился с арестованным Анатолием Алексеевичем?
Тем же вечером на Кафедральной площади после молебна верховный правитель вручил подполковнику Георгиевское знамя.
– Я благодарю вас от имени государства и армии, – восклицал адмирал на ветру. – Да послужит это знамя символом вашей доблести.
Герасимов восклицал ответно:
– Я клянусь, что пожалованное нам знамя будет освящено нашей кровью и нашими подвигами!
…25-й полк, которым командовал мой двоюродный дед, почти полностью погиб уже в декабре, прикрывая отход войск через Щегловскую тайгу. А знамя захватили красные партизаны…
А пока в марте, прорвав фронт, полк взял Благовещенский завод и первым вошел в Уфу. Там офицеры угощались пельменями и устроили бал. Весной вступили в уездный город Бугуруслан, до Волги оставалось сто пятьдесят верст, 22-летний командир стал георгиевским кавалером и полковником.
Однако началось контрнаступление красных под командованием Фрунзе. Белые откатились за уральские перевалы. 4 июля 1919-го Герасимов был ранен в ногу (вновь в ту же самую, правую, и кость перебило!) и на всю жизнь стал прихрамывать.
В сентябре он назначен уполномоченным добровольческих формирований Томского района, простиравшегося от Ледовитого океана до границ Монголии.
В декабре бежал из восставшего Томска с легендарным генералом Пепеляевым, оставив позади труп своего брата Алексея. Белые отходили, уныло плутая в снегах, горстками и вереницами, терзаемые партизанами. По утверждению казачьего полковника Гавриила Енборисова, в ту зиму «отряд Герасимова ушел в Монголию».
Как бы ни скитался по зимним тропам Герасимов, но в солнечный морозный день 11 февраля 1920-го его небольшой, в пятьдесят человек, отряд был окружен партизанами-усольцами возле деревни Мото-Бадары. Попал в засаду на опушке леса, на левом берегу реки Белая. Первым залпом были убиты пулеметчик на головных санях и лошадь задних саней. Командир лежал на санях, в бреду, больной тифом. Прибывшие партизаны-мясниковцы свалили его в снег и начали увечить прикладами. Усольцы сцепились с мясниковцами, отняли тело и унесли в деревенскую избу. Мороз, тиф, пробитая голова, оказался задет и мозг…
Борис выжил, но заработал эпилепсию. Полуживого, в госпитале Иркутска его нашла жена – солистка Екатеринбургской оперы Инна Сергеевна Архипова.
Занятно – и здесь таинственность и многоликость той смуты и опрокидывание всех шаблонов, – но Иркутская ЧК отпустила его на свободу. За избавление Герасимов навсегда был благодарен комиссару Мальцеву, проявившему милосердие к пленному и беспомощному врагу. Удивленный благородством этого человека, Борис принял новую судьбу своей родины.
Оклемавшись, он устроился в Иркутский оперный театр, где стал петь под артистическим псевдонимом Сергеев. В июне 1921-го, находясь на гастролях в Дальневосточной республике, имел возможность эмигрировать, но отказался. Выбрал быть в Советской России.
Меж тем Екатеринбургская ЧК продолжала искать его след. Бумага от 19 октября 1921-го: «Сегодня вечером в опере “Демон” поет разыскиваемый Герасимов-Сергеев. Арестовать по окончании спектакля». Арестовали. Из Иркутска доставили в тюрьму Екатеринбурга.
Жена-артистка рассказывала позднее:
– Я увидела его в колонне заключенных, которых куда-то вели. Он показал мне большим пальцем вниз, и по этому древнеримскому жесту я поняла, что его дело плохо. Я стала хлопотать и выкупила его из ЧК, но как, никому не скажу.
А может, уберегла от расстрела ответная благодарность красного дядюшки?
В 1922 году в Екатеринбургском оперном театре появился славный баритон Герасимов-Сергеев. В 1923-м он уже в Москве – артист музыкальной студии МХАТа. Бесконечные гастроли по стране. Например, зимний сезон 1936–1937 годов Борис встретил с театральной труппой на озере Балхаш, где строился медеплавильный комбинат, как тогда говорили – «гигант индустрии». В 1944-м прибыл в качестве концертмейстера в филармонию на руины Сталинграда. В этом городе и пел в Театре музыкальной комедии. Десятилетиями. На берегу Волги. Дожив до 1970-го.
Музыка эпохи, трагедия поражений, комедия положений, жестокой ложки притяжение для стольких стальных соринок судеб…
Чудо-ложка.
Ложка, которую так и не унесли цыганки, примагниченная крыльцом, вновь была захвачена.
Ложка-поводырь. Пробираюсь за слабым серебристым свечением сквозь ночь истории, по узкому подземному ходу. Вдыхаю запахи почвы, корней и одновременно архивов, бумажной ветоши. Душно, тревожно, но милый свет странного фонарика манит все далее.
Дело в том, что давно еще, когда моя мама была маленькой девочкой Аней, ее мама, Валерия, рассказала ей про ложку, которая не хотела разлучаться с ними, своими хозяевами.
Биография ложки. Житие. Приключения.
А почему хозяевами? Может, она, ложка, воображала себя их хозяйкой. Вот и не покидала.
Ложка-боярыня. Ложка-барыня. Ложка-вождь…
Кажется, ее утянули летом 1918-го во время ареста Анатолия Алексеевича.
В тот день Валя-подросток снова и снова листала настольный черно-белый календарь «для каждаго» на 1917 год и наконец, жалуясь неведомой силе, что родители вовремя не убили время, не вырвали прожитые дни, стала комкать их и бросать на пол, как на чужой, обреченный быть замусоренным: святцы, состав императорского дома, почта, телефон и телеграф, как писать завещания, «Светлячки» – мысли Х. Досева, женщина и алкоголизм, в защиту живой красоты…
Несколько раз приходили незваные гости. Анна приникала к дверям, прислушиваясь к шуму улицы и обмирая.
Сначала дом перерыли два чеха в побелевших гимнастерках, зеленоватых галифе и высоких сапогах, болтавшие на своем, по-змеиному мягко шипя и нежно подмигивая друг дружке, объяснявшиеся простыми бесцеремонными жестами. Чехи забрали висевшее над дверной притолокой охотничье ружье с налетом ржи, которая напоминала о рыжине когда-то сраженных белок уральской тайги.
Позже Анна запустила в дом кряжистого казака с наливными розовыми щеками, маленьким щербатым подбородком, похожим на огрызок, в шароварах и пыльной фуражке с синим околышем; он то и дело вздрагивал, как пришпоренный, на призывное ржание лошади за окном. Казак, пошатываясь, вынес, прижимая к животу, пухлую подшивку «Вольного Урала» с красневшей поверх тетрадью в сафьяновом переплете. Темные ножны шашки брякнули о порожек золотистым наконечником, лошадь у изгороди возопила сквозь взмыленные удила, и в железной музыке застенчиво потонула та самая ложка.
Лошадь войны, проглотившая ложку…
Или было по-другому?
Мертвецкий стук костяшек по стеклу. Тень за занавеской. Глухой вопрос в передней.
Анна отрывисто отвечает и замолкает; так она сдерживает слезы.
Мотылек играет в салочки с керосиновой лампой, ударяет по колбе и отшатывается, дабы осалить вновь. Самовар в сумраке грозен, как бомба. Пахнет потом от большого и обмякшего, пьющего раскаленный чай мужика с веревками вен на руках. Он выпивает несколько обжигающих чашек сладковатой ромашки и бубнит что-то сердитое про потерю сына-студента, которого конные, пока вели, хлестали нагайками, отобрали часы и портсигар, а у ворот раздели, сняли все, даже сапоги. Вот такая хабара. Хабара – добыча, награбленное; жаргон беды. И за ворота его, голого… Как он там, голый? Может, каюк ему?
Анна вскидывается; он ловит ее глаза и, поймав, делает голос жестче:
– Нужно на прокламации и железнодорожный комитет.
– Тише, там дочка… спит, – и Анна твердит то, что и так ему известно: про Толю в тюрьме и Мурашу в бегах, и за Валю, не разбудить бы, все время страшно.
Гость то сжимает кулаки, то вытягивает пальцы, помещая в круг света, и каждый раз взглядывает на свои толстые вены как-то непонятно: с нежностью или неприязнью. Он начинает собираться, и вдруг, подхваченная порывом, она скрывается в комнате, ищет, роняет что-то, будит девочку. Вернувшись, отдает ему несколько ассигнаций (в ходу керенки), следом серьги-паутинки с бирюзой и, открывая дорогу слезам, отрывая от сердца, сует столовую серебряную ложку.
Ему, полузнакомому полупризраку. Вечная взаимовыручка подполья. Помянуть борьбой, отпеть отмщеньем, особые чистые нержавеющие нравы…
Наверное, это он должен был помочь, да и не просил ни о чем явно, однако не возражает, хоронит все глубоко в карманы холщовых брюк, ловит мотылька в горсть и уносит на волю, в остужающую тьму.
Там кулак разожмется, и спасенный мотылек упадет между ветвящихся стеблей вереска, мертвый.
Или ложка исчезла не тогда, а через несколько лет?
Тот же город летом 1921-го. Анатолий и Анна жили в том же деревянном доме с большими окнами, резными наличниками и палисадником неподалеку от площади, где чугунного Александра Второго в феврале 1917-го свалили с гранитного постамента, отправили на переплавку и заменили гипсовым подражанием американской статуе Свободы – диковинной финтифлюшкой с факелом и в зубчатой короне, но, когда пришли белые, Свободу разбили, а когда обратно пришли красные, сначала установили голову Маркса, похожую на снежный ком, который вскоре укатили и водрузили на тумбу полностью обнаженного мраморного мужчину, вероятно, рабочего; этот памятник «освобожденному труду» в народе прозвали «Ванька голый», но Мураша и Валя его уже не застали, потому что уехали.
Солнце текло через открытое окно. Женщина вошла в дом воскресным днем.
Анатолий Алексеевич с занесенной вилкой впился в нее голубыми глазками из-под уютно треугольных, рано поседевших бровей:
– Что вам угодно?
И, прежде чем ответила, поспешил раскроить на тарелке мягкую голую картофелину, обваленную в иголках укропа.
Жизнь впроголодь, подорваны силы, и все же тюрьмы больше нет, есть дело, а главное, кончились бои.
Женщина двигалась плавно.
– Чем вам помочь? – Анна воинственно разломила черный сухарь над мутноватыми охристыми щами.
Незнакомка опустилась на край стула на углу стола и гордым движением головы откинула назад длинную песочную прядь.
– Я, прямо скажем, по поводу вашего, с позволения сказать, родственника, – вывела томным голосом и обольстительно засмеялась.
Она назвалась: Инна, жена племянника Бориса, певица.
Казалось бы, оперная дива должна быть могучая, дородная, с большой грудью и крепкими бедрами, чтобы все время вне сцены вынашивать богатый голос, а у этой от ее театра были разве что черное бархатное платье, открывавшее худые, с бледно-веснушчатой кожей плечи и руки, и ласково-напевная счастливая интонация, но какой спрос с человека в такое время…
Инна просила за арестанта, которого могут расстрелять. Война прошла, он поет, он уже пел в Сибири и будет петь в родном городе, драматический баритон, темный тембр, больше Боря ничего не хочет, он разоружился.
Она произнесла «разоружился» улыбчиво, с каким-то зябким наслаждением.
– Он так волновался, когда… вы… Ведь в той же тюрьме? Вас держали там же? Я знаю, он не хотел воевать и никогда уже не возьмет оружие. Он встал на вашу платформу, он стоит на советской платформе… Он страшно болен. Мне не велено говорить: у меня просят выкуп. Увы, у нас с этим крайне скверно, гроши… Раньше-то пение давало все, на широкую ногу жили, а сейчас поем, чтобы ноги не протянуть.
Она щебетала эти слова, словно щебечет о чем-то милом, но не столь важном, вроде модной шляпки-клош и возможном разнообразии лент: бант, узел, стрела.
Она помогала своей речи длинными руками с розоватыми печатями раздражения на локотках, рисуя в воздухе очертания чего-то недосягаемого и желанного.
– Он болен, – пропела опять.
– Толя тоже болен, – веско сказала Анна.
– Да, я болен, – согласился Герасимов.
– Мы все больны! – Анна, держа ложку у лица, внимательно и длинно посмотрела на собеседницу, как сквозь лорнет.
– Я был зол не только на Бориса, на всех племяшей, на многих в семье… – Новая картофелина развалилась надвое. – А сейчас одна усталость и грусть. Ах, если бы я знал, как помочь!
– Вы же можете!
– Много ли я могу, – продолжил он, словно передразнивая, – деятель народного просвещения.
– Значит, вы ничего не можете? – спросила Инна капризно и зачастила ресницами; веснушки стали увереннее на совсем побелевшем скуластом лице.
– Не могу.
Она встала, засмеявшись деланым, мучительным смехом, шаркнула кожаными ботами на крючках, как бы намереваясь идти прямиком в окно, схватилась скользкими руками за предательскую солнечную пустоту и вдруг, сложившись и уменьшившись, упала на дощатый пол.
Глухой стук. Тишина. Жарко.
Она лежала на боку без движений, с поджатыми оголившимися ногами.
Муж и жена захлопотали над ней шумно и потрясенно, опровергая тишину и неподвижность.
Пока поднимали из обморока и опускали в кресло, ненароком стянули ботик, открыв кофейный чулок с дыркой, при этом отошел и заплясал каблук; а один локоть от удара стал из розового пунцовым, как распустившийся сочный цветок.
Анна растирала гостье голубоватые щеки, отлавливала пульс на ледяном горле, совала в немые губы стакан теплой воды с разбухшими шерстинками малинового варенья…
Анатолий растерянно выхаживал по столовой. Остановился, глянул исподлобья в самоварную латунь, увидел серо-седое облако своей тюремной бороды, нет настроения сбрить, пускай тюрьма уж два года позади, а мальчик сидит в тюрьме сейчас, тот самый, который сидел у него на плечах возле мрачной пещеры под гранитным навесом; когда-то у этого дивного озера Тургояк белокурый мальчик болтал упитанными ножками и просился: «Дядь, неси купатеньки!» – туда, где за колючим песком ждала прозрачная тайна с щуками и карасями, глыбами в глубине и облаком на глади…
– Инна! Инна! Вы слышите меня? – выкликала Анна в темноту забытья.
Женщина, воскресая, вяло мотнула головой, отпихнув стакан, и вода пролилась ей на подбородок, освежила потертое кружево декольте.
Она приоткрыла глаза, в которых в ту же секунду сверкнул стыдливый огонек осознания.
– Ой. Простите. Виновата. – Она заговорила с горечью пауз. – Это все волнение. Спасибо. Я лучше пойду, – говорила едва слышно, можно было решить: пропал голос.
Наконец с усилием вынырнула из большого велюрового кресла, изобразила улыбку, но вышла гримаска.
И засеменила к выходу в своем перекосившемся откровенном платье, шаркая бесцветными ботами, прихрамывая на неверный каблук.
– Толя, задержи ее!
Инна удивленно обернулась из полумрака прихожей.
Анатолий расторопно настиг, приобнял, пыхтя из бороды:
– Э, погодите, вам бы дух перевести. Нет, это мы виноваты, отобедайте, скромно едим, а все же…
– Простите, мне пора.
– Куда вам на такой солнцепек? Хоть водички попейте.
Тем временем Анна наспех, как будто наугад смела в кучу возможные дары, скрутила узел из плотного льняного полотенца, завязала решительно и третьей втиснулась в пространство передней.
Она прижалась к Инне, ткнулась в ее холодное ухо, шепнула: «Чем могу…» – и сунула в слабую руку шершавый узел, полный хруста и звяканья.
Душная узкая мгла – как продолжение обморока. Общий обморок. Что их тут соединило? Зачем они здесь, у входной двери? Что в узле? Анатолий научился у жизни доверять жене и не задавать лишних вопросов.
Если же спросить о содержимом узла, безропотно принятого певицей, очевидно, летом 1921-го Анна могла отдать почти то же, что и летом 1918-го: ажурные сережки с длинными изогнутыми ушками, несколько банкнот, но теперь не керенок, а совзнаков, и последнюю из серебряного семейства растраченных приборов…
Ложка для выкупа.
Ложка во спасение.
- Так бросьте же борьбу,
- Ловите миг удачи!
- Пусть неудачник плачет,
- Пусть неудачник плачет,
- Кляня свою судьбу!
Так в зимний вечер в январе следующего года, поднимаясь до предельных верхних нот, закатывая глаза и свирепея, гремел своим медным баритоном бывший полковник Герасимов со сцены театра, что на площади Парижской коммуны, бывшей Дровяной.
И все это театральные миражи воображения…
Я не знаю, и остается гадать, кто унес с собой чудо-ложку: шипящие чехи, казак-наездник, подпольщик-большевик, соломенная вдова арестованного белогвардейца…
Воображение тасует версии, а правдоподобных не так уж и много. Их уравнивает само время, воровавшее все подряд, главным образом – жизни.
Моя бабушка не говорила моей маме, как и почему пропала ложка в Екатеринбурге, через несколько лет превратившемся в Свердловск.
Зато Валерия рассказала другое. Историю, отмеченную печатью подлинности.
Это было в Москве, писательский дом, Лаврушинский переулок, 1940 год. Ослепительное зимнее утро. Отдернув штору, она стояла у окна в ночнушке, похожей на свадебное платье, скрестив пальцы на небольшом тугом животике, и видела сияющие десертной белизной заснеженные крыши Замоскворечья. Она была беременна, на пятом месяце. Ее муж Борис Левин уехал на войну с финнами; его отговаривали, но не могли удержать.
Борис заболел войной еще в детстве. Уроженец деревни Загородино, изображая краснокожего могиканина, скакал по сосновому лесу. При помощи перочинного ножа даже смастерил себе лук и стрелы из веток. В 1914-м, едва заполыхала Первая мировая, жар заломил лоб гимназиста, и, оставив пылкую записку домашним, он отправился спасать Россию. Крестовый поход ребенка. Прицепился к товарняку и добрался до передовой, где стояли неживые голые березы, пожелтевшие и потемневшие от газовых атак. Разоблачили и отправили обратно: дома плакали, из гимназии чуть не вышибли. Таким маленьким воевать нельзя. Он прождал еще пару лет и «охотником» (то есть добровольцем-вольноопределяющимся) снова отправился на фронт. Сражался под Сморгонью, там же, где сражались прапорщик Катаев и штабс-капитан Зощенко и служила медсестрой Александра Толстая. Был бомбардиром-наводчиком. «Дрался как лев» на руинах города, прозванного «мертвым». Та война родила солдатскую поговорку: «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал». Под Сморгонью на линии русско-германского фронта полегли десятки тысяч воинов.
Потом была Гражданская. «Все то, что раньше казалось неимоверно трудным, станет просто, как распахнуть окно», – записал он.
Из автобиографии: «1918: 11-я армия, 3-й батальон 299 стрелкового полка, участвовал в боях под Ганюшкино, Сафоновкой. 1919: 3-й горский кавалерийский дивизион, Черный Яр, Болда. Занятие Царицына. 1920 – 2-й полк Таманской кавалерийской бригады. С этой бригадой я вошел в Баку. Нас послали на персидскую границу. Участвовал в боях с беками… После я заболел жестокой тропической малярией. Выписавшись из госпиталя, уехал в 9-ю армию, оттуда – на Западный фронт».
Он мчал по степям с красным отрядом, панама цвета хаки набекрень, когда лошадь под ним убило снарядом, а самого вынесло из седла фонтаном черной земли и густо завалило. Бойцы раскопали этот холмик. Он не шевелился, чернолицый негр. Кто-то разорвал гимнастерку на земляной груди, приложил ухо. Там робко постукивало. Придя в себя, записал: «Ледяная мгла спустилась над величайшей страной, багровея в закате».
Ранней весной 1919-го красноармеец-литератор Илья Кремлев встретил его среди киргизской степи, только приехавшего из Ханской Ставки. «Я выругал его за неразборчивые знакомства» – на станции Сайхин среди зыбучих песков Борис сдружился с офицерами, «кавалергардами Петербурга и Москвы» и выиграл у них в карты пятнадцать тысяч, на которые купил фунт жеребячьей колбасы. «Борис стал отчаянным имажинистом и принялся писать стихи о “голубых кобылицах”. Во власти своих “голубых кобылиц” он пребывал еще долго».
В 1920-м при попустительстве британского командования в Нагорном Карабахе начались боевые действия и погромы, затем в Закавказье вошла Красная армия… Борис погрузился в страшную, как он выражался, «армяно-татарскую резню», пытаясь выручать одних и других. Он с ужасом наблюдал окровавленные тела женщин с младенцами, но почему-то наибольший шок испытал, ворвавшись с конниками в горящее село и обнаружив в пустом доме еще теплый труп неизвестного господина во фраке с накинутым на руку ремешком дорогой нагайки, рукоятка которой была отделана перламутром.
В конце 1920-го в Петрограде участвовал в поимке «банды попрыгунчиков». Они щеголяли в саванах мертвецов с приделанными к ногам пружинами, позволявшими высоко прыгать.
Удивительно, но факт: он нес в себе дозу экзотической крови индейца, наверное, и влюбившую его навечно в войну. Его дед был купцом на Аляске и привез оттуда жену. Здесь она родила трех дочерей и быстро умерла от туберкулеза: якобы что-то было в новом воздухе, несовместимое с ее природой. Успев родить, довольно рано умерли и они, тоже от туберкулеза. Индейский народ тлинкиты, русские называли их колошами. В начале XIX века на юго-востоке Аляски даже развернулась ожесточенная русско-индейская война.
У тлинкитов магической была цифра 4. (Борис погиб в 40 лет в 1940-м.) Сызмальства люблю ее, она для меня светло-зеленая и нежная, как весенний стебель, как внутренняя свежесть разрезанного огурца, как выцветшая, пропахшая дымами куртка с двумя пулевыми отверстиями, которую однажды под обстрелом гостеприимно набросил на меня один солдат.
По тлинкитам, нашу бедную землю удерживает столб в виде гигантской лапы бобра, а его в свою очередь сжимает подземная старуха Агишануку, с которой временами вступает в борьбу человек-ворон Йэл, и тогда происходят землетрясения. Они верили в загробный мир собак, куда попадают некоторые люди, жестокие обидчики животных, колдуны, самоубийцы, и там их адски терзают с райским восторгом собачьи свадьбы.
У них слабо росли волосы на лицах, мягкая, сомнительная паутина, было голо под мышками, их мутило от алкоголя. Он тоже имел безволосое тело, а на лице если что и вырастало, то какой-то репей. От бухла хворал.
В 1933-м посетил Турцию, Грецию и уже вовсю муссолиниевскую Италию – на корабле Черноморского флота.
В 1939-м он пересек границу Польши с первыми советскими отрядами и оказался в Западной Белоруссии, возвращая земли Российской империи. Он страстно хотел для Родины силы, а для себя – подвига. Легендарная Сморгонь была занята военнослужащими Омской стрелковой дивизии. Из того похода привез польские трофеи: бронзовую кокарду в виде орла (хичкоковски зловещая птица) и крест, залитый рубиновой эмалью, на муаровой ленте.
В конце 1939-го началась война с Финляндией, и он немедля устремился туда.
«Мы столкнулись поздней осенью, когда по улице крутилась поземка, и я успела заметить, что лицо его как-то особенно серьезно, – вспоминала писательница Анна Караваева. – Он о чем-то хотел спросить, но вдруг озабоченно сунул руку в нагрудный карман пальто.
– Вы потеряли что-то, Борис Михайлович?
– Нет, все в порядке… Документы здесь.
Потом, вспоминая эту беглую встречу, я поняла: проверял тогда, на месте ли только что полученные им перед отъездом на финский фронт военные документы.
И на фронт он ушел просто, без лишних слов, даже не подав и намека, куда он собирался».
– Неужто не наигрался? – спрашивал лукавым голосом, с хрипотцой газового отравления под Сморгонью, сосед Валентин Петрович, которого Гражданская метала от красных к белым и обратно. – Все по фронтам бегаешь, как в догонялки играешь. Ты куда собрался? А если ухлопают?
Ответом был безрассудный мах длинной руки.
Через месяц сосед посвятит погибшему сказку «Цветик-семицветик», где в финале последний лепесток исцеляет хромого мальчика и резвые ноги несут его с такой скоростью, что никак не догонишь.
На фронте среди лесов сразу попал в окружение в составе 44-й стрелковой дивизии (опять роковая, даже двойная четверка). Сражался с огненным смерчем и бураном, без еды, получил обморожения… Пропал без вести в начале января 1940 года возле урочища Важенваара – всего вероятнее, лег в большую братскую могилу, найденную только в 2004-м. Перешел в XXI век…
Тем утром его жена Валерия стояла у окна и смотрела, как солнце ласково оглаживает красные, белые, золотые очертания Кремля. Вдруг вокруг потемнело, точно земля погружается в тяжелую тучу. Свет мягко ушел, как в кинозале. Наступила ночь. Полный, непроницаемый мрак без всяких огоньков или рубинов. Простая темнота в окнах. Темно в комнате. Может быть, погасло солнце? Она стояла с трепещущими пальцами на животе, боясь их разжать.
В ту минуту она стала вдовой. Сразу почувствовала и поняла: муж убит.
Наверное, это заслонил белый свет крылом зловещий и кровожадный ворон Йэл.
И снова, как по щелчку, вернулось утреннее солнце, насмешливо сиял снег…
Нет сомнений: доживи дед до Великой Отечественной, тотчас ушел бы на фронт и там, вероятно, все равно бы погиб.
Так что обогнал судьбу.
Я встретил его в Бурятии. Светлая юрта из войлока пустовала во дворе, как декорация. Уважаемый человек сидел в обычном деревянном доме на скамье за нагим деревянным столом. На стене у него висели серые тканые маски с усами и бровями из пришитого меха выдры, а меж них – большая огненно-коралловая маска с клыками, раздутыми ноздрями и хищным оком во лбу.
Он хмуро матерился, возможно, так сообщаясь с духами, и сам походил на маску своим круглым, недобро-заспанным, морщинистым лицом. Кроме матюгов, которые он сипел, он несколько раз, смакуя во рту, словно кусочек арьбина, лошадиной, гранатового цвета печени, повторял чем-то приятное ему слово «неистовый».
– Тра-та-та, а ты заметил, нет, ветер сегодня гад тра-та-та неистовый? И жизнь наша, и наша, – он подарил это слово, запнувшись, – родина… туда-сюда… а ну-ка, угадай, куда рванет…
И через пару фраз:
– Тра-та-та водку, суку такую, ты лучше по жизни не пей, она тра-та-та кенгуру неистовая… Лучше мамку-папку слушай-береги, предкам верь, изучай, как жили, так и поймешь, как жить…
И еще погодя:
– Сильные твои предки. Были сильные тра-та-та. А! Один предок, вижу, у тебя неистовый…
Он тряс и мешал в ладонях и кидал врассыпную кости, желтоватые бараньи лодыжки, похожие на окаменевший измятый воск, передвигал их, как фишки, с уверенностью крупье, и объяснял, что каждая в зависимости от того, какой стороной упала, принимает вид одного из животных: конь, овца, корова, коза, верблюд. Верблюд – самый сложный номер. У него получалось, многие косточки вставали вертикально, двумя горбинками вверх.
Я зацепился за предка.
– Что за предок?
– А-а! – оживился шаман. – Далекий очень предок твой, ты его никогда не знал.
Если очистить дальнейшее от сквернословия, сказал он следующее: этот предок жил в холоде, как буряты, волос у него не росло нигде («И там тоже, – блудливый смешок, – чисто все. Почти», – смешок), охотился, рыбачил, воевал, много воевал, хорошо воевал, любил воевать, был неистов.
Шаман сгреб кости в горку, создав пародию на картину «Апофеоз войны». Черт побери, какой ветерок ему напел про безволосие?
Между тем чудеса не хотят кончаться.
В мае 40-го, когда девочка родилась, в гости к Валерии пришел брат Сергей (младший из племянников ее отца), молодой, но уже лысый и знаменитый, в светло-сером льняном костюме-тройке в темную полоску и шляпе-канотье, которую небрежно бросил на подзеркальник. На цыпочках провальсировал к колыбели, в поклоне перевесился за деревянный барьер и, достав губами, чмокнул горошину младенческого носа.
Затем, обнажив манжет на белом рукаве, залез в нагрудный карман и извлек из области сердца бархатный бордовый футляр.
– Валя, это не совсем подарок, это нечто большее. Это сюрприз.
– Что за сюрприз? – с невеселой усмешкой спросила вдова.
– Угадай.
Не дожидаясь предположений об очках или перьевой ручке, он распахнул прямоугольную коробочку и протянул ее на широкой ладони. Внутри на траурном шелке тихо мерцала, радуясь горячему маю, большая, родовая, серебряная.
– На первый зуб, – брат заздравно засмеялся.
Валерия, не веря, схватила ложку, принялась вертеть и даже ощупывать.
Все было на своих местах: жесткие лиственные выпуклости, гравировка лесного колокольчика, похожего на колпак шута…
Она позвала мать. Они осматривали ложку, передавая друг другу с затаенным дыханием, как будто длинная изогнутая перемычка была хрупкой радугой.
Наконец, прорвав немоту, их шум выплеснулся на Сергея: откуда? как к нему попала? давно ли у него? почему принес лишь сейчас? и вообще, что это все значит?
Он отвечал оптимистичной и заученной скороговоркой:
– Посылку передали. Без обратного адреса, без всего. Сверток, в нем футляр. На днях получил, мигом узнал. Ни с чем не спутаешь, я ее с малых лет помню, эту вашу кухонную реликвию. Еще Анатолий Алексеевич меня маленького стращал: как будто это не цветок, а морда какая, тот-топ-топ по столу. Нет, тут Шерлок Холмс нужен, лично я ничего не понимаю и знаю не больше вашего, даже меньше…
– И я не знаю, – поддержала Валерия. – Мамочка, хватит скрывать правду! И ты, Сережа, по-моему, правды не сказал! Кто тебе ее передал?
От их голосов пробудился и захныкал младенец.
– Правдоискательница, – Анна Сергеевна покачала головой, приложила палец к губам и унесла ложку куда-то в глубину квартиры.
Я пересказываю пересказ.
Сцена со слов уже моей мамы, которая лежала в колыбели и хныкала.
Может быть, все сплошной вымысел и никогда никуда никакая ложка не девалась? Лежала себе смирно и переезжала вместе с владельцами.
Просто, допустим, моя мама плохо ела манную кашу и для нее сочинили сказочку, чтобы ела лучше.
Сказка про ложку-путешественницу.
История запутанная и загадочная, как история страны.
Пятилетняя Аня глядела в тарелку, помешивала гущу и воображала корабль, увязший во льдах. Обреченная экспедиция предка.
После над полной воды раковиной, куда была сложена посуда, она смотрела на бриллиантовый мыльный пузырь, надувшийся прямо в серебряном корытце ложки, и шептала строго:
– Запомни: ты всегда у нас жила.
Младшенький Сергей, который в двенадцать лет эвакуировался из Екатеринбурга с колчаковцами, самый известный из братьев Герасимовых. Его именем назван ВГИК.
Народный артист СССР, герой Соцтруда, лауреат Государственной, Ленинской и трех Сталинских премий…
В декабре 1919-го в Красноярске капитулировал перед «партизанами» гарнизон генерала Зиневича, что не спасло ему жизнь, и тогда же, безуспешно пытаясь взять город, по окраинам прошествовал прочь Сибирский Ледяной поход генерала Каппеля. В это время подросток Герасимов работал на красноярском заводе. «Мечты мои не шли дальше сытного обеда и сна вдосталь», – признавался он в автобиографии.
С 1923-го – в Петрограде. Дебютировал в 24-м в немом фильме «Мишки против Юденича». Играл белого. Это была приклеившаяся роль – «контрика»: что в немом фильме 29-го «Обломок империи», что в фильме 62-го «Люди и звери», где он превратился в эмигранта-князя Львова-Щербацкого. «Я любил братьев и, конечно, подражал им».
Сестра Лидия, в семнадцать лет пережившая ту же эвакуацию, вышла замуж за итальянца, белого офицера Владимира Сартори, его расстреляли, а ее в тридцатые сослали в казахские степи, но вернули в дело: как инженер, строила гидроузел на Волге, поднимала Нижнетагильский металлургический комбинат…
Гражданская война томила Герасимова вечно. «Тихий Дон» хотел экранизировать десятилетиями, пока не удалось в тесном содружестве с Шолоховым, ведь «роман выводит на первый план судьбу человека без дороги, по сути, обреченного историей», но «никого не нужно убеждать в правоте писателя, избравшего центральным героем не кого-нибудь иного… Что бы я ни ставил, ни писал, я думал о “Тихом Доне”. Многое было мне хорошо знакомо, к казачьему материалу меня влекло само начало моей сознательной жизни, а к “Тихому Дону” сразу установилось совершенно особое, исключительное, можно сказать, родственное отношение… История в момент ее свершения, когда исход борьбы еще никому не ясен и каждое решение стоит крови, когда все кипит в ярости, в ненависти, в отвращении и в великой любви». Отсюда и теплота к Алексею Толстому, проклинавшему Советы и вернувшемуся в Советскую Россию с верой в продолжение исторической судьбы страны.
Играл с детства. Восьмилетним мальчиком в год начала Первой мировой был ошарашен, увидев в театре «Разбойников» Шиллера. «После спектакля я потерял сон и, обладая изрядной памятью, повторял наизусть куски яростных текстов, немыслимо гримасничал перед зеркалом, драпируясь в нянин платок». Сильнее всех в семье любил он няню, которая, по его словам, даже заменила ему мать. «В годы детства она была для меня самым дорогим человеком на свете. Впрочем, такой она осталась и до конца своих дней. Она научила меня понимать природу. Ее отношение к миру было необыкновенно доброжелательным, хотя по темпераменту няня была вспыльчива до самозабвения. Когда в двенадцать лет я в первый раз влюбился, то девочка, которая гостила у нас, почему-то сразу невзлюбившая мою няню, сказала в ответ на мои ухаживания: “Или я, или Наталья Евгеньевна!” Промучившись всю ночь, я утром ответил ей: “Наталья Евгеньевна…” Когда она умерла, из дальних краев приехала родственница – из тех теток, которые слетаются на похороны, как женихи на приданое, надеясь себе что-то отхватить. Выкопали могилу, тетка заглянула в нее, покачала головой и говорит: “А могилка-то мелковатая”. Подошел вразвалку могильщик, страшно спокойный молодой парень, и сказал: “Ничего, не выпрыгнет”. Этот разговор впервые приоткрыл мне основу спокойного отношения народа к смерти».
Две зимы в блокадном Ленинграде с женой, красавицей-актрисой Тамарой Макаровой, работавшей медсестрой в госпиталях. Возглавив Центральную студию документальных фильмов, руководил съемками на Ялтинской и Потсдамской конференциях, снимал военную хронику в дымящихся Будапеште, Вене, Праге и Берлине. Постановщик Парада Победы на Красной площади. Говорят, это Герасимов придумал бросать под дробь барабанов флаги со свастикой к Мавзолею и показывать крупным планом.
В 1948-м снял «Молодую гвардию» по роману Фадеева, с которым дружили с двадцатых, когда тот стал мужем Валерии, двоюродной сестры. «Фадеева я воспринимал как своего первейшего и главнейшего друга». Зарубили и фильм, и сам роман. Одному пришлось переснимать, другому – переписывать.
Вызвали в Кремль глухой ночью. Герасимов сел между Сталиным и Берией.
С Берией дружили – близко. Ходили друг к другу в гости. «Культурный человек», – цокал языком режиссер, рассказывая, как невысокий хозяин дачи, поблескивая лысиной и пенсне, играл им с женой «Лунную сонату» на огромном рояле, увлеченно в него окунувшись.
Лаврентий и Аполлинариевич. Две античные лысины.
В ту кремлевскую ночку Фадеев не явился – загулял. Мог себе позволить. С загулами мирились.
Сталин распекал Герасимова за неправильную эвакуацию населения: «У вас все в фильме бегут, как паникеры!»
Берия посоветовал почитать недавно вышедшую повесть «Гурты на дорогах» про отступление совхоза в первые дни войны.
– Читали? – вскинулся вождь.
– Читал.
– А кто написал?
Герасимов по ошибке назвал Веревкина – героя книги.
– Веревкин… – передразнил вождь с усмешкой. – Ничего не знаете.
Автором был Виктор Авдеев, за год до того получивший Сталинскую премию.
Вождь сказал, чтобы в фильме усилили роль партии и сняли бы в одной серии вместо двух.
Герасимов стал спорить. Одной серией показать развитие событий и личностей подпольщиков не получится.
– Иосиф Виссарионович, прошу меня отстранить, поручите эту работу другому.
– Что ты делаешь? Соглашайся! – крикнул Берия.
Вождь вышел из-за стола, стал расхаживать с трубкой в усах.
Положил руку на плечо:
– Вы очень упрямый человек…
В кратчайшие сроки обновленный фильм (и все- таки в двух сериях) был готов, народ принял его с восторгом. Очередь стояла от Манежа до «Ударника».
«Жизнь при всей своей горестной краткости менее всего похожа на анкету».
Сталин, Берия, Феллини. Маяковский, Эйзенштейн, Мейерхольд. Марлен Дитрих, Софи Лорен, Нонна Мордюкова. Долгий роман с последней…
Не только актер и режиссер, но и наставник, давший заботливый пинок в большую судьбу несчетному множеству звезд. Во ВГИКе он руководил кафедрой режиссерского и актерского мастерства. Ученики – от Сергея Бондарчука до Киры Муратовой. И конечно, «весьма близкий по духу художник и человек Василий Шукшин», которого снимал жадно – от дебютной проходной роли в «Тихом Доне» до главной роли в фильме «У озера».
Но доброта и доброжелательность, бескорыстная помощь талантам сочетались с одиночеством и хронической усталостью от людей.
– Куда ни погляди, видишь кривые улыбки.
Это я запомнил, услышав от него в застолье. Он говорил, что всем вокруг чего-то от него надо, фальшь, лесть и сплетни…
Мне от него тоже что-то было надо. Я, хоть и четырехлетний, твердо решил: хочу сниматься в кино.
Кадр памяти. Снег, советский мороз. Огромный замок в огнях (позднее осознанный как гостиница «Украина», где он и жил). Мама позвонила в дверь, за которой задребезжала мелким бесом собачонка.
Следующий кадр. Голубая рубашка, пузо, лысина. Человек нагнулся, развязывая на мне ботиночки с какой-то артистичной царственностью.
У него не было своих детей и внуков. А я не застал в живых ни одного из дедов, погибших на войнах, и теперь он был самым родным мне мужчиной старого поколения – двоюродный дед.
Когда я впервые увидел море в три года, то сразу побежал и бросился в серые волны в одежде, боясь, что отнимут, и теперь с порога не стал откладывать:
– А вы меня снимете в кино?
Общий смех.
– Обязательно, – сказал он, покончив с левым шнурком.
В его жене тоже жила царственность, но немного зловещая, вампирическая. Насквозь промерзшая красота. Мне кажется, в Америке Тамара могла сниматься в триллерах.
Все расселись в просторной гостиной за столом со снедью и парой бутылок.
Он говорил оживленно, приподнимая брови, играя волнами кожи на голом черепе. Под властным носом – романтическая латиноамериканская полоска усиков, ниже – в жесткую полосу сжимались губы.
Выпив, он усмехнулся, ловко отрезал что-то в тарелке и отправил в рот кусок – ну, допустим, индейки.
Череп его казался лакированным. Конечно, он не втирал в него никакие благовонные масла. Просто так бывает у патрициев – излучал мягкое сияние благоденствия.
Слон. Добрый слон. Небольшие умные и острые глаза. Хобот крупного носа.
Скольких тащил на себе…
Я улизнул зачем-то из-за стола, возможно, посмотреть картины на стенах. В раннем детстве мы как во сне, или это воспоминания делают прошедшее сном, однако неведомая темноватая и упругая сила потянула от людей, и я очутился в тусклой комнате наедине с белой курчавой собачкой, у которой внезапно загорелись красным огоньком глазки, придав ей опасный вид, и она атаковала меня, заливаясь таким злобным истошным тявканьем, что я, хоть и не робкого десятка, по проклятым законам сна впал в панику, вскочил на диван, поочередно швырнул тапками, разъярившими ее еще пуще, и отчаянно зарыдал, плачем пытаясь докричаться до гостиной.
Следующий кадр. Душистый слон бережно обвил и перенес обратно за стол.
– Что это он? – чуть испуганно спрашивал он у мамы.
К счастью, я довольно быстро просох от слез и даже, пусть и неискренне, примирился с песиком, который вновь рассыпа́лся услужливым мелким бесом и даже танцевал у свисавшей скатерти на задних лапках в надежде чего получить.
Помнится, я спел перед всеми блатную песню, пискляво и протяжно подражая дурным голосам ребят постарше, научившим во дворе, – арест, допрос, вагоны, побег и любовь к воровке. Мама разрешила, видимо, желая повеселить всех курьезным фольклором, да и показать, что, хотя ее муж и священник, ребенок растет свободно и вообще живчик…
Герасимов же, видимо, желая показать, что не чужд духовному, прочитал Символ веры наизусть глубоким голосом. Как будто сейчас по-слоновьи вострубит. Так что под конец я не выдержал и ткнул его в пузо пальчиком. Он благожелательно поморщился.
– Расскажи про ложку!
Он дочитал Символ веры, но попович приметил: не осенил себя крестным знамением, и тогда, резво ткнув (та мякоть памятна навек подушечке указательного), я потребовал про ложку.
Нужна была правда. Правда ли он вернул ложку? Что такое стряслось с ложкой, что она к нему попала?
Он продолжал милостиво морщиться, потирая живот узким круговым движением.
Он нарочно тянул время, чтобы не отвечать. Затянул какую-то казачью песню.
Ложка померкла. Из советского мороза надвигалась неотложка, превращаясь в катафалк.
Он умер через год после нашего знакомства, в ноябре.
Последней его работой стал фильм «Лев Толстой» о конце великой жизни. Он сыграл Толстого (о чем мечтал давно), а Софью Андреевну – его жена.
Сыграл смерть старика, хорошо и выразительно, судорожно шаря по груди, задыхаясь. И неподвижного в гробу. Жена с толпой хоронила гроб, кидала землю.
Будто репетиция…
Как показало вскрытие, Сергей Аполлинариевич перенес на ногах шесть инфарктов, которые проглядели кремлевские врачи.
Валерия тоже умерла от инфаркта, в 1970-м, я ее не застал.
Больше всех писателей она любила Чехова, и на Новодевичьем мраморная табличка, прячущая урну с ее прахом, смотрит на его крест, ее имя – на его имя.
Стройная, синеглазая, каштановые волосы, надменная красавица, Белая Королева, красная дворянка.
Ее миловидное лицо можно найти на трех советских полотнах. Первый съезд писателей. Писатели у постели Горького. Писатели у постели Островского.
Она вспоминала, как с сестрой смешливо называли свидания с гимназистами – «монсолеады», потому что каждый ухажер, неважно, что он делал: придерживал под локоток или впивался с поцелуем – по тогдашней моде, задыхаясь, шептал: «Mon soleil…» – «солнце мое»… (Что ж, а теперь у молодежи появился лиричный англицизм «спуниться» – лежите вдвоем на боку, как ложка к ложке, и ты, обняв свою милую за живот, прижимаешься сзади.)
Весной 1920-го она отчего-то очутилась в белогвардейском Крыму и даже работала в некоем секретариате у генерала Кутепова. Отчего же? Специально забросили семнадцатилетнюю шпионку? Или, напротив, прониклась делом двоюродных братьев и потому оставила родителей и опостылевший Урал? Еще одна загадка.
Она никогда не говорила о том солнечном крымском отрезке жизни, только однажды рассказала, как в Ялте гуляла по длинному молу с офицером в английском френче и желтых сапогах со шпорами и тот грустно спросил: «Валя, неужели вы и правда против нас?», посмотрев в упор аквамариновыми глазами, в которых была очаровательная обреченность, и на следующий день она приняла решение возвращаться на советский материк. Испугалась разоблачения? Или что-то совсем другое?
В том же году заболела тифом, выжила, но накатил возвратный тиф. «Сижу на комсомольском собрании, а сама чувствую, как по телу ползет вошь». Устроилась учительницей русского языка в Ярославле. Затем перебралась в Москву. В 1923-м вышла первая повесть «Ненастоящие». Жила в общежитии молодых писателей, где и познакомилась с Фадеевым; сюда часто приходил Маяковский; вечерами Шолохов читал «Донские рассказы», Артем Веселый – «Россию, кровью умытую», а еще один обитатель общаги Михаил Светлов заклинал так:
- Я не знаю, где граница
- Между пламенем и дымом,
- Я не знаю, где граница
- Меж подругой и любимой…
- Люди злым меня прозвали,
- Видишь – я совсем другой,
- Дорогая моя Валя,
- Мой товарищ дорогой!
Были книги прозы, которые громил РАПП и хвалил эмигрант Адамович, было хмельное сватовство жившего у нее американца Дос Пассоса, в какой-то момент она даже вошла в «пятерку» руководителей Союза писателей, но всего ярче, по-моему, записные книжки.
Например, еще во время Гражданской войны ей приснился сон про сестру, оставшийся в блокноте с бежевой кожаной обложкой в синих кляксах, который иногда тихо перелистываю, медленно распутывая потускневшие чернильные водоросли почерка.
«Я и Мураша в комнате на девятом этаже. Очень высоко; мы очень ссоримся. Воспроизводится ярость и горе 8–9 лет. В отчаяньи М. подбегает к окну и бросается. Я кричу:
– Подберите ее! Она упала в сад!
Но нет! М. тихо летит, как бумажка, в воздухе. Ветер несет ее направо, налево, вновь поднимает вверх. Она обнажена, с распущенными волосами, глаза сомкнуты, чуть слышно поет – и вместе с тем ясно, что она уже не жива. Поднимается снежный буран. Она тихо носится и поет среди снежных хлопьев. В руках у нее появляется могильный – жестяной и фарфоровый, с лентами – большой венок.
С ним благодаря дуновению ветра она снова поднимается к окну. Я хватаю венок, пытаюсь втянуть ее. Венок остается в моих руках, а она камнем падает вниз».
Валерия считала этот сон пророческим.
Мураша, фанатичная большевичка, с которой много спорили и часто ссорились, пошла работать в органы и уволилась, нажив себе личного врага в лице могущественного Ягоды. Уже в 39-м арестовали – пытали бессонницей и заставляли стоять неподвижно, пока из почек не пойдет кровь.
Перебираю бумаги, полученные в архиве Лубянки, которых никогда не видел. Дореволюционные фотографии и снимок измученной, горько кривящей рот женщины анфас и в профиль; аттестат 2-й женской гимназии: круглая отличница; выписка из церковной метрической книги; диплом стрелку 1-го класса из револьвера «наган»; протоколы допросов: «вы не очистились от буржуазной плесени и дворянской спеси, высказывали злобные фашистские настроения», вины так и не признала; письма Сталину и Берии от Александра Фадеева и Сергея Герасимова с просьбой освободить… «Дорогой Иосиф Виссарионович! – писала Валерия. – Вы как-то спросили о том, что мною сделано в литературе. Прилагаю к этому письму повесть “Жалость”. Должна сказать, что для сестры да и для меня детство сложилось несколько по-иному, чем для детей из других интеллигентных семей. Мы видели обыски, жандармов, терпели нужду и унижения…»
В 44-м, когда Мураша вышла из заключения, ее вызвали в НКВД и дали выбор: или вернут в лагерь – или будет следить за друзьями и доносить.
Она рассказала обо всем сестре и ночью повесилась в туалете. Маленькая Аня запомнила пробуждение, суматоху, отчаянный крик:
– Ножницы!
Все связано взаимно…
Простая ниточка сквозь двадцатый век: в гимназии Мураша дружила с дочерью цареубийцы Юровского Риммой, через сорок лет мой папа, свердловский суворовец, а после студент, будет бродить зачарованно вокруг дома Ипатьевых, где расстреляли царя, еще через десять лет мои родители подружатся с Василием Витальевичем Шульгиным, принявшим у царя отречение, еще через двадцать лет у нас дома появится священная тайна – царские останки, найденные по архивным чертежам в дорожной яме под шпалами в Поросенковом логу папиным прихожанином-криминалистом.
Он на время поместил свой клад у нас в квартире в шкафчике под иконостасом.
Этот человек трепетал над своим невероятным кладом: то выкапывал и увозил в Москву, то вез обратно и хоронил в уральские глуби.
Привстав на цыпочки, безмолвно впитываю в память разложенные на белом плате потемневшие, черновато-зеленоватые кости и черепа, позолоченную пуговицу с двуглавым орлом, медные монетки, прозрачные осколки флакона духов и керамические осколки банок серной кислоты, пружины женских корсетов и шоколадные зубцы гребня и почему-то жду обжигающего сознание звонка в дверь: подбегу, гляну в глазок, а на пороге вырастет вся августейшая семья – явятся за им принадлежащим…
А потом, в 1999-м, на прощание с веком, в храме у папы замироточила икона царя.
Хочется сказать: замедоточила, так это выглядело.
Принято потешаться над мироточением, особенно того последнего правителя.
Однако – вот как было: благовест, заглушающий птичий посвист, голубое небо в обрывках облаков, которые бешено гонит ветер, духовенство в пышных облачениях стоит у храма с иконой, вокруг темнеет народ, под ногами снежная слякоть.
Икона, простая, бумажная (благообразный лик, корона, скипетр и держава), смугло золотится в киоте, чем-то напоминая соты в деревянном ящике пасечника.
«Царства земнаго лишение, – запевает хор жалобными женскими голосами, – узы и страдания многоразличныя… кротко претерпел еси…» – и вдруг поверх стекла сами собой набухают одна за другой и начинают катиться прозрачные, золотистые, все более густые капли, как бы сок этого солнечного мира ранней весны…
– Смотрите! Вот это да! Аромат чуете? Видели?! Прости нас, Государь! Прости, Господи!..
Шум, слезы, хор сбивается, каждый норовит заглянуть в икону, чтобы найти в маслянистом прямоугольнике отражение своего растерянного лица, и неба, и веток тополя, и толпы.
Селфи в никуда, то есть в вечность.
С детства я слышал пароль: «Шульгин».
Мои родители, молодые, недавно поженившись, приехали в писательский Дом творчества «Голицыно», где отдыхала Валерия, и там встретили старика Шульгина.
Ему уже было девяносто, и он был красив. Римский нос, прямой линией ото лба, ироничные умные глаза, белоснежная борода. На пальце кольцо-иконка, чудом уцелевшее вместе с ним во всех испытаниях, – литое изображение Богородицы с младенцем. На высоком лбу тонкая морщина-птица – над бровями по крылу, а шея с клювом спускается к переносице. Высокий, статный, он держал себя очень естественно, играл на разбитом рояльчике, знал множество стихов.
И с охотой рассказывал необыкновенные истории…
Однажды он, молодой думский депутат-националист, ночевал в загородном доме своего отчима, члена Государственного совета Дмитрия Ивановича Пихно. Проснулся на рассвете. Обои в некоторых местах были подтекшие и треснутые. В одном месте образовалась как бы целая картина: вход в пещеру, сидящие там люди, их лица. Шульгин слегка соединил карандашом эти контуры. Получившуюся картину отчим вырезал из обоев и окантовал. Ее принимали за средневековую гравюру. Уже будучи во Владимирской тюрьме, Шульгин узнал многие лица.
Его арестовали в 1944-м в Белграде. «Мы с женой расставались на пятнадцать минут, а расстались на двенадцать лет». Шел за молоком, запихнули в машину. Лубянка, Владимирский централ…
Почему-то особенно часто он вспоминал, как в Киеве, тоже до революции, на полуденном солнце ослепительно вспыхнули купола Успенского собора. «Пожар!» – завопил кто-то с явным злорадством. Но это было чудо – обновились. Не пожар. Но все-таки предзнаменование пожара. Обновление куполов, икон, фресок бывает перед большими потрясениями.
Еще Шульгин вспоминал, как в Германии, незадолго до Второй мировой, его вез в автомобиле двадцатилетний сын друга-немца, веселый и рациональный юноша. Они ехали по мосту, и вдруг, взглянув на город, Шульгин увидел огромные руки, которые разрушали дома. Он попросил остановить машину и рассказал о своем видении водителю; тот, абсолютно не удивившись, ответил: «Ваше видение верно. Мы все обречены. Из моего поколения почти никого не останется в живых».
Отцовский деревянный стол, строгий и уютный, с запахом упавших мимо рюмки и впитавшихся капель валокордина. Белый широкий добродушный плат. Священные останки. Сильный утренний свет бьет на границе задернутых штор. Серебристо посверкивают зубы черепа. Потом узнаю: платиновые. Смотрю на них с осуждением и скорбью как на враждебные этому черепу, как на причину смерти…
Словно бы это пули влетели, застряли и переплавились в зубы…
И сбегаю на кухню.
Там в решетчатом лукошке – великое счастье – целая горка пасхальных яиц. На каждом – оригинальная причудливая роспись, которую ужасно жаль сбивать, превращая в осколочную чепуху. Каждый раз такое чувство, что совершаю святотатство. Недаром эту освященную скорлупу собирают в отдельный пакетик, но для сожжения – из нее уже никак не восстановишь погибшие картинки.
Долгий вечер накануне Пасхи мы рисовали с мамой цветными карандашами – я пытался преуспеть в сюжетах: заяц скачет от лисы по голубым змейкам ручьев или зеленый танк выпускает красный залп с коричневой горы – а не преуспев, закрашивал все, что мог, превращая в гущу моря, или зарослей, или огня; мама же чу́дно изображала ландыши и прочие травы-цветы и птах.
Еще были яйца-лица, я выводил чьи-то черты, чаще – с усами и бородой и залысиной, были и уши, а позади все замалевывалось темным ливнем, типа волосами, и мне казалось, что однажды, как тот самый Шульгин, я где-нибудь встречу кого-то из этих незнакомцев.
Увы, раскоканное не запомнить, а значит, никого не опознать…
Бить так бить. Чтоб ни следа.
Могучая ложка. С хрустом впечатываю по кумполу в солнечный круг с алыми буквами ХВ. Кривые линии трещин обезображивают росписи со всех боков.
Возбужденно счищаю все прочь и без соли, без пауз в два счета проглатываю яйцо, как удав.
Скорлупа скрипит на зубах.
Обжигающий детский мозг звонок в дверь.
Неужели царь?..
Я пишу эти строки в комнате на первом этаже в зимнем Барнауле, где оказался проездом.
Только что в приоткрытое окно донеслось запыхавшееся лепетание на быстром ходу:
– Быстренько перекушу, быстренько перекушу…
Милое подражание взрослой деловитой интонации и такое детское ощущение бескрайности бытия. Надежда и предвкушение праздника: утолить голод, а потом играть, играть!..
Я выглянул в окно, но успел уловить лишь тень, мальчик исчез. Я никогда его не увижу, не узнаю, кто он и как выглядит.
И только в ушах у меня еще звенит этот голосок, трогательно и почему-то немного трагично.
В детстве на даче, наскакавшись в роще и наплевавшись друг в друга твердыми ягодами бузины из сочных трубочек дягиля, мы шли по домам обедать с соседом Петькой-мулатом, плодом Олимпиады-80 (его мама-переводчица полюбила метателя копья из Конго, и Петька говорил мне, что, когда вырастет, уедет к отцу туда, где всегда солнце). Изо дня в день мы замирали на пыльной дороге, заслышав горн, дудевший в пионерском лагере, далеко, у большого леса. От взрослых мы знали: это призыв свыше приступать к еде – и, исполняясь важности, приосанивались. И шли по домам маршево.
– Пам-пам-пам-парам-парам! Бери ложку, бери хлеб и садися за обед! – выдувал горнист жреческие звуки, волнами расходившиеся над чанами с супом и макаронами, синими елями и молочными березами, полями клевера и илистым прудом.
В саду я подбрасывал железную пипку рукомойника, прибитого к березе, выдаивая на руки нагретую струю, взбегал по рыжему крыльцу, подгоняемый советской мелодией, и на кухне, где всегда было прохладно и тускло, попадал в другое измерение.
– Хлеб наш насущный даждь нам днесь, – молился отец своим священническим голосом, мягким и строгим, как бородинский, большими кусками лежавший в плетеной хлебнице рядом с солью и огородной зеленью: огурцами, редисом, петрушкой…
– Аминь, – восклицал я нетерпеливо, и мы все одновременно крестились, папа, мама, сын, и, садясь, теми же стремительными движениями рук-стрижей хватались за ложки.
Беру ложку правой, беру хлеб левой.
Я родился с этой ложкой во рту. Отблеск остался в сумраке памяти.
Я хотел к себе в колыбель многое. Подносили иконы, фотографии, рисунки, книги, всякие занятные вещицы (глиняная пантера, деревянный скандинав-крестьянин, стеклянная вазочка в виде раскрашенного петушка), дали на чуть-чуть и ложку. Захотел ее навечно, за ольховые прутья кроватки, под бочок, лизать, вертеть, гугукать над ней и смеяться беззубо, но быстро отобрали.
– Дани! Дани! Дани! – я тянулся в пустоту и даже захныкал, но сбили с толку погремушками.
Научившись топотать ножками по квартире, я быстро выяснил, где она обитает, но сурово отгоняли от выдвижного белого ящика, боясь, что могу прихватить нож.
Созвездие сказок кружило голову блестящей канителью. Гуси-лебеди. Соловей-разбойник. Конек-Горбунок. Илья Муромец. Добрыня Никитич. Сережа Попович. Три медведя. Чудо-ложка.
Только когда исполнилось шесть, наконец-то доверили.
Она соединяла меня через одно пожатие с предками… Я бережно поднимал ее, тяжелую, как кисть, дорогую к обеду, и видел разную краску: багровую борща, кирпичную солянки, палевую бульона, бурую супа из белых грибов, нефритовую – из молодой крапивы с лоскутками листьев и хрящиками стеблей.
Россия – на равных природа и еда. Природа – лес, вода, поле – дает еду. Глядя на еду, видишь пейзажи.
Иногда живопись пищи абстрактна. Кубизм винегрета.
Но чаще это импрессионизм: закатный свекольник, щавелевый суп с яйцом, как пруд, в котором отражается луна…
Суп – вечная русская еда, в него и хлеб крошить отрадно. А какой русский без ложки? Щи да каша – пища наша. А без них и ныряющей в них едалки ни на что не хватило бы силенок.
В словаре Даля уйма ложек: разливная, боская, тупоносая, полубоская, носатая, тонкая, белая, бутырка…
Бутыркой или бутызкой ложку называли бурлаки и носили на лбах за ленточками пропотевших головных уборов.
Кроме чувства локтя, которое удержало землю меж трех океанов, есть чувство не менее важное – чувство ложки.
Снижаясь в самолете в туманный край с серой излучиной реки в остатках льдин, ельником и клочками снега на пригорках, хочется помешивать всю картину, поддевая и переворачивая особо упрямые куски.
– Чемал замерзает слоями, – сказал мне немолодой лесничий на земле, исполненный достоинства.
– Ваша река?
– Она. Наша. Промерзает снизу и сверху, а посередке течения… Она как многослойный пирог. Пирог Чемал. А теперь потеплело, и слои перемешались. – И после улыбчивого раздумья: – Ну, как вам чушь?
– Чудесная чушь!
Чушь из нельмы, сырая рыба (розовато-бело-сероватые косые кусочки), похожая на тающий снег, лоснилась на блюде, окропленная водкой, в смутных разводах соли и перца…
Не только внешность жителей той или иной местности похожа на нее, но и их излюбленная пища.
Хочу вспомнить Анастасию Ивановну!
– Сиёзэнька… Сиёзэнька… Хаоший майчик…
Это воркование совпадало с ветхим ароматом то ли старинной книги, то ли хвойной чащи, а может, насиженного гнезда, который тонко, украдкой источали ее длинные платья и широкие платки, похожие на оперенье.
Родившаяся в XIX веке и, несмотря на детский порок сердца и девичий туберкулез, прожившая почти сто лет, она как будто концентрировала в себе нечто натурально-целебно-лекарственное.
И аромат, и одежды, и добрейшие острые морщинки, и искры смеха в глазах – все было музыкой ее полного имени: Анастасия Ивановна Цветаева.
В детстве я постоянно слушал любимую пластинку со сказкой «Черная курица», и наша гостья, чей голос переливался умильным клекотом, казалась тоже птицей с человечьей речью. Наедине с проигрывателем я играл в эту сказку, воображая себя добрым и нерадивым учеником и рядом – ее явление: вся легкая и стремительная, наверняка и она кто-то вроде тайного министра.
«Мы жители подземные, в дружбе неизменные», – браво распевал хор на пластинке.
Вот чем так дурманно пахнет ее шерстяное темно-зеленое платье со строгой брошью – глубоким царством подземелья.
Между прочим, она и впрямь была секретарь тайного мистического ордена, за что на долгие годы попала в лагеря.
В день моего крещения она принесла деревянную толстую иконку. Святой Сергий Радонежский, чья светло-коричневая борода почти сливалась с фоном. Изумрудно-зеленые глаза, от времени не тускневшие, как лазерные лучики. И сзади, синей авторучкой, с нажимом: «Милому Сереже Шаргунову из дома талицкого священника, моего деда». Икона, на которую в босоногом бедном детстве молился ее и Марины отец, основавший Музей изящных искусств, сейчас стоит на полке надо мной, но с темноватым следом – облизнул язык пожара…
Она с почтением разговаривала с животными (равно нежная к кошкам и мышкам) и с малыми детьми – обращалась ко мне на «вы», целовала руку, подаренные книги подписывала: «От Аси».
На следующий день после знакомства с новорожденным прислала моим родителям записку: «Прошу вас и умоляю, не кутайте его так! Это и его просьба, это его письмо! Я видела, как его глаза взывали о помощи! Он не мог сказать, что страдает, вами ужасно утепленный, и поэтому безмолвно жаловался мне своими глазами».
Впрочем, она и нашу кошку протяжно и тревожно, чуть манерно допытывала, отчего у той так печален взгляд.
Как-то на поселении в Сибири Анастасия Ивановна выхватила из кошачьих зубов полупридушенную мышь и долго выхаживала, приговаривая: «О, волшебная мышильда». Другой раз в деревне она обнаружила во дворе крепко привязанную, дрожащую от зимнего холода и страшного предчувствия свинью, обреченную на утреннюю казнь, и всю ночь грела под своим пальто.
Воодушевленно пощелкивая клюкой, она неслась – раз-раз-раз, – проворная, неутомимая праведница-трясогузка. По лесным тропкам и московским тротуарам, по ступенькам многоэтажек и эскалатору метро, бормоча: «Ничего-ничего, ничего не страшно, жизнь – это лестница»… Она терпеть не могла кабину лифта, напоминавшую камеру карцера.
Еще сравнение: на фею она походила. Ей к вытянутому носику и светло-зеленым глазам подошли бы колпак с серебряными звездами и долгополая мантия.
Она окружала себя молодежью и с моими родителями подружилась, еще юными, фотографировала их и потчевала историями.
Многие рассказы Цветаевой и Шульгина можно перемешать, перепутать верстку, и не поймешь, где чьи.
Что вынесли дети смутных лет России к концу жизни? Желание удивлять, рассказы о чудесном, светлые и страшные.
Мой отец, еще не священник, годами ездил с ней в село Колюпаново в Тульскую область, где некогда обитала святая старица, блаженная Ефросинья, бывшая фрейлина Екатерины Великой. Книга о ней, изданная в 1903 году, попалась Цветаевой в оборванном виде в сибирской ссылке, принадлежащая одной из монахинь, – переписала житие от руки и перерисовала портрет. С тех пор блаженная часто снилась, давала советы, помогала…
Их судьбы аукались. Княжна Евдокия, окончившая Институт благородных девиц, великосветская барышня, знавшая музыку и языки, бежала из Царского Села, переодевшись крестьянкой (вот оно, раннее народничество!), стала дояркой, просфорницей, юродивой, монахиней с именем Ефросинья. Она говорила прибаутками, предсказала Наполеона, кормила окрестных собак и кошек. В тяжелое время ей приносил корочки хлеба, корешки и глоток воды ворон, которого она приручила. Когда блаженной подарили корову, она расположила ее в избе, а сама поселилась рядом в лачуге. В сто лет выкопала колодец с чудотворной водой.
Этот источник Цветаева и посещала с моим отцом. И даже мечтала возле него поселиться до скончания дней. С вечера приехав к нам, Анастасия Ивановна готовилась всю ночь: перебирала и складывала вещи на любую погоду, включая плащ-палатку. «А вдруг пойдет снег? – ворковала она в середине июня. – Я за жизнь всякое видела». Отправлялись с открытием первой станции метро. Электричка, автобус, много километров пешком… Возвращались в Москву затемно, отец – с тяжелой канистрой чудотворной воды.
Однажды заплутали и не могли найти тропинку в долину с родником. Внезапно отец обратил внимание на жаворонка. Он кружил над головами, вырывался вперед и возвращался, как будто приглашая за собой. Они доверились этой светло-коричневой крапчатой птичке, пошли прямо, свернули вбок и наконец втроем очутились у ручья.
Помню, как незадолго до перестройки гостья рассказывает о пророчестве Ефросиньи, которое по всем исчислениям должно сбыться уже скоро: ее канонизируют, а на месте источника вырастет большая обитель. Родители пробуют возражать, но взлетает уверенный, с трогательным напряжением голос и рубит по воздуху желтоватый перст:
– Не беспокойтесь! Если святая сказала, значит, так тому и быть!