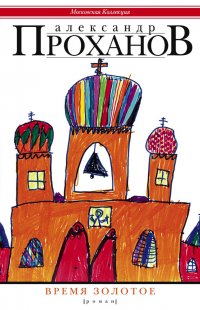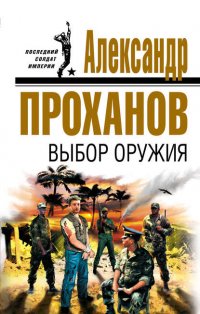
Читать онлайн Выбор оружия бесплатно
- Все книги автора: Александр Проханов
Часть I
Глава первая
Подполковник разведки Виктор Андреевич Белосельцев получал последние, неформальные напутствия перед африканским вояжем, сидя в кабинете начальника, маленького белесого генерала, чьи веселые синие глазки, светлые ресницы и брови делали его похожим на пасечника. До такой степени, что Белосельцев почти улавливал ароматы меда и сладкого дыма, тихие гулы пчелиной семьи, стерегущей переполненные соты сухого чистого улья. Огромное здание, упрятанное от глаз в подмосковном лесу, и было ульем, в который со всего света трудолюбивые пчелы разведки сносили драгоценные крохи информации, наполняли по каплям ячейки, запечатывали и хранили. Белосельцев был готов выскользнуть из летка, устремиться в мир за добычей, облетая континенты и страны, попадая под ливни и суховеи, обивая крылья о камни, улавливая невидимые пылинки сокровенного знания. Он был полон сил, знал ориентиры, по которым перелетит в другое полушарие и отыщет незримую точку, невидимый скрытый цветок, на котором его поджидает желанная капелька сока. Его чувства и ум были настроены на длинное странствие, мерное расходование сил, на долготерпение, на внезапный удар и опасность, от которых он ускользнет и, поломанный, оглушенный, в последних предсмертных усилиях, вернется обратно, в этот дом в подмосковном лесу. Принесет драгоценный взяток.
– Ваше увлечение бабочками, Виктор Андреевич, многим казалось экзотической прихотью, необъяснимым эстетством. И вот теперь эта ваша особенность становится частью разведоперации. Не правда ли, разведка, как и судьба, реализует все стороны личности, все свойства натуры. Не знаешь, какая черта характера или факт биографии могут оказаться решающими. Вашим уникальным прикрытием до недавнего времени была журналистика. Теперь же вы – энтомолог, Паганель. То, что не в силах засечь радар электронной разведки, уловит марля вашего сачка. – Генерал ласково смотрел на Белосельцева, как смотрят на любимое изделие, изготовленное вручную, штучно, в одном экземпляре, по хитроумному чертежу. – Маквиллен, по воле случая, одержим той же страстью, что и вы. Его коллекция считается одной из лучших в Претории. Две ваши коллекции, если их соединить, составят, я думаю, самую крупную в сообществе разведки.
– Когда пять лет назад мы столкнулись с ним в Музее Африки под Брюсселем, не думал, что наша встреча будет иметь продолжение. Изредка обменивались письмами, посылали друг другу экземпляры бабочек, я из Сибири, он из Мозамбика и Зимбабве, но больше не надеялись встретиться. Но вот оно, чудо совпадения. – Белосельцев тихо рассмеялся, словно его и впрямь забавляла случайность, которую начальство положило в основу опасной разведоперации. – Теперь нам предстоит совместная охота на бабочек в ангольской саванне. Благодарю руководство за возможность принять участие в этом сафари.
– Совпадения – одно из удивительных явлений жизни. В сущности, вся жизнь – непрерывные, едва заметные глазу совпадения. Разведчик их подмечает, пользуется ими. Успех в разведке – это совпадения, позволяющие добыть информацию и улизнуть от контрразведки. – Генерал, довольный своим афоризмом, не хотел отпускать Белосельцева, продлевал свидание. – На этот раз вы работаете под двойным прикрытием – журналиста и ловца бабочек. Сочетание этих двух легенд должно усыпить бдительность Маквиллена. Дать вам время для психологического с ним сближения. Хотя не исключаю, что он догадывается о вашей истинной профессии. На него работают несколько информационных центров. Думаю, как только он получил от вас предложение повидаться в Луанде, все компьютеры в Африке, Америке и Европе выдали имеющуюся о вас информацию. Анализ ваших афганских, кампучийских и ближневосточных репортажей мог многое ему рассказать.
– Его письма ко мне, всегда недлинные, посвящены только бабочкам. Однако содержат в себе тонкий психологизм. И что-то еще неуловимое, связанное, я бы сказал, с метафизикой. Мне кажется, в этих письмах он уже работал со мной, приближал нашу встречу. Мгновенно откликнулся на мое приглашение.
– Он очень опытен, виртуозен и весьма опасен. Неявно, не через резидентов, контролирует всю сеть в Анголе, Мозамбике и Зимбабве. Удивительно, что кубинцы отслеживали его связи, но почти ничего не узнали. Они уверены, что это он организовал убийство Питера Наниембо вблизи намибийской границы, что привело к длительному перерыву партизанских рейдов. Это он внедрил агентуру в мозамбикские центры подготовки боевиков АНК, что привело к провалу атаки на электростанцию под Йоханнесбургом и расстрелу демонстрации в Соуэто. Он имеет высоких покровителей в Луанде, Мапуту и Солсбери, и это делает его неуязвимым. Вы осуществите попытку вербовки, и, если она окажется неудачной, он будет ликвидирован.
– Я благодарен профессорам университета, которые подготовили для меня экземпляры бабочек, пойманных на Кавказе, на Алтае, в Саянах. Он будет потрясен подарком.
– Вы сказали, в нем есть нечто, связанное с метафизикой. В вас это тоже есть. На это надежда. Когда отправитесь с ним вдвоем в саванну ловить бабочек, припрячьте где-нибудь в заднем кармане пистолет. В добрый путь! – Генерал, маленький, белесый, с желтыми ресницами и бровями, похожий на пасечника, поднялся из-за стола. Пожимая ему на прощанье руку, Белосельцев вновь ощутил едва уловимый запах сладкого дыма, меда и древесных стружек.
Он покидал управление, высокое светлое здание, окруженное лесом. Шагал по мокрому весеннему асфальту среди влажных сочных сугробов. В голых березах, среди белых, струящихся в небе ветвей сияла ослепительная синева, в которую хотелось всматриваться, погружаться, улететь в нее, теряя свою плоть, свое имя. Стать неузнаваемым, свободным, не подверженным чужому воздействию и приказу. Жить в бестелесной лазури, как всевидящий дух. Он ухватил из сугроба сочный зернистый снег, сжал в плотный снежок, выдавливая талую воду.
Как всегда накануне поездки, его томили предчувствия, тайные сомнения и страхи. На другом полушарии стоит ранняя теплая осень, желтеют сухие леса, опадает листва на розовую африканскую землю. По лесным дорогам тянутся боевые колонны, пикируют самолеты, горят тростниковые хижины. На безвестном повороте дороги стоит багряный осенний куст, под который уляжется чернокожий стрелок. Будет смотреть, как налетает по трассе стеклянный блеск лимузина, где он, Белосельцев, дремлет под рокот мотора. В хромированный радиатор, в ветровое стекло полетит навстречу огненный комочек гранаты.
Он шел по мокрому перламутровому асфальту среди сочных сугробов, неся на ладони отекавший капелью снежок.
Алюминиевая громада с ревущими трубами, белыми секущими плоскостями рванулась в бледное небо. Он видел в иллюминатор, как удаляются голые, туманные, полные снега леса, зеленые, с выпуклым льдом озера и реки, черные коптящие прорези автострад. Будто кто-то извлекал его из огромного города, отрывал от привычной, обыденной жизни, переносил, как саженец, в другую землю и почву, в которую ему предстояло врасти, пустить в нее свои чуткие корни. Вырванный из одной земли, еще не коснувшись другой, он летел в небесах, словно дерево с обнаженными корнями.
Салон самолета, полосатый от мелькавших облаков, был полон. Его занимали шумные, подвыпившие рыбаки, возвращавшиеся из отпуска на свои рыболовецкие траулеры, что ловили тунца и морену в Атлантике у берегов Анголы. Их ждали месяцы тяжкой работы на железной палубе среди штормов, качки, рыбьей слизи, и они на борту самолета допивали последние сладкие стаканы водки. Среди их красных, обветренных лиц, шумных голосов выделялись несколько черных молодых африканцев, сдержанных, строгих, аккуратно подстриженных. Возможно, это были военные, проходившие подготовку в московских академиях и училищах. Возвращались в свои бригады, ведущие тяжелые бои у границ Намибии. Тут же, занимая ряд кресел, сидели крепкие, чем-то похожие, дружно державшиеся мужчины, чьи воротнички были слишком тщательно застегнуты, а галстуки своей расцветкой и формой узлов неуловимо отставали от моды. Эта дружная молчаливая группа с одинаковыми новенькими портфелями могла состоять из военных советников, направляемых в помощь воюющему государству. Неподалеку сидела молодая опечаленная женщина, быть может, навещавшая кого-то из московской хворавшей родни, летевшая теперь обратно в Луанду, где работал ее муж-дипломат.
Через несколько часов Белосельцеву предстояла встреча с человеком, в котором таилась для него смертельная опасность, быть может, сама смерть. Он не мог избежать этой встречи, не мог от нее уклониться. Рожденные на разных оконечностях Земли, вскормленные от разных матерей, воспитанные в лоне несхожих культур, они случайно несколько лет назад узнали друг друга. И это мимолетное, среди сотен других, знакомство становилось частью жестокого соперничества, смертельной схватки, которую вели между собой громадные мировые системы и в которую с каждой секундой погружала его ревущая в небесах машина.
План операции, продуманный до мелочей, со множеством вариантов и побочных возможностей, хранился в его памяти, как оружие со взведенным курком. Но теперь, в самолете, он отложил в сторону это готовое выстрелить оружие. Отпустил свое дремлющее сознание в свободный полет, как отпускают легкий воздушный шар, и оно, поворачиваясь, качаясь из стороны в сторону, плыло вслед самолету, причудливо и случайно рождая картины и образы.
Синий фонарь, под которым струится метель, заметает вечерний переулок. Он возвращается из школы вдоль низких деревянных домов. Заглядывает в оранжевые окна, задернутые занавесками, из-за которых несется музыка, нестройные голоса и смех. В одном окне раздвинулась штора, возникла женщина, обнаженная, золотистая, на один только миг, испугав его видом своих поднятых рук, распущенных темных волос, мягких, окруженных тенями грудей.
Это видение, долгое, как тихая сладкая музыка, сопровождало его до Вены, куда, совершая промежуточную посадку, опустился самолет. В баре стеклянного аэропорта, среди черно-желтых табло, нарядных этикеток и медных пивных кранов артель моряков дружно сдвигала стаканы с водкой, военные советники, уединившись за столиком, не расставаясь с портфелями, скромно чокались рюмками коньяку, а ангольские офицеры сдержанно пили кофе. Белосельцев сквозь зеркальное стекло смотрел на зеленое летное поле с выруливающим «Боингом». В мокрой сине-зеленой траве прыгали зайцы. Вставали на задние лапы, чутко вглядывались в далекую, бегущую по бетону машину.
Они летели над вечерними Балканами, розовыми на заре. Над островерхими, посыпанными снегом Апеннинами, голубыми, мерцающими среди сумеречных долин. Белосельцев дремал, и память его рождала неясные видения, легкие, зыбкие, как колеблемые испарения. Он видел лодку, в которой сидел вместе с девушкой. Они плыли по Тимирязевскому пруду. Уключины туго скрипели. На девушке было белое платье. На тонкой шее синели стеклянные бусы. На дне лодки лежала мокрая, с длинным стеблем кувшинка. Вода была зеленая, отражала высокие темные деревья. Сквозь них желтела усадьба. Лодка надвигалась на дрожащее бело-желтое отражение дворца, и девушка опускала в воду кувшинку. Эта исчезнувшая лодка и безымянная, с синими бусами девушка плыли над Римом, Венецией и Сицилией. Парили над Средиземным морем и отстали от самолета лишь тогда, когда машина, покидая черное звездное небо, стала снижаться в Триполи.
Пассажиров провели в тесный душный отсек, поставили у входа смуглых худых автоматчиков. Белосельцев, присев на жесткую лавку, смотрел, как мимо проходит шейх в просторных белых одеждах, как молится на коврике черный, словно слива, мусульманин в малиновых шароварах. На стене висел плакат с Муамаром Каддафи. Входная дверь была приоткрыта, и виднелось звездное небо, берет и ствол автоматчика.
Полет продолжался над Африкой. В иллюминаторе светил тонкий туманный месяц. Рыбаки спали тяжелым угарным сном. Советники чутко дремали, держа на коленях заветные портфели. Ангольские военные, откинувшись на сиденьях, казались бронзовыми скульптурами. Молодая женщина свернулась калачиком, укутавшись в плед. В сумраке слабо поблескивала ее золотая сережка.
Он то ли спал, то ли грезил. Видел бабушку в белом ночном чепце. Свет от лампы падал на ее худые руки, на маленькое Евангелие с золотым обрезом, на чудное любимое лицо. То, что она читала, вызывало в ней светлое слезное умиление. Издали, боясь ее потревожить, он не мог понять, что за чувство переполняет ее, вызывая на глазах светлые слезы.
Самолет летел над ночной Сахарой, над джунглями Заира, над душными болотами Нигерии, и бабушка в белом чепце витала над Африкой, читала Евангелие.
Он проснулся от яркого света, от перламутрового облака, похожего на раковину, сквозь которое пролетал самолет. Салон пробуждался. Черные, белые лица прижимались к иллюминаторам. Машина звенела, скользя по бетону, шевелила закрылками. На ветру качались высокие пернатые пальмы.
Трап самолета был белый, воздух теплый, влажный, благоухающий. Волновалась серебристая сухая трава. В бледном небе летели прозрачные волокна облаков. У трапа стояли черные худощавые автоматчики. Он был в Африке, в Анголе, на другом полушарии, которое окружило его туманной зеленью близкого океана, голубой волной далеких холмов, пернатыми опахалами пальмовой рощи. Это были глаза континента, увидавшие его на белом трапе. Вопрошали, с чем он здесь появился. Были готовы принять или отторгнуть. Чутко всматривались из каждой травинки и облака.
В аэропорту его встретил секретарь посольства, любезный, с аккуратными точными движениями маленьких ловких рук. Принял саквояж, отворил дверцу просторного лимузина, из которого пахнуло сладким благоуханием кожи, лака, табака и мужского одеколона. Плавно пустил машину по гладкому сухому асфальту.
– Как долетели? Как Москва? – спрашивал он Белосельцева, придерживая послушный руль одной рукой, на которой красовался просторный браслет от часов.
– Вчера перед самым носом с крыши сосулька упала. Весна, грачи прилетели, – улыбнулся Белосельцев. Они обменялись дружелюбными фразами, достаточными для того, чтобы получить изначальные впечатления друг о друге, позволявшие без обиняков перейти к насущной, важной для обоих теме.
– Он остановился в отеле «Панорама», в номере триста шестом. Мы едем туда. Ваша комната этажом выше. Он много ездит по городу, не скрывает контактов. Он представляет здесь фирму, поставляющую из ЮАР коммунальное оборудование. Насосы, водопроводные трубы, кондиционеры. У него много знакомств в министерствах, в аппарате президента. Обедает и ужинает всегда один. Вечера проводит в номере.
Они мчались с легким шелестом по шоссе. Открылся океан, бледно-зеленый, с белыми барашками пены. На побережье, как мираж, возникла Луанда, бело-розовая, из океанских вод. Напоминала стаю фламинго, стоящую на мелководье. Дома, высокие, стройные, многократно отражались в стеклянных водах, и казалось, розовые птицы переступают, меняются местами, погружают клювы в пену, стекло и зелень.
– Завтра национальный праздник. Парад, демонстрация. Вы приглашены от имени президента. Вечером официальный прием. Он пройдет в отеле «Панорама», там, где вы остановились. На всех этих мероприятиях будет Маквиллен.
Они уже ехали по городу, среди белоснежных домов, похожих на сахар. Вдоль улиц стояли мохнатые пальмы, росли ветвистые пышные акации, усыпанные купами фиолетовых душистых цветов. «Смерть белым» – так именовались цветущие деревья, чья пыльца и сладкий ядовитый аромат доводили европейцев до слез и удушья.
– Какая обстановка на фронтах? – Белосельцев, приоткрыв тонированное стекло, любовался сочным, флюоресцирующим цветом акаций, под которыми двигалась черная толпа. Высокие длиннорукие мужчины в пестрых рубашках, женщины с длинными шеями и округлыми пышными бедрами, затянутыми в яркие ткани. – Нам предстоит поездка на юг, в Лубанго.
– Вялые бои. Правительственные бригады стоят вдоль границы. Партизаны СВАПО уходят из-под Лубанго в Намибию. Их перехватывают буры из батальона «Буффало», бомбит авиация. Вчера в горной местности был сбит транспортный самолет кубинцев. Ваша поездка в Лубанго подготовлена.
Они проезжали площадь с деревянными трибунами, готовыми к завтрашнему празднику. Трепетали флаги, колыхался на ветру огромный портрет президента душ Сантуша. Город был многолюдный, из белого камня и зеркального стекла, построенный португальцами просторно, среди парков и зеленых газонов. Но повсюду были заметны следы упадка. Выложенные камнями тротуары были замусорены, многие фасады обшарпаны, окна и витрины забиты фанерой. Уход португальцев, отлив инженеров, управленцев, дельцов привел к обветшанию города. Повсюду на улицах были только черные лица. Куда-то торопились, что-то искали, тащили на спинах тюки, корзины, закутанных в тряпицы детей. То и дело попадались военные в камуфляже, некоторые с автоматами.
– Когда вы с ним полетите в Лубанго, кубинцы проверят его на контакты. Возможно, удастся вскрыть всю его сеть. Подготовлена комбинация, в которой вы задействованы. Подробнее узнаете об этом в Лубанго.
Они выскользнули из города. Луанда осталась сзади, розовая, прекрасная, среди водяного тумана и пены, как огромная раковина, из которой родилась богиня. Влажная обнаженная женщина шла вдоль берега, прикрывая грудь тяжелыми золотистыми космами. Раковина хранила теплоту ее тела, жемчужно светилась.
– Я буду всегда к вашим услугам. Вот моя визитка с телефонами, посольским и домашним. – Секретарь любезно протянул Белосельцеву карточку, и множество мерцающих глаз – из океанской волны, придорожного дерева, прибрежного камня – наблюдало, как Белосельцев прячет в карман глянцевитую пластинку.
Они проехали по узкой дамбе, отрезавшей от океана лазурную безветренную лагуну, вдоль которой на розовом отражении стоял город. Отель «Панорама» был как белый трехпалубный лайнер, причаливший к мокрым камням. По одну сторону кипел океан, хлюпал и клокотал у наваленных гранитных глыб. По другую сторону нежно и гладко зеленела лагуна. Выходя из машины, Белосельцев заметил, как вырвалась из лагуны большая серебряная рыбина, взлетела головой вверх, задержалась на мгновение и тяжко плюхнулась хвостом в воду.
– Спасибо, я сам. – Белосельцев взял из рук секретаря свой дорожный баул. Поклонился, прижимая ладонь к груди. Смотрел, как удаляется по дамбе его машина.
Номер, куда он вошел, был просторный, светлый, прохладный. Он захлопнул за собой дверь с круглой медной рукоятью. Тронул пальцами чистую стену, на которой висела гравюра, изображавшая африканскую маску, устанавливая этим касанием связь с белой плоскостью, заслонявшей его от внешнего мира.
Подошел к окну, в котором мерцал, туманился, уходил в бесконечность океан с размытым отражением недвижного белесого солнца, с едва различимой тенью плывущего у горизонта корабля. Открыв чемодан, разместил на вешалках два костюма – один из легкой дорогой светло-серой ткани, для приемов и официальных встреч, другой дорожный, из крепкой грубой материи, в стиле сафари, в котором предстояло пробираться по лесным дорогам среди едкой африканской пыли, ядовитой цветочной пыльцы. Рассовал по полкам рубахи, белье, повесил шелковый красно-золотой галстук. Выставил четырехгранную бутылку виски, незаменимое целебное средство от африканских грибков и микробов.
Осмотрелся. Номер был обжит. В разных его углах находились меты его пребывания. Границы, в которые он заключил свою жизнь.
Извлек из чемодана сачок – полупрозрачный марлевый кошель с металлическим ободом и разборной рукоятью, которую следовало свинтить. Выложил жестяные коробки, в которые уложит пойманных бабочек, и блокноты, куда станет заносить имена, названия городов и селений, беглые, пойманные на лету впечатления. Это были орудия экспансии, с которыми он устремится в глубь континента, вклинится в джунгли, в лагеря партизан, в расположения ангольских бригад. И навстречу ему полетят невесомые разноцветные бабочки и свистящие пули.
Он разделся и принял душ. Застыл под шипящими щекочущими струями, чувствуя прикосновение африканской воды. Стоял посреди номера, голый, мокрый, растираясь мохнатым полотенцем, глядя сквозь окно в океан. Дышал африканским воздухом, омывался африканской водой, ловил зрачками свет африканского неба. Сочетался с континентом, вливаясь в его загадочную жизнь.
Оделся. Раскрыл телефонную книгу. Нашел телефон триста шестого номера и, услышав моложавый, с бодрыми интонациями голос, сказал:
– Ричард, это я, Виктор Белосельцев!.. Не хочешь на меня посмотреть?..
– Боже мой, Виктор!.. Я звонил в аэропорт, знаю, что ты прилетел!.. Спускайся вниз, на веранду, пообедаем!
– Спущусь через двадцать минут.
Лучистый, в бесчисленных вспышках солнца океан. Стена с африканской маской. Бодрый, моложавый голос Маквиллена.
Они сидели с Маквилленом на открытой веранде, у балюстрады, за которой лежала нежно-бирюзовая лагуна с далеким городом, напоминавшим розовое видение. Венские плетеные стулья были безукоризненно белые, на белой скатерти сверкал фарфор, темнела бутылка с красным португальским вином, блестел прозрачный стеклянный колпак, накрывавший плоды и сладости. Белосельцев улыбался, отвечал на шутки и радостные замечания Маквиллена. Зорко рассматривал близкое худое лицо с сухими узкими губами, желтые гладкие волосы, синие, из-под белесых бровей, глаза. Моложавый, загорелый, живой, с белыми крепкими зубами, в кремовом, вольно сидящем костюме, он искренне радовался Белосельцеву. Пил за его здоровье, источал радушие. Принимал далекого гостя из северных студеных стран, прилетевшего в его родную Южную Африку. Но то ли туманное высокое солнце, словно вырезанное из фольги, по-особому освещало их обеденный стол, то ли близкая бело-голубая лагуна источала особый мерцающий свет, но лицо Маквиллена, его худые чуткие пальцы, светлые глаза, ткань пиджака казались посыпанными легчайшей металлической пыльцой, серебристой искрящейся пудрой. Будто он был создан не из живой плоти, а из легкого сплава, как летательный аппарат, способный быстро взмывать, перемещаться, менять направления, выдерживать удары и перегрузки.
– Невероятно, Виктор! Когда приглашал тебя, не верил, что ты прилетишь! Не верил, что такое возможно! Пускай другие охотятся на антилоп в Кении или на медведей в вашей холодной Сибири. Мы же поохотимся с тобой на бабочек в африканском буше. Уверен, ничто не сравнится с нашей охотой!
– Признаться, я тоже не верил в возможность встречи. Думал, так и будем с тобой всю жизнь обмениваться бандеролями. Ты – мне своих бабочек, я – тебе. Но вот случилась командировка, и мы смогли повидаться.
– Два совпадения. Тогда, в Брюсселе, в музее, у стенда с африканскими бабочками. И теперь, в Луанде, на берегу этой чудесной лагуны. Слишком много совпадений, не так ли? Похоже, Господу Богу угодно, чтобы мы постоянно встречались.
– А помнишь ту красную нимфалиду, похожую на крохотную средневековую алебарду, которой ты восхитился, и я откликнулся на твое восхищение? Именно так началось наше знакомство. На следующий год я оказался в Нигерии. Там наши фирмы строят нефтепровод. Я писал очерк об этом строительстве, а в свободное время в джунглях ловил бабочек. И представляешь, поймал эту красную нимфалиду. Она у меня в коллекции. Гляжу на нее и вспоминаю нашу брюссельскую встречу.
Они смотрели друг на друга, улыбались, наслаждаясь этим невероятным стечением обстоятельств, позволившим им повидаться опять. Двум знатокам и ценителям, одержимым утонченной восхитительной страстью, отличавшей их от остального человечества. Эта страсть делала их членами тайного ордена, приобщала к сокровенному братству, эмблемой которого служил сачок, накрывший разноцветную бабочку.
– Значит, ты получил задание написать о войне в Анголе. – Маквиллен наливал ему в бокал черное густое вино, роняя на скатерть рубиновую каплю. – В Лубанго, куда мы летим, идут боевые действия. Совместишь работу и развлечение. Пойманные бабочки будут одновременно твоим военным трофеем.
– Но почему ты выбрал именно Лубанго? Стоит ли тебе так рисковать? – Белосельцев пригубил вяжущее ароматное вино, глядя на медленные водяные круги, волновавшие розовое отражение. – Ведь есть спокойные, не охваченные войной районы.
– Мне надо быть в Лубанго. Моя фирма поставляет туда оборудование. После ухода португальцев город приходит в упадок. Я заключил хороший контракт. Тоже хочу совместить работу и развлечение.
Они радовались встрече, ухаживали один за другим. Подливали в бокалы вино, подкладывали ломтики фруктов. И едва заметно, ухаживая и улыбаясь, изучали друг друга. Летательный аппарат, построенный из блестящего сплава, имел особую конструкцию фюзеляжа и крыльев, пределы высоты и скорости, был оснащен скорострельным вооружением и системами наведения. В эти минуты он не летел, не стрелял, не уклонялся от зенитных ракет на крутых виражах. Белосельцев пользовался минутами покоя, чтобы изучить самолет.
– Видимо, ангольцы действительно остро нуждаются в умывальниках и кондиционерах, если приглашают тебя из враждебной страны и обеспечивают тебе безопасность, – удивлялся Белосельцев, не скрывшая тонкой иронии. – Ты устанавливаешь в провинции Кунене сантехнику, а в это время твои соотечественники из батальона «Буффало» громят ее из артиллерии и минометов. Прежде всего мне предстоит все это понять.
– Постепенно ты все поймешь. – Маквиллен откликался на его иронию острым веселым блеском зрачков. – Кстати, о твоих репортажах. Я запросил по компьютеру тексты твоих работ. Две из них мне перевели на английский. О боях в Афганистане и о возможности большой войны в Кампучии. Ты пишешь с таким знанием дела, что я подумал, уж не военный ли ты.
– Да нет, просто репортер, пишущий на военные темы. Но если ты оценил военные достоинства репортажей, может быть, ты сам офицер?
– В ЮАР все белые – офицеры. У наших границ расположено пять черных прифронтовых государств. Это побуждает нас быть офицерами.
Они обменялись первыми, едва уловимыми сигналами, нащупывающими и угадывающими. Как два самолета, разделенных пустотой. Оба посылают в пространство волны радаров, просматривают пустынную необъятную сферу и вдруг обнаруживают слабый отраженный сигнал. Узнают о существовании друг друга. Еще не враги, еще не готовят оружие к бою, но уже чутко ищут друг друга, исследуют, направляют приборы опознавания и наведения.
За белыми колонками балюстрады, у кромки вялой, стеклянно плещущей воды, рос куст, глянцевитый, ветвистый, с купами желтых мохнатых цветов. Из теплого, душистого воздуха прилетали бабочки. Падали на цветы, жадно, страстно мяли их, обнимали, впивались в желтые сочные соцветия. Были видны их черно-желтые сильные крылья, заостренные кромки, нетерпеливые цепкие лапки и дрожащие усики.
– Не доверяй первым впечатлениям, Виктор. – Маквиллен уловил нетерпение Белосельцева, его устремленный на бабочек взгляд. – Завтра ты будешь приглашен на государственный праздник. Увидишь парад, манифестацию. Суровое, аскетическое руководство воюющей страны. А вечером, на приеме, ты увидишь тех же людей, но в узком кругу, вне глаз народа, и это будут совсем другие люди, иные разговоры, иные туалеты. Их солдаты воюют с нами, но наши ювелиры продают им бриллианты. Вы предлагаете им социализм и танки, а мы предлагаем им роскошную сантехнику и бриллианты. Они обманывают и вас и нас. Мы можем это понять и договориться.
Это был второй сигнал. Уловленная, засвеченная на экране цель начинала слабо мерцать, осторожно излучала невнятную информацию.
Из бирюзовой лагуны, как белая сияющая торпеда, оставляя водяную мятую яму, вылетел тунец. Окруженный солнечными брызгами, замер в воздухе, медленно разворачиваясь глазированным телом. Секунду висел, как длинное, отражавшее солнце зеркало. Рухнул обратно в воду, сомкнул над собой темный всплеск. Расходились бело-голубые круги. Стоял на отражении розовый город. Бабочки бесшумно налетали на цветы, падали в сладостные купы и тут же улетали обратно. Все это были знаки, сигналы, адресованные ему, Белосельцеву. О чем-то предупреждали, куда-то влекли.
– Все африканские лидеры, которые начинали борьбу с англичанами, португальцами и бельгийцами, получили власть. Они сидят в президентских дворцах, оставленных им генерал-губернаторами. Мы находим с ними общий язык. Позволяем размахивать красными флагами и развешивать на фасадах портреты Маркса и Ленина. Но бриллианты они получают от нас, роскошные лимузины – от нас, и мы добываем на их территориях нефть и уран. Один только Сэм Нуйома никак не вернется в Намибию. Он состарился и живет, как приживалка, у своих удачливых друзей, то в Анголе, то в Мозамбике, то в Гвинее. Мечтает о дне, когда на белом «Линкольне» въедет в Виндхук, а пока посылает в Намибию своих партизан, и они там взрывают водопроводы и высоковольтные мачты. Он неуступчив, не идет на контакты, и иногда кажется, что его может сделать сговорчивым только пуля.
Это был третий сигнал, который послала цель, лежащая на встречном курсе. Этим сигналом она давала понять, что под крыльями у нее подвески с ракетами, бомбовые люки заряжены и на радарах, среди туманных мерцаний и вспышек, видны объекты, предназначенные для уничтожения. И один из объектов – Сэм Нуйома, штурмующий Намибию с партизанских баз, расположенных под Лубанго. Туда, в африканский буш, в окрестности пустыни Намиб, они поедут с Маквилленом на охоту за африканскими бабочками.
– Мне кажется, я знаю, о чем ты думаешь, – усмехнулся Маквиллен. Поставил недопитый бокал с вином. Поднялся. Подошел к балюстраде. Сильным спортивным прыжком перескочил парапет. Очутился перед цветущим кустом в тот момент, когда на него упала черно-золотая бабочка, стала зарываться в цветы. Ловким, точным щипком, как пинцетом, ухватил бабочку за крылья. Вернулся к столу, сжимая пальцами рифленые перепонки. Белосельцев видел, как шевелятся у бабочки черные лапки, свивается спираль хоботка и сухие пальцы Маквиллена испачкались цветочной пыльцой. – Это мой маленький африканский презент.
Он приподнял стеклянный колпак, накрывавший фрукты и сладости. Просунул под него бабочку. Выпустил. И она залетала, забилась в стеклянной ловушке, среди яблок, бананов, отекающих соком манго.
Они пили вино, смотрели на черно-золотую плененную бабочку. Тунцы вылетали из лагуны, падали обратно, и вся лагуна была в медлительных, пересекавших друг друга кругах.
– Каждый человек ведет свою родословную от того или иного животного. – Маквиллен, любуясь пленницей, подносил к губам бокал. – От змеи, от слона, от крокодила, от ласточки. У всех есть свой тайный тотемный зверь, который, как ангел-хранитель, сопутствует человеку, спасает его, проявляется в его характере, нраве и разуме. Есть люди, которые ведут свою родословную от бабочки. Такие, как ты и я. Это особая порода людей – сверхлюди. Своей реликтовой памятью они помнят молодую планету, когда из кипящих вод извергались вулканы, застывали жилы и руды металлов, приобретали свои очертания континенты. Над гейзерами, над горячими золотыми потоками летали огромные бабочки. Вся Земля, как молодая женщина, была одета в разноцветное платье из летающих бабочек. Мы несем в себе эту прекрасную эру. Узнаем друг друга. Отыскиваем среди всего остального человечества. Выпьем, Виктор, за нашу встречу! За нашего тотемного зверя и покровителя!
Они чокнулись, выпили вино. Маквиллен приподнял стеклянный колпак. Бабочка оттолкнулась лапками от румяного яблока, прянула ввысь, исчезла среди прозрачных вихрей теплого, душистого ветра.
Они завершили обед и расстались, условившись встретиться вечером. Белосельцев, утомленный и опьяневший, вошел в свой светлый прохладный номер, выходящий окном на океан. Лег в чистую постель. Перед тем как впасть в сладкое забытье, успел мгновенно подумать о тунцах, о Сэме Нуйоме, о розовых фламинго, о черно-золотой бабочке в цепких пальцах Маквиллена.
Глава вторая
Он проснулся в сумерках, среди тихого шелеста кондиционера. Потребовалась секунда, чтобы понять, где он находится, – в Луанде, в Африке, на берегу океана, и ему предстоит вечерняя встреча с Маквилленом. К нему вернулось радостное ощущение сильного бодрого тела, свежего, отдохнувшего от самолетного гула, от тревожных предчувствий сознания. Он оделся и стоял у окна, глядя в огромную туманную тьму, среди которой едва различимо мерцал огонек.
Раздался телефонный звонок. Звонил секретарь посольства.
– Виктор Андреевич, я бы мог к вам приехать? Со мной наш товарищ, кубинец Аурелио. Хочу, чтоб вы познакомились. Приедем через тридцать минут.
– Буду ждать вас в холле, – сказал Белосельцев.
Спустился в мягко озаренный холл. Портье с металлически-черным лицом, в малиновом, украшенном позументами мундире расторопно раздавал ключи с медными шарами, деловито отвечал по телефону, любезно, во весь белозубый рот, улыбался гостям и при этом хмурился, что-то сердито выговаривал помощнику. За стеклянными дверями то и дело вспыхивали фары. Появлялись приезжие – африканцы, европейцы, индусы. Видимо, гости, приглашенные на завтрашний праздник.
За соседним столиком сидела молодая темнокожая женщина. Она была в тесном шелковом платье с глубоким вырезом, в котором круглилась матово-черная, наполовину открытая грудь. Влажные большие глаза, мягкие губы, тонкая, слегка изогнутая шея, длинные ноги с сухими щиколотками делали ее неуловимо похожей на антилопу, чуткую, доверчивую, беззащитную. Это сходство тронуло и взволновало Белосельцева. Стараясь не выдать себя, он рассматривал ее необычное, плавное тело, в котором обнаженные плечи, широкие бедра, гибкая спина совершали при движениях мягкую волну. Ему вдруг захотелось, чтобы она встала и он увидел, как она идет.
Женщина почувствовала его взгляд, повернулась. Одно мгновение тревожно смотрела, обратив на него испуганные белки. Слегка улыбнулась. Белосельцев ей поклонился. Сказал по-английски:
– Добрый вечер.
– Добрый вечер, – ответила она. Ее произношение с легкими шелестящими искажениями было характерно для жителей Зимбабве, Намибии или ЮАР, где английские слова слегка сплющивались полными губами, алым языком и сочными альвеолами африканцев.
– Вы, должно быть, приехали на праздник?
– Меня пригласили, – сказала она.
– Вы откуда?
– Из Мозамбика. Но настоящая моя родина – ЮАР. А откуда вы?
– Из Москвы, – сказал Белосельцев. И увидел, как обрадовалась она, как доверчиво заблестели ее глаза. – Я журналист. Меня тоже пригласили на праздник.
Они сидели за разными столиками вполоборота, и его продолжали волновать ее мягкие, в перламутровой помаде губы, выпуклые, покрытые серебристой тенью веки, черные матовые овалы груди, стянутые тканью, под которой остро выступали соски. Ему казалось, он чувствует тепло ее близкого тела, запах духов. На ее худом запястье светлел тонкий серебряный браслет, а на темный длинный палец было надето золотое кольцо. Ему вдруг захотелось осторожно сжать это запястье, уловить биение жилки, ощутить теплую струйку серебра.
– Меня зовут Виктор, – представился он.
– А меня Мария. Нас двое здесь из делегации Африканского национального конгресса.
– В Москве я встречался с товарищами из АНК. Один из них занимался боевой практикой. Участвовал в нападении на полицейский пост. Был ранен и лечился в Москве.
– Мой муж тоже участвовал в боевой операции. Был захвачен в плен. Его страшно били, пытали. Теперь он в Робин-Айленде, приговорен к двадцати годам. Я уехала в Мозамбик и оттуда помогаю товарищам.
Белосельцев испытал к ней острое сочувствие, сострадание. Устыдился своего к ней влечения. В Робин-Айленде, на острове, в океане, в неприступной тюрьме, среди электронных замков и решеток, сидит ее муж, боевик АНК. Один из тех, кто с «калашниковым» нападает на полицию в Соуэто, взрывает электроподстанции под Преторией, минирует мосты в окрестностях Йоханнесбурга. Обманчив и иллюзорен матовый свет нарядного холла. Декоративны и мнимы цветные бутылки бара, напоминающие церковный витраж. Неправдоподобен любезный и ловкий бармен, встряхивающий, как фокусник, прозрачный сосуд с коктейлем. Ненатурален розовый город на берегу лазурной лагуны, похожий на стаю фламинго. Обманчива прелесть темного худого запястья с легким кольцом серебра. Необманчива война, охватившая юг континента. Обломки кубинского самолета, упавшего в пески Калахари. Цепочка темнокожих бойцов, навьюченных взрывчаткой, уходящая в глубь Намибии. Стальные короба транспортеров батальона «Буффало», громящего партизанские стойбища. Налеты стрелков АНК на здания полицейских участков: граната в окно, очередь по машине – и легкие тени бойцов растворяются в темноте, оставляя за спиной красный пожар. Он, Белосельцев, мнимый ловец африканских бабочек, иллюзорный репортер, явился сюда на войну, и каждый его взгляд и приветствие, каждый поклон или встреча есть встреча с врагом или другом, неотличимыми один от другого.
– Я выражаю вам свое сочувствие, – сказал он, наклоняя голову. – Не сомневаюсь, АНК победит и вы встретитесь с мужем.
– Благодарю, – сказала Мария. Ее влажные большие белки, мягкие, слабо улыбнувшиеся губы, движение длинной шеи с темной ложбинкой затылка вновь сделали ее похожей на беззащитную робкую антилопу. И это сходство вновь тронуло и взволновало Белосельцева.
К ним подошел высокий африканец в красной цветастой рубахе. Тревожно, почти враждебно оглядел Белосельцева, стараясь понять, что ему нужно от Марии.
– Это Чико, мой товарищ. Он тоже из Мозамбика, из нашей общины АНК. – Мария почувствовала враждебность африканца, успокаивая, тронула его руку. – А это Виктор, из Москвы. Приехал на праздник.
Белосельцев и Чико обменялись рукопожатиями. И хотя губы африканца улыбались, открывая яркие белые зубы, глаза оставались тревожными, неверящими, как у человека, привыкшего к постоянной опасности.
– Мария, нам нужно идти. Машина пришла, – твердо, почти приказывая, сказал Чико. Взял ее под руку, уводя от Белосельцева, слабо кивнув на прощанье.
– Увидимся завтра на празднике, – оборачиваясь, сказала Мария. Они удалялись, а он смотрел, как мягкими волнами переливаются в походке ее плечи, грудь, бедра, как красиво и странно наклонена ее гибкая шея, несущая маленькую темную голову.
Белосельцев увидел, как сквозь холл, отыскивая его среди посетителей, движутся секретарь посольства и с ним невысокий плотный мужчина, смуглый, почти черный, похожий на негра, с круглыми бицепсами, толстой могучей шеей, выпуклой грудью, выступавшими из вольной светлой рубашки.
– Знакомьтесь – Аурелио, – представил его секретарь. – Он будет взаимодействовать с вами здесь и в Лубанго.
– Слышал о вас. – Белосельцев усаживал их за столик рядом с собой, незаметно оглядывая кубинца, его плотную, литую, как у боксера, фигуру, короткий бобрик, глубокий шрам на лице. Будто, вращаясь, в щеку ударило острие, ушло в глубину, оставив воронку стянутой кожи, лучистый твердый рубец.
– Как Москва? Как Кремль? Как Большой театр? – улыбнулся кубинец, крепко, до боли, сжимая Белосельцеву руку. – Учился в Москве. Много хороших друзей.
– В Москве снег. Кремль красный. Мимо Большого театра часто проезжаю, стоит. – Белосельцеву был приятен кубинец, приятен его русский язык, в котором отсутствовали некоторые лишние глагольные формы.
– Хорошо устроились? – осведомился секретарь. – Окно на океан или на лагуну?
– Капитанская рубка, а не номер. С видом на океан. Но обедал на открытой веранде, любовался чудесной бирюзовой лагуной.
– Красота лагуны обманчива, – сказал секретарь. – Город сбрасывает в лагуну нечистоты, вода отравлена, никто не купается. Купаются по другую сторону дамбы, в океане. Если будет время, повезу вас на пляж.
– Как Маквиллен? Как вас встретил? – спросил Аурелио, полагая, что их первое знакомство состоялось и обмен любезностями завершился. – Что почувствовали?
– Делали вид, что рады друг другу. Иногда мне казалось, что он знает, кто я на самом деле. Знает, что и мне известна его истинная сущность. И мы делаем вид, что верим друг другу.
Белосельцев смотрел, как у стойки бара на высоких стульях отдыхают постояльцы отеля. Бармен, ловкий, худой, похожий на фокусника, священнодействовал, мешая коктейли, хватая с полок бутылки. В круглые стеклянные рюмки из хромированных мундштуков наливал разноцветные, химически-яркие напитки. Словно готовил волшебный состав, из которого вот-вот подымется дым и огонь и возникнет диво – темнокожая танцовщица, опоясанная по бедрам живыми цветами, с амулетом на голой груди, с костяным кольцом в розовых жарких ноздрях. Затанцует, задвигает круглым, как черная чаша, животом, ударяя по стойке бара сильными босыми стопами.
Бармен привлекал внимание Белосельцева длинным худым лицом, на котором щеки казались темными впадинами. У него были рыжие курчавые волосы, быстрые, смеющиеся глаза, поспевавшие оглядывать холл, выбирать цветную бутылку, угадывать желание гостя, отмерять в круглом бокале синюю или золотую прослойку сладкого ликера. Он был привлекателен, как веселый цирковой жонглер, и одновременно в нем было нечто необъяснимо тревожащее.
– Мы должны разгромить батальон «Буффало», – говорил Аурелио, проводя твердым ногтем по деревянному столику, словно рисуя карту. – Заманить и уничтожить, как бушмены заманивают слонов. Батальон продвигается к партизанским лагерям Сэма Нуйомы, хочет сорвать его поход на Виндхук. С вашей помощью мы должны обмануть Маквиллена, дать ему ложную информацию, заманить «Буффало» в ловушку.
– Хотите использовать меня как бушмена? – спросил Белосельцев. – Для этого мне нужно быть черным и стать на полметра короче.
– Вы станете черным, когда поедете в буш, – заверил его кубинец. – А в окопах ангольской бригады станете на полметра короче.
Бармен за стойкой жонглировал цветными бутылками. Крошил в серебряном ведерке лед, так что летели колючие яркие брызги. Хватал серебряными щипцами драгоценные ледяные осколки, кидал их в золотистое виски, двигал тяжелый стакан полному африканцу. Надкалывал над пиалой яйцо, ловко взламывал его, опрокидывая в прозрачный напиток мягкий шарик желтка, вонзал пластмассовую трубочку, ставил коктейль перед нахохленным господином с седой бородкой. Его щеки запали, словно изо рта выкачали воздух. Бледный лоб вспотел, блестел капельками пота. Он работал яростно, с веселым наслаждением, но в его работе для окружающих таилась опасность. Сейчас он превратит тощего, пьющего коктейль господина в разноцветного петуха. Поставит изумрудно-желтую птицу на стойку бара, когтистыми лапами на медный чеканный лист, и петух, наклонив красный мясистый гребень, замрет, перламутровый, глазированный.
– Ваша задача, – продолжал Аурелио, – быть рядом с Маквилленом. Доверие, дружба, ловля бабочек, журналистские наивные разговоры. Он не знает, кто вы. Все ваши действия и слова он не будет истолковывать как действия разведчика. На этом мы его и поймаем, направим ему ложную информацию. Завтра здесь состоится банкет. На нем будет Сэм Нуйома. Вы и Маквиллен приглашены. Мы сделаем так, чтобы вас представили Сэму Нуйоме. Пусть Маквиллен увидит, что вы познакомились, что у вас возможны доверительные отношения.
– В Москве мне сказали о возможной вербовке.
– Не сразу, в конце операции. Вы станете его вербовать, а он вас. Но он может убить. Мы считаем, что с его помощью было покушение на министра обороны Сэма Нуйомы. Благодаря его комбинации мы потеряли четырех наших лучших агентов в Кунене, им всем отрезали головы. В прошлом месяце его агентура навела самолеты на машину ангольского начальника штаба и разбомбила ее.
– Его нельзя арестовать?
– Не все так просто в Анголе, – сказал Аурелио. – У него высокие покровители в окружении президента.
Бармен за стойкой играл бутылками, перебрасывал их с легким шлепком. Двигал плечами, талией, словно балансировал на тонком канате. Запустил негромкую ритмичную музыку, включил мигающие лампы, наполнявшие бутылки радужной пульсацией. Он был жонглер, и канатоходец, и игрок на ударнике, и фонарщик, зажигающий разноцветные лампады. В том, что он делал, в его грации, ловкости была красота, но и неясная угроза, которую Белосельцев не мог объяснить. Чувствовал ее, как ледяной сквознячок, скользящий по ребрам.
– Как чувствуете себя вдали от дома? – спросил Белосельцев замолчавшего Аурелио, понимая, что первая их встреча подходит к концу. – Я знаю, у кубинцев, как и у русских, обостренное чувство дома.
– Африка – мой дом. Я здесь – дома. – Темное негроидное лицо Аурелио выглядело умиротворенно-спокойным. – Предки многих кубинцев вышли из Африки, из Анголы. Это наша родина, и теперь мы на нее вернулись. Двести лет кубинские мужчины работали полотерами и официантами у гринго, а кубинские женщины продавали им свое тело. Теперь кубинцы на боевых самолетах летают в ангольском небе, кубинские профессора преподают в мексиканских университетах, кубинские инструкторы готовят офицеров в Никарагуа. Куба стала мировой державой, которую боятся гринго. Мне хорошо в Африке. Я здесь вижу хорошие сны.
Он улыбнулся, и воронка на его щеке, скрученная из рубцов и морщин, провернулась на пол-оборота, словно в нее погрузилось невидимое острие.
– Может быть, по рюмке за ваши хорошие сны? – предложил Белосельцев.
– В другой раз, – вежливо отказался Аурелио. – Сегодня ночью много работы. Накануне праздника мы начали облавы в Луанде. Стало известно, что готовится покушение на Сэма Нуйому. Не исключено, что Маквиллен прилетел в Луанду не только для свидания с вами. Мы отслеживаем его контакты и перемещения по городу.
– Я приеду за вами утром, – сказал секретарь. – Вместе посмотрим парад и народное шествие.
– До встречи, – провожал их Белосельцев, заметив, как смотрит им вслед узколицый рыжий бармен, опрокидывая над стеклянным бокалом бутылку цветного ликера.
Приближалось время вечерней встречи с Маквилленом. Белосельцев поднялся в номер, извлек из чемодана коробку с коллекцией бабочек. Сунул в карман линзу с узорной ручкой, легкий тонконосый пинцет.
Спустился в холл и в баре увидел Маквиллена. В легком бело-голубом пиджаке, с шелковым шарфом на шее, светловолосый и синеглазый, он дышал здоровьем, радушием. Издали увидел Белосельцева, махнул, приглашая к себе:
– Виктор, я жду тебя! Карлош сказал, ты только что был здесь с какими-то двумя господами. – Перед Маквилленом стоял граненый стакан с виски, в золотистом напитке таяли кусочки льда, и бармен, которого он, как знакомца, назвал по имени, улыбнулся Белосельцеву, деликатно и сдержанно, словно извинялся за сообщение, которое передал Маквиллену. – Что будешь пить?
– Тоже виски. Эти два господина из нашего посольства. Сообщили, что послезавтра мы сможем лететь в Лубанго. Спецрейсом, на грузовом самолете. Билетов не надо. Мы внесены в бортовые списки.
– Отлично, Виктор! Сэкономим на выпивку!
Пока булькала трехгранная бутылка в руках бармена и звякали о стекло кусочки льда, Белосельцев положил на стойку коробку. Протянул Маквиллену пинцет и линзу.
– Хочу тебе сделать подарок, Ричард. Бабочки, которых я поймал в Сибири, на Алтае и на Кавказе. Уверен, они украсят твою коллекцию.
Маквиллен радостно, жадно воззрился на коробку. Бережно, как открывают ларец с драгоценностями, приподнял крышку. В маленьких треугольных конвертиках, напоминавших крохотные письма с фронта, лежали бабочки. Слабо просвечивали орнаментами сквозь полупрозрачную бумагу, словно огоньки в китайских фонариках.
– Боже мой, Виктор, какое богатство!
Лицо Маквиллена, только что напоминавшее маску, созданную из тончайших металлических сплавов, осветилось наивной детской радостью. Казалось беззащитным, искренним, восхищенным. Он взял пинцет, бережно, играя белым лучиком света, раскрыл треугольник. Парусник, песчано-желтый, полосатый, как зебра, с лилово-черными метинами, покоился на треугольном ложе, поджав к брюшку сухие белесые ножки, скрутив спираль хоботка. Хрупкие усики завершались черными утолщениями. Шпоры на задних крыльях, соприкоснувшись с влажным воздухом, слегка отогнулись, дрожали от дыхания Маквиллена.
– Где ты ее поймал?.. Кавказ… Дагестан… Какая красота, Виктор!..
Бабочка была из университетского собрания, любезно предоставленная профессором энтомологии. Но в домашней коллекции Белосельцева был парусник, пойманный им на горячем склоне горы. Козьими скачками, рискуя сорваться, он мчался, пронося сачок сквозь синий солнечный ветер. Парусник, застывая на мгновение в потоке, попадая в сачок, казался крохотным фрегатом, парящим на фоне голубого хребта бело-розового, как облако, ледника. Счастливый ловец, он прижимал к земле кисею с беззвучно трепещущей бабочкой, чудом удержавшись на краю обрыва.
– А эта? – Маквиллен поддевал пинцетом край бумажного треугольного саркофага, открывая бабочку. – Да это просто икона!.. Русская икона!.. Саяны… Тува… – читал он сквозь линзу крохотную, бисером исписанную этикетку.
Аполлон, прозрачный, словно пергамент, с темными крапинами, в которых вдруг возникало оранжевое пятно, казался нарисованным первобытной кистью. Линии, овалы, штрихи, лимонно-красная капля, – художник был молод, наивен, исполнен неутомимого творчества. Без устали рисовал и раскрашивал горы, озера и реки, рыб, животных и птиц, плоды и соцветия. Нарисовал мужчину и женщину, радугу, небесные звезды. Когда ангел сотворил бабочку по образу своему и подобию и поднес к Творцу, тот радостно, быстро, краской, которой только что рисовал женские темные брови, изумленный оранжевый глаз, нанес на крылья несколько смуглых линий, уронил на крыло солнечную горячую каплю.
– А эта?..
Белосельцев видел, как истово и восторженно светятся глаза Маквиллена, с какой любовью и нежностью он смотрит на бабочку. Любил его в эти мгновения, чувствовал с ним религиозное родство. Они любили в этой Вселенной одну и ту же красоту, поклонялись одному и тому же Богу. Были жрецами и служителями древнего Духа, прилетевшего на Землю, населившего травы, цветы и деревья, создавшего вокруг молодой планеты охраняющий ее разноцветный покров бабочек.
– Это чудесный подарок! – Маквиллен положил свою горячую, сухую руку на запястье Белосельцева. – Я твой должник, Виктор! Ты приедешь ко мне в Преторию, будешь жить, как брат. Я подарю тебе бабочек Мозамбика, Ботсваны, Намибии. Ты поместишь их в отдельную коробку и напишешь: «Подарок от друга Маквиллена».
Белосельцев верил в искренность слов. Верил, что будет чувствовать себя на вилле Маквиллена под Преторией в безопасности. Там не найдет его чужая разведка, не настигнет пуля черного боевика. Оба были связаны тайным договором, были служителями единого культа, который освобождал их от обязательств, данных правительству, от служебного контракта и военной присяги. Они присягнули своему божеству – хрупкой бабочке с оранжевой каплей солнца, своей родоначальнице, хранительнице Земли и Вселенной.
– Хочу выпить за твою родину, где живут такие люди, как ты, Виктор, и обитают такие бабочки, как эти! – сказал Маквиллен, подвигая Белосельцеву стакан с виски, где плавились льдинки. – Теперь я понимаю смысл вашей красной империи. Ваш царь и Ленин были энтомологи. Они собирали территории, чтобы владеть как можно большим количеством бабочек!
– Александр Македонский был энтомологом. В его коллекции не хватало бабочек Персии и Индии, – сказал Белосельцев, отпивая горький жгучий глоток. – Вслед за армией двигался обоз с коллекцией.
– Юлий Цезарь тоже был энтомолог, – согласился Маквиллен. – Его галльский поход был энтомологической экспедицией. Легионеры держали в руках сачки, пополняли коллекцию империи бабочками Северной Европы и Франции.
– Кстати, Наполеон тоже был энтомолог. Ловил бабочек треуголкой. Использовал артиллерию и конницу исключительно в научных целях. Приехал под Москву, чтобы половить русских бабочек. Кто-то ему сказал, что лучшее для этого время – зима. И это была ошибка.
– Лучшее время ловли бабочек под Луандой – осень. И мы не ошиблись со временем!
Они пили из тяжелых стаканов. Сквозь жжение напитка Белосельцев чувствовал на губах прикосновение тающих льдинок.
– Первым существом, которое сотворил Господь, была бабочка, а первым материком, который он сотворил, Африка. – Было видно, что Маквиллен опьянел, ему хорошо, у него потребность говорить и Белосельцев для него – желанный собеседник. – Все остальные материки отломились от Африки, и их отогнало течением. Первые люди были черные. Адам и Ева были негры. Это уже потом, после ядерного взрыва Вавилонской башни, у людей пропал пигмент, и они побелели…
Бармен, потупив глаза, замшевой тканью вытирал чистейшую стойку, и в ней сияло медное солнце. Подходил разноликий люд, подсаживался на высокие круглые седалища. Шипел душистый пар кофеварки, вырываясь с мелодичным свистком. Падало из крана в высокие кружки черно-коричневое пиво. Проливались в бокалы цветные струйки сладких ликеров. Пульсировали разноцветные лампы, подчиняясь бегущей музыкальной волне.
– Ричард, твоя теория происхождения Африки не укладывается в Библию. – Белосельцев своими возражениями поощрял красноречие Маквиллена. – Вавилонская башня, насколько я помню Писание, не была ядерным объектом, а замысливалась как лестница на небо и была разрушена Богом.
– Библия – это путаные воспоминания оглушенного взрывом человечества. Африканская цивилизация древности владела тайнами ядерной энергии, создала летательные аппараты, строила города на дне океана. Здесь расцветала генетика, выводились новые виды животных и растений, были установлены связи с цивилизациями иных планет. Здесь разрабатывались проекты бессмертия, проекты искусственного конструирования человека. Вавилонская башня – это гигантская энергетическая установка, возведенная на севере цветущего, покрытого городами континента, с помощью которой Земля подключалась к неисчерпаемой энергии Космоса. Если угодно, к животворной космической пране, порождающей изначальную жизнь… – Маквиллен говорил вдохновенно. Казалось, он читает трактат, употребляя жесты декламатора, стараясь убедить собеседника в истинности своих фантазий. – Взрыв Вавилонской башни – это крупнейшая авария древности. Взрыв энергетической установки, оборвавший земное развитие, отключивший Землю от Космоса, затормозивший на целые эры человеческое развитие. Сахара – это след катастрофы. Огромный ожог, расплавивший север Африки, превративший леса, города, космодромы в белый раскаленный кварц. В этом взрыве были уничтожены библиотеки, университеты, храмы, хранилища знаний. Погибли носители этих знаний, древние черные мудрецы, владевшие иной, нежели мы, математикой, иной физикой, иными средствами передачи мыслей и чувств. Остатки попавшего под взрыв человечества мутировали, изменили цвет кожи, утратили утонченные рафинированные свойства своей природы. Направили земную цивилизацию путем жестоких войн, идейных и религиозных заблуждений, слепых исканий в потемках. Признаки тех древних закодированных знаний сохранились здесь, на юге Африки, среди бушменов, чьи шаманские культы закрепились в танцах, в музыке, в надрезах, сделанных на лице с помощью острой ракушки… Африка хранит в песках Калахари, в буше и в пустыне Намиб тайну человечества, – торжественно завершал свое повествование Маквиллен. – И мы с тобой, Виктор, будем ловить под Лубанго не просто бабочек, но признаки таинственных знаний, отпечатанных Творцом на крыльях нимфалид и сатиров…
Музыка, как бегущая разноцветная змейка, скользила среди мигающих лампочек, стеклянных флаконов, ловких пальцев бармена. Белосельцев вслушивался в музыку, в ее нервные, сладко возбуждающие звучания, стараясь в музыкальной волне, в переливах и мерцаниях мелодии услышать один-единственный звук – всплеск опасности.
– Я слышал, в городе неспокойно, – сказал он, небрежно вращая в стакане остатки виски и льда, – говорят, в Луанде идут облавы. Возможны беспорядки. Возможно покушение на Сэма Нуйому, который приехал на празднования.
И словно распалась завеса. Умолкла на мгновение музыка. Раскрылся маскировочный пестрый чехол, под которым скрывалась ночная Луанда, боевые корабли на рейде, фары военных грузовиков, красная вспышка выстрела. Маквиллен смотрел на него холодными испытующими глазами, и на его сжатых губах плясала черная точка.
– Все возможно, – сказал Маквиллен, когда вновь зазвучала музыка, замигали цветные лампочки. – Возможны любые покушения, атаки и бомбардировки. Но это грубые, устаревшие методы. Здесь, в молодых государствах Африки, действенны не покушения и теракты, не батальон «Буффало», а тонкие методы, позволяющие манипулировать черной элитой. Ориентировать ее в сторону наших ценностей, отрывать ее от вашего картонного социализма. Завтра я покажу тебе голубые бриллианты «Дебирса» на черной груди африканки. Это сильнее гранатомета и винтовки с глушителем.
– Прошу прощения, господа, – обратился к ним бармен, который убирал со стойки пустые стаканы и рюмки, гасил мигания лампочек, глушил музыку. – К сожалению, я завершаю работу.
– Что случилось, Карлош? – удивился Маквиллен. – Мы с другом хотели еще выпить.
– Прошу извинить, – повторил бармен, с почтением наклоняя свою узкую рыжеволосую голову. – С этой минуты наш отель берется под особый контроль службой охраны президента. Начинается проверка помещений. Завтра здесь состоится правительственный прием. Необходимы меры безопасности. – Бармен деликатно повел глазами в глубину озаренного холла, где появились темнолицые статные люди и несколько автоматчиков в камуфляже. – Через день я снова к вашим услугам.
Они допили виски. Маквиллен благоговейно взял коробку с подаренными бабочками. Они простились с намерением встретиться завтра на празднике.
Он вернулся в номер, стерильно белый, прохладный, напоминавший больничную палату. За окном огромно, безбрежно чернел океан. На спинке стула висел его шелковый галстук. И возникло странное недоумение – наделенный чуткой, внимающей миру душой, острейшим зрением, угадывающим мерцающую, бесконечно удаленную истину, абсолютным слухом, улавливающим хоры небесных сфер, он использует свой драгоценный божественный дар в изнурительной, не имеющей исхода и смысла борьбе. Как дрессированный дельфин, ведающий тайну океана, орнаменты звездного неба, загадку древних, ушедших на дно континентов. Его обучили бороться с боевыми пловцами, обнаруживать подводные лодки, бесшумно подплывать к корабельному днищу с грузом взрывчатки. Взрыв, обломки металла, окровавленный плавник – все, что остается от ангела океанских глубин, от таинственного посланца иных миров. Он, Белосельцев, получивший во владение дар, мог бы использовать его для написания чудесных стихов, создания картин и симфоний. Свою прозорливость и ясновидение, свое предчувствие чуда, молитвенное, с детства ожидаемое откровение он мог бы воплотить в священной книге с узорными красными буквицами, где тончайшей кистью нарисованы травы, звери и звезды, люди и ангелы, цветы и райские лики, написана исповедь верящего праведного человека, взятого при жизни на небо. Вместо этого он перелетел на другую половину Земли, пил виски с резидентом чужой разведки, использовал свой священный, божественный дар, чтобы узнать, кто завтра выстрелит в Сэма Нуйому, в какую щель, не замеченную президентской охраной, просунется вороненый ствол, пуля вонзится в черный лоб африканца, брызнет красным по черному.
Побуждаемый невнятной печалью, не желая завершать этим тревожащим чувством свой первый африканский день, он взял полотенце и покинул номер. Пошел не к лагуне с золотым отражением города, а к дикому океанскому берегу, где, черный, душистый, сочно чмокал о камни прибой.
Протиснулся между мокрых, пахнущих водорослями глыб. Разделся, уклоняясь от летучих, слабо мерцающих брызг. Стоял голый на краю океана, чувствуя свою малую жизнь у кромки черной, живой бесконечности. Вошел в воду, прохладную, тугую, надавившую на него плотной волной. Получил шлепок в живот, в пах. Пугаясь, набирая полную грудь воздуха, кинулся во тьму, в клокочущую бурунами гущу, вонзая в нее длинное горячее тело. Летел под водой, слыша донные шорохи, пробираясь сквозь неподатливую упругую толщу. Буравил ее заостренными руками, проталкивал головой, протискивал плечи, словно сбрасывал с себя земное обличье, терял свое имя и образ. Пробился сквозь водяную стену. Легкий, гладкий, с плавниками вместо рук, с заостренной рыбьей головой, вырвался на поверхность, как тунец, оглядел ночь восхищенными круглыми глазами. Белый отель, как корабль, дрожал золотым отражением. Одинокая, с пучками фар, летела машина. Волнуемый океан уходил в бесконечность.
Он плыл, выхватывая руки из волн, погружая голову в воду, успевая жадно глотнуть воздух вместе с солью и ароматными брызгами. Он был свободен, ускользнул от знакомых, нуждавшихся в нем людей. Ускользнул от напастей и горьких переживаний. Невидимый миру, посреди океана, безмолвно общался с миром сквозь бескрайнюю, омывавшую мир воду. Стопами, ладонями касался одновременно всех континентов. Знал о всех кораблях, о всех летящих в небесах самолетах. О всех рыбах, ракушках и водорослях. О плывущих в океане китах. Знал о старинных затонувших фрегатах, об ушедших под воду храмах. О прелестных женщинах, погружающих в море свое млечное теплое тело. Об отраженной звезде. О зеленой, плывущей в течениях ветке. Вода была божеством, из которого все возникло и которое было во всем. Божество было в стакане воды, куда мама в детстве поставила сорванную в поле ромашку. В бабушкиной слезе, когда, умирая, она обнимала его на прощанье. Оно было в синих снегах афганских хребтов, у подножия которых он вел смертный бой. В хрустальной рюмке с вином, которое он пил с любимой женщиной.
Океан был божеством, содержавшим в себе всю полноту бытия. Прошлое и будущее. Существующее и готовое народиться. Если уйти в глубину, выпустить из груди последний бурлящий выдох, раствориться среди водяных молекул, то сам станешь богом, обретешь бессмертие, обнимешь собою весь мир.
Это желание было столь сильным, что он стал погружаться, чувствуя колыхание океана, который засасывал его в глубину, растворял в своем мягком рассоле. Он терял свою плоть. У него уже не было ног. Рассосались и исчезли руки. Растаяла голова. Оставалась грудь с огромным, расцветавшим, словно подводный цветок, сердцем. Он был готов к последнему выдоху. Был готов испустить дух и стать божеством. Что-то сильно его толкнуло, словно налетел глазированный скользкий дельфин. Ударил мощным телом, подбросил вверх крепким клювом, метнул к поверхности. Белосельцев вылетел среди плеска и волн. Жадно дышал, крутил головой, желая понять, что это было. Кто явился из подводного царства, запретил ему умирать.
Устало плыл к берегу, где, белый, с золотыми окнами, отражался на водах отель.
Глава третья
Его пробуждение было чутким и радостным. Потолок над кроватью был голубой, с солнечной бахромой, в которой, как в рыболовной сети, дрожало и двигалось бесконечное множество блесков. Это был океан, близкое движение волн, каждая из которых плескала из глазированной чашки прозрачный шлепок света. Белосельцев встал, желая увидеть океан. Выпуклый, с расплавленной дорогой, над которой висело туманное белое солнце, океан повторял кривизну Земли, в метинах лучей, в выбоинах ветра, в разводах течений, весь рябой от непрерывных столкновений с воздухом, светом. Среди огромного, непостижимого для глаз дрожания, четкий, резкий, шел корабль. Его контуры, мачта, рубка, рукотворная геометрия были полной противоположностью божественной безымянной стихии. В возникшем среди вод корабле таилась загадка того, как временное сочетается с вечным, божественное с человеческим и его, Белосельцева, жизнь – с таинственной пучиной мироздания.
Созерцание продолжалось секунду. Большой десантный корабль выходил на рейд Луанды. Батальон советской морской пехоты, плавающие бэтээры и танки демонстрировали поддержку президенту душ Сантушу в день национального праздника. Остроконечный, с приподнятым носом корабль, приплюснутая рубка и черточки зенитных ракет были для Белосельцева геральдикой второго дня его африканской поездки.
Он спустился в холл, поджидая секретаря посольства. Смотрел, как подъезжают машины, увозят гостей в город, где уже начиналось празднество. Поймал себя на том, что ищет среди женщин Марию, ее длинное, волнуемое походкой тело, красивую, выточенную из черного дерева голову. Он хотел пройти на открытую веранду, полюбоваться бирюзовой лагуной, но у входа стоял автоматчик. Веранда была оцеплена, шла подготовка к вечернему банкету.
– Доброе утро, – сказал секретарь, окликая его с улыбкой. – Как спалось? Снились африканские сны?
– Представляете, ни одного слона, ни одной ритуальной маски. Африка без снов.
– Ночью в Луанде была стрельба в районе порта. Сорвана попытка боевых пловцов взорвать танкер с нефтью. Кубинцы передали, что вчера в воздушном бою над Лубанго они сбили одну «Импалу». В городе в целом спокойно.
– Вчера говорили о возможном покушении на Сэма Нуйому. Он участвует в празднике?
– Сэм Нуйома в городе. Предприняты все меры безопасности.
Они ехали по городу среди розового камня и стекла, на которых пузырились от ветра матерчатые транспаранты и лозунги. Было много портретов президента душ Сантуша. Черные, во весь фасад, солдаты в камуфляже воздевали автоматы Калашникова. Надписи «Борьба продолжается!» и «Мы победим!» пересекали небо над проезжей частью. Изделия пропаганды были аляповаты, наивны, напоминали развешанные на веревках простыни и рубахи, едва прикрывали монументальные дорогие фасады построенных португальцами зданий. «Белье революции», – думал Белосельцев, проезжая под белым, плещущим на ветру транспарантом, прославляющим армию, замечая заколоченные витрины бывших магазинов и ресторанов, обшарпанные, утратившие свое назначение конторы и офисы.
Они оставили машину на пустыре, среди других, неловко расставленных автомобилей. Сквозь цепи солдат, многократно предъявляя пропуск, прошли на трибуны под тентами. Мерцала пустая горячая площадь, готовая принять демонстрацию. За пятнистыми цепями солдат шевелилось, шумело и булькало черное варево толпы. Воздух над домами был туманный, в душных испарениях, и на крышах, среди антенн и рекламных конструкций, пропадали и возникали на солнце автоматчики.
– Виктор, здравствуйте! – его окликнула Мария, радостно, как старого знакомого. Она сидела на деревянной скамье, в нежно-зеленом платье, темно-коричневая, яркая, с малиновыми губами, большими, радостно сверкавшими белками, похожая на сочный тропический плод. С ней рядом был Чико, вчерашний спутник, в той же красной рубахе, под которой мощно выступали грудные мышцы, чугунно-черные бицепсы, литая округлая шея. Увидев Белосельцева, он нахмурился, его бицепсы набрякли волнистыми венами, словно в них накачали кровь. Но эта мгновенная агрессивность сменилась дружелюбной улыбкой. Он протянул Белосельцеву темную сильную руку:
– Доброе утро. Поздравляю вас с праздником.
– Чико – друг моего мужа, – сказала Мария, заметив эту моментальную, непроизвольную вспышку враждебности. – Они вместе были в той операции в Претории, когда Авеля ранили и взяли в плен. Чико руководит нашей общиной в Мозамбике. Не сомневаюсь, он достигнет высоких постов в Африканском национальном конгрессе.
– Мы радуемся успехам ангольцев, – сказал Чико. – Они имеют свое государство, имеют своего президента. Им трудно, но им помогает Куба, помогает Советский Союз. Я верю, что очень скоро мы проведем свою свободную демонстрацию в Претории, будем приветствовать нашего президента.
– Вы к нам приедете, Виктор. Я познакомлю вас с Микаэлем. Чико позаботится, чтобы на трибуне гостей вам выделили самое почетное место.
В этой прелестной молодой африканке и в сильном красавце присутствовала неисчезающая тревога, которая не оставляла их в праздничный день, среди друзей, красочных полотнищ и флагов. Словно им была нанесена незаживающая травма, и они помнили орудие этой травмы, ожидали повторения боли.
– Принимаю ваше приглашение, – сказал Белосельцев. – Через год мы встретимся на празднике в Претории и будем рукоплескать президенту Манделе.
Двумя рядами выше он увидел Маквиллена, его белый костюм, золотой браслет на запястье, которым он взмахивал, приглашая Белосельцева к себе.
– Я был в Рио-де-Жанейро, на маскараде, – сказал Маквиллен, когда Белосельцев опустился рядом с ним на теплую полированную скамью. – Сейчас мы увидим нечто подобное, только будет меньше павлиньих перьев и больше автоматов.
Ирония Маквиллена была не злой. Он трунил, как взрослый добродушный человек, наблюдающий игры детей. Этими детьми были гости на трибунах, солдаты охраны, снайперы на крышах, множество темнолицых нетерпеливых людей, столпившихся за оцеплением, радостно взиравших на дешевые нарядные транспаранты.
Верхние ряды были накрыты брезентовыми, затеняющими солнце тентами. Под ними восседали виднейшие деятели партии и государства, министры, дипломаты, именитые граждане. Все они, и мужчины и женщины, были одеты в камуфляжную форму, в одинаковых, защитного цвета картузах. Демонстрировали народу аскетизм, солидарность с воюющей армией, которая сражалась на севере и на юге страны.
Среди знойного неба раздался треск вертолета. Толпа, словно черная вода, колыхнулась и зарябила. По трибуне понеслась колючая горячая пыль, поднятая лопастями. Машина опустилась на пустырь, к ней побежали солдаты. Разъяли толпу, действуя прикладами, проложили тесное сплошное русло, по которому к трибунам прошли президент душ Сантуш и Сэм Нуйома. И пока они поднимались, неторопливые, в пятнистой форме, среди рукоплесканий, наклоняя головы в сторону поднявшихся соратников, под крики и ликование толпы, Белосельцев вдруг испытал острый страх. Ожидание выстрела, после которого высокий и тучный Сэм Нуйома с тяжелой, ярко седеющей бородой станет оседать. Опрокинется, завалится со стуком на деревянные ступени, и брезентовый полог на подломившихся шестах накроет мятущихся, истошно кричащих людей.
Но выстрела не было. Оба лидера поднялись на центральное, затененное тентом место. Усевшись, озирались с улыбками, позволяя народу ликовать. Черный вар толпы вскипел, колыхнулся. Оцепление стало выгибаться, и вторая цепь солдат набежала, теснила толпу обратно, пуская в ход гуттаперчевые дубинки.
Белосельцев рассматривал обоих вождей, их улыбки, вольные позы, их обращения друг к другу, когда душ Сантуш наклонял к соседу молодое, с курчавой бородкой лицо и Сэм Нуйома, открывая в бороде яркие крепкие зубы, что-то терпеливо ему объяснял.
Президент Анголы душ Сантуш недавно обрел власть в богатой стране с остатками взорванной цивилизации португальцев, рассеченной надвое гражданской войной, в которую мировые державы, как в топку, вливали неиссякающий ручеек горючего. Измученный, полуголодный народ, управляемый партией, желал не просто мира и сытости, а осуществления обещанного скорого рая, во имя которого партия подняла его на восстание и черные лесные охотники рыли звериные ямы, улавливали португальские танки, бушмены деревянными стрелами обстреливали броневики, хоронили своих героев под грохот партизанских тамтамов. Этот рай по-прежнему возвещался матерчатыми транспарантами, накрывавшими своей дешевой размалеванной тканью фасады разбитых заводов, очереди у пустых магазинов, зарастающие плантации кофе. Молодой президент душ Сантуш, хозяин разоренной страны и автор матерчатых лозунгов, удерживал в народном сознании образ рая. Управлял клокочущей, похожей на кипящий асфальт толпой с помощью автоматчиков, флагов и музыки. Толпа давила, выгибала оцепление, ликовала и славила президента под ударами резиновых палок.
Сэм Нуйома был немолод, грузен, затянут в камуфляжную форму, почти сливавшуюся с пятнистыми мундирами охраны. Среди черной, с седыми клочьями бороды шевелились розовые пухлые губы, белела яркая молодая улыбка. Он был старейший из африканских вождей, что начинали великий африканский поход против колониальных империй. Самым опытным, изощренным из тех, кто правил сейчас в Мозамбике, Танзании, Замбии и Гвинее-Бисау. Его друзья, воевавшие в джунглях, жившие в блиндажах и землянках, сидят теперь в президентских дворцах, ездят на «Кадиллаках», принимают иностранных послов. И только он, Сэм Нуйома, был все еще не в Намибии, не в Виндхуке. Партизан и подпольщик, он, уклоняясь от покушений и взрывов, избегал арестов, перелетал из Нью-Йорка в Москву, из фронтовых землянок Кунене в Дар-эс-Салам и Луанду. Ибо враг в Претории был слишком могуч. Слишком богаты ураном были пески Калахари. Слишком обильны алмазами были кемберлитовые трубки пустыни Намиб. Рудовозы вывозили уран на обогатительные заводы Америки. Бриллианты «Дебирса» сверкали на аукционах Европы. Сэм Нуйома посылал боевиков-партизан взрывать водоводы «Россель ураниум», обстреливать из минометов авиационные базы врага. Разрушал экономику оккупантов, каждым рейдом, каждым налетом и взрывом приближал победу, все еще бесконечно далекую.
Так думал Белосельцев, наблюдая двух африканских вождей, демонстрировавших тесную дружбу, скрывавших от неведающих глаз отношения зависимости и превосходства, тайной ревности и соперничества.
– Ты думаешь, Виктор, они сидят на деревянных лавках под брезентовым тентом? – улыбнулся Маквиллен, разглядывая черных вождей. – Они сидят на советских танках, прикрытые кубинской ПВО. Ты здесь самый главный человек, Виктор. Это тебе рукоплещет толпа. Встань, помаши рукой!
Из невидимых репродукторов, из белесого солнца ударила плотная бравурная музыка, стучащая, повизгивающая, кидающая пышные сочные звуки. И под эту музыку на черную, словно политую маслом площадь стала выходить первая медленная колонна.
На открытом грузовике плавно вращался синий огромный шар, исчерченный градусной сеткой, с красными звездами мировых столиц, с самой крупной звездой – Луандой. От проволочной радиомачты, установленной в центре звезды, расходились мигающие лампочки, пульсирующие волны эфира. Перед синим шаром за телетайпом сидела чернолицая девушка, стучала по клавишам, срывала бумажную ленту. Вдоль борта машины был начертан броский лозунг: «За правдивую информацию. Против империалистической дезинформации». Толпа восхищенным гулом встретила появление шара. Девушка за телетайпом, чувствуя этот тысячегрудый вздох и восторг, сильнее забила по клавишам, оторвала и кинула над толпой полетевший завиток бумаги.
– Ты знаешь картину Пикассо «Девочка на шаре»? – наклонился к нему Маквиллен. – Кажется, она висит у вас, в Москве. Жара, пустыня, пыльный мяч с циркачкой, огромный негр и одинокая белая лошадь. Я чувствую себя одинокой белой лошадью среди черных негров и синих шаров. – Маквиллен рассмеялся, и насмешка его была не над картонной планетой и наивными африканцами, а над самим собой, похожим на печальную одинокую лошадь.
Музыка дребезжала, словно площадь выстилали блестящей фольгой. На этот волнуемый блеск выплывал корабль, сколоченный из фанерных щитов, с желтыми нарисованными иллюминаторами, с неровно проведенной красной ватерлинией, словно это был детский рисунок. Из трубы валил настоящий дым. Капитан на мостике, черный, курчавый, в ослепительно белой форме, крутил штурвал.
Матросы дружно драили швабрами палубу, подпрыгивали, скрещивали ноги, будто танцевали «яблочко». Юнга белозубо скалился, ловко изгибался, как кошка, тер тряпкой медный корабельный корпус. Проплывая мимо трибуны, корабль загудел. Капитан сильней закрутил колесо. Юнга замелькал, заметался, превращая компас в слепящий блеск. Лозунг, повешенный на борт корабля, гласил: «Создадим ангольский торговый и рыболовецкий флот». Президент душ Сантуш привстал, помахал капитану рукой.
– На этом фанерном ковчеге из Анголы уплывет Карл Маркс, – смеялся Маквиллен. – Когда он станет огибать мыс Доброй Надежды, мы отсалютуем ему из детских хлопушек. – В этой шутке не было язвительности, а присутствовала симпатия к умельцам, соорудившим забавное изделие, отдаленно напоминавшее корабль, который они однажды увидели издали.
Белосельцев снова испытал мгновенный страх. Ему померещилось, что начинает открываться желтый кружок иллюминатора и в темном отверстии скользит вороненый металлический луч. Но это был обман, тень на мятой фанере. Бутафорский корабль качался, словно вышагивал облаченный в чехол верблюд. Удалялся, оставляя тающую бахрому копоти.
Страх, который испытывал Белосельцев, витал над трибунами, реял в пыльном белесом солнце, имел свой источник, который постоянно менял расположение. То возносился к крышам, где, едва заметные, засели автоматчики. То опускался в толпу, в неразличимо темное скопление лиц. То помещался в медлительных, из фанеры и цветной бумаги склеенных муляжах. Кто-то присутствовал здесь, зорко наблюдал за намибийским вождем, ждал мгновения, чтобы выпустить в него точную пулю.
На платформе на площадь выкатывала красная кирпичная домна, склеенная из папье-маше. Бригада сталеваров, голых по пояс, лакированных, потных, напрягая мускулы, пробивала железным штырем летку. Малиновая сталь, сделанная из цветного, подсвеченного целлофана, бежала под ноги сталеваров. Те воздевали крепко сжатые кулаки, рапортовали своему президенту о пуске домны. Лозунг на платформе гласил: «Создадим ангольскую металлургию».
– В основе этого действа лежат народные поверья и ритуальные танцы, с помощью которых африканцы вызывают дождь, исцеляют болезнь, выпрашивают у божества обильный урожай или удачную охоту. – Маквиллен серьезно и внимательно рассматривал домну. – Народ верит, что благодаря этим магическим действиям они построят социализм и сделают Анголу счастливой. Ваши советники привезли им эту мечту, а местная власть поддерживает ее с помощью праздников и фестивалей. Хотя бумага, клей и картон – недолговечный материал и разрушается очень скоро.
Мимо трибун проехал огромный медлительный трактор, сделанный из пенопласта, символ будущего ангольского машиностроения. Статные, мускулистые юноши пронесли на руках надувной аэроплан, символ будущего воздушного флота. Сколоченный из досок, ярко раскрашенный, с миганием индикаторов, проплыл компьютер, похожий на ритуальную маску. На грузовике провезли высокую клеть, в которой по-обезьяньи дергались и скакали актеры, изображавшие спекулянтов, воров и контрреволюционеров. Солдат с автоматом стерег обезвреженных врагов.
Толпа восхищалась, волновалась, пританцовывала. Качалась в такт ударникам, дудкам и струнным инструментам. Молитвами, воздыханиями помогала своему президенту строить рай, превращать матерчатых кукол, макеты и муляжи в электронную и металлическую цивилизацию. Так мимо зыбких трибун, под музыку и восхищенные возгласы, проплыл пенопластовый социализм, порождая у Белосельцева чувство острой любви к наивным и верящим людям. Кончится праздник, разойдется усталый народ. В костре на свалке будут догорать деревянный корабль и бумажный компьютер. Бездомный старик утащит в нищий шалаш кусок разноцветной материи.
С длинной, разносимой репродуктором речью выступил президент душ Сантуш. Жестикулируя, поднимая заостренную руку, сжимая ее в кулак, он говорил со свистящими, рокочущими интонациями, напоминавшими верещание птицы. Едва понимая португальский язык, Белосельцев улавливал, что речь идет все о той же борьбе, о жертвах, которые нужно заплатить за построение рая. Бои ангольских бригад, чествование павших героев, оружие, поступающее в страну от союзников, должны укрепить дух ангольцев. Толпа окаменела и замерла, внимая президенту. Казалась огромной глыбой черного кварца, в которую превратил ее могучий повелитель. Не двигалось остановившееся в небе солнце. Замерли, как изваяния, автоматчики на крышах. Перестала шевелиться листва на деревьях, околдованная волшебными словами. Двигался и говорил лишь один человек, выдыхая из пухлых губ верещащие звуки, имеющий власть над духами, повелевающий людьми и светилами.
Умолк, мановением руки снял волшебство. Толпа, очнувшись, наделенная новой энергией, готовая терпеть, сражаться, сносить лишения, взорвалась неистовым ревом, рукоплесканиями. Солнце, затуманенное дыханием толпы, двинулось в белом горячем небе.
– Слово, произнесенное под удары тамтама в Африке, достигает целей, для реализации которых в Европе содержатся армии, – сказал Маквиллен, взволнованный и серьезный.
Демонстрация завершилась. Душ Сантуш и Сэм Нуйома покинули трибуну, сквозь строй солдат ушли к вертолету. Машина, подымая колючую пыль, улетела. Вместе с ней улетучилось, словно утекло в размытую воронку солнца, чувство опасности, пугавшее Белосельцева. Оно было наваждением духов, как бумажная, ярко намалеванная маска колдуна, которую пронесли перед ним через площадь.
– До встречи на вечернем банкете, – сказал, подымаясь, Маквиллен. – Мне нужно повстречаться с помощником министра экономики. А вечером увидимся.
– Виктор Андреевич, – окликнул Белосельцева секретарь посольства. – С вами хотел повидаться Аурелио. Он ждет вас в кафе на набережной.
С пустыря разъезжались автомобили. Выруливали, громко сигналили, пробивались в густой толпе. Сквозь стекло на них посмотрел какой-то мальчишка с красным флажком, весело щелкнул по капоту ладонью.
Они сидели с Аурелио в кафе, за столиком, на открытом воздухе, под огромной цветущей акацией. Казалось, в кроне был расположен лиловый прожектор. Напряженные лучи летели из дерева, как лопасти, во все стороны. Стаканы с напитком, руки и лицо Аурелио, земля, выложенная плитками, – все было лиловым, светящимся. Прохожие, попадавшие под ветви акации, превращались в лиловые тени. Сам сладковатый душистый воздух, окружавший дерево, источал радиацию, был наполнен лиловым туманом.
– Вчера ночью вы купались в океане. Это опасно. У камней водовороты, течения. Вы могли удариться. Вас могло унести в океан. – Аурелио держал стакан, который светился, как реторта с лиловым настоем. Глубокий шрам на его щеке был наполнен лиловой тенью. – Как Маквиллен? Вечером, когда вы беседовали, он изрядно выпил. У него не развязался язык?
– Он фантазировал, говорил об африканской мистике, о бабочках. Ничего существенного. – Белосельцев понял, что за ним наблюдали. И в то вечернее время, когда он беседовал с Маквилленом в баре. И позже, когда с полотенцем спустился на темный берег. И когда один, казалось, в полном безлюдье, погружался в ночной океан. Все это время за ним следили невидимые внимательные глаза, которые и теперь, не обнаруживая себя, продолжали следить. Белосельцев медленно повел зрачками, стараясь обнаружить невидимку. Черный официант повернулся спиной, рассеянно вытирал полотенцем стакан. Две молодые африканки в желтых и зеленых блузках, похожие на пестрые целлулоидные игрушки, тянули из соломинок «Фанту». В море, на белой, как молоко, воде туманился танкер. И только из цветущего дерева, как из огромного лилового глаза, летели лопасти света, словно в ветвях, окруженный душистыми купами, прятался соглядатай.
– Мы пытаемся отслеживать его контакты. Но очень трудно понять, где у него агентурные, а где деловые связи. Быть может, они совпадают. – После бессонной ночи, облав и допросов Аурелио выглядел утомленным и вялым. Его кожа, волосы, мочки ушей источали лиловый свет, словно трубка рекламы, наполненная светящимся газом. Так светится индикатор радиационной опасности. Они сидели в накаленном реакторе огромной цветущей акации, и она облучала их своим туманным заревом. – Завтра утром вы и Маквиллен вылетаете транспортным рейсом в Лубанго. Часом раньше туда летит Сэм Нуйома. Я буду вместе с ним. Он летит в лагеря партизан готовить рейд на Виндхук. Маквиллен знает о поездке Сэма Нуйомы. Это важно для нашей операции…
Дерево источало сладкий дурман. Запах вместе с цветным туманом проникал в легкие, обжигал гортань, дыхательные пути. Голова начинала кружиться. Это был веселящий газ, который туманил сознание, порождал галлюцинации. Словно в дереве, ухватившись за ветки, сидел лиловый колдун, улыбался, смотрел на Белосельцева выпуклыми смеющимися глазами. Путал мысли, насылал видения.
– Цель операции – обмануть командование батальона «Буффало». Направить его по ложному следу. Подвести под огонь ангольских бригад. Разгром батальона спасет партизанские базы Сэма Нуйомы, поможет ему вернуться в Намибию. Ваша связь с Маквилленом, сведения, которые ненароком вы ему сообщите, позволят обмануть батальон…
Белосельцев пьянел от сладких благоуханий акации, от ее цветущих ветвей, горящих прозрачным пламенем спирта. Словно на лицо ему наложили маску, раскрашенную многоцветными глинами, полосатую от ритуальных надрезов, инкрустированную морским перламутром. Ему казалось, что пространство, в котором он пребывал, бесконечно расширяется. Объем, в котором стоит их столик, цветет акация, туманится на водах корабль, помещен в другой, более обширный объем, где тоже находится столик, цветет лиловое дерево, застыл в океане корабль и двое людей ведут разговор о разгроме батальона «Буффало». Но и этот, второй объем был частью третьего, где непомерно огромные люди сидели за столиком, цвело лиловое дерево, корабль застыл на белой воде. Это расширяющееся, исходящее одно из другого пространство было следствием чар, которые навевал на него древесный колдун. Белосельцев боролся с чарами, сжимал объемы, и они уходили один в другой, в мерцающую лиловую точку. И это было похоже на обморок.
– Сейчас «Буффало» продвигается к океанскому побережью в район Порту-Алешандри. Там сгружается с кораблей продовольствие и оружие для партизанских лагерей Сэма Нуйомы. Через неделю туда прибудет советский транспорт с партией старых танков «Т-34», которые примут участие в походе на Виндхук. «Буффало» хочет разгромить пути снабжения, лишить партизан продовольствия и боеприпасов. Мы должны изменить маршрут батальона. Мы покажем Маквиллену десант советской морской пехоты в районе Порту-Алешандри. Через свою агентуру он оповестит об этом командование батальона, и оно изменит маршрут…
Фиолетовый африканский куст превращался в летнюю веранду на даче, где собиралась их большая семья. Бабушка с братьями, мама. Кипел на столе самовар, бабушка хлопотала, разрезала душистый пирог. И один из дедов внес на веранду, поставил в стеклянную банку огромный букет сирени. Все восхищались, нюхали влажные кудрявые купы. Мама подошла, поцеловала букет, и он заметил, как в ее волосах повис крохотный фиолетовый крестик.
– Второй этап операции – разгром батальона «Буффало». Вы невзначай проговоритесь Маквиллену, где и когда большой отряд партизан пересечет границу Намибии и уйдет на диверсию. Батальон устремится на перехват партизан и окажется в огневом мешке ангольских бригад. В дружеской беседе, за стаканом виски, журналист из Москвы и коммерсант из Претории могут быть откровенны. Один слегка развяжет язык, а другой услышит, поверит…
Цветущая акация была наполнена прозрачным пылающим воздухом. Хотелось войти в него, почувствовать, как загораются одежда, волосы и он исчезает, превращаясь в лиловый факел. Жизнь сгорала, оставляя после себя сладостное головокружение прожитых лет, невнятные образы мужчин, в которых когда-то стрелял, и женщин, которых когда-то любил. И когда-нибудь в старости будет тихий зимний денек, пустая изба, из которой ветер выдувает тепло, и он, в полудреме, прижимаясь спиной к печи, вдруг вспомнит этот солнечный день, туманный на водах корабль, и в сумерках деревенской избы расцветет африканский лиловый куст, озарит его прожитую долгую жизнь.
– Все это время мы будем отслеживать его агентурные связи. Завершим операцию и ликвидируем его агентуру. – Аурелио тер виски, осторожно, смуглыми пальцами давил себе на череп, сжимал мочки ушей, словно боролся с мигренью, рассылал из чувствительных точек импульсы животворной энергии. Куст акации и его отравлял сладким ядом, мутил и дурманил рассудок. Как и Белосельцев, он боролся с чарами лилового колдуна.
– Моя главная цель – вербовка Маквиллена, – сказал Белосельцев, защищаясь от ядовитой пыльцы, мысленно надевая непроницаемый прозрачный скафандр. – В Центре мне не сообщили об этих побочных заданиях.
– Они являются предпосылкой для достижения главной цели.
Они допили напиток, синеватым цветом напоминавший жидкий азот. Аурелио довез его до отеля. Едва Белосельцев переступил порог номера, как почувствовал неодолимую сонливость, словно его обкурили зельем. Упал в постель и заснул, неся под веками лиловое свечение, будто их залепили лепестками акации.
Глава четвертая
Он проснулся под сладостные звуки блюза, которые во сне казались густым медом. Звуки медленно, словно грунтовые воды, подымались по этажам, просачивались сквозь стены и окна, подступали к изголовью кровати. Он открыл глаза. Было темно. Внизу играла медленная музыка живого оркестра, насыщенная медным дыханием саксофонов и труб, печально ахающими тарелками, рокотом ударников и барабанов. Там, внизу, начинался прием, и ему потребовались минуты, чтобы облачиться в темный легкий костюм, повязать перед зеркалом нарядный шелковый галстук и пригладить волосы мокрой щеткой. Он был свеж, остро чувствовал приближение вечернего торжества, сулившего ему новые переживания и встречи, торопился погрузиться в сладостное звучание блюза, похожего на вялый океанский прилив.
Холл был переполнен. Колыхались вольные пышные одеяния, пестрые африканские ткани. Двигались тюрбаны, накидки, шитые бисером шапочки. Мелькали смокинги, европейские дорогие костюмы. Появлялись фиолетовые, с яркими белками африканцы, смугло-коричневые, подвижные мулаты, индусы с влажными ласковыми глазами. К подъезду подкатывали дорогие автомобили с хрустальными фарами. Слуги кидались открывать дверцы, выпускали из машин чернокожих дам в вечерних туалетах, в мехах, блистающих дорогими ожерельями и браслетами. Их чернокожие мужья, в дорогих парадных костюмах, белоснежных рубахах, выступали торжественно, властно, величаво поправляли манжеты с золотыми запонками, булавки на галстуках с темным мерцанием алмазов.
У выхода на веранду стояла охрана, автоматчики. Служители просматривали пригласительные карты. Оглаживали мужские и женские одеяния детектором, словно стряхивали невидимые пылинки. Белосельцев приподнял руки, позволяя осмотреть и огладить себя, испытав мгновенную, неясную тревогу, подобную той, что посетила его накануне. Тревога улетучилась, когда, оказавшись в тесном скоплении нетерпеливых мужчин и женщин, источавших запах французских духов и вкусного табачного дыма, он миновал охранников и оказался на открытой веранде.
В бархатной темноте, под прохладным небом горела иллюминация. Драгоценно, хрупко белела балюстрада, за которой мерцало чернильное море, озаренное у берега золотым отражением. На столах под белыми скатертями светились груды тарелок, скопления рюмок, длинные фарфоровые блюда, наполненные мясом, птицей, рассеченной на ломти рыбой. Повсюду были расставлены вазы с фруктами. Искрились батареи бутылок. Официанты с подносами разносили крохотные сандвичи, розовые ломтики мяса, насаженные на деревянные иглы. Гости подходили к столам, накладывали на тарелки еду, принимали из рук официантов бокалы с напитками. В стороне, отделенные от остальной веранды металлической мерцавшей цепочкой, оберегаемые телохранителями, стояли два кресла.
– Для народных вождей. – Маквиллен тронул его за рукав, кивая на ограждение. – Они всегда немного опаздывают из-за обилия государственных дел. – Он был весел, ловок. Его движения были точны, энергичны. Синие глаза зорко всматривались. Он согнул остро локоть, выставил плечо, слегка наклонившись, прищурился. Стал вдруг похож на бильярдиста, который оглядывает зеленое сукно с пирамидой костяных шаров, перед тем как взять кий и ударить.
На возвышении играл джаз, строгий, респектабельный, в смокингах, галстуках-бабочках. Саксофонист погружал в пухлые губы мундштук серебряного изогнутого инструмента, и временами был виден его сочный алый язык. Трубач двигал медное колено, выдувая из раструба хриплые гортанные звуки, направляя в разные стороны свое пропущенное сквозь медь дыхание. Ударник не поднимал глаз, вслушивался в неслышные, ему одному доступные ритмы близкого моря, туманного звездного неба, отдаленно мерцавшего города, лишь изредка вторил им рокочущими и звенящими ударами.
– Ты помнишь аскетических, в камуфляже и военных ремнях чиновников, которые утром созерцали парад? – Маквиллен тонко улыбался, язвительный, веселый, всевидящий, похожий на Мефистофеля. – Это те же самые люди. Но теперь им не нужно притворяться, народ их не видит. Еще недавно они были слугами португальцев, стригли их газоны, мыли автомобили, убирали особняки. Они подглядели, как их хозяева обедают, управляясь ножами и вилками, как наливают в бокалы вино, обернув бутылку салфеткой, как, собираясь на праздник, вешают себе на шею ожерелья. Они прогнали португальцев, вселились в их дома, уселись в их автомобили, завладели их драгоценностями. Они хотят походить на своих прежних хозяев, а не на тех солдат, которые сейчас служат в ангольских бригадах, или на тех крестьян, что чахнут от засухи в нищих кооперативах. Утром они называли друг друга товарищами, а сейчас господами. Они мечтают стать европейцами, и, если бы можно было пересадить себе белую кожу, уверяю тебя, они пошли бы на эту мучительную операцию.
К ним подошел высокий курчавый африканец, протягивая для пожатия гибкую, с розовыми ногтями ладонь. Что-то произнес по-португальски, белозубо улыбнулся, кивнув на Белосельцева. Похлопал по плечу Маквиллена и, по-военному отсалютовав, отошел, ловко снимая с проплывавшего подноса стакан виски.
– Это заместитель министра торговли. Он сказал, что видел тебя утром на демонстрации. Он только что вернулся из Кельна, где вел переговоры на поставку партии правительственных «Мерседесов». Его сын учится в Лиссабоне, осваивает профессию менеджера. Мы оказываем друг другу мелкие коммерческие услуги.
Маленький изящный анголец с продолговатой, бритой наголо, похожей на черное яйцо головой остановился перед ними. Маквиллен вынужден был наклониться, чтобы пожать ему руку. Они любезно обменялись несколькими португальскими фразами, а потом африканец по-русски сказал:
– Здравствуйте. Как дела? Хорошо? Я учился Ташкент. Хорошо, красиво. Тепло, как Луанда, – и удалился, маленький, аккуратный, словно выточенный из эбенового дерева, в которое были инкрустированы белые, как морская галька, глаза.
– Помощник министра обороны. Учился у вас на специальных военных курсах. Его жена – португалка, дочь португальского полковника, который раз в год обязательно бывает в Луанде.
Маквиллен экспонировал Белосельцеву участников раута, отыскивая в каждом маленькую характерную деталь, из которой было видно, что он знает подноготную каждого, владеет обширным досье на правительственных чиновников и военных. И было неясно, поддразнивает ли он Белосельцева своей осведомленностью разведчика или же на правах друга приоткрывает ему завесу над хитросплетениями ангольской политики.
Медленно лавируя среди гостей, к ним приближалась двухэтажная тележка, уставленная бутылками и стаканами, с серебряным ведерком, полным влажных кубиков льда. На нижнем ярусе тележки, на овальном блюде красовался огромный розовый лобстер – вытянул пупырчатые глазированные клешни, подогнул перепончатый хвост, выпучил красные костяные шарики глаз. Тележку толкал знакомый бармен, тот, что накануне ловко, как фокусник, подбрасывал в воздух бутылки, размешивал цветные коктейли. Его появление породило в Белосельцеве мгновенную тревогу, и волна тревоги, как ветерок, набежала и канула, улетучилась за белой балюстрадой, над золотым отражением моря.
– Карлош, налей нам виски. – Маквиллен дружески обратился к бармену. – Мы с другом встретились здесь, в Анголе, чтобы ловить африканских бабочек и любоваться океанским прибоем.
– Ваш друг любит природу? – сдержанно улыбнулся бармен.
– Он любит природу, поля сражений и любит Африку, куда прилетел из снежной далекой России.
– Пусть в Африке ему будет так же хорошо, как дома. – Бармен опрокинул над стаканами толстобокую бутыль. Глазами спросил у обоих, хотят ли они льда. Ухватил щипцами сверкающие кубики и ловко уронил их в звякнувшие стаканы. Улыбнулся узкими губами и покатил дальше свою тележку, на которой, словно морской царь под балдахином, розовел на серебряном блюде величественный глазированный лобстер. И опять тревога, как холодный ветерок, коснулась разгоряченного лица Белосельцева, и он не мог объяснить природу этих воздушных дуновений.
– За Африку! – поднял стакан Маквиллен. Белосельцев, чувствуя языком горькое жжение напитка и тающего ломтика льда, пил и смотрел, как качается серебряный хобот саксофона, вырастая из фиолетовых губ музыканта. – Я тебя ненадолго покину. Скажу пару слов военному атташе Мозамбика.
Маквиллен удалялся, гибкий, скользящий, словно струился среди вечерних туалетов и смокингов, оставляя в воздухе слабое, гаснущее свечение.
– Виктор, добрый вечер. – Белосельцев оглянулся и увидел Марию. Она была в том же нежно-зеленом шелковом платье, что и днем, на трибунах. Здесь, в сумерках веранды, под ночными огнями, она показалась Белосельцеву пленительной со своей гладкой черно-коричневой кожей, влажными большими белками, мягкими, тронутыми малиновой помадой губами. На ее гибкой шее и полуоткрытой груди белела тонкая нитка жемчуга, и он залюбовался этим лунным жемчужным бисером, мерцавшим на темном бархате. – Хотела к вам подойти, но вы были заняты разговором.
– А где же Чико? – Белосельцев был рад отсутствию ее строгого спутника, который, казалось, над ней надзирал. Был ее стражем, не давал ей забыть об узнике Робин-Айленда, с которым сочетало ее тонкое золотое колечко.
– Он не мог прийти. У него важная политическая встреча.
– Тогда я стану вас охранять.
Белосельцев сделал шаг в сторону, к столу, из-за которого взирал на них любезный африканец в белом жилете и розовой бабочке. Указал на два шарообразных, похожих на светильники бокала, на бутылку черного вина. Смотрел, как плещет на дно бокалов красная густая струя. Подхватив бокалы под круглые бока, вернулся к Марии.
– Пусть в этот чудесный праздничный вечер вас оставят печали, – сказал он, отдавая ей бокал, видя, как ее длинные, чуть выгнутые, гибкие пальцы обхватывают стекло. – Рано или поздно печали непременно уйдут, и вы снова станете счастливой.
– Благодарю, – сказала она, поднимая на него свои влажные благодарные глаза, веря, что эти произнесенные от сердца слова приблизят счастливые дни. – Мне здесь хорошо.
Сладость первого опьянения состояла в том, что тяжелые спрессованные пласты бытия, в которые, как окаменелости, были вмурованы заботы и тайные страхи, эти пласты стали расслаиваться, умягчаться. Над ними всплывала легкая воздушная сфера, где чувства двигались быстро и вольно, как затейливые летательные аппараты, склеенные из цветной бумаги, наподобие воздушных змеев.
Стоящая перед ним темноликая женщина явилась из иной, недоступной Белосельцеву жизни, в которой на время остались ее тяжкие тайны, неисчислимые беды, ее упования и страсти. Она отрешилась от них ненадолго, чтобы вскоре туда вернуться, прожить среди них свои быстрые дни и исчезнуть, превратиться в горстку сухих костей, присыпанных красноватой африканской землей. И он, Белосельцев, оказался на этой озаренной веранде, у ночной лагуны с дрожащим золотым отражением, на один только миг, чтобы снова унестись обратно, в другую жизнь, наблюдавшую за ним из московских снегов. Но сейчас и он и она, необремененные, лишенные прошлого, отделенные от будущего сладким опьянением, легкие, как цветные бумажные змеи, парили в прозрачном пространстве, чувствовали краткую драгоценную легкость.
– Потанцуем? – спросил он, удивляясь своей внезапной смелости, кивая на оркестр, перед которым на веранде было пусто, гости чинно стояли, держа на весу тарелки и рюмки. Она секунду нерешительно смотрела на него печальными, влажными, как у антилопы, глазами и потом, соглашаясь, стала поднимать длинную обнаженную руку, положив на его протянутую ладонь выгнутые, напоминавшие темные лепестки пальцы. Он осторожно обнял ее за талию, почувствовав, как колыхнулась, мягко покатилась волна по ее спине и плечам. Они уже танцевали, и он, совершая по веранде медленную дугу, видел близко мерцающий жемчуг на ее шее, золотистый отсвет, скользнувший по ее смуглой груди, чувствовал тепло ее близкой, матово-темной щеки.
Они кружили среди медовых, тягучих звуков, выплывавших из горловины саксофона. Пожилой музыкант едва заметно и благосклонно направлял в их сторону сладостный рокочущий поток. Ударник легче и нежней взмахивал гремящими палочками. Трубач, раздувая круглые, как черные яблоки, щеки, выдвигал им навстречу медное колено трубы, воздевал к небесам сияющий голосистый раструб. И там, куда улетали печальные переливы трубы, в мягких затуманенных небесах сияли звезды, и кто-то прозрачный, как дымка, проницаемый для звуков и звезд, витал над лагуной.
– Завтра рано утром мы улетаем в Мозамбик, в Мапуту. Это наш первый и одновременно прощальный танец, – сказала Мария, и он увидел, что глаза у нее закрыты, выпуклые смуглые веки мерцают, как крылья бабочки, покрытые легкой серебристой пыльцой, а волосы, заплетенные в тугие косички, напоминают черно-синюю виноградную гроздь. – Мне бы хотелось запомнить наш танец. Теперь мне не скоро выпадет случай потанцевать.
Ее английские слова напоминали темные ягоды, которые она пробовала на вкус мягкими губами, слегка сминала, и он наслаждался сладким вкусом ее слов. Они приблизились к балюстраде, к близкой воде, которая плеснула на них черно-золотое отражение, и в этом отражении возник автоматчик, тревожные белки под беретом, тусклый отсвет оружия.
Белосельцев чувствовал драгоценную неповторимость медлительных кружений под мягкими фонарями, каждый из которых был окружен фиолетовой дымкой со множеством крохотных прозрачных существ, ударявших в стекло фонаря. Он чувствовал, как волнуется ее гибкая спина, какой твердый у нее под платьем сосок, какое ровное тепло исходит от ее близкой шеи с ниткой лунного жемчуга. И возникло страстное желание прикоснуться губами к этой жемчужной нитке, тесно прижать к себе ее теплый живот, ощутить ладонью, как напряглась и потом ослабела ее гибкая талия. Это желание держалось в нем, как сладкая обморочность. Он не отпускал эту сладость, наслаждаясь ее греховностью, невозможностью, ее перетеканием под медовые звуки оркестра в тончайшую муку и боль.
Музыка смолкла. Белосельцев остановил танец, еще продолжая прижимать к ее спине ладонь. Музыканты опустили инструменты. Гости расступились. Пробежала охрана. На веранду под аплодисменты прошли президент душ Сантуш и, отставая от него на полшага, Сэм Нуйома, оба в черных смокингах, белоснежных рубашках и бабочках. Уселись в глубине на креслах, отделенные от прочих гостей тонкой металлической цепочкой.
– Завтра я снова буду в Мапуту, – сказала Мария, отступая к балюстраде, касаясь острым смуглым локтем белых перил. – Я ведаю библиотекой в нашей коммуне. Готовлю пакеты с листовками, агитационную литературу. Наши товарищи нелегально уезжают в ЮАР, берут с собой оружие и листовки.
– Быть может, мне придется оказаться в Мапуту. И мы опять потанцуем.
Они стояли у балюстрады, и он все еще чувствовал эхо мучительного звука, который излетел из медной сладкоголосой трубы и исчез в невидимой ракушке, тихо звучал в глубине ее завитков. Этот звук не мог повториться. Танец не мог повториться. Их встреча была случайна, не могла иметь продолжения. Ему больше никогда не пожать ее гибких пальцев с тонким кольцом. Не коснуться рукой ее теплой сильной спины. Им предстояло расстаться, удалиться друг от друга на разные половины Земли, потеряться среди множества лиц, в круговороте земных событий, которые их вместе никогда не сведут. И, желая ей блага, отпуская ее навсегда, он просил у кого-то, прозрачно-мерцающего, беззвучно парящего над лагуной, сделать им на прощанье подарок. Запечатлеть их друг в друге. Оставить во Вселенной след их нечаянной встречи.
Музыка вновь зазвучала, но играл не оркестр, чьи инструменты лежали на дощатом полу веранды, словно влажные, изогнутые морские существа, вынесенные приливом на отмель. Звуки, визжащие, резкие, с грохотом барабанов и бубнов, неслись из темноты лагуны. Им вслед выплывала пирога, по бортам, по выгнутой корме и заостренному носу, по мачте с перекрестьями и широкому парусу очерченная мигавшими разноцветными лампочками. На вершине высокой мачты вращался прожектор. В его лучах танцевали африканские воины, колыхались у бедер шкуры, мотались перья головных украшений. Воины воздевали раскрашенные щиты, колотили в них копьями. Пирога была полна музыкантов, гребцов, отражалась в лагуне, метала по воде огненные стрелы отражений, гром тамтамов и дудок.
Гости прихлынули к балюстраде. Смеялись, указывали на пирогу. Из нее ударили ввысь огненные стебли. Взрывались с легким треском. Вся черная лагуна покрылась дрожащими огнями, бегущими змеями, золотыми волнами. В небе расцветали букеты, осыпались бесчисленными лепестками, драгоценной пыльцой, колючими семенами.
Гости ахали, аплодировали каждой вспышке, ликовали, как дети. Мария прижала руки к груди, восхищенно любовалась фейерверком. Белосельцев старался запомнить ее навсегда у черно-золотой лагуны, по которой уплывала волшебная пирога, наполненная танцорами, колдунами и воинами.
– Виктор Андреевич, – негромко окликнул его секретарь посольства. – Вы хотели, чтобы вас представили Сэму Нуйоме. Он ждет вас.
– Извините меня, – сказал Белосельцев Марии.
– Виктор. – Маквиллен появился с рюмкой. – Почему бы тебе и твоей красивой подруге не сесть на пирогу и не уплыть к священному берегу, где вы оба обретете бессмертие! – Глаза его ярко блестели, он был пьян, пытался остановить уходящего Белосельцева.
– Я скоро вернусь, Ричард, – улыбнулся в ответ Белосельцев. – Поговорю с Сэмом Нуйомой. Тогда мы выпьем и обретем бессмертие.
Секретарь проводил Белосельцева до металлической цепочки, что-то сказал громадному охраннику, чьи бока раздувались от укрытого под пиджаком оружия. Тот по-бычьи, исподлобья посмотрел на Белосельцева, словно поднял и потряс его вниз головой. Разомкнул цепочку, пропуская в отгороженное пространство.
Президент душ Сантуш стоя разговаривал с военным, чей мундир блестел золотыми погонами, красными нашивками, шелковыми шнурами и аксельбантами. Сэм Нуйома поднялся навстречу Белосельцеву, тучный, стареющий, но еще полный упрямой могучей силы, распиравшей его черный смокинг, белый ворот рубахи, над которым возвышалась крепкая, чернобородая голова с живыми, плотоядными глазами. Он ярко, белозубо улыбнулся, протягивая большую, как совковая лопата, ладонь, покрывая руку Белосельцева второй такой же лопатой.
– Мне сказали, что советский журналист хочет со мной говорить. Я очень люблю советских людей, у меня много среди них друзей.
Он был радушен, доступен, хотел обворожить. Осторожно и зорко высматривал в незнакомом человеке его слабые и сильные стороны, возможные опасности и выгоды. Скрывал за своей жизнелюбивой улыбкой накопленную в скитаниях усталость, разочарование, горечь несбывшихся ожиданий. Одолевал потаенные страхи и огорчения упорным, неодолимым стремлением, которое побуждало его десятилетиями метаться по миру, избегая пуль и арестов, меняя союзников, скрывая неутоленное честолюбие, зависть к удачливым друзьям, вовлекая в борьбу за свои идеалы политических лидеров, миллиардеров, священников. Советские транспорты сгружали на африканский берег в районе пустыни Намиб танки для его партизан. Его эмиссары в Германии договаривались о сохранности урановых копей. Его агенты в Амстердаме вели переговоры с «Дебирсом» о будущей, после его победы, судьбе кимберлитовых трубок. От него пахло вкусным дорогим одеколоном. Он держал в своих громадных теплых руках ладонь Белосельцева, улыбаясь ему, как старому другу.
– Советские люди пришли на помощь Намибии в самое трудное время. Знакомство с советским опытом делает меня марксистом. Мои европейские связи являются вынужденными, в период партизанской войны. После победы в Намибии мы будем строить социализм, так же, как строят его сегодня народы Анголы и Мозамбика.
– Редакция поручила мне написать репортаж о борьбе партизан Намибии. – Белосельцев заметил тонкую предосторожность собеседника, стремившегося оправдать свои неразборчивые связи, противоречивые заявления, путаные программы, цель которых – снискать благосклонность мировых держав, усыпить их бдительность, направить их ресурсы в свою борьбу. – Завтра я улетаю в Лубанго и прошу вашего позволения, господин Нуйома, посетить лагеря в Кунене, познакомиться с партизанскими буднями.
– Товарищ Нуйома! Я – товарищ! Мы все в этой борьбе друзья и товарищи. Я буду рад принять вас в наших лагерях и базах. Мы покажем вам все – как мы воюем, учимся, празднуем, верим в победу. У нас от советских людей нет секретов. Вы почувствуете нашу благодарность и нашу любовь.
– Советские люди восхищаются вашей борьбой. Они желают вам скорой победы. Моими репортажами я хочу приблизить вашу и нашу победу.
Эти слова прозвучали как тост. Сэм Нуйома оглянулся в поиске бокалов, которые они могли бы поднять с Белосельцевым. Охранник с угрюмыми глазами быка угадал их желание. Шагнул за цепочку, властно махнул рукой. На его взмах из толпы стала возникать знакомая двухъярусная тележка, уставленная бутылками и стаканами, подносом с крохотными слоистыми сандвичами, с серебряным блюдом на нижнем ярусе, на котором, словно морской владыка на троне, розовый, глазированный, красовался лобстер. Нетронутый, неразрезанный, вытянул костяные клешни, уперся в белую салфетку трубчатыми ногами, подогнул перепончатый веер хвоста. Тележку толкал рыжеволосый бармен, опустив лицо, осторожно лавируя между группами гостей. Были видны его ввалившиеся щеки, белые, толкавшие тележку кулаки, малиновая жилетка, пузырящиеся рукава рубахи.
– Советская революция разбудила Африку, породила африканскую революцию, – говорил Сэм Нуйома, поглядывая на колесницу с приближавшимся лобстером. – Народы Африки начали национальную войну против английской, французской, португальской империй и выиграли эту войну…
Бармен оторвал от белой салфетки два толстостенных стакана, поставил их на тяжелые литые донца. Откупорил золотистую бутылку шотландского виски с разноцветной наклейкой. Поочередно наполнил стаканы.
– Народ Намибии все еще находится под властью империалистов ЮАР. – Сэм Нуйома, еще не получив в руки стакан, уже начал тост. – Буры со своим фашистским режимом установили в Намибии диктатуру. Завладели нашим ураном и алмазами, мучают и убивают народ. Мы поднялись на священный бой за свободу и добьемся победы. «Мы за ценой не постоим», – как поется в вашей замечательной песне…
Бармен серебряными щипцами схватил кусочек льда, кинул его в стакан. Белосельцев видел, как блеснули в стакане золотистые искры. Второй прозрачный кубик с легким звоном упал в другой стакан. Сэм Нуйома протянул к тележке две больших руки, черных, жилистых, с аккуратными розовыми ногтями. Крепко обхватил стаканы.
– За нашу и вашу победу! – Сэм Нуйома протянул Белосельцеву стакан.
Бармен отодвинул тележку, стал класть щипцы в ведерко со льдом, неловким движением уронил щипцы на пол. Стал нагибаться, подбирая щипцы.
– Через несколько дней мы встретимся с вами в лагерях у границы, и вы увидите, как мы побеждаем! – Они чокались с Белосельцевым.
Бармен шарил руками, подбирая щипцы. Белосельцев делал глоток, отодвигая губами холодный, жалящий ломтик льда. Смотрел на шарящие руки бармена, которые, нащупав щипцы, не взяли их, а потянулись дальше, к тележке, к ее нижнему ярусу, к блюду с розовым лобстером. Толкнули розовое морское чудище, перевернули его вверх рыжим брюхом, на котором скрестились согнутые ломкие ноги. И там, где только что возлежал лобстер, на белой салфетке открылся черный вороненый пистолет. Бармен схватил его, стал гибко распрямляться, вытягивая руку с пистолетом в сторону Сэма Нуйомы, выцеливая его близкий коричневый лоб. Белосельцев, делая жаркий глоток, захлебываясь, продолжая видеть опрокинутого на спину желтобрюхого рака и косым испуганным зрением следя за стиснутым кулаком с пистолетом, толкнул ногой тележку, сильно, в сторону стрелявшего, успевая за мгновение до выстрела ударить его изогнутой хромированной ручкой. Выстрел раздался близко у глаз, толкнул в лицо грохочущий жар. Зрачки успели запомнить пышный цветок пламени с черным отверстием в центре, из которого вылетела пуля. Промахнулась, тронула седой вихор на голове Сэма Нуйомы. И пока бармен опускал подскочившую руку, готовя второй выстрел, с разных концов веранды, из темных углов, от блестящей цепочки ударило в него сразу несколько пуль. Огромный охранник, распахнув пиджак, вырвал из-под мышки оружие, стрелял в бармена, пока тот падал, сносил ему череп, пробивая рыжие волосы, выплескивая из головы красные буруны.
Охрана заслонила собой Сэма Нуйому и президента душ Сантуша, оттесняла их в темноту. Визжала, клубилась толпа, теснимая автоматчиками, которые прыгнули из-за балюстрады на веранду, гнали гостей, опрокидывали столы и посуду, стреляли очередями в воздух. Веранда пустела, усыпанная битым стеклом, упавшими боа, остатками еды и питья. Одиноко блестел брошенный саксофон. Белосельцев смотрел на убитого бармена, по-собачьи оскалившего мелкие зубы. Из расколотой головы вытекала липкая жижа. Огромный охранник уставил ему в висок длинноствольный пистолет, дико озирался, вращал белками, и казалось, что он подымет оружие, разрядит его в Белосельцева.
Глава пятая
Наутро они с Маквилленом улетали из Луанды на юг, на границу с Намибией, где в долине реки Кунене шли бои, горели национальные парки, стада слонов, спасаясь от пожаров, забредали в мелкую реку, оглашали дымные леса тоскливым трубным ревом. Советский транспорт с экипажем военных летчиков перевозил ангольских солдат на пополнение воюющих бригад, моторы к грузовикам, ящики с оборудованием для полевых лазаретов. Маквиллен выглядел уставшим и постаревшим. Сидел у иллюминатора, закрыв глаза, и в свете белесого солнца становились видны мелкие морщины у глаз, иссохшая кожа у рта, заострившийся нос. На его походной куртке оттопыривались карманы, у ног стоял дорожный баул, сверху лежала папка с медной застежкой, в которой он вез в Лубанго деловые документы.
Белосельцев среди полосатых теней, под мерный рокот винтов, вспоминал вчерашние зрелища. Огненная пирога на черной лагуне. Фейерверк, похожий на клумбу с лучистыми хризантемами. Танец с Марией и нитку лунного жемчуга. Тележку с розовым лобстером. Лежащий на белой салфетке пистолет. Пышное пламя выстрела с черным отверстием. И упавший бармен с пузырями из разбитого черепа.
Он старался вспомнить, как Маквиллен был включен в эти зрелища. С какими словами обращался к бармену. По какому поводу называл его «Карлош». Был ли он связан с покушением на Сэма Нуйому. Если был, то каким неосторожным жестом, неточным, необдуманным словом выдал свою связь с барменом. Не было жеста и слова. Оставалась уверенность, основанная на инстинкте, на зверином чувстве, на знании, которое добывало для Белосельцева чуткое, живущее в нем животное, подозревающее, предвидящее, предвкушающее. Оно извещало Белосельцева об опасности, которая еще не грозила. Опасность еще собиралась в молекулы. Пистолет еще не был заряжен. Пуля не лежала в обойме. В кипятке варился огромный коричневый лобстер, обретая розовый цвет. Но чуткий, живший в Белосельцеве зверь начинал подвывать. Уже видел пышное пламя выстрела с черной сердцевиной от пули. Извещал Белосельцева тихим, неслышным для окружающих воем.
В иллюминаторе, рыже-зеленая, в лесах, в красноватых пустошах, в извилинах рек, медленно проплывала Африка. Воевала, била в тамтамы, пасла чахлые стада, хранила в зарослях буша остатки древних крепостей и дорог, обломки исчезнувших, занесенных песками цивилизаций. Белосельцев смотрел на туманный красный ландшафт и думал, что двигало рыжим худосочным барменом, когда он стрелял в Нуйому, окруженного вооруженной охраной. Быть может, надеялся после выстрела перепрыгнуть балюстраду, растолкать автоматчиков, кинуться в ночную лагуну, где ждала его потаенная лодка. Или шел на верную смерть, одержимый ненавистью к черным туземцам, разорившим его португальский рай. Или получил на банковский счет немалые деньги и умер, оставив богатство любимым и близким. Ответа не было. Мотив покушения оставался не ясен. Роль Маквиллена была не видна. Но она была несомненна. Об этом говорил ему чуткий зверь, живущий в его теле. Зверь смотрел теперь на красную африканскую землю, выглядывая в туманном свечении притаившуюся опасность. Белосельцев вслушивался в тихие подвывания зверя.
В жужжащем сверкании винта появились новые гулы. Самолет пошел на снижение. Возникла рыжая, прокаленная солнцем гора и на самой вершине, такая же рыжая, из каменных песчаников, – огромная статуя Христа, распахнувшего руки крестом.
– Не видно бабочек? Не пора доставать сачок? – Маквиллен проснулся, добродушно улыбался, вглядывался в желтое, проплывавшее за окном изваяние, похожее на огромный каменный крест.
У трапа их встретил круглолицый белесый человек в просторном сафари, чье лицо было гончарно-красным, а синие, круглые, как у птицы, глаза смотрели изумленно и весело.
– Виктор Андреевич? – Синеглазый человек секунду выбирал между Белосельцевым и Маквилленом и, угадав, устремил на Белосельцева свой веселый добродушный взгляд. – Разрешите представиться, полковник Кадашкин. Советник по военным вопросам. Буду находиться в вашем распоряжении. – Он произнес это по-русски, среди сухого золотистого воздуха африканской саванны, в котором тускло сияло крыло военного транспорта и черные солдаты сгружали на землю зеленые зарядные ящики.
– Мой компаньон, мистер Маквиллен, коммерсант, любитель бабочек и большой друг ангольцев. – Белосельцев заговорил по-английски, представляя полковнику своего спутника, ожидая, что в синих глазах военного мелькнет недоумение и тревога. Но Кадашкин, похожий на большую синеглазую птицу, все так же дружелюбно и весело воззрился на Маквиллена и на превосходном английском произнес:
– Мои коллеги из Луанды сообщили о вашем прибытии. Мой соотечественник, господин Белосельцев, известный военный репортер, и мы окажем ему здесь всяческую поддержку. Если есть просьбы лично ко мне, я готов их выслушать.
– Никаких особенных просьб, – с улыбкой ответил Маквиллен. – Я не стану мешать моему другу Виктору. В Луанде у меня есть деловые проблемы. И я их решу самостоятельно.
– Тогда прошу в машину.
Они въехали в Лубанго и оказались среди чудесных, золотистого цвета, особняков, с точеными балконами, колонками, аркадами, чугунными решетками и оградами, с цветущими осенними клумбами и зелеными газонами, среди которых, словно скульптуры, возвышались подстриженные осенние деревья. Воздух был солнечный, золотистый, по решеткам и стенам тянулись плющи, пламенели вьющиеся розы, и казалось, город построен счастливыми людьми, украшавшими свою благодатную жизнь цветами, фонтанами, каменными скульптурами и витражами, и в этих чудесных особняках с узорными воротами и оградами идет вечный праздник.
Однако, если приглядеться, фасады начинали ветшать, розы и плющи начинали чахнуть, из окон выглядывали черные лица, на узорных балконах сушилось белье, а в воротах виднелись пыльные радиаторы военных грузовиков.
– Какая обстановка? – по-русски спросил Белосельцев Кадашкина. – Вы утром встречали гостей?
– Встречал, – ответил Кадашкин, не называя Сэма Нуйому. – Гости в городе. У нас все спокойно. Вчера прилетали две «Канберры», но их отогнали зенитки.
– У нас будет время для разговора?
– Я размещу вас в отеле. Друзья придут к вам в номер. – И, переходя с русского на великолепный английский, сказал: – Мне кажется, этот город замышлялся португальцами как рай на земле. Всю свою историю они торговали, воевали, совершали кругосветные путешествия, гибли в океане и наконец нашли обетованную землю и построили рай. Но, увы, ненадолго.
– Они заблуждались, – сказал Маквиллен. – Строили белый рай среди черного ада. Вот и оказались в красном чистилище.
– Сейчас я вас доставлю в чистилище под названием «Гранд-отель», где вы можете почистить если не души, то хоть ботинки и платье. И может быть, если дали воду, примете душ. – Кадашкин перед входом в гостиницу помог Белосельцеву взять баул. Проводил их к портье и простился до вечера, отпуская обоих в сумрачную, душную глубину отеля.
Лифт не работал, и они пешком подымались по лестнице. Кондиционер был поломан, и в номере, как в глухом сундуке, стоял жар и пахло пылью. Мраморная раковина и хромированный кран обрадовали Белосельцева. Он стал откручивать вентиль, ожидая падения прохладной чистой струи. Но вместо воды из крана выпало желтое мохнатое многоногое существо, метнулось по стене и исчезло, вызвав у Белосельцева мгновенное брезгливое чувство. Он сел на широкую, накрытую бархатным пыльным покрывалом кровать, поглядывая на телефон, который, по-видимому, как лифт и кондиционер, не работал. Но внезапно телефон зазвонил. Белосельцев узнал голос Аурелио:
– С приездом. Буду у вас через десять минут.
Он сидел в пыльном душном номере. Воздух в бесчисленных золотистых пылинках казался одушевленным, подвижным. Словно к вискам, глазам, к дышащим губам кто-то ежесекундно прикладывал мягкую массу воздуха, делал копию его лица, передавал эту маску, оттиск моментальной мысли или чувства куда-то сквозь стену, где невидимый наблюдатель рассматривал слепок, угадывал его желания и намерения, вел за ним непрерывную слежку.
Это чувство было настолько острым, что он несколько раз махнул перед лицом рукой, разгоняя сонмища пылинок, размывая и разрушая свой оттиск в воздухе. Пересел на другое место, ближе к окну, за которым стоял военный грузовик. Черный солдат в малиновом берете, отставив длинную ногу в бутсе, разговаривал с высокой женщиной, положившей гибкую руку на выставленное бедро, напоминая кувшин с узким горлом. Но и здесь оставалась тревога. Мягкие прикосновения пылинок создавали его моментальные портреты, передавали, как по фототелеграфу, сквозь стекло, на улицу, где их принимали солдат и женщина.
После легкого стука вошел Аурелио. Пожимая Белосельцеву руку, быстро, настороженно осмотрел номер. Заглянул под блеклую, с горным пейзажем гравюру. Переставил пепельницу. Провел ладонью по лицу, словно снимал едва заметную золотистую паутину, сотканную из пылинок, разрушал создаваемый воздухом отпечаток лица.
– Сэм Нуйома знает, что вы спасли ему жизнь. Вы успели толкнуть бармена, и пуля прошла в волосах, не задела череп. Через меня он передает вам благодарность. – Аурелио сел на кровать, на бархатное покрывало, продавив его своей тяжестью. Он выглядел изнуренным. Смуглое лицо просвечивало болезненной бледностью. В глубоком шраме, как в стеклянном флаконе, скопилась малиновая дурная кровь. – Прямо с аэродрома он уехал к границе, на свою главную базу. Примет вас у себя.
– Что это было? Кто стрелял? – Белосельцев смотрел, как на мятом бархате покрывала сходились к Аурелио две красные складки. – Как бармену удалось пронести пистолет?
– Я арестовал начальника охраны. Того, что стрелял в бармена. Он был ответствен за безопасность. Возможно, он стрелял, чтобы уничтожить свидетеля. Подозрения пали на нескольких солдат оцепления, окружавших веранду. Возможно, они участвовали в заговоре. По возвращении в Луанду я включусь в следствие.
– Маквиллен был знаком с барменом. Называл его «Карлош». – Бархатные красные складки, как стрелы, вонзались в Аурелио. – Покушение готовил Маквиллен.
– Завтра вы и Маквиллен отправляетесь на свое сафари. Машина с нашим водителем подъедет к отелю утром. Вы будете двигаться по трассе в сторону серпантина, останавливаться и ловить ваших бабочек. Мы будем незаметно прикрывать вас, следить, чтобы на вас не напали. Кадашкин выделяет грузовик с зениткой и взвод солдат. Он сказал, что в окрестностях Лубанго появились группы диверсантов. Если Маквиллен захочет, он может организовать ваше похищение.
– Он еще не начал со мною игру. Я ему важен как свободный журналист, а не как пленный разведчик.
– Это может случиться помимо его намерений. Здесь воруют белых людей. Их меняют на деньги, на оружие, на черных пленных. Я бы посоветовал вам завтра, перед тем как выйти из отеля, покрасить черным лицо и руки.
– Вы хотите, чтобы я ловил бабочек под прикрытием зенитной установки, покрасившись в черный цвет? Да бабочки разлетятся в ужасе.
– Но мне будет гораздо спокойнее.
Белосельцев засмеялся. На его смех тут же налетело множество золотых пылинок, окружило хрупкой сухой коростой, унесло сквозь стены. Кто-то невидимый за стеной разламывал тончайшую золотистую скорлупу, вынимал из нее сердцевину смеха, как извлекают из раковины влажное тело моллюска. Белосельцев не знал, кем был этот невидимка. Но он чувствовал, как его изучают, словно в комнате присутствовал невидимый разум. И этим бестелесным разумом мог быть душный и плотный воздух, насыщенный золотыми частичками.
– Если ваша охота пройдет благополучно, вы спуститесь с серпантина и будете ждать нас с Кадашкиным. Все вместе пересечем пустыню и на берегу океана устроим пикник. Там, как бы случайно, мы покажем Маквиллену десант советской морской пехоты. А пока возьмите вот это. – Аурелио вытащил из-за ремня пистолет и положил на бархатное покрывало. И сразу же к пистолету, продавившему бархат, протянулись едва заметные красные стрелки. – До завтра. Желаю удачи. – Аурелио встал и ушел, осторожно оглядываясь. И когда он исчез, в воздухе еще мгновение сохранялась оставленная им пустота, окруженная золотыми пылинками.
Вечером они сидели с Маквилленом на открытой веранде за столиком и пили виски. Теплые сумерки пахли осенней листвой, горьковатым дымом. По резному камню фасада, по точеным столбам веранды тянулись вьющиеся гибкие розы, шелестел невидимый близкий фонтан. В номерах стояли собранные дорожные баулы с сачками, сухими галетами, бутылками минеральной воды. Они коротали вечер, медленно, сладко пьянея. Белосельцев приближал к глазам тяжелый, с золотистым напитком стакан, смотрел сквозь него на фонарь, который превращался в лучистый цветок.
– Удивительное дело случай! – говорил Маквиллен, откинувшись в легком венском кресле, сентиментальный, задумчивый, нежно касаясь пальцами близкой черно-красной розы. – Тогда, в Брюсселе, счастливый случай свел нас у стенда с африканскими бабочками. Случай – та маленькая бордовая нимфалида – побудил меня тогда обратиться к тебе, незнакомому мне человеку. Случай привел тебя в Анголу в поисках журналистской темы, а меня – в поисках деловых партнеров. Случай поставил нас рядом перед балюстрадой, мимо которой проплывала разукрашенная ночная пирога. Случай сделал тебя свидетелем того, как безумный бармен целил в голову Сэма Нуйомы. Все тот же случай побудил тебя толкнуть тележку, отчего пистолетная пуля пролетела мимо черного лба. Случай – первичная молекула, которая лежит в основе любого движения. Бог управляет человеческой судьбой и всемирной историей через случай. Может, случай и есть Бог, и мы в своих молитвах должны обращаться не к Господу, а к случаю? «Случай, святой и правый, помилуй нас?»
Маквиллен был склонен к разглагольствованиям, был меланхолично-печален. Ничто не напоминало в нем недавнего подвижного, как ртуть, точного и стремительного, как оружие, источающее радиацию смертельной опасности. Его пальцы нежно касались черно-красных лепестков розы. Полузакрытые глаза мечтательно смотрели на золотистый фонарь. Отдыхающее тело наслаждалось, принимая формы белого плетеного кресла. Белосельцев почти утратил бдительность, забыл о своих тайных побуждениях и целях. Об угрозе, которую таил в себе этот красивый, склонный к перевоплощениям человек, рассуждающий о метафизике случая, способный выхватить из-под светлого пиджака пистолет и разрядить его в голову Белосельцева.
– Мой отец был ботаник, совершал экспедиции в Намибии, Анголе и Ботсване. Собирал растения в пустынях Калахари и Намиб. Он карабкался по горам в поисках крохотных цветков-эндемиков, которые цветут всего один или два дня в году. Он сорвался со скалы и разбился насмерть. Пролежал на солнце неделю, пока его не нашли. Он высох на раскаленных камнях, как засушенное растение. Когда он лежал в гробу среди погребальных цветов, я отщипнул от венка красную розу. Засушил ее и поместил в гербарий отца. Теперь, через много лет, когда я смотрю на эту выцветшую розу, мне кажется, что я говорю с отцом. Он наблюдает за мной из сухого цветка, улыбается, помогает мне…
Фонарь в стакане превращался в лучистую золотую звезду, которая мерцала и вспыхивала, и можно было пронести ее сквозь деревья, поставить перед собой на стол и смотреть, как она, словно живая, шевелится и дышит в стакане. Услышанное поразило Белосельцева таинственным совпадением с его собственной мучительной верой в бессмертие любимых и близких. После смерти они волшебным образом переселялись в деревья, цветы и животных. Бабушка после смерти переселилась в сосну, растущую одиноко за озером. Все долгие годы после ее смерти он знал, что бабушка смотрит на него из белых снегов, из осенних туманов, из зеленых овсов. Чувствовал ее любящие, охраняющие глаза, глядящие из темной сосны.
– Я получил блестящее образование: языки, философия, история религии. – Маквиллен трогал длинными пальцами свой белый широкий лоб, словно вызывал прикосновениями полузабытые знания, пробуждал их от долгого бесполезного сна. – Мне пророчили блестящую карьеру, поездку в Европу. У меня была невеста, очаровательная девушка, с которой мы были помолвлены. Был назначен день свадьбы, и мы обсуждали, куда нам отправиться в свадебное путешествие – в Америку, где в Нью-Йорке жил мой дядя, или в Европу, в Амстердам и Лондон, где жили ее богатые родственники. – Маквиллен печально улыбался, созерцая свое исчезнувшее прошлое, приглашая Белосельцева заглянуть в эти туманные чудесные дни. – Но со мною случилась странная перемена, словно спустился ангел с небес, коснулся моего чела и сказал: «Ты– избранник. Ты чувствуешь этот мир как Божественный сад. Ты видишь дыхание Господа в песчинке и человеке, в цветке и небесной звезде. Ты – слуга Божий. Твой удел – ходить среди людей и проповедовать Божественный закон». И я внял этим словам. Отказался от блестящей карьеры, расстался с невестой, стал готовиться в школу проповедников, чтобы, окончив ее, проповедовать Слово Божье среди африканских бушменов, или аборигенов Австралии, или диких племен Океании…
Белосельцев смотрел на фонарь сквозь стакан, который превращался в золотую лампаду с мягким маслянистым огнем. Эта лампада сближала их, сочетала в таинственное единство, обнаруживала глубинное сходство. Словно две их судьбы на разных половинах Земли вершились одной и той же Божественной волей, двигались по одним и тем же кругам, повторяли друг друга. И он, Белосельцев, блестящий знаток языков, любимец профессоров, отказался от карьеры лингвиста. И он, влюбленный, среди подмосковных лесов, ледяных белых звезд, красных вечерних полян, отказался от невесты, выбирая иное служение, веря в перст Божий, который однажды, у старой кузни, из морозных созвездий коснулся его разгоряченного лба, и он услышал: «Оставь своих милых и близких. Иди за мной». Он послушался, оставил родных, покинул друзей, расстался с невестой. Тот красный сосновый бор с голубыми тенями, где он принял решение, казался огромным храмом, увешанным смоляными лампадами. У стволов, среди смоляных потеков, стояли святые и ангелы. Из синего окаменелого неба смотрел на него, как из купола, строгий чудесный лик. Он пошел через поляну в свой путь, вдоль цепочки лисьих следов, в каждом из которых мерцал драгоценный кусочек льда. Теперь, в Лубанго, Белосельцев держал у глаз стеклянный стакан, и ему казалось, что в стекло запаян лисий след, похожий на золотую розетку.
– Я понял тогда, что значит «благоговение перед жизнью». Я молился, как Богу Живому, каждой маленькой, выловленной в океане ракушке. Каждому крохотному, присевшему на цветок мотыльку. Я шел по улице и любил людей, незнакомых, идущих навстречу. И молодую красивую женщину, видя в ней не женскую прелесть, а образ Божий. И больного неопрятного зулуса, зная, что из его слезящихся глаз смотрит на меня Творец. Я готовился к служению, мечтал, подобно Швейцеру, поселиться среди страдающих людей, в каком-нибудь бараке с прокаженными, ходить за ними, спасать, скрашивать их последние дни. Моя любовь достигла высшего состояния. Я уже уложил саквояж, взял билет на поезд в Виндхук, где меня должны были направить в лечебницу. За день до отъезда мой приятель пригласил меня на яхту, на полдня, на прощальную вечеринку, желая проститься со мной, устроить расставание. Я не хотел, мне это было уже не нужно, моя душа стремилась к иному. Но я сказал Господу: «Отпусти меня в последний раз. На один только час. Напоследок нагляжусь на друзей, наслушаюсь их слов, а потом буду только с Тобой!» Мы уплыли на яхте, там была музыка, прекрасные женщины, блестящие молодые люди. Мне казалось, что на пристани, от которой мы отплывали, стоит ангел и печально смотрит мне вслед. Я обещал ему скоро вернуться. Но когда мы вернулись, ангела не было, берег был пуст. Я не пошел за Господом, и жизнь моя сложилась иначе. Я больше не чувствовал вселенской любви. Меня больше не посещало прозрение. Чудо меня миновало. Ангел пронес мимо меня резной разноцветный фонарь, и свет его скрылся во тьме…
Белосельцев не изумлялся совпадению их судеб, воспринимал его как присутствующий в мире Божественный закон совпадения. Одна половина мира зеркально отражала другую. Ось симметрии проходила между ним и Маквилленом. Две их судьбы повторяли одна другую, воспроизводили таинственную синусоиду, по которой душа восходила к Богу и на самой вершине, не достигнув Творца, срывалась вниз. Он помнил ту старую деревенскую церковь, смиренных прихожан, тусклый, как позолота, голос священника, зовущий в Царство Небесное. И его молитва к Творцу, просьба отпустить его на один только миг, поклониться маме и бабушке, постоять на прощанье перед высоким горящим окном невесты, насмотреться напоследок на Василия Блаженного, на решетки Тверского бульвара, на памятник Достоевскому в шапке талого снега, а потом укрыться навеки под сводами монастырских палат, на острове, среди хладных вод. Всю остальную жизнь служить Творцу, вымаливая у него блага для рода людского, спасаясь от земных грехов. Он вышел из церкви. У порога стояла машина. Неразличимого в потемках шофера он попросил довезти его до ближайшей станции. Уселся в теплое бархатное нутро, пахнущее духами. С переднего сиденья на него обернулось женское лицо, блеснули в улыбке белые зубы. Брызнули на сверкающий снег снопы лучей, и машина помчалась, унося его прочь от церкви. С тех пор он менял моторы, пересаживался с роскошных лимузинов на танки, с самолетов на подводные лодки, мчался от станции к станции, удаляясь от той деревенской церкви, где согбенный седой священник звал его в Царство Небесное. Две их судьбы, два несбывшихся чуда. Их обоих провели у райских стен, за которыми, перламутровая, сияла заря, слышалось дивное пение. Но у самых врат поманили земными благами. Кто-то обольстительный, сверкая улыбкой, умчал их прочь от райского сада. Усадил в Лубанго напротив друг друга, вложил им в руки стаканы с горьким напитком, и они, опьянев, поверяют друг другу тайну своего отпадения.
– Виктор, мы очень с тобой похожи. – Маквиллен смотрел на него, и Белосельцеву казалось, что их соединяет тончайший луч. Маквиллен приближается по лучу так близко, что сливаются их лбы и глаза, подбородки и губы, словно прижатые к зеркалу. Но потом Маквиллен отдалялся почти в бесконечность, взирал на него из другой половины Вселенной. – Мы – двойники с тобой, Виктор. Рожденные от разных земных матерей и отцов, мы братья, сотворенные в лоне единой Матери, от семени единого Отца, их блудные дети. И нам суждено к ним вернуться. Мы встретились здесь, утомленные, испившие чашу искушений, грешные и раскаявшиеся. И быть может, настало время бросить наши земные заботы. Тебе – твои репортажи, где ты талантливо описываешь бесконечные кровавые войны. Мне – мои финансовые дела и контракты, которые приносят богатство, но не приносят мира душевного. Оставим все это. Поедем на какой-нибудь необитаемый остров, на коралловый риф с лазурной лагуной. Такие есть еще в Океании, южнее Целебеса и Суматры. Остаток дней проживем среди божественной природы, воскрешая в себе благоговение перед жизнью, поклоняясь бабочке, ракушке, вечерней звезде.
Он протянул Белосельцеву стакан. Они чокнулись. Белосельцев пил, и ему казалось, что в стакане переливается драгоценная перламутровая ракушка, которую незаметно положил ему Маквиллен. Он любил Маквиллена, верил в предопределенность их встречи, задуманной не в центрах разведки, а в таинственном небесном чертоге.
Они расстались в холле отеля. Поднимаясь к себе, Белосельцев встретил служителя с розовым, словно обожженным лицом, с белыми ресницами альбиноса. Тот молча ему поклонился, прокатил бесшумно тележку с кипой постельного белья.
Глава шестая
Утро было ярким, лучистым. Солнце брызгало сквозь влажную, глянцевитую листву. Резные фасады, вьющиеся розы были в дрожащих пятнах водянистого света. У подъезда их поджидал поношенный кабриолет с помятыми крыльями и пыльными бархатными сиденьями. Темнолицый шофер в поношенной экзотической форме с галунами и серебряными пуговицами, в кожаных облыселых перчатках почтительно снял перед ними малиновый, с огромным козырьком картуз.
– Доброе утро, – улыбнулся он во весь рот, показывая крупные зубы, похожие на колонны античного храма. – Бюро путешествий прислало меня в ваше распоряжение. – Вид у него был неподдельно счастливый. Он радовался заказу. По его поношенному облачению было видно, что пассажиров он возит нечасто. Белосельцев усомнился, прислан ли этот водитель Аурелио или действительно явился из туристической конторы, чудом уцелевшей среди военных комендатур, патрулей и террористических актов. – Позвольте, я приму ваш багаж.
Он открыл просторный багажник и поставил туда два баула, ящик с минеральной водой. Из багажника, как из древнего сундука, пахнуло тленом и сыростью.
– Пускай среди твоих боевых репортажей, Виктор, будет один, посвященный нашей охоте, – сказал Маквиллен, усаживаясь на заднее сиденье рядом с Белосельцевым. – Пусть наш тотемный зверь, африканская Урания, направит в наши сачки тысячу бабочек.
Шофер улыбнулся его шутке, тронул машину, и золотистый город, сложенный из резного песчаника, замелькал своими садами, решетками, брызгающими на газоны фонтанами.
Поначалу на пустынном шоссе им изредка встречались обшарпанные легковушки, запыленные военные грузовики, шаткие колесные трактора. Очень быстро шоссе обезлюдело, синей струей лилось среди осенних лесов, под высокими голубыми небесами. Белосельцев несколько раз оглянулся – не катит ли следом машина Кадашкина, грузовичок со скорострельной зениткой. Но дорога оставалась пустой, и он забыл о прикрытии, о пугающих предупреждениях Аурелио. Опасности отодвинулись, поджидали его на другой дороге, в иной час его жизни. Теперь же его окружала утренняя Африка, похожая на огромную перламутровую раковину, и хотелось насладиться этой землей и природой.
– Остановимся здесь! – Маквиллен положил руку на плечо шофера, указывая глазами на широкую травяную пустошь, окруженную отдаленным багряным лесом. – Мое чувство подсказывает, здесь нас ожидает удача.
Машина остановилась на обочине. Водитель любезно извлек из багажника саквояжи, всем своим видом выражая деликатное одобрение занятию своих пассажиров. Вежливо наблюдал, как они свинчивают рукояти сачков, заталкивают в нагрудные карманы жестяные коробки, взмахивают кисеей, наполняя ее теплым упругим ветром.
– Двинемся порознь, каждый по своей стороне. – Маквиллен кивнул на пустошь, окаймленную лесной опушкой. – Встретимся посредине и подсчитаем добычу.
Он был сосредоточен, зорко, нетерпеливо всматривался в травяную поляну, казавшуюся красным взволнованным озером, по которому ветер гнал буруны. Удалялся, гибкий, точный, держа на весу белый клин сачка.
Белосельцев осторожно, словно боясь провалиться в красную зыбкую глубь, ступил в плетение стеблей, путаницу полуувядших листьев, сухих разноцветных соцветий. Забывая о машине, о наблюдавшем шофере, о Маквиллене, шагнул на поляну, словно кинулся в прозрачную стеклянно-солнечную глубину, в ее теплую душистую сладость.
Первая бабочка взлетела тут же, похожая на крохотное облачко розовой пудры. Подхваченная ветром, полетела низко над травами. И он, испугавшись, что потеряет ее, погнался, махнул сачком, промахиваясь, скользнув обручем по жестким блестящим стеблям. Снова догнал, находя зрачками пустое пространство, куда она влетала. Провел сачком, поглощая летящий розовый лоскут. Радостный, разгоряченный, стоял, держа на весу вялую солнечную кисею, в которой, как крохотная прозрачная тень, трепетала бабочка. Африка окружала его своими багряными, зелено-желтыми лесами, накрывала голубыми стеклянными небесами, выстилала под ногами волнистые, с проблеском света купы. Крохотная, беззвучная душа континента трепетала в его сачке, и он был властен над ней, сочетался с ней душистыми дуновениями ветра.
Осторожно, нащупывая сквозь тонкие нити хрупкое тельце бабочки, он умертвил ее, останавливая пульсирующую точку жизни, перенося ее в себя, в свое любящее сердце. Это было не убийство, а жертвоприношение, когда умерщвленный божок обретал бессмертие, переселяясь в жизнь человека, отправляясь в бесконечное странствие перевоплощений, в таинственное кружение образов. Мертвая бабочка, розовая, в нежно-серых прожилках, лежала у него на ладони, а ее дух уже поселился в человеческой плоти, обрел свое новое воплощение.
Он спрятал добычу в жестяную коробку, поместил в конвертик на тончайшую ватную перину, как в усыпальницу. Счастливо осмотрел поляну, которая стала его, принадлежала теперь ему.
Еще одна бабочка вспорхнула, будто сорванный ветром лепесток. Он устремился за ней, вытягивая древко сачка, видя, как рядом из травы вылетают две другие. Летят с ним рядом, сопровождая его бег. Поймал ту, за которой гнался. Продолжая движение сачка, направил его ко второй, пролетавшей мимо. Подхватил и ее. В прозрачной марле танцевали две тени, как крохотные балерины. Поочередно он остановил их танец. Вытряхнул на ладонь розоватые треугольники мертвых бабочек, одна из которых, как танцовщица, поднялась и опала на крыльях.
В его жестяной коробке было три африканские бабочки. Три маленькие ритуальные маски, снятые с лица континента. Боевая раскраска из розовых соков. Рисунок, нанесенный углем. Металлические блестки руды. Крупицы перламутровых раковин.
Он чувствовал, как на него смотрит множество невидимых глаз. Из-под каждой травинки, из каждого травяного куста, из стеклянных вихрей синего неба, с далеких вершин огромных волнистых деревьев за ним наблюдали, его созерцали. Словно в травах и листьях обитало незримое племя, чьи вождь, и жрец, и наследник вождя были взяты в плен, упрятаны в жестяную темницу. Крохотные воины в ритуальных масках, с розовыми щитами и темными заостренными дротиками готовились к нападению.
Он шагнул, нарочито шумно, раздвигая ногами шуршащие цепкие травы. От шума, от колебания стеблей вознеслось целое облако бабочек. Подхваченное ветром, двигалось в одну сторону. Догнав это облако, он поместил себя в воздушное, колеблемое вещество, водил сачком, подхватывая бабочек, вычерпывая их из розового воздуха. Стоял, отпуская улетающую вереницу. Глядел, как в опавшей марле толпятся пленники. Лишал их жизни, раскладывал на ватное ложе, любуясь нетронутой красотой хрупких крыльев, дрожащими, словно секундные стрелки, усиками, часовыми пружинками хоботков.
Его первая страсть была утолена. В его коллекции, в стеклянной коробке, построится розовый ряд маленьких, аккуратных белянок, пойманных на осенней поляне вблизи Лубанго. Зимним московским вечером, когда за окном мерцает синяя наледь и в сугробах бульвара чернеют голые липы, он вспомнит эту пятнистую, разноцветную пустошь, тонкий, стеклянный блеск трав и одинокую бабочку, излетевшую из сачка.
Он двигался по поляне, пугая белянок, ленивыми взмахами подставляя сачок, запуская их в белую нитяную ловушку. Они собирались там во множестве, слабо розовели сквозь кисею. Перекинув марлевый кошель через металлический обруч, он держал у лица невесомую ткань, вдыхая тонкую сладость цветочного сока и благоухающей пыльцы, исходящую от пойманных бабочек. Окунул лицо в глубину прозрачного полога, в розовое мелькание. Чувствовал на губах, на щеках легкие щекочущие прикосновения, медовый аромат. Оставил сачок открытым. Видел, как вяло, медленно подымаются из него бабочки, словно розовые испарения. Бесшумные летучие цепи окружали его, водили вокруг него хоровод, славили, принимали в свой круг, поселяли навсегда на этой африканской поляне. И когда он умрет в своей северной снежной стране, среди мглы и буранов, он тут же воскреснет под голубыми небесами Африки, на этой разноцветной поляне.
Из травы, пугая его, как золотистый солнечный взрыв, взлетел на воздух огромный горячий зверь. Белосельцев успел запомнить согнутые в прыжке тонкие ноги с раздвоенными копытами, огненный вздутый бок, длинную изогнутую шею с маленькой головой, на которой мерцали глаза, приоткрылись мягкие губы, длинно лежали прижатые уши. Антилопа шарахнулась в сторону, косо повалилась в другую и, толкаясь и взбрыкивая, стремительно умчалась, растаяла в травяных блесках. Он стоял, оглушенный, с колотящимся сердцем. В этом сильном стремительном звере, в его мощном торсе, тонкой шее, влажных тревожных глазах ему почудилось таинственное сходство с Марией, о которой почти забыл, которая исчезла среди грохота разбитых стаканов, пламени выстрелов, смятения толпы. Он вспомнил о ней лишь однажды, пролетая над рыжей саванной, – пирогу и салют над лагуной, – и, казалось, забыл навсегда. И вдруг теперь в облике антилопы она подманила его, испугала и умчалась в летучие травы.
Он стоял растерянный, глядя на примятые стебли, на которых, как на сухом мягком войлоке, лежала антилопа. Трава потемнела от теплой влаги дышащего живота, нежной млечности полного вымени. Смотрел на отпечаток антилопы, на легчайший туман, оставшийся от ее пребывания. Наклонился, желая прикоснуться к раздавленной траве. И вдруг, побуждаемый неведомым влечением, лег, занял место, где только что возлежал живой теплый зверь.
Помещенный в контуры исчезнувшей антилопы, в живые испарения ее дышащего горячего тела, он перевоплощался в нее. Начинал видеть ее выпуклыми, с каплей черного солнца глазами. Слышал ее тонким, недремлющим слухом, различая в шуме древесного ветра слабый голос невидимой птицы. Чутко улавливал влажными шевелящимися ноздрями запах близкого увядающего цветка и далекого прохладного водопоя. Хранил в дремлющей памяти ночные гоны и скачки, битвы и любовные игры, нерасторжимые счастливые связи с этими сухими душистыми травами, с красной теплой землей, с ночными белыми звездами, из которых смотрит небесная антилопа.
Эта антилопа чудесным образом напомнила ему Марию, ее женственную силу и красоту. Он прижимался лицом к сухим листьям, и ему казалось, что он целует ее темную шелковистую кожу, горячую мочку уха с красным камушком, влажные дышащие губы, чувствует ее быстрый мягкий язык, гладит ее длинную шею с белой ниткой жемчуга, ее открытые плечи и длинные груди с горячими сиреневыми сосками. Он видел ее спину с длинной, от лопаток, ложбиной, по которой катится солнечная капля воды, вниз, к ее широким выпуклым бедрам, и он губами догоняет эту стеклянную каплю, целует выпуклое темно-коричневое бедро.
Он почувствовал мучительную сладость, горячей длинной волной прокатившуюся сквозь грудь и живот.
Часть его жизни излетела из него, расточилась среди осенних трав и деревьев. Он лежал опустошенный, без мыслей и чувств, глядя в синеву африканского неба.
Вернулся к дороге, где поджидал его Маквиллен.
– Одни белянки, – сказал тот, помахивая плоской жестяной коробкой, где была собрана добыча. – Базовый район белянок. Их множество, как партизан Сэма Нуйомы. Но улов замечательный! – Счастливый, он полез в машину. Усаживаясь с ним рядом, Белосельцев заметил несколько колючих пернатых семечек, прилипших к куртке.
Они недолго ехали по шоссе и остановились у края солнечного прозрачного леса, в котором огромные жилистые деревья, похожие на древовидных слонов, уставили свои толстые бугристые ноги среди сухой белесой травы и слоистых, нежных акаций.
– Здесь могут быть лесные сатиры, живущие на древесной коре и лесной подстилке. – Маквиллен на обочине расправлял кисею, выхватывая из нее колючие семена. – Двинемся в разные стороны по опушке, а через час сойдемся. Чтобы мы не заблудились, водитель через каждые четверть часа станет подавать нам автомобильный сигнал.
Белосельцев шагнул с обочины в сквозную фиолетовую тень леса, двинулся по едва намеченной лесной тропе в глубину прозрачного пространства, изрезанного слоистыми акациями, среди вспышек холодного лучистого солнца.
Под ногами мягко шуршала опавшая красноватая листва. Ему показалось, что один из листьев, тронутый его стопой, поднялся и полетел. Он успел заметить рыжеватые оттенки и острые оконечности крыльев, бабочка метнулась сначала в одну, потом в другую сторону, пропала среди желтизны, но потом, словно влекомая любопытством, вернулась. Облетела баобаб, бесшумно села на ствол, распласталась на коре. Воззрилась на него двумя немигающими глазами, нарисованными на крыльях.
Это был сатир, серо-желтый, с пушистым мясистым тельцем, с заостренными и выгнутыми в разные стороны крыльями, напоминавшими перепонки летучей мыши. Бело-синие овалы на крыльях делали его похожим на глазастую маску. Белосельцев, не шевелясь, не дыша, рассматривал бабочку, дорожа хрупким покоем, в который, как в стеклянную призму, были помещены он и бабочка. Мохнатый лесной демон разглядывал его с древесной коры. Читал его мысли и чувства, изучал устройство души и разума, проникал в него и вселялся. Белосельцев чувствовал вторжение бабочки, словно она отпечатывала на нем рисунок своих перепонок, глазастые пятна, цепкие заостренные кромки. Демон гипнотизировал, погружался в него.
Белосельцев, пугаясь этого колдовского проникновения, махнул сачком. Бабочка исчезла, словно ее и не было. Кора была пуста, на груди сохранялся легчайший ожог, словно от прикосновения горчичника. Он двинулся дальше по мягкой сухой листве, наступая на скользящие тени.
Бабочки были повсюду, скрывались в жухлых листьях, в трещинах коры, в ветках кустов. Взлетали из-под ног, делая ломаные броски, и снова садились, превращаясь в лиловое пятно тени, в лишайник на стволе баобаба, в вислый красноватый лист осеннего дерева. Он научился угадывать их полет, ударяя сачком в пустоту, в которую влетала бабочка. Пойманный демон мягко колыхал кисею, туманно просвечивал сквозь материю. Умерщвляя его, Белосельцев произносил запрещающую молитву, чтобы, умирая, демон не вселился в него. Бессловесно, страшащимся и радостным колдованием возводил незримую преграду между бабочкой и своим жарким, стучащим сердцем. Не пускал в него сумеречный дух, отгоняя его в тенистые кроны, в палую листву, в расселину сгнившего пня.
Здесь, в африканском лесу, он набрел на обиталище демонов. Это была их родина. Тут они множились. Отсюда разлетались по всему свету, заселяя кровли готических соборов, ветхие шатры русских колоколен, доверчивые людские души, плодя на земле кликуш, бесноватых. Сюда они слетались обратно со всех оконечностей Земли, чтобы поведать своему Повелителю о совершенных деяниях, о погубленных душах, потопленных кораблях, о рухнувших храмах и пагодах.
Белосельцев двигался в их царстве, осеняя себя подобием креста, суеверно заслоняясь от злых чар. Прятал пойманных бабочек в жестяную коробку, произносил бессловесную охранительную молитву. Ждал, что его вторжение навлечет беду. То ли рухнет на голову огромное, уходящее в небо дерево, то ли он провалится в бездонную ямину, прикрытую дерном и листьями. Искал Повелителя, которому подчинялись глазастые нетопыри, который владел этим туманно-солнечным лесом.
Деревья расступились, и он оказался на белесой поляне. На солнце, среди сухой бесцветной травы, паслись коровы, тощие, низкорослые, с выступающими хребтами, понурыми мордами, вислыми, веревочными хвостами. Их охраняли пастухи, маленькие, голые, черно-коричневые. Сами казались стадом, крохотным травоядным племенем, которое вместе с коровами поедало осенние злаки.
Увидели друг друга, замерли, с тревогой разглядывали. Бушмены были немолоды. Войлок волос и клочки бород казались пыльными от седины. В плоских, с широкими ноздрями носах висели кольца, торчали цветные палочки. На коричневых стариковских телах выделялись острые ключицы, колючие ребра, сухие кости таза, обтянутые морщинистой кожей. Но животы были вздуты, как барабаны, с огромными, выступающими пупками, словно всю жизнь на своих щуплых плечах они таскали неподъемные тяжести, пичкали себя корешками и клубнями, раскармливали желудки травой и древесной корой. Их ноги с костяными мослами упирались в землю не стопами, а растоптанными копытами, бесчувственными к колючкам, сучкам, укусам муравьев и змей. У некоторых на бедрах висели грязные тряпицы, у других же к неприкрытым чреслам прилепились черные сморщенные грибы, вокруг которых вились назойливые мошки. У двух или трех через головы были перекинуты деревянные луки, на поясе болтались колчаны с толстыми пернатыми стрелами.
Белосельцев был поражен. Колдовство, в которое он верил наполовину, на всякий случай, свершилось. Он был выхвачен из своего времени, брошен в круговорот сменявших друг друга эпох, и его уронили в неолит. Туда, где огонь добывали трением, зверя и птицу поражали стрелой и дротиком, шаманили, приручали первых животных, поклонялись божку, расписывали тело цветной землей и травяным соком.
Он смотрел на ближнего бушмена, улыбавшегося беззубым ртом, на трахомные, с красными белками, ласковые глаза, на кривые ноги с огромными пальцами и загнутыми костяными ногтями. У него за поясом, под курткой был пистолет. Но их встреча не должна была породить катастрофу. Белосельцев улыбнулся туземцу, поклонился, прижав к сердцу руку. Бушмены поняли этот знак дружелюбия. Заулыбались ему с разных концов поляны.
Не желая их тревожить, боясь внести смятение в их маленькое древнее племя, Белосельцев тронулся краем поляны, огибая пастухов и коров. Нес сачок над травой, выпугивая мелких полупрозрачных белянок. Спиной, косым зрением видел, что бушмены тронулись следом, медленно сближались, двигались за ним полукругом. Он не подавал вида, что их замечает, избегал резкого жеста и взгляда, весь сосредоточился на ловле бабочек. Белянки были нежные, с перламутровыми струйками, ложились в жестяную коробку как снежные хлопья, как пластины опавшего инея.
Он заметил, как ближний ступавший за ним бушмен цепким кошачьим взмахом хватанул траву. Поднес стиснутый кулак к глазам. Смотрел в глубину кулака сквозь пальцы. Догнал Белосельцева и, косо ступая рядом, издавая тихие мурлыкающие звуки, протянул ему худую, в черных венах руку. Разжал кулак. Среди мозолистых пальцев, на черной ладони, среди складок и шрамов, лежала пойманная белянка, скомканная, раздавленная, оставившая половину нежной пыльцы на скрюченных пальцах. Бушмен улыбался, показывал в розовых деснах несколько оставшихся потемнелых зубов, заглядывал в глаза Белосельцеву. Благодарный за услугу, боясь обидеть пастуха отказом, Белосельцев принял бабочку, спрятал ее в коробку.
Бушмен, обрадованный тем, что оказался полезен, шагнул в сторону и стал быстро цапать траву, направо и налево, хватая бабочек. Остальные, осмелев, приблизились, окружили Белосельцева, помогали ему ловить. С криком выпугивали бабочек, гнали их, махали руками, загоняли в сторону Белосельцева. Несли ему со всех сторон смятых, раздавленных бабочек. Тот, боясь их обидеть, не останавливая их рвения, принимал дары, укладывал в коробку ошметки погубленных бабочек, видя, как со всех сторон тянутся к нему черные, с длинными ногтями пятерни, испачканные перламутрово-белой пыльцой.
Наконец, они все сошлись вокруг него на поляне. Стояли кругом, рассматривали его, улыбаясь, добродушные древние пастухи и воины, гостеприимно встречающие пришельца среди своих угодий и пастбищ. Белосельцев был им благодарен. Он был ими принят. Ему оказали знаки внимания. В чужой земле, среди другого племени, помещенный в иную эпоху, он не был отвергнут. Ему давали место на этой поляне, среди тощих коров, разноцветных африканских лесов.
Он принес им подарок. Под мышкой, в кобуре, у него был пистолет. Стараясь не открыть, не обнаружить его, Белосельцев достал из кармана плитку шоколада. Протянул ближнему бушмену, наблюдавшему за ним добрыми слезящимися глазами. Тот взял шоколад. Остальные надвинулись, жадно, нетерпеливо наблюдали, как старший надрывает цветную обертку, открывает серебряную фольгу. Щурились, по-детски причмокивали, глядя на металлический блеск, слушая звенящий шелест и хруст фольги. Предводитель развернул шоколад, взял в зубы серебряную обертку, разделил шоколад по числу собравшихся, делая точные аккуратные надломы, не роняя ни крошки, протягивая дольки соплеменникам. Они принимали дар, засовывали шоколад в растресканные широкие губы, сосали, закрывали от наслаждения глаза. Белосельцев видел их костяные пыльные стопы, огромные, как копыта, ногти, ритуальные надрезы на щеках, кольца и дощечки в ноздрях. Мошкара вилась вокруг их запыленных лобков, черно-сиреневых вислых отростков.
Осторожно отошел от них, двинулся в обратную сторону к дороге, откуда раздавался слабый гудок машины. Пересекая поляну, увидел утоптанное пыльное место. В белесой пыли, на солнцепеке застыл большой жук. Металлически-синий, сияющий, небесно-лазурный, окруженный свечением, словно кусок урана, жук находился в самом центре поляны. Был ее истинным властелином. Ее царем и владельцем. Ему, недвижному, занимавшему царское место, подчинялись острокрылые бабочки, пролетавшие птицы, пасущиеся коровы, вооруженные темнокожие лучники. Власть его простиралась и дальше, в окрестные леса, где в тенистых зарослях скрывались антилопы, слоны, обезьяны. Облаченный в сияющий голубой доспех, он повелевал окрестным миром, хранил его древний закон и смысл. Белосельцев боялся к нему приблизиться. Боялся обжечься о туманную, исходящую от него радиацию. Он был недвижен и страшно тяжел на вид. Отлит из сверхтяжелого, неизвестного на земле металла, упавшего на землю, как жаркая голубая капля. Жук был посланцем небес, крохотным метеоритом, растолкавшим лес, сотворившим поляну.