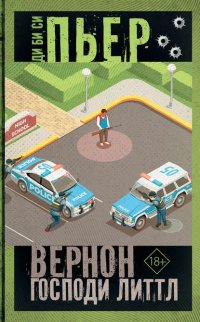
Читать онлайн Вернон Господи Литтл бесплатно
- Все книги автора: Ди Би Си Пьер
DBC Pierre
VERNON GOD LITTLE
Серия «Чак Паланик и его бойцовский клуб»
Перевод с английского В. Михайлина
Серийное оформление и дизайн обложки В. Половцева
Печатается с разрешения Conville&Walsh Ltd. и Synopsis Literary Agency.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© DBC Pierre, 2003
© Перевод. В. Михайлин, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Действие 1
По самое мое
1
В Мученио жара смертная, но от утренних газет на пороге тянет холодом – такие в них новости. Ни за что не догадаетесь, кто всю ночь со вторника на среду простоял посреди дороги. Отгадка: старая сраная миссис Лечуга. Трудно сказать, пробрала ее предутренняя дрожь или неровный свет от фонаря над крылечком сквозь листья ивы и тучу мошкары играл на ее коже, как шелковый саван в надвигающейся буре. Во всяком случае, при свете утра между ног у нее обнаружилась лужица. В обычное время это был бы недвусмысленный сигнал: надо рвать из города когти, и чем быстрее, тем лучше. Может, и насовсем. Видит бог, я искренне пытался понять, что к чему в этом мире; мне даже случалось испытывать смутные предощущения насчет того, что нам суждено просиять и прославиться. Но после всех этих событий и предощущать больше нечего. В том смысле, что дальше просто некуда.
А сегодня уже пятница, и я у шерифа в кутузке. Похоже на пятницу в школе или еще что-нибудь в этом роде. Школа – тьфу, блядь, даже не напоминайте мне про школу.
Сижу и жду промеж лучами света из выстроенных в рядок дверных проемов, голый, как перст, если не считать ступарей и вчерашнего белья. Такое впечатление, что я – единственный, кого они пока успели загрести. Не то чтобы я и в самом деле в чем-то таком был замешан, не поймите меня неправильно. К тому, что случилось во вторник, я не имею никакого отношения. Но ситуация от этого приятней не становится. Как тут не вспомнить Кларенса Какматьеготамзвали, ну, в общем, этого черного, про которого трындели в новостях всю прошлую зиму. Психа, который клевал носом перед камерой вот в этой же самой обшитой деревом комнате. И в новостях говорили, вот, значит, насколько ему пофигу, какую память он по себе оставит. А под памятью, которую он по себе оставит, они, судя по всему, имели в виду рубленые раны. Топором. А старина Кларенс Хуйзнаеткакегофамилия был бритый наголо, как боров, и одет был во что-то вроде пижамы, ну, как дуриков в психушке одевают, и в очках пузырями, как у людей, у которых во рту все десны, десны, а зубов – как грибов, то есть, в смысле, ищите и обрящете. В зале суда они для него соорудили специальную такую клетку. А потом приговорили к смертной казни.
Сижу и смотрю на собственные «найки». «Джордан Нью Джекс», между прочим, не хрен собачий. Пытался их чуть-чуть образить собственной слюной, но хули смысла, если я все равно сижу тут голый. И пальцы липкие. Эти чернила даже в Армагеддоне не сгорят, зуб даю. Только и останется в мире, что тараканы и эти вот ебаные чернила для отпечатков пальцев.
В темном конце коридора набухает огромная тень. А следом – ее обладатель. То есть обладательница. Идет в мою сторону, и в полосах света становится видно, что в руках у нее – картонная коробка из фастфуда «Барби-Q», пакет с моей одеждой и телефон, в который она пытается на ходу говорить. Медлительная потная баба, и морденка в кучку посреди обширной жирной хари. Даже в форме сразу ясно, что это Гури. За ней в коридор пытается выйти еще какой-то в форме, но она ему машет, чтоб, в смысле, не суетился лишнего.
– Дай мне снять предварительные показания, а когда нужно будет составлять протокол, я тебя позову.
Она опять заглатывает телефон и прочищает горло. И переходит на ультразвук.
– Гх-ррр, а я и не говорю, что ты тупой, я просто объясняю, что с точки зрения стасс-тисстики занятия по спецтехнике и тактике могут снизить число потенциальных потерь. – Тут она совсем срывается на визг, и коробка от «Барби-Q» падает на пол. – Ланч упал, – хрюкает она в трубку и нагибается. – Да нет, только салат, немножко – госссподи ты боже мой.
Она замечает меня и отключает трубку.
Я навостряю ушки, на случай если вдруг за мной приехала мать; нет, не приехала. Я так и знал, что не приедет, вот какой я умный. А все-таки ждал, вот какой я сраный гений. Вернон Гений Литтл.
Она кидает мне на колени пакет с одеждой.
– Давай шевелись.
Ну и бог с ней, с мамашкой. Будет теперь мотаться по городу в поисках сочувствующих душ, это она умеет. «Вы знаете, Берн от всего этого просто сам не свой». Слышу, слышу. Верном она меня называет, только когда треплется со своими подружками за утренним кофе, чтобы, типа, показать, какие мы с ней неразлейвода, хотя на самом деле ловить тут давно уже нечего. Если бы мамаш продавали с инструкциями по эксплуатации, то у моей в самом конце этой тоненькой книжечки было бы черным по белому написано: а теперь пошли ее на хуй. Зуб даю. Последняя собака в городе знает, что во всем, что было во вторник, виноват Хесус; но вы мою мамашку видели? Одного того, что я даю показания по уголовному делу, ей хватит, чтобы заполучить какой-нибудь ебаный синдром Турели, или как там это называется, когда человек начинает размахивать руками и не может остановиться.
В комнате, куца она меня сопровождает, стол и два стула. Окна нет, и только на внутренней стороне двери фотография моего друга Хесуса. Мне достается тот стул, что погрязнее. Одеваясь, я пытаюсь представить, что сейчас – прошлые выходные; просто обычные, ничего не значащие ржавые минуты, которые сочатся в город по капле сквозь кондиционеры со сломанными регуляторами; спаниели пытаются напиться из автополивалок и вместо глотка воды получают струей в нос.
– Вернон Грегори Литтл? – Она предлагает мне поджаренное на гриле ребрышко. Но предлагает как-то в полдуши, и, чес-слово, увидишь один раз все ее подбородки и как они колышутся над этим ребрышком – и уже никакой кусок в горло не лезет.
Она бросает мое ребрышко обратно в коробку и выбирает себе другое.
– Гх-ррр, давайте начнем сначала. Ваше обычное местожительство – дом номер семнадцать по Беула-драйв?
– Так точно, мэм.
– Кто еще там живет?
– Никого, только моя мать, и все.
– Дорис Элеанор Литтл?
Соус барбекю капает на ее табличку с именем. Под каплей соуса надпись: «Помощник шерифа Вейн Гури».
– И вам пятнадцать лет от роду? Трудный возраст. Она что, блядь, шутки тут шутит? Мои «Нью Джекс» трутся друг о друга в поисках моральной поддержки.
– Мэм, это у нас с вами надолго?
Глаза у нее на секунду делаются большие-пребольшие. А потом суживаются в щелочку.
– Вернон, у нас речь идет о соучастии в убийстве. И займет это ровно столько времени, сколько потребуется.
– Да, но…
– Только не говори мне, что ты знать не знал этого юного мексикоса. И не пытайся меня уверить, что ты не был едва ли не единственным его другом. Даже и думать об этом забудь.
– Мэм, я только хочу сказать, что наверняка должна быть еще масса свидетелей, которые видели гораздо больше, чем я.
– Да что ты говоришь? – Она оглядывается вокруг. – Что-то я больше никого здесь не вижу – а ты?
И я, как полный дебил, начинаю тоже вертеть башкой по сторонам. Н-да. Она перехватывает мой взгляд, смотрит пристально.
– Мистер Литтл, вы вообще-то понимаете, почему вы здесь очутились?
– Вообще-то догадываюсь.
– Ага. Тогда позвольте мне объяснить вам, что в мою задачу входит обнаружение истины. Прежде чем вы успеете подумать, что это будет не так-то просто сделать, я напомню вам о том, что с точки зрения стасс-тисстики жизнью в этом мире управляют всего две основные силы. Вы можете назвать две основные силы, которые стоят за всем, что только есть в этой жизни?
– Ну, богатство и бедность.
– Нет, не богатство и бедность.
– Добро и зло?
– Нет – причина и следствие. И прежде чем мы перейдем к делу, я хочу, чтобы вы назвали мне две основные категории людей, населяющих наш мир. Вы в состоянии назвать две упомянутые выше категории людей?
– Причинщики и следователи?
– Нет. Граждане – и лжецы. Вы следите за моей мыслью, мистер Литтл? Вы вообще-то здесь?
Типа того. Мне очень захотелось сказать: «Нет, я на озере с твоими ебаными дочками», но не сказал. Насколько мне известно, у нее даже и дочек-то никаких нет. Все, теперь целый день буду думать, что нужно было ей ответить. Блядский род.
Помощник шерифа Гури отрывает от косточки полоску мяса; и оно, поболтавшись в воздухе, исчезает у нее между губами, как говно, если пленку пустить задом наперед.
– Надеюсь, вам известно, что такое лжец? Лжец – это психопат, человек, который закрашивает серым промежутки между черным и белым цветами. И я просто обязана дать вам совет – не нужно серого. Факты есть факты. Или они превращаются в ложь. Следите за моей мыслью?
– Да, мэм.
– Очень на это надеюсь. Вы помните, где вы были во вторник утром, в четверть одиннадцатого?
– В школе.
– А какой именно в это время шел урок?
– Ну, математика.
Гури опускает косточку, чтобы повнимательней меня рассмотреть.
– А не помните ли вы тех существенно важных фактов, которые я только что изложила вам насчет черного и белого?
– Я же не сказал, что был на уроке…
Стук в дверь: только он и спасает мои «найки» от короткого замыкания. В комнату вваливается нечто деревянное в прическе.
– Вернон Литтл здесь? Ему звонит мать.
– Хорошо, Эйлина.
Гури бросает в мою сторону взгляд, смысл которого ясен без слов – не расслабляйся, – и указывает костью на дверь. Я иду за деревянной теткой в приемную.
Блядь, как я был бы счастлив, если бы это звонила не моя старуха. Между нами: иногда мне кажется, что, едва успев меня родить, она воткнула мне в спину здоровенный такой тесак, и теперь стоит ей хоть слово произнести – и нож проворачивается у меня в спине. А теперь и отца больше нет, делиться болью не с кем, и хуев ножик режет еще того глубже. Когда я выхожу в приемную и вижу телефон, голова сама собой уходит в плечи и челюсть на сторону. Ебать мой род, если я слово в слово не знаю, чего она сейчас мне скажет, эдак на всхлипе, мол, бейте меня, режьте меня. «Вернон, с тобой все в порядке?» Вот, зуб даю.
– Вернон, с тобой все хорошо?
– Все путем, ма.
И голос у меня выходит какой-то тихий и придурковатый. То есть как-то само собой получается, что я пытаюсь не дать ей впасть в жалостный тон, вот только действует это на нее как кошка на ебливую шавку.
– Ты сегодня ходил в ванную?
– Т'твою… Ма-ам…
– Ты же сам прекрасно знаешь, что тебе нельзя… ну, из-за этого твоего недомогания.
Нет, она позвонила не для того, чтобы поработать ножиком, она позвонила, чтобы его вынуть, а вместо него вставить пику или еще какую-нибудь ебитскую силу. Вообще-то вам об этом знать необязательно, но когда я был маленький, ребенком я был, ну, как бы это сказать, непредсказуемым, что ли. По крайней мере, насчет просраться. Бог с ними, с этими говенными деталями, но матушка моя никак не могла пройти мимо этакой радости и всякий раз спешила смазать ножик моим же собственным дерьмом – ну, просто чтобы жизнь лишний раз не казалась мне медом. Однажды она даже написала об этом моей учительнице, у которой и у самой был припасен на мой счет целый арсенал, и эта сука не преминула сказать все как есть перед всем как есть классом. Представляете, да? Я чуть и в самом деле не усрался от счастья, прямо на месте. А последние несколько дней я на этом ножике верчусь, как чембурек на шампуре, как ебаный шашлык в говенном соусе.
– Ну, сегодня утром у тебя же не было на это времени, – говорит она в трубку, – вот я и подумала, а вдруг ты – ну, сам понимаешь…
– Все хорошо, правда.
Я стараюсь быть вежливым, а не то она тут же угостит меня целым золингеновским набором, сверкающая, сука, радость на вашей блядской кухне. Вот уж попал так попал.
– А что ты сейчас делаешь?
– Слушаю помощника шерифа Гури.
– Лу-Делл Гури? Тогда ты ей скажи, что мы знакомы с ее сестрой Рейной, по «Часовым веса».
– Это не Лу-Делл, ма.
– Если это Барри, то, ты сам знаешь, Пам видится с ним по два раза в месяц, по пятницам…
– И не Барри. Мам, мне пора.
– Ну, в общем, машину еще не починили, а я еще затеяла печь радостные кексы для Лечуг, полную духовку, и мне нужно их не упустить, так что, наверное, Пам тебя заберет. И еще, Вернон…
– Ну?
– В машине сиди прямо, не сутулься – в городе столько журналистов с камерами.
У меня по позвоночнику побежали пауки с велькровыми[1] лапками. Серые пятна, они на видео не видны, сами знаете. А когда говно начинают разгребать на черную и белую стороны, посередке тоже пахнет не слишком приятно. Только не поймите меня неправильно, я не хочу сказать, будто я действительно в чем-то виноват. Я на сей счет спокоен, как танк, усвоили? И сквозь печаль мою просвечивает полное спокойствие духа, проистекающее оттого, что я знаю: добро в конце концов побеждает. Всегда. Почему в кино всегда все кончается классно? Потому что кино подражает жизни. И вы об этом знаете, и я об этом тоже знаю. А вот моя старуха ни хуя об этом не знает, и пиздец.
Я тащусь через холл к своему не слишком чистому стулу.
– Мистер Литтл, – говорит Гури, – давайте-ка начнем все сначала. Иначе говоря, я хотела бы прояснить для себя кое-какие факты. Вот шерифу Покорней ничего насчет вторника прояснять не нужно, ему и так все ясно, так что благодарите бога, что мы с вами беседуем наедине.
Она тянется было к своему перекусону, но в последнюю секунду кладет руку на кобуру.
– Мэм, я был с другой стороны от спортплощадки, я даже не видел, как оно все случилось.
– Вы же сказали, что были на математике.
– Я сказал, что в это время шла математика.
Она смотрит на меня эдак искоса.
– Вы что, занимаетесь математикой за спортплощадкой?
– Нет.
– Тогда почему вас не было на занятиях?
– Мистер Кастетт дал мне поручение, и я, типа, ну, в общем, слегка задержался.
– Мистер Кастетт?
– Наш учитель по физике.
– Он что, и математику тоже преподает?
– Нет.
– Гх-ррр. Знаете, в этой части картины у нас выходит сплошной серый цвет, мистер Литтл. Просто чертовски серый.
Вы даже представить себе не можете, как иногда хочется стать Жан-Клодом Ван Даммом. Засунуть эту сраную пушку ей в задницу и удрать с фотомоделью из рекламы нижнего белья. Но вы только посмотрите на меня: шапка непослушных каштановых волос и ресницы, как у верблюда. Морду мне слепили с бассет-хаунда: такое впечатление, что Бог использовал увеличительное стекло, чтобы ее как следует вытянуть. Мой персонаж в кино – из тех, что заблюют себя по самое не хочу, а потом приходит сестра милосердия и спрашивает, что случилось и как он себя чувствует.
– Мэм, у меня есть свидетель.
– Да что вы говорите.
– Мистер Кастетт меня видел.
– А кроме него?
В коробке остались одни сухие косточки, и вот она между ними роется, чего-то ищет.
– Куча народу.
– Вот это да. И где теперь все эти люди?
Я пытаюсь себе представить, где теперь все эти люди. Но память как-то не идет, а вместо нее наворачивается слеза, падает с ресницы и взрывается на столе как большая мокрая пуля. Я впадаю в ступор.
– Вот то-то же, – говорит Гури. – Какие-то они теперь не слишком общительные, а, как вам кажется? Так что, Вернон, позвольте задать вам два простых вопроса. Первый: вы имеете отношение к наркотикам?
– Э-э, нет.
Она отслеживает мой взгляд вдоль по стеночке, а потом аккуратно загоняет его – стык в стык – под свой собственный.
– Второй: у вас есть огнестрельное оружие?
– Нет.
Губы у нее вытягиваются в ниточку. Она вынимает из чехольчика на поясе телефон и пристально смотрит на меня, а палец у нее при этом висит над кнопкой. Потом она на нее нажимает. Откуда-то из холла начинает чирикать тема из «Миссия невыполнима» в телефонной обработке.
– Шериф? – говорит она. – Зайдите в дознавательскую, вам будет интересно.
Если бы у нее в коробке оставалось мясо, этого бы не случилось. И чувство разочарования заставило ее искать, чем еще себя утешить, это я понял, причем только что. Так что теперь я сам заместо мяса.
Минуту спустя открывается дверь. В комнату вползает полоска бизоньей кожи, затянутая вкруг душонки шерифа Покорней.
– Тот самый парень? – спрашивает он. (Нет, сука, блядь, я Долли Партон[2], собственной персоной.) – Сотрудничает со следствием, а, Вейн?
– Я бы не сказала, сэр.
– Дай-ка я поговорю с ним наедине.
Он притворяет за собой дверь.
Гури сволакивает со стола буфера, все четыре тонны, и отворачивается в угол, так, словно теперь ее больше нет. Шериф выдыхает мне в лицо густой гнилой вонью – как из половника плеснул.
– Сынок, там снаружи стоят люди. И они очень нервничают. А когда люди нервничают, они скоры на расправу.
– Но меня даже там не было, сэр, у меня есть свидетель.
Он поднимает бровь с той стороны, с которой сидит Гури. Она семафорит ему в ответ, мол, все путем, шериф, мы с этим разберемся.
Покорней выбирает в коробке от «Барби-Q» косточку почище, подходит к прилепленной на дверь фотографии и обводит воображаемым овалом лицо Хесуса, его затравленные глаза и, поверх лица и глаз, потеки крови. Потом поворачивается и перехватывает мой взгляд.
– Он ведь говорил с тобой, правда?
– Об этом – нет, сэр.
– Но ты же не станешь отрицать, что вы с ним находились в близких отношениях.
– Я не знал, что он собирается кого-то убить.
Шериф поворачивается к Гури.
– Вы обыскали одежду мистера Литтла?
– Мой напарник обыскал, – отвечает она.
– А нижнее белье?
– Обычные, плавками.
Покорней на минуту задумывается, прикусывает губу.
– А вы заднюю часть внимательно осматривали, а, Вейн? Знаете, есть такие забавы, от которых у мальчиков сфинктеры становятся менее упрямыми.
– Вроде чистые были, шериф.
Знаю я, к чему вы, суки, клоните. В наших, блядь, местах всегда так – никто прямо не встанет и не скажет. Я пытаюсь хоть как-то поучаствовать в разговоре.
– Сэр, я не голубой, если вы это имеете в виду. Мы с ним дружили с детства, я же не знал, как оно все обернется…
Под шерифскими усами расцветает змеиная улыбка.
– Значит, ты правильный парень, да, сынок? Тебе нравятся машины, тебе нравятся пушки, да? И девочки тоже?
– Конечно.
– Ну, ладно. Давай-ка проверим, правду ли ты нам говоришь. Сколько у барышни помещений, в которые ты можешь сунуть больше чем один-разъединственный пальчик?
– Помещений?
– Ниш – ну, дыр, в конце концов.
– Ну, я не знаю – две.
– Ответ неправильный.
Шериф фыркает в усы, довольный, как будто он только что открыл самую охуенную на свете теорию относительности.
Ебаный в рот. В смысле, а мне-то откуда об этом знать? Я и палец-то в дырку совал всего раз в жизни; не спрашивайте в какую. И в памяти остался разве что запах, как в разгрузочной молочного магазина после ливня – размокший картон и скисшее молоко. И что-то мне подсказывает, что не ради этого люди вбухивают такие бабки в порноиндустрию. На другую мою знакомую это никак не похоже – по имени Тейлор Фигероа.
Шериф Покорней роняет косточку в коробку и кивает Гури:
– Запиши все это, а потом оформи задержание. И – скрып-скрип-скрып – выплывает из комнаты.
– Вейн! – кричит сквозь дверь еще какой-то полицейский. – Пальчики готовы.
Гури собирает руки-ноги в кучку.
– Вы слышали, что сказал шериф. Сейчас я вернусь и приведу с собой еще одного офицера. И мы запишем ваши показания.
Когда ширканье ее жирных бедер друг о друга затихает в отдалении, я принимаюсь ковыряться в носу. Хоть какая-то радость. Хотя бы на секунду – запах теплого тоста, дыхания с привкусом «сперминта». Но единственный запах, который я чувствую сквозь пот и барбекю-соус, – это запах школы: гороховый запах отморозков, когда они учуют тихоню, словоплета, слабака и загонят его в угол. Запах опилок, когда пилят дерево, чтобы сбить из него хуев крест.
2
Матушкину лучшую подружку зовут Пальмира. В просторечии Пам. Она еще жирней, чем матушка, и матушка на ее фоне чувствует себя примой. Всех остальных своих подружек она толще. И они не самые лучшие подружки.
Пам уже здесь. За три графства слышно, как она орет в приемной у шерифовой секретутки.
– Господи, да где же он? Эйлина, ты видела Верна? Слушай, как тебя классно подстригли!
– Не слишком вызывающе? – чирикает в ответ Эйлина.
Мне кажется, Пальмира вам должна понравиться. Не то чтобы вам захотелось оказаться с ней в койке, но дело не в этом. Ей свойственно удивительное, с запахом лимонной свежести неумение владеть ножами. Но что она действительно умеет, так это жрать.
– Вы его хоть кормили?
– По-моему, Вейн покупала ребрышки, – пищит Эйлина.
– Вейн Гури? Так она же на Притыкинской диете, а то Барри не выберется из-под этого грузовичка!
– Приехали! Да она только что не ночует в «Барби-Q»!
– Гос-споди боже ты мой.
– А Вернон вон там, внутри, Пам, – говорит Эйлина. – Ты лучше подожди снаружи.
Ну и дверь, естественно, тут же распахивается настежь. Вплывает Пам, прямая, как будто несет на голове стопку книжек. Просто страшно подумать, что будет, если она хоть на чуть-чуть отклонится от центра тяжести.
– Верни, ты что, ел эти р'обра? Ты вообще что-нибудь сегодня ел?
– Завтракал.
– О господи, обратно едем через «Барби».
Не важно, что ты дальше будешь ей объяснять. Решение принято. Домой мы едем через «Барби-Q», можете мне поверить.
– Я не могу, Пам. Меня не отпустят.
– Чушь собачья, давай поехали.
Она дергает меня за рукав, и пол сам собой уходит у меня из-под ног.
– Эйлина, я забираю Верна. Скажешь Вейн Гури, что мальчик с утра ничего не ел, я припарковалась вторым рядом прямо у вас перед крыльцом, а если она не успеет сбросить пару фунтов до того, как я увижусь с ее Барри, ей же хуже.
– Оставь его, Пам. Вейн еще не закончила…
– Наручников я на нем не вижу, а каждый ребенок имеет право поесть.
От голоса Пам начинает подрагивать мебель.
– Не я придумала все эти правила, – говорит Эйлина. – Я просто хочу сказать, что…
– Вейн не имеет права его здесь держать, и ты прекрасно об этом знаешь. Мы ушли, – говорит Пам. – А подстригли тебя – просто класс.
Горестный вздох Эйлины сопровождает нас через всю приемную. Навостривши ушки, я вслушиваюсь в тишину, пытаясь уловить отдаленные признаки присутствия Гури или шерифа, но помещения пусты – в смысле, помещения шерифа. И в следующий момент я уже на полпути к выходу, в мощном гравитационном поле Пальмиры. Бля буду, с таким количеством современных женщин в одном теле спорить бессмысленно.
Снаружи вокруг солнышка уже успели вырасти целые облачные джунгли. От них тащит мокрой псиной, как всегда в наших местах перед грозой, и передергивает икоткой беззвучных зарниц. Сгустились, так сказать, тучи судьбы. Уебывай из города, намекают они, и чем быстрее, тем лучше, съезди проведай бабулю или еще чего, покуда все не утолмачится, покуда правда не просочится, блядь, наружу. Езжай домой, избавься от наркотиков, а потом устрой себе каникулы.
Над капотом старенького «меркьюри» Пальмиры поднимается марево. В нем дрожат чопорные, с поджатыми жопками домики города Мученио, плавятся и сверкают вдоль всей Гури-стрит нефтяные качалки. Вот-вот: что встречает человека в Мученио? Нефть, по задворкам скачут зайцы и Гурии. А когда-то это был едва ли не наикрутейший город во всем Техасе, если не считать Лулинга, конечно. Наверное, все, кому надрали задницу в Лулинге, ползли на карачках сюда. Теперь наикрутейшее событие в нашем городе – это автомобильная пробка на сквозной трассе в субботу по вечерам. Я не то чтобы очень много где бывал, но уж этот-то город я знаю как свои пять пальцев, и, по идее, везде должна быть одна и та же херня: все деньги и все людское хуе-мое роится в центре города и постепенно затухает к окраинам. В самой середке скачут ухоженные девочки в беленьких, белее белого, штанишках, далее по сторонам будут шортики-ситчики, вплоть до тех мест, где по закоулкам маячат датые цыпочки в розовых подштанниках с отвисшими коленками. И один какой-нибудь магазин на всю округу, где торгуют автомобильными глушителями; и никаких тебе лужаек с поливалками.
– Господи, – говорит Пам, – ну скажи мне на милость, откуда у меня во рту вкус чик-н-микс? В самую, блядь, распроточку. У нее в «меркьюри» даже зимой пахнет паленой курицей, а сегодня жара, как у черта в жопе. Пам притормаживает, чтобы достать из-под дворников скрин-рефлектор; оглядевшись вокруг, я вижу, что они присобачены чуть не на каждой проезжающей машине. В раскаленной дымке в конце улицы катается Зеб Харрис и продает такие прямо с велосипеда. Пам раскладывает нехитрую приспособу и косится на пропечатанный в середке слоган: «Магазин Харриса – бери еще, если понравится!»
– Вот тоже, – говорит она. – А мы с тобой только что сэкономили на целый чик-н-микс.
Есть от чего протащиться, но у меня на душе висит все та же хуетень. Пам втискивается в машину, как пудинг в форму. Голову даю на отсечение, душа у нее уже вяжется узлами вкруг главной сущностной проблемы: что выбрать на гарнир. Впрочем, исход заранее предрешен: она выберет салатик из капусты, моркови и лука под майонезом, поскольку матушка считает, что он полезен для здоровья. Типа овощи. Мне же сегодня позарез необходимо что-нибудь еще более полезное для здоровья. Вроде вечернего автобуса, междугородный рейс.
На углу Гепперт-стрит мимо нас проносится сирена с мигалкой. Какого, спрашивается, – они уже все равно никого не спасут. А Пам так и так проехала бы мимо поворота, из раза в раз все та же хуйня, и ничего с ней не поделаешь. Теперь ей придется делать круг в два квартала, приговаривая: «Бог ты мой, когда в этом городе хоть что-то встанет на свои места». Репортеры и люди с камерами бродят по улицам пачками. Я наклоняю голову как можно ниже и осматриваю пол, нет ли в машине термитов. Пам называет их дерьмитами. Она же каждый раз с месяц, наверное, втискивается в свою машину, и столько же времени уходит на то, чтобы вылезти: хуй знает, кто только не успеет за это время набиться к ней в салон. Вся Дикая, ебать ее, Природа.
В «Барби-Q» сегодня все в черном, если не считать того, что на ногах у них все те же «найки». Пока нам готовят курицу, я отсматриваю новые модели. Город – это, знаете ли, что-то вроде клуба. И узнаешь сочленов по башмакам их. Некоторые модели здесь постороннему человеку даже и за хорошие деньги не продадут, поверьте мне на слово. Я смотрю, как суетятся одетые в черное фигуры с разноцветными ступнями, и, как всегда, когда за стеклом «меркьюри» появляется какая-нибудь пакость, по старенькой Памовой стерео Глен Кэмпбелл затягивает «Галвестон»[3]. Это такой закон природы. У Пам, видите ли, всего одна кассета – «Лучшие песни Глена Кэмпбелла». И в самый же первый раз, когда она ее поставила, эта ебучая кассета застряла в магнитоле и играет теперь в свое удовольствие. Это судьба. Пам всякий раз принимается подпевать на одном и том же месте, там, где про девушку. Кажется, когда-то у нее был бойфренд из Уортона, а от Уортона до Галвестона вроде как ближе, чем отсюда. А про сам Уортон песен, наверное, не поют.
– Верн, ешь нижние кусочки, а то отклекнут.
– Тогда верхние станут нижними.
– О господи!
Она с удивительной для этакой горы жира и мяса прытью выворачивает руль, но все равно не успевает объехать свежевычищенные пятна на асфальте возле перекрестка, и мы сворачиваем на Либерти-драйв. Могла бы сегодня выбрать какой-нибудь другой маршрут.
Чтобы не смотреть на то, как девочки плачут возле школы.
Галвестон, о, Галвестон…
Перед нами начинает выруливать к тротуару еще один лимузин, а в нем еще и цветы, и девочки. Он медленно маневрирует между пятнами на дорожном покрытии. Чужие люди с камерами отходят подальше, чтобы все эти маневры попали в кадр.
И по-прежнему волны бьют в берег…
За девочками, за цветами стоят мамы, а за спиной у мам – адвокаты; сорокалетние школьницы в объятиях плюшевых мишек.
И по-прежнему пушки палят…
Вверх и вниз по улице люди с потерянным видом стоят у дверей своих домов. Впрочем, матушкина так называемая подруга Леона потерялась в астрале еще на той неделе, после того как Пенни купила ей на кухню занавески не того цвета. У нее и вообще по жизни вид припизднутый.
– Ой боже мой, Верни, о господи, и эти крестики, все такие маленькие…
Я чувствую, как мне на плечо опускается тяжелая лапа Пам и меня самого начинает колотить изнутри.
Ту фотографию Хесуса, которая висит у шерифа за дверью, сняли на месте преступления. С другого угла, не с того, с которого я его в последний раз видел. На ней нет остальных тел, нет этих изуродованных, невинных лиц. У меня внутри совсем другая карточка. Вторник прорывается у меня изнутри, как ебаная кровь горлом.
Я снимаю ружье со стены, и снится мне Га-алвес-тон…
Хесус Наварро родился с шестью пальцами на каждой руке, и это была еще не самая его большая странность. Самое странное выяснилось под конец, под самый-самый конец. И добило. Он не собирался умирать во вторник, и на нем обнаружили шелковые трусики. И теперь главная нить расследования тянется из женских трусов, такие дела. Его отец сказал, что копы сами надели на него эти трусы. Типа группа захвата «Лифчик»! Всем стоять! Вот только я, ебать мой род, так не думаю.
То утро у меня перед глазами, со всех сторон. «Хеезуус, еб твою мать, куда ты гонишь!» – орал я ему вслед.
Ветер встречный, и мешает ехать в школу, и давит почти так же сильно, как самый факт последнего вторника перед летними каникулами. Физика, потом математика, потом снова физика, какой-то идиотский эксперимент в лаборатории. Шестиблядское семипиздие, одним словом.
Волосы у Хесуса забраны в хвостик, и этот хвостик приплясывает, кружась, в вихрях солнечного света; такое впечатление, что он танцует со стоящими вдоль дороги деревьями. Он здорово изменился за последнее время, старина Хесус, вот что значит сильная индейская кровь. Пеньки от липших пальцев у него почти заровнялись. Но руки у него все равно не тем концом вставлены, и мозги, кстати, тоже; уверенную легкость нашей детской логики смыло прибоем, и остались только камушки сомнения и злости, которые трутся друг о друга с каждой новой волной чувств. Моего друга, который однажды так изобразил Дэвида Леттермана, что вам в жизни не увидеть ничего похожего, похитили у меня кислотные препараты для воздействия на железы внутренней секреции. Отмороженные песенки и ароматизированные смеси с гормонами прокоптили ему, на хрен, все мозги – и как-то он не горит желанием кому бы то ни было эти свои смеси показывать. Такое впечатление, что это не просто гормоны. У него появились тайны даже от меня, чего отродясь не бывало. Он стал странный. И никто не знает почему.
Я видел как-то раз шоу про подростков, в котором речь шла о том, что ключом к индивидуальному развитию человека являются ролевые модели, ну, вроде как у собак. Не знаю, кто делал это шоу, но вот с кем он точно в жизни не встречался, так это с Хесусовым папашей, это я вам точно говорю. Или с моим, если уж на то пошло. Мой предок был все-таки получше, чем мистер Наварро, по крайней мере почти до самого конца, хотя, помнится, я буквально кипятком ссал, что он не дает мне попользоваться нашей винтовкой, как мистер Наварро давал Хесусу попользоваться своей. Теперь я проклясть готов тот день, когда вообще узнал, что у нас есть ружье, и Хесус, думаю, тоже. Ему очень была нужна другая ролевая модель, и вот – надо же, какое блядство! – никого подходящего рядом не оказалось. Наш учитель, мистер Кастетт, конечно, много с ним возился после школы, вот только сдается мне, что наш старый гриб Кастетт с его мишурным словоблудием как бы не очень и считается. В смысле, разве можно принимать всерьез мужика, которому за тридцать и про которого ты точно знаешь, что он садится, когда ему надо поссать. Он столько времени угробил на Хесуса, таскал его к себе домой, катал на машине и говорил с ним вполголоса, глазами в пол, хуе-мое, – ну, как эти ребята в телефильмах, которые готовы протянуть руку помощи. Типа, по-взрослому. Один раз я видел, как они сидели, обнявшись, ну вроде по-братски и все такое. Ну, в общем, не важно. Смысл в том, что в конце концов Кастетт порекомендовал обратиться к мозгоебу. А Хесусу в результате стало только хуже.
Мимо на папашином грузовике проезжает Жирножопый Лотар Ларби и показывает моему братишке язык. «Шизя мокрожопая!» – кричит он.
Хесус просто опускает голову. Мне его иногда становится так жалко, с его «совсем-как-новыми», купленными в секонд-хенде «Джордан Нью Джексами», с его альтернативным стилем жизни, если теперь так принято называть подобную херотень. Когда-то его характер подходил ему на все сто, тик-в-тик, как носок на ногу, – в те далекие счастливые времена, когда мы были короли вселенной, когда пятнышко грязи на кроссовках значило больше, чем сами кроссовки. Мы бродили по пригородным пустошам с винтовкой Хесусова папаши, наводя ужас на банки из-под пива, на арбузы и прочую поебень. Такое ощущение, что взрослыми мы успели стать много раньше, чем стали детьми, то есть еще до того, как превратились в нынешнее хуй знает что. Я чувствую, как невъебенность жизни заставляет мои губы пристыть одна к другой, и смотрю, как мой друг наяривает рядом со мной на велосипеде. Глаза у него стекленеют: не в первый раз с тех пор, как он стал ходить к этому мозгоклюву. Сразу видно, что на него нашло очередное философское опизденение.
– Слушай, ты помнишь того Великого Мыслителя, о котором нам рассказывали в школе на прошлой педеле? – спрашивает он.
– Это который «весь в себе»? Кант – по шву в три пальца?
– Ну да, который сказал, что в действительности ничего не происходит, пока ты не увидишь, как оно происходит.
– Я помню только, что спросил Нейлора, как он понимает, когда человек весь в себе, а он ответил: «Либо в рот, либо через жопу, но я обычно ни так ни эдак не дотягиваюсь». И тут мы с ним так уссались, что чуть в штаны не наложили.
Хесус щелкает языком.
– Твою мать, Вернон, да вынь ты голову из жопы хоть раз в жизни. Уссались, усрались, ебу дались. Это настоящее, понимаешь? Весь В Себе задает вопрос насчет котенка – загадку, что есть, скажем, у нас коробка, а внутри котенок, и если в этой коробке лежит еще, скажем, открытый баллончик с какой-нибудь смертельно ядовитой дрянью или еще что-нибудь в этом духе, так что котенок в любой момент может бросить кони…
– А чей это котенок? Нет, что за люди, Хесус? Это как же надо было ужраться…
– Блядь, Вернон, я серьезно. Это философский вопрос, причем в реальном времени. Котенок сидит в коробке и по-любому вот-вот сдохнет, и Весь В Себе спрашивает, можем ли мы уже считать его мертвым, в техническом смысле слова, поскольку нет никого, кто увидел бы, что он все еще жив, кто бы понял, что он существует.
– Может, проще наступить на эту коробку и придавить засранца?
– Проблема не в том, чтобы убить котенка, мудило. Хесуса в последнее время вывести из себя – как два пальца обоссать. Очень стал серьезный парень.
– А в чем тогда эта хуева проблема, Джез?
Он хмурит брови и отвечает медленно, каждое слово по килограмму:
– В том, что если ничего не происходит, пока ты не увидишь, как оно происходит, произойдет ли оно, если тебе известно, что оно должно произойти, но ты об этом никому не скажешь…
Он не успевает договорить до конца, потому что сквозь деревья вдруг вздыбливаются откуда ни возьмись похожие на мавзолей очертания городской средней школы Мученио. И меня вдоль хребта продирает вертлявый холодок, как червяк сквозь яблоко, как ебаный шахтер с большим отбойным молотком.
3
Слишком, блядь, поздно. Если ты заметил зайца, он автоматически на тебя обернется; закон природы, если вы не знали. Вот и с Вейн Гури та же хуйня – стоило мне ее заметить на дороге возле нашего с матушкой дома. Патрульная машина с гарниром из грозовых туч.
– Пам, стой! Давай я выйду прямо здесь…
– Что за нетерпячка? Мы, считай, приехали.
Если Пам раскочегарилась, остановить ее не так-то просто.
Мой дом – облезлая деревянная хибара на улице, состоящей из облезлых деревянных хибар. И раньше, чем увидеть его сквозь ивы, вы непременно увидите скрипящую рядом нефтяную качалку. Не знаю, как в вашем городе, а мы свои качалки украшаем. Как умеем. Даже конкурс такой проводим. Нашу качалку нарядили богомолом, присобачили башку и лапы. И вот этот гигантский богомол качает себе, и качает, и качает в грязи на соседнем участке. Украшали его местные дамы. Но все равно в этом году приз получил Годзилла с Калавера-драйв. Пока Пам осаживает машину, я замечаю в дальнем конце улицы репортеров и еще одного чужака, который стоит рядом с приткнувшимся под ивой Лечуги фургоном. Когда мы проезжаем мимо, он отгибает ветку ивы, чтобы удобнее было на нас смотреть. И улыбается – не спрашивайте у меня почему.
– Этот мужик торчит тут с самого утра, – говорит Пам, указав глазами на иву.
– Просто приезжий или репортер? – спрашиваю я.
Пам качает головой и останавливается возле дома.
– Он не из наших мест, это уж точно. А еще у него при себе видеокамера…
«Еб'т, еб'т, еб'т», – усирается богомол возле моего родительского дома, и так каждые четыре секунды, сколько я себя помню. Газ, тормоз, газ, тормоз… Пам ставит на прикол свою машину, словно это не машина, а речной паром. Еб'т, еб'т, газ, тормоз, я попал в колеса механизма под названием Мученио. Окна у миссис Лечуг, на той стороне улицы, плотно зашторены. В доме номер двадцать старая миссис Портер глазеет из-за внешней, обтянутой москитной сеткой двери на пару с Куртом, средних размеров черно-белой псиной. Курт заслуживает самого почетного места в Зале славы для ебаных брехунов, но с самого вторника даже он не проронил ни звука. Нет, как все-таки собаки чувствуют такие вещи – просто пиздец.
И тут, конечно, на машину падает тень. Вейн Гури, собственной сраной персоной.
– И кто это у нас тут приехал? – спрашивает она, открывая дверцу с моей стороны.
Голос у нее идет откуда-то из горла, как у попугая. Так и хочется заглянуть ей в рот – а вдруг и язык там птичий, такая кожистая, блядь, боксерская перчатка.
Мать выскакивает на крыльцо с подносом унылых, клеклых суперблядьрадостных кексов. Нынче она у нас – Вспугнутая Лань. Точно такой же вид у нее был в тот день, когда я в последний раз видел живым и здоровым своего папашу, хотя в общем-то Вспугнутая Лань может означать все, что угодно, оттого, что кто-то положил не на место ее любимую кухонную прихватку в виде лягвы – и вплоть до форменного Армагеддона. Но варежка туг как тут, под подносом. Она спускается с крылечка и идет мимо ивы, той, под которой поставила себе лавочку для желаний. Лавочки для желаний в наших краях стали ставить совсем недавно, но эта хреновина уже успела накрениться чуть не до самой земли. Она не обращает на лавку внимания и сразу бросается к машине Пам.
– Салют, чувак, – говорит она мне, и от нее за милю, как будто духи пролила, несет дешевыми понтами, и такой у нее говорок, такие, блядь, Чаттануги чу-чу – вот так она и говорит со мной с тех самых пор, как я обнаружил первые признаки, так сказать, мужественности. Я пытаюсь отодвинуться, но какое там, она меня уже сграбастала и покрывает с ног до головы слюнями, губной помадой и хер знает чем еще. Плацентой. И все это время на лице у нее улыбка, которую ты уже где-то видел, вот только не можешь точно вспомнить где. Отгадка: в фильме, где мать приезжает в молодую семью, а под конец им приходится отнимать у нее ножницы, чтобы она всех, на хуй, не порезала.
– Гх-ррр, – является меж нами Вейн Гури. – Боюсь, что этот ваш чувак только что сбежал с допроса.
– Вейн, для тебя я – просто Дорис! Я сама почти что Гури, мы с Лу-Делл просто души друг в друге не чаем, и с Рейной, и вообще.
– Да-да, конечно, миссис Литтл, позвольте я вам кое-что объясню…
– Да, кстати, грех не попробовать вот этих славных кексиков, а, Вейн?
– Боюсь, что не я придумывала эти законы, мэм.
– По крайней мере, может, зайдете в дом, чем стоять здесь, париться и сердиться; там бы все и уладили миром, – говорит матушка.
Я каменею. Вот чего мне меньше всего на свете сейчас хочется, так это чтобы Гури оказалась в моей комнате. В шкафу, например, порылась и все такое.
– Боюсь, Вернону придется проехать со мной, – говорит Гури. – А потом мы будем вынуждены обыскать его комнату.
– Господи, Вейн, но он же ничего такого не натворил, он всегда делает только то, что ему скажешь…
– Да что вы говорите? До сих пор он только и делал, что врал мне на каждом шагу, а как только я ему доверилась и оставила одного, он тут же смылся. И у нас до сих пор нет никаких сведений о том, где он был и что делал во время совершения убийства.
– Да его даже там не было!
– А нам он сказал, что был; что в это время он был на математике.
– В это время у нас шла математика, – поправляю я.
Еб вашу в бога душу мать, напечатайте мне этот текст на майке, и я клянусь не снимать ее даже на ночь.
– Тогда и беспокоиться не о чем, – говорит Гури. – Если вам нечего скрывать.
– Но послушайте, Вейн, в новостях сказали, что дело возбудили и тут же закрыли, потому что всем и так известно в чем причина.
Ресницы у Гури вздрагивают.
– Всем могут быть известны разве что следствия, миссис Литтл. А вот насчет причин мы еще посмотрим.
– Но в новостях сказали…
– В новостях много разного говорят, мэм. А нам фактически со всего графства пришлось собирать пластиковые мешки для трупов, и то едва хватило; и если вас интересует мое мнение, то одному стрелку, без посторонней помощи, трудновато было бы этакое устроить.
Матушка ковыляет к своей скамеечке для желаний и не глядя отставляет кексы в сторону. Скамеечка перекошена, а потому и матушку на ней слегка ведет в сторону. Эта херовина каждую неделю умудряется встать под каким-нибудь новым углом, как будто в нее встроили компас и сориентировали стрелку по матушкиной голове или еще по чему-нибудь столь же добротному.
– Я не понимаю. Я просто не понимаю, почему все несчастья на свете должны происходить именно со мной. У нас есть свидетели, Вейн, свидетели!
Гури вздыхает.
– Мэм, вы же сами знаете, какой ненадежный народ эти так называемые свидетели. Может, ваш сын все знал. А может, и нет. Но факт остается фактом: он удрал из участка прежде, чем я успела его допросить, – люди со стопроцентным алиби обычно так не поступают.
И тут наконец Пам удается выгрузить свои телеса из «меркьюри». Как только она окончательно его с себя снимает, машина с видимым облегчением переводит дух. На сиденье градом сыплются термиты и подпрыгивают, как просыпавшиеся семечки.
– Это я его оттуда забрала, Вейн. Полумертвым от голода.
Гури складывает руки на груди.
– Ему предложили поесть…
– Чтоб мне пусто было, да этой вашей порции от Притыкина не хватит даже для того, чтобы накормить нос от растущего организма.
Ее суровый глаз пришкваривает Гури к месту.
– Да, кстати, Вейн, а как у тебя самой с диетой по Притыкину – помогает?
– Ну, в общем, нормально. Гх-ррр.
Вот это Гури попала, как козявка на булавку. Потрепанного вида чужак с видеокамерой снова обозначается под Лечугиной ивой, перехватывает мой взгляд, потом смотрит на Вейн. К лицу у него по-прежнему приклеена безнадежная, на шрам похожая улыбка, которая вдруг режет меня поперек души, как ножом, не спрашивайте почему. Гури он по фигу. Она просто замечает его для себя уголком глаза, и все. На нем пегая спецовка, а под ней – белый смокинг, как у Рикардо Мандельбаба, или как там звали этого матушкиного любимчика из «Острова фантазии», у которого был собственный карлик. Но вот он трогается с места, пингвиньей развалочкой перебирается на нашу сторону дороги и устанавливает камеру на треногу. Чтобы, типа, никто на его счет больше не заблуждался: либо турист, либо репортер. В наши дни единственный способ отличить одно от другого – это имя. Никогда не обращали внимания, насколько ебнутые имена у местных репортеров? Типа Зирки Серцен, Альдо Манальдо и прочая поебень.
– Так что, – говорит Гури, обращая хрен внимания на Мандельбаба, – давайте-ка доставим мальчика обратно в город.
Хуяльчика доставим.
– Нет, погодите, – говорит матушка. – Я должна вас предупредить: видите ли, Вернон страдает от недомогания.
Она произносит это слово таким скрипучим шепотом, как будто речь идет о раке.
– Ч-черт, мама!
– Вернон Грегори, ты прекрасно знаешь, что это может вызывать определенные неудобства!
Господи, твою мать. Ножик у меня в спине становится длиннее на целый ярд. Поодаль, на обочине дороги, хихикает Мандельбаб.
– Мы о нем позаботимся, – говорит Гури, вытирая ладонь о штанину. И всем телом подталкивает меня в сторону собственной машины; весьма действенный аргумент в пользу правопорядка, если жопа у тебя как два остоебенных фугаса.
– Но он же не сделал ничего такого! У него медицинские противопоказания!
Медиблядьцинские противонахуйпоказания.
И в этот самый момент Судьба ходит с козыря. По улице разносится знакомый шорох «эльдорадо» Леоны Дант. Адский, ети его, маткомобиль. Под завязку набитый двумя другими матушкиными приятельницами – Жоржетт и Бетти. Которые всегда ну просто проезжали мимо. До вторника душой компании была миссис Лечуга; теперь она не расположена к общению – вплоть до соответствующего уведомления.
Леона Дант объявляется у нас только в тех случаях, когда у нее есть как минимум два повода пустить пыль в глаза: чтобы вы знали, как она идет по жизни. Для того чтобы зайти к Лечугам, ей требуется по меньшей мере пять новых достижений, так что мы в младшей лиге. И даже в лиге, блядь, для эмбрионов. Если не принимать в расчет бедра и жопу, как у стельной коровы, и пару прыщиков вместо грудей, Леона – идеальная блондинка с медовыми устами, которые становятся тем слаще, чем чаще она их полирует о бумажник собственного мужа. Покойного мужа, а не того, самого первого, – тот от нее сбежал. О том, который сбежал, она вообще не говорит ни слова.
Жоржетт Покорней в этой компании самая старая; высохшая старая сойка с волосами из лакированного табачного дыма. Для своих просто Джордж. В настоящий момент она замужем за шерифом, но я даже представлять себе не хочу, как они могут чем-нибудь этаким заниматься, и вам не советую. В смысле, представлять. И еще один прикол: при ней, как при носорогах, которых показывают в дикой природе по телику, состоит специальная птичка, которая постоянно сидит у нее на спине. А зовут ее Бетти Причард: еще одна из матушкиных так называемых приятельниц.
Главная задача Бетти – ходить за Джорджем по пятам с идиотской всепонимающей миной и повторять, как попка: «Я понимаю, как я тебя понимаю». У нее десятилетний сынок по имени Брэд. Этот пизденыш сломал мою игровую приставку, но сознаваться не желает. И при этом слова ему не скажи и пальцем его, сука, не тронь: медицинское освидетельствование выявило у него расстройство, которое теперь работает чем-то вроде билета на свободный выход из тюрьмы. Мое недомогание тут и рядом не стояло.
Итак, Судьба играет с козыря в виде невъебенной Леониной тачки, которая останавливается прямо позади патрульного автомобиля. Рикардо Мандельбаб, этот мудила репортер, принимает позу тореро, а потом отступает в сторону, когда на кусочек утоптанной глины, который мы называем «нашей лужайкой», выплескиваются два гектара целлюлита. Сей момент имеет означать, что матушкин мармеладный мир покоится на подушке из сахарной ваты, где каждая ниточка – не просто так, а подушку всегда есть кому взбивать. А теперь посмотрим, как вся эта херь будет таять.
– Привет, Вейн! – кричит издалека Леона.
Она здоровается первой, по той причине, что моложе всех прочих: ей нет еще и сорока.
– Что такое, Вейн? – присоединяется к ней Жоржетт Покорней. – Ты так надоела моему благоверному в участке, что он отправил тебя куда подальше?
Матушка тут же цепляется за соломинку:
– У Вейн обычная проверка, девочки. Давайте зайдем выпьем содовой.
– И больше ничего, Дорис? – спрашивает Леона.
– Ой, мамочки, – вскидывается матушка. – Кексы-то у меня сейчас вспотеют. И отклекнут!
Убей меня бог капустной кочерыжкой, если в этих кексах есть хоть капля жизни: вспотеть они не смогут ни при каких раскладах.
Вейн Гури прочищает горло, чтобы что-то сказать, но в этот самый миг к ней подступает Мандельбаб с видеокамерой и крокодильей улыбкой на роже.
– Несколько слов в камеру, капитан?
Вокруг собирается аудитория в лице Пам, Жоржетт, Леоны и Бетти. В руках у Жоржетт появляется пачка сигарет. Она устраивается надолго. Всепонимающая мина на лице Бетти сменяется выражением озабоченности.
– Ты же не собираешься курить, когда тебя снимают для телевидения, а, Джордж?
– Шшш, – отвечает Жоржетта. – Это не меня снимают, а вот ее. Не пудри мне мозги, Бетти.
Губы у помощника шерифа Гури вытягиваются в ниточку. Она набирает полную грудь воздуха и хмуро переводит взгляд на репортера.
– Во-первых, сэр, я помощник шерифа, а во-вторых, за свежей информацией вам следует обратиться к уполномоченному по связям с общественностью.
– Вообще-то новости мне не нужны. Я пытаюсь вникнуть в контекст, – говорит Мандельбаб.
Гури сканирует его взглядом, с ног до головы.
– Тогда понятно. А вы, собственно…
– Си-эн-эн, мэм, Эулалио Ледесма, к вашим услугам. – Солнечный луч высекает искру из золотого зуба у него во рту. – Мир застыл в ожидании.
Гури усмехается и качает головой.
– Мир довольно далек от Мученио, мистер Ледесма.
– Сегодня Мученио и есть наш мир, мэм.
Гури быстро переводит взгляд на Пам. Рот у Пам открыт настежь, как у младенца на рекламе фастфуда. В глазах горят две волшебные буквы: ТВ!
– Твой Барри просто умрет от гордости! – говорит она.
Помощник шерифа Гури оглядывает себя.
– Но я же не могу сниматься прямо вот так, разве так можно?
– Ты что, Вейн, с ума сошла, – нетерпеливо восклицает Пам. – Такой шанс. Да все с тобой в порядке.
– Да иди ты. Гх. А что я, собственно, должна сказать? Ну, в двух словах.
– Расслабьтесь и во всем положитесь на меня, – говорит мистер Ледесма.
Прежде чем Гури успевает хоть что-то ему возразить, он переустанавливает треногу, наводит на нее камеру и встает перед объективом. Голос у него становится вдруг насыщенным и звучным, как расплавленное дерево.
– И снова мы примеряем на себя скорбные одежды – одежды, изношенные от частого употребления в быстро меняющемся мире. Сегодня добропорядочные граждане города Мученио, в центре Техаса, задаются тем же вопросом, которым задаюсь я: как нам излечить Америку?
– Гх-ррр.
Гури открывает рот, как будто именно она, блядь, только и знает ответ. Нет, Вейн, прижухни – он еще не кончил.
– Мы начнем с передовой, с тех людей, чья роль в ситуации, сложившейся здесь после трагедии, постепенно меняется: с работников правоохранительных органов. Помощник шерифа Гури, скажите, ощущаете ли вы, как в подобных случаях изменяется отношение местных жителей к вам и вашим коллегам?
– Ну, у нас это в первый раз, – отвечает Гури.
Вот уж сказала, как в воду перднула.
– Но вы замечаете, что к вам стали чаще обращаться за консультацией, что люди надеются не только на то, что вы исполните свой гражданский и служебный долг, но и на вашу моральную поддержку?
– С точки зрения стасс-тисстики, сэр, консультантов у нас в городе больше, чем полицейских. Они не охраняют общественный порядок, а мы не даем консультаций.
– Общество сталкивается с вызовом, и – что? Люди тянутся друг к другу?
– Ну да, конечно, мы получили подкрепление из Лулинга, из графства Смит нам прислали собак. Даже комитет в Хьюстоне кое-какое оборудование подогнал, самопал, конечно, но лучше, чем ничего.
– Вероятно, с тем, чтобы высвободить драгоценное время, которое вы можете провести теперь с теми, кто выжил… – Ледесма начинает подталкивать меня поближе к камере.
У Гури аж дыхание перехватывает.
– Кто выжил – выжил. А в мои обязанности, сэр, входит выяснить причину случившегося. Этот город не успокоится, пока причина всех наших нынешних проблем не будет установлена. И устранена.
– Но, насколько я понимаю, дело возбуждено и закрыто?
– Ничто на свете не происходит без причины, сэр.
– Вы утверждаете, что местной общине придется смириться с тем, что расследование будет вестись в ее собственных границах, и, кроме того, вполне возможно, что ей придется столкнуться с рядом не слишком приятных фактов относительно ее собственной роли в этой трагедии.
– Я утверждаю, что нам придется найти причину, то есть конкретного человека, из-за которого все произошло.
В глазах у Ледесмы всплескивают искорки. Он дотягивается до моего плеча и выдергивает из толпы – прямо в кадр.
– Неужели причиной и был вот этот молодой человек?
Двойные подбородки Гури съеживаются, как улитки, когда их спрыснешь уксусом.
– Гх-ррр, я этого не сказала.
– Тогда почему американские налогоплательщики должны оплачивать ваше личное желание посадить его под замок в первый же день после убийства, которое могло нанести ему такую психическую травму, от которой он не оправится до конца своих дней?
С дальнего конца улицы начинают подтягиваться другие репортеры. На лице у Гури выступают капельки пота.
– На этом съемка закончена, мистер Ледесма.
– Помощник шерифа, эта земля находится в общественной собственности. Здесь даже Господь Всемогущий не сможет наложить запрет на видеосъемку.
– Я только хочу сказать, что не я придумывала все эти законы.
– Этот мальчик нарушил закон?
– Ну, этого мы пока не знаем.
– Так, значит, вы сажаете его просто на всякий случай?
– Гх-ррр.
Шерифова жена нахмурилась так, что брови сошлись чуть не на сиськах. То есть, по сути дела, чуть ниже пупа. Ледесма оценивает ее краем глаза, у этого парня явно все под контролем. Гури пытается по тихой унести ноги, но он тут же наставляет на нее камеру, как пистолет.
– Может быть, вы скажете, как зовут шерифа, который отдал вам такое распоряжение?
По тому, как Жоржетт Покорней обычно говорит о своем благоверном, прямо-таки и не скажешь, что ей до него есть хоть какое-то дело. Но тут, однако, выясняется, что все не так просто. Сквозь вихрь «клинексов» у нее из сумочки выпархивает телефон.
– Бертрам? Вейн показывают по телевизору.
Через секунду в кармане у Гури раздается телефонный сигнал.
– Шериф? Нет, сэр, богом клянусь. Бандера-роуд? Примерно в двух кварталах отсюда. Собаки? Так точно, сэр, сию секунду.
Ледесма спокойно сворачивает камеру и наблюдает за тем, как Гури с побитым видом тащится к машине. Затем под аккомпанемент первого раската грома и последнего солнечного блика от нефтяной качалки поворачивается ко мне и подмигивает – в замедленной съемке. Иначе чем в замедленной и не заметишь, так быстро он это сделал. Мне приходится сделать над собой серьезное усилие, чтобы не улыбнуться в ответ. И не уссаться со смеху, да так, что весь Техас, на хуй, вынесет в Карибское море.
– С тебя причитается, – одними губами проговаривает он и тычет в меня коротким толстым пальцем.
Я просто киваю и иду вслед за матушкой к нашему крыльцу, вместе с Леоной, Жоржетт и Бетти. Она загоняет их в дом, а сама задерживается у внешней двери, чтобы посмотреть, по-прежнему ли старая миссис Портер, бездетная миссис Портер, мешком по голове оглоушенная миссис Портер, маячит в собственном дверном проеме. Маячит, но делает вид, что ее там нет. А Курт, хрен собачий, просто стоит и смотрит. Хули ему-то притворяться.
Последнее, что я вижу сквозь затворяющуюся дверь, – как Пальмира катится, постепенно набирая скорость, по тротуару в нашу сторону. Проходя мимо Гури, она тычет пальцем в пятно у той возле бейджика с именем.
– Батюшки, Вейн, никак барбекю-соус?
Если мир и впрямь черно-белый, то вся моя комната – одно большое свидетельство против меня. Густое марево носков и нижнего белья, изрешеченных тайными грезами. В компьютере нужно первым делом подчистить кое-что в реестре и в истории, чтобы от некоторых файлов даже следа не осталось, вроде тех картинок, где ампутанты занимаются сексом, которые я распечатывал для старика Сайласа. У него, видите ли, нет компьютера. Сайлас – это такой старый местный доходяга, и вы туда даже не ходите, нечего вам там делать, нет, правда. У нас, у несовершеннолетних, с ним меновая торговля: мы ему картинки, а он нам взамен… ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я ставлю себе галочку: почистить компьютер или «заняться виртуальной гигиеной», как не скажет мистер Кастетт. А сам тем временем продолжаю внимательный осмотр комнаты. Возле кровати стопкой сложено белье, выстиранное еще на той неделе, а под ним матушкин каталог женского белья; надо будет вернуть его к ней в комнату. И держать пальцы фигами, чтобы она никогда в жизни не открыла страницы 67 и 68. Ну, знаете, как оно бывает. Теперь шкаф, где в самом низу лежит коробка из-под «найков». А в ней два косяка и две чеки ЛСД. Только не поймите меня неправильно, я их храню для Тейлор Фигероа.
Сквозь сумрак за окном всплескивает тусклый свет. Неудержимо тянет выглянуть, я выглядываю и вижу, как на крылечке у Лечуг выгружают целую кучу цветов и плюшевых мишек. Теперь оно похоже на крыльцо принцессы Дебби, или как там звали эту принцессу, которая недавно умерла. И все это лежит кучкой и не распаковано. Коню понятно, что Лечуги сами за это все заплатили. А больше никто Максу цветов не прислал, вот что самое печальное. Душераздирающее зрелище – нет, правда.
Мозг у меня превратился в желе, и где-то на его задворках я фиксирую обыденную трагичность произошедшего. Вот, например, Лечугам приходится самим себе отправлять плюшевых мишек. А знаете почему? Потому что их Макс был полный мудила. Вот только подумал, а по душе как пилой полоснуло: огненные псы вот-вот сорвут намордники и уволокут мою говенную душонку в ад, на муки вечные. И при всем том вот он я, в глазах щиплет, стою и реву по Максу, по всем моим одноклассникам. Правда – штука ебучая. Такое впечатление, что все, кто материл покойных на чем свет стоит, теперь выстроились в очередь, чтобы рассказать нам, какими ангелами были эти милые детишки при жизни. Я уже успел понять, что этот мир каждый день смеется до усрачки, а потом, когда говно все-таки полезет наружу, начинает упражняться во вранье. Такое впечатление, что всех нас держат на Притыкинской диете из ебучего вранья. И скажите мне на милость – еб вашу мать, разве это жизнь?
Я затыкаю глаза накрахмаленным краешком футболки и пытаюсь взять себя в руки. Мне стоило бы прибраться в комнате как следует, поскольку все теперь такие, на хуй, нервные, но на душе у меня как говном намазано. А потом в памяти как-то вдруг сама собой всплывает мысль, которую я, кажется, где-то вычитал: если ты запланировал что-то сделать и прикинул, сколько времени у тебя на это уйдет, то именно столько времени Судьба и отведет тебе прежде, чем нужно будет браться за что-то следующее на очереди.
– Верн? – вопит с кухни матушка. – Вер-нон!
4
– Вер-нон?
– Чего еще? – ору я в ответ.
И ни хуя она не отвечает. Это, наверное, у всех матерей от рождения: ей просто захотелось вспомнить, как звучит твой голос. На каких, блядь, нотах. Если ты ее потом попросишь повторить, что ты ей сказал, она ни полслова не вспомнит. Нужно только, чтобы звук был правильный. Как из жопы.
– Вер-нон.
Я затворяю дверь шкафа и иду через холл в кухню, где вокруг стойки разыгрывается знакомая до боли сцена. Матушка на кухне возится с плитой, Леона составляет ей компанию. Брэд Причард сидит на ковре в гостиной и притворяется, что никто не видит, что палец у него в жопе чуть не по самый локоть. А все притворяются, что и впрямь ничего не видят. Таковы люди – а я вам что говорил? Им не хочется марать свои вечно, блядь, зеленые жизни, открывши рот и сказав: «Брэд, да вынь ты наконец свой сраный палец из анального отверстия», ни хуя подобного, они вместо этого лучше просто притворятся, что их здесь нет. Точно так же они умудряются делать вид, что не имеют к царящей в городе скорби никакого отношения. А все равно, блядь, не выходит. И ребра их плотно сжаты железным обручем тоски. Единственный человек, на котором глаз отдыхает, – это Пам: выбросилась, как кашалот на берег, на старый папашин диван в темном конце комнаты. И из-под складок ее попоны уже появился положенный «сникерс».
Я иду на кухонную сторону стойки, где Леона никак не перейдет к главной цели своего визита: к очередным понтам. Сперва она должна выбить все козыри у матушки, а потому ее медовый голосок скользит как по накатанному то вверх, то вниз: «Ой, как здорово, уау, Дорис, ой, какая прелесть», как пароходная сирена в тумане. Потом, когда матушка наконец выдыхается, она ходит с туза.
– Да, кстати, я тебе говорила, что наняла горничную?
Рот у матушки разъезжается гармошкой.
– Ой, о-ой.
А теперь задержи дыхание и жди второго. Джордж выпускает супертонкую струйку дыма у Бетти поверх головы, они сидят и делают вид, что смотрят телевизор, но их супермягкие улыбки суть недвусмысленное свидетельство: они знают, что еще у Леоны в рукаве. Матушка просто наклоняется к духовке, и все. Будет куда сунуть голову, если еще чем-нибудь вовремя не оглоушат. На носу у нее набухает капелька пота. И – тссык – на коричневый линолеум.
– Ага, – говорит Леона, – она выходит на работу, как только я вернусь с Гавайев.
Дом содрогается от облегчения.
– Не может быть, что – опять в отпуск? – спрашивает матушка.
Леона откидывает волосы на спину.
– Тодду хочется, чтобы я ни в чем себе не отказывала, пока я молодая.
А то. Моложе не бывает.
– Черт, но не сегодня же, – доносится из гостиной голос Джордж. Что значит: ша, конец понтам.
– Я понимаю, как я тебя понимаю, – говорит Бетти.
– Такое впечатление, что дальше уже некуда, и вдруг – бабах!
– О господи, я понимаю.
– Шесть фунтов как одна унция, а я ее видела всего-то на прошлой неделе. Шесть фунтов за неделю! – Слова вылетают у нее изо рта в густом клубе дыма, и она разгоняет их по комнате рукой.
Бетти отмахивается от тех, что пришлись на ее долю.
– Все из-за диеты, из-за этих ее крабов, – говорит Леона.
Пам хрюкает что-то неразборчивое из полумглы.
– Я понимаю, – говорит Бетти. – А почему она решила отказаться от «Часовых веса»?
– Милочка, – говорит Джордж, – Вейн Гури очень повезло, что эти чертовы шорты еще не лопнули прямо у нее на жопе. Я вообще не понимаю, какой ей смысл пытаться с собой что-то сделать.
– Это Барри ее припугнул, – подает голос Пам. – Дал ей месяц на то, чтобы мясо больше не висело, а если нет, только она его и видела.
Джордж задирает голову вверх так, чтобы слова летели по навесной траектории, через голову Пам.
– Тогда нечего и думать о Притыкине – ей нужна система Вилмера.
– Но, Жоржетт, – выглядывает из кухни матушка, – в моем случае Вилмер не сработал – пока, по крайней мере.
Леона и Бетти переглядываются. Джордж тихо кашляет.
– Сдается мне, Дорис, что ты не слишком-то строго ее придерживалась.
– Ну, я, конечно, еще не успела в ней окончательно разочароваться, вы же понимаете… Да, кстати, а я вам говорила, что заказала холодильник – новый, поперечной системы?
– Уау, – говорит Леона. – Специальное Предложение? А цвет какой?
Матушка скромно роняет глаза в пол.
– Ну, в общем, миндальный на миндальном.
Нет, вы на нее только посмотрите: раскраснелась, вся в поту, под шапочкой старых добрых светло-коричневых волос на собственной старой доброй светло-коричневой кухне. А внутри все ее органы вкалывают как сумасшедшие, пытаясь переработать желчь в земляничное молочко. А снаружи ее светло-коричневая жизнь увивается бессмысленными кольцами вокруг веселенькой красной загогулины на ее платье.
Я напоминаю ей о своем присутствии – из той части кухни, где у нас стиральная машина.
– Ма?
– А, вот и ты. Иди-ка спроси у этого телевизионщика, не хочет ли он стаканчик коки. Там, снаружи, наверное, градусов девяносто[4], не меньше.
– У того, который одет как Рикардо Мандельбаб?
– Ну, он много младше Рикардо Монтальбана – правда, девочки? И симпатичнее…
– Хнфф, – доносится с дивана.
Джордж перегибается вперед, чтобы заглянуть матушке в глаза.
– Ты же не собираешься приглашать совершенно незнакомого человека в дом? Вот так вот – взять и пригласить?
– Ну, Жоржетт, ведь ты же знаешь, что жители Мученио славятся своим гостеприимством…
– Ага, – фыркает Джордж. – Только что-то я не слышала, чтобы кто-то из той группы поддержки, у которой в прошлый раз сломался здесь автобус, сильно рвался вернуться в наши края.
– Ну, это ведь совсем другое дело.
Все девочки, за исключением Пам, поджимают губки и переглядываются. Джордж аккуратно прочищает горло.
Брэд Причард наконец закончил трудиться над собственной задницей. Засим последует целая пантомима из множества разнообразных и ненужных жестов, в результате которой палец все равно окажется у него в носу. Выходя из кухни, я встречаюсь с ним глазами, указываю себе на задницу и смачно облизываю палец.
– Мм-ам! – верещит он.
Беула-драйв разбухла от жары. Я тащусь к стойке с лимонадом, которую соорудили соседские детишки на подъездной дорожке к дому номер двенадцать; за информацию о репортере они просят пятьдесят центов, и я бреду обратно, чтобы обследовать красный фургон под Лечугиной ивой. Мой нос расплющивается о заднее стекло. Под сиденьем – коробка из-под готового завтрака, а в ней половинка коричневого яблока. На полу какие-то проволочки. Растрепанная книжка под названием «Хорошая идея в массмедиа». Потом – голова Ледесмы; покоится на паре старых башмаков. Он лежит на полотняном матрасике, глаза закрыты, тело расслаблено и все в поту. Как только я фиксирую на нем взгляд, он вздрагивает, как заяц.
– Т-твою мать!
Он приподнимается на локте и принимается тереть глаза.
– Эй, командир, дверь у нас с другой стороны.
Переправив на ходу беглого плюшевого мишку на Лечугину лужайку, я огибаю фургон. В лицо мне ударяет густая потная волна, стоило только открыть дверцу. Лицо у этого типа какое-то смурное. Явно за тридцать. Матушке он, судя по всему, чем-то глянулся, но я бы на ее месте был с ним поосторожнее.
– Вы прямо в фургоне живете? – спрашиваю я.
– Ц-ц, в мотеле ни одного свободного места. Кроме того, надо же дать моей корпоративной «Амекс»[5] хоть немного передохнуть.
Он сгребает одежду, и по полу раскатываются какие-то стеклянные флакончики.
– Мать просила вам передать, что вы можете зайти к нам и выпить кока-колы.
– Я бы с гораздо большим удовольствием воспользовался вашей ванной. И чего-нибудь перекусил.
– У нас есть радостные кексы.
– Радостные?!
– Во-во.
Натягивая на себя комбинезон, Ледесма сгребает пригоршню флакончиков и заталкивает их в карман. Глаза у него черные и быстрые, и он явно меня изучает.
– Сегодня твоя мама пережила настоящий стресс.
– Бывало и хуже.
Он смеется, как астматик, закашлялся – «кхеррерр, хррр» – и шлепает меня по руке. Типа, как папаша делал, когда играл в друзей. Мы идем через улицу, потом по нашей подъездной дорожке. У лавочки для желаний он останавливается, чтобы поудобней уложить в штанах яйца. Потом качает головой и смотрит на меня.
– Верн, ведь ты же ни в чем не виноват, да?
– Ага.
– Не знаю, почему меня это настолько задевает, ц-ц. Все это дерьмо, которое на тебя обрушилось, и у меня никак не идет из головы мысль – ну разве это жизнь?
– Вам хочется об этом поговорить?
Он кладет мне руку на плечо.
– Я просто хочу тебе помочь.
Я просто стою и смотрю на свои «найки». Если честно, моменты истинной близости не мой репертуар, особенно если ты только что видел этого типа голым. И отдаешь себе отчет в том, что следующим номером будешь трястись, как шавка в каком-нибудь сраном телефильме, вот там тебе и будет и откровенность, и истинная близость. Мне кажется, он и сам почувствовал, что слегка переборщил. Он убирает руку с моего плеча, щиплет себя еще разок в промежности и склоняется над нашей лавочкой для желаний, которую совсем перекосило.
– Вот, блин, – говорит он и распрямляется. – Вы что, не могли поставить ее где-нибудь на ровном месте?
– А то! Конечно, могли – там, где она раньше стояла. В магазине.
Он смеется.
– С тебя причитается, большой человек по фамилии Литтл. Расскажешь мне всю историю с начала до конца. Мир просто тащится от неудачников.
– Но мы же только что уделали помощника шерифа Гури.
– Ц-ц, камера-то не работала.
– Тогда вам лучше делать ноги из города.
– Считай, что я просто выручил тебя, как неудачник неудачника.
– Это вы-то неудачник?
На этой моей фразе дверь миссис Портер приоткрывается, в щелку осторожно выглядывает Куртов нос и пробует воздух.
– В этом мире нет никого, кроме неудачников и психов, – говорит Ледесма. – Психов вроде этой толстозадой помощницы шерифа. Подумай об этом на досуге.
Но мне, понятное дело, недосуг. Хочешь не хочешь, а трястись в этом сраном телике все равно придется, ни хуя не поделаешь, закон природы. Трястись и жрать говно за обе щеки. Ни секунды в этом не сомневаюсь, да и вы бы со мной согласились, если бы хоть раз увидели, как матушка смотрит по ТВ «Суд идет». «Ты только посмотри, как спокойно он держится, зарубил топором десять человек и съел их внутренности, и ему на все начхать». Лично я не вижу никакой логики в том, чтобы трястись, если ты ни в чем не виноват. Если вас интересует мое мнение, так мне кажется, что люди, которые не едят внутренности других людей, имеют полное право чувствовать себя спокойно. Так нет же, недавно до меня дошло, что судьи смотрят те же самые телешоу, что и моя родительница. И если тебя не бьет кондратий, значит, ты виновен.
– Ну, я не знаю, – говорю я и поворачиваю к нашему крыльцу.
Ледесма явно не торопится.
– Не стоит недооценивать широкую общественность, Верн. Ей хочется видеть торжество правосудия. Вот и дай им то, чего они хотят.
– Не понял. Я ведь ничего такого не совершил.
– Ц-ц, а кто знает? Люди могут выносить суждения как опираясь на факты, так и не опираясь на факты. И если ты не выйдешь на авансцену и не нарисуешь свою собственную парадигму, кто-нибудь нарисует ее за тебя.
– Что я нарисую?
– Па-ра-диг-му. Никогда не слышал о парадигматическом сдвиге смысла? Вот, к примеру: ты видишь, как некий мужчина лезет рукой в задницу к твоей бабке. Что ты о нем подумаешь?
– Ублюдок.
– Именно. И тут тебе говорят, что туда забралась какая-нибудь смертельно опасная тварь и что этот человек, забыв о природной брезгливости, пошел на это, чтобы спасти бабке жизнь. Что ты теперь подумаешь?
– Герой.
Сразу видно, что он в жизни не встречался с моей бабулей.
– Вот это и называется парадигматическим сдвигом смысла. Само действие ничуть не изменилось – все дело в той информации, на которую ты опираешься, прежде чем вынести суждение. Ты был готов урыть этого парня на месте просто потому, что не владел всей полнотой информации. А теперь ты с гордостью пожмешь ему руку.
– Не уверен.
– Я в переносном смысле, олух. – Он смеется и выбивает мне с полдюжины ребер. – Факты могут казаться черными и белыми, когда ты видишь их на телеэкране, но для того, чтобы они стали такими, целые команды профессионалов должны просеять горы абсолютно серого вещества. Тебе, как и любому рыночному продукту, нужно суметь подать себя. Тюрьмы битком набиты людьми, которые просто не сумели себя правильно подать.
– Погодите, вы же слышали, у меня есть свидетель.
Ледесма трогается в сторону крыльца.
– Ага, и жирножопая помощница шерифа этим тоже страшно заинтересовалась. Общественное мнение колыхнется вслед за первым же психом, который ткнет пальцем и завопит: «Держи его!» Так что, командир, твоя задница – первый кандидат на этих выборах.
Мы открываем скрипучую наружную дверь и окунаемся в кухонную прохладу. Матушка тут как тут, уже успела вытереть пот своей любимой лягушачьей прихваткой, и на щеке у нее – тесто от радостного кекса. Прочие старые прошмандовки сгрудились на заднем плане и держатся естественно.
– Милые дамы, – с широкой ухмылкой говорит Лалли. – Так вот, значит, как вы туг устроились, покуда я, как раб, подыхаю на самом солнцепеке?
– Ну, мистер Смедма… – открывает рот матушка.
– Эулалио Ледесма, мэм. Образованные люди кличут меня просто Лалли.
– Принести вам колы, мистер Ледесма? Что вы предпочитаете, диет- или без кофеина?
Матушке нравится, если в гости к ней заходят важные люди вроде доктора или еще кого-нибудь в этом роде. Ресницы у нее трепещут, как умирающие мухи.
Лалли опускает задницу на кухонную скамеечку и устраивается поудобней.
– Нет, благодарю. Мне, если можно, простой воды и, может быть, один из этих замечательных кексов. По правде говоря, у меня есть для вас сногсшибательная новость, милые дамы, если вам, конечно, интересно.
– Разбудите меня кто-нибудь, когда он кончит, – раздается с дивана голос Пам.
Лалли извлекает наружу стеклянные флакончики, наполненные чем-то вроде мочи.
– Настойка сибирского женьшеня. – Он сует одну из них мне в руки и подмигивает. – Лучше всякой виагры.
– Хи-хи, – шелестят девочки.
– Итак, Лалли, – вступает матушка, – вы спите прямо в фургоне или…
– В настоящее время именно так дело и обстоит – ни единого свободного мотеля отсюда до самого Остина. Говорят, некоторые особо любезные горожане пускают к себе на постой, но я, к сожалению, таковых пока не встретил.
– Ну, в общем, – говорит матушка и оглядывается в сторону коридора. – То есть я хочу сказать…
– Дорис, ты же не собираешься разрешить Вернону пить эту гадость, правда?
Вот, полюбуйтесь: образчик отвлекающей техники старушки Джордж. Она вызывает у меня смешанное чувство. В смысле, я искренне рад, что она не дала моей родительнице вот так вот с ходу взять и пригласить Ледесму у нас переночевать. Но зато теперь все смотрят на меня.
– Не беспокойтесь, это совершенно безвредно, – говорит Лалли. – И стресс как рукой снимает.
Джордж смотрит, как я верчу в руках пузырек. Она прищуривается, а это, блядь, охуенно плохой признак.
– Такое впечатление, что у тебя и в самом деле стресс, Верн. Ты на лето работу нашел?
– Не-а, – говорю я и опрокидываю в рот флакончик с женьшенем. На вкус – говно говном.
– Дорис, ты слышала, что у Харрисов сын купил грузовик. «Форд». Все мои знакомые молодые люди уже нашли себе работу на лето. А еще они все подстриглись, как порядочные люди.
– Ни фига это не «форд», – подает с ковра голос Брэд.
– Брэдди, – говорит Бетти, – что это еще за «ни фига»?
– Отвали.
– Не смей со мной так разговаривать, Брэдли Эверетт Причард!
– А какого ты развонялась? Я сказал – отвали, вот и отвали и засунь себе язык в жопу.
Он принимается плеваться, выгибаться, потом подскакивает к Бетти и бьет ее кулаком в живот.
– Брэдли!
– Отвали, отвали, ОТВАЛИ!
Я просто стою и молчу. Лалли поднимает глаза, видит, с какой тоской я смотрю в сторону коридора. Он тоже проглатывает флакончик женьшеня и говорит:
– Я очень надеюсь на твою помощь, капитан. Может, у тебя в комнате можно будет создать по-настоящему рабочую атмосферу? – Он оборачивается к матушке. – Если, конечно, вы не возражаете. Берн согласился проанализировать для меня кое-какие местные данные…
– Да нет, конечно, о чем речь, Лалли, – тут же отзывается матушка. – Верн, а ну, живо! Слышали, девочки? Он уже работает на Лалли, он анализирует для Лалли данные!
Я несусь прочь, чувствуя себя целой крысиной стаей.
– При таком внешнем виде это будет единственная работа, которую он умудрится найти, – говорит Джордж-Черт знает что на голове, с виду – так настоящий преступник. И кроссовки ему не помогут, у этого психа-мескалеро были точно такие же…
Да пошла ты в жопу. Я пинаю в сердцах стопку белья и с грохотом захлопываю дверь спальни. В свете подобного поведения со стороны моих родственников и знакомых я начинаю всерьез подумывать о том, чтобы просто-напросто эвакуироваться через заднюю дверь, прыгнуть на автобус, уехать к бабуле и даже не ставить никого об этом в известность. Просто позвоню потом, и все дела. Ведь каждая собака знает, что причиной этой ебаной трагедии стал Хесус. Но Хесус умер, а раз они не могут убить его за это еще раз, вот и рвут жопу, чтобы найти себе козла отпущения. Вот вам истинная людская сущность – ни прибавить, ни убавить. Я бы и сам с удовольствием объяснил, как было дело во вторник. Но дело в том, что руки у меня, видите ли, связаны. Приходится принимать в расчет семейную честь. И защищать матушку, поскольку я теперь единственный мужчина в семье и все такое. Но я хочу заранее предупредить: если кто примется тыкать пальцем в меня только на том основании, что я дружил с этим парнем, как бы не пришлось ему об этом пожалеть. Умыться, блядь, ебаными слезами, когда правда выплывет наружу. А она всегда, на хуй, выплывает. Посмотрите любое кино – и сами все поймете.
Сквозь дверь спальни я все равно слышу, о чем они там говорят: как плохие актеры в телесериале, один в один.
– Это нелегкие времена для нас всех, – говорит Лалли.
– Я понимаю, как я вас понимаю.
– А Вейн: такое впечатление, что с живых она с нас не слезет, – говорит Леона. – Она что, не может сделать скидку на то, что у нас горе?
Джордж кашляет – как собака тявкнула:
– Это мой благоверный с Вейн с живой не слезет – он дал ей месяц на то, чтобы повысить раскрываемость. А иначе – поминай как звали.
– Ты хочешь сказать, он уволит ее из полиции после стольких лет службы? – ужасается матушка.
– Хуже. Он, вероятнее всего, переведет ее к Эйлине в заместители.
– О господи, – говорит Леона, – но ведь Эйлина… она же вроде как секретарша. Это же работа все равно что у Барри!
– Только еще ниже, – мрачно усмехается Пам.
Засим следует короткая пауза. Это значит, что все вздохнули. Потом матушка подхватывает тему:
– Ну конечно, для Вейн этот месяц многое решает. И не сказала бы, что для нее все складывается хорошо, судя по тому, как она обращается с Верноном, да и вообще.
– Ц-ц, – говорит Лалли. – Может, собаки что отыщут.
– Собаки? – переспрашивает Леона.
– Ищейки, из графства Смит.
– Не понимаю, а собакам-то теперь что тут делать?
– Можно, я вам перезвоню, Дорис? – спрашивает Лалли. Потом тоном ниже: – Видите ли, Дорис, люди задаются вопросом, может ли человек в здравом уме и трезвой памяти учинить подобную резню. И хочешь не хочешь, на ум сразу приходят наркотики. Если слухи насчет наркотического следа окажутся больше чем просто слухами, эти специально обученные собаки за пять минут все расставят по своим местам.
– Ну что ж, прекрасно, – пыхтит матушка, – тогда я бы с удовольствием пригласила их в дом прямо сейчас, чтобы раз и навсегда положить конец всем этим нелепым подозрениям. Насчет Вернона.
Я вынимаю наркотики из обувной коробки в шкафу и переправляю их в карман. От соприкосновения с косяками рука у меня сама собой становится влажной. Где-то на улице брешет Курт.
5
Если честно, то, что бы там ни рассказывали о старом мистере Дойчмане, никто не утверждал, будто он и в самом деле вставил какой-то конкретной школьнице. Или школьницам. Может, просто лапал их там, хуяпал, ну, сами знаете. Конечно, говнюк тот еще, не подумайте, что я его защищаю. Он был не то директором школы, не то еще каким-то благочестивым ебанашкой с открытым лицом и широкой улыбкой в те времена, когда за такого рода вещи было еще не принято отрывать яйца. А может, и еще того раньше, до эпохи ток-шоу, когда тебе могли залудить по полной просто за неправильное слово, сказанное в неправильном месте. Может, тогда он и стригся в модном унисексе на Гури-стрит с кофейным автоматом и прочими делами. Теперь-то он носа туда не кажет, а крадется задами вдоль скотобойни в парикмахерскую при мясокомбинате. Ага, на мясокомбинате по воскресеньям работает собственный парикмахер. Сегодня утром здесь только мы вдвоем с мистером Дойчманом. Если не считать матушки.
– Не слушайте вы Вернона, унисекс, как правило, стрижка короткая.
Шаль и темные очки, судя по всему, должны были сделать ее невидимой. Человек-невидимка, только в юбке и очень дерганый. А на мне сегодня самая истошно-красная футболка, которую вам только приходилось видеть в жизни, как на каком-нибудь шестилетнем спиногрызе. Я не хотел ее надевать. Но она определяет, что тебе надеть, самым элементарным образом: в самый нужный момент оказывается, что все остальное просто не успело высохнуть после стирки.
– Бросьте, сэр, не переживайте, они снова отрастут.
– Черт, ма…
– Вернон, это все для твоей же пользы. И нужно будет подобрать тебе какую-нибудь обувь поприличней.
У меня по заднице сбегает струйка пота. Освещение погашено, и на зеленый здешний кафель падает всего один луч света – сбоку, от дверного проема. В воздухе стоит отчетливая мясная вонь. Мухи стерегут два допотопных парикмахерских кресла в самой середине комнаты; белая когда-то кожа стала коричневой, растрескалась и затвердела, и теперь ее не отличить от пластика. Единственное, чего на них не хватает, – ременных зажимов для рук. В одном сижу я, в другом – мистер Дойчман; руки у него ерзают под покрывалом. Есть чем заняться, пока парикмахер измывается надо мной. Снаружи раздается свисток, и на усыпанной гравием площадке собирается парадно-духовой оркестр мясокомбината. «Брааап, барп, бап», – начинается репетиция. Одной из одетых в военную форму барышень на вид никак не менее восьмидесяти тысяч лет от роду; когда она пытается маршировать, жопа шлепает по ляжкам. Я перевожу взгляд на стоящий в углу телевизор.
– Смотри, Вернон, у него нет ни рук, ни ног, а на вид такой опрятный. И у него есть работа, слышишь – он даже умудряется играть на бирже.
В телевизоре репортер спрашивает этого парня, каково быть таким одаренным. А тот пожимает плечами и говорит в ответ: а что, разве не каждый человек по-своему одаренный?
Парикмахер по большей части стрижет воздух; на столик падают две половинки от мухи.
– Барри заходил. Сказал, что здесь могут быть замешаны наркотики.
– И не только замешаны. Но и расфасованы, – говорит мистер Дойчман.
– Наркотики или еще один ствол.
– Ага, или еще одна стволочь. Я слышал, что все дело в женских трусиках. Вы слышали про женские трусики?
Спокойствие, только спокойствие. Не хотел бы я оказаться на собственном месте, если они, суки, действительно найдут наркотики. Потому и сижу здесь с двумя косяками и двумя колесами кислоты в кармане; невъебенные конфетки, если верить Тейлор: глотнешь одну – и такое ощущение, будто мозги у тебя выстреливают из носа, как челюсти у «чужого», и хавают небо в алмазах. Хотел было сбросить их по дороге, но Судьба повернулась ко мне жопой. В последнее время эта сука просто не выходит из раковой позы. В смысле, Судьба.
Короче, надо паковать рюкзак и делать ноги; и буду я весь такой одинокий и резкий, как по телику. Сбросить Тейлорову дурь и уебывать на хуй. И как-нибудь поумнее, чем вчера вечером, когда вокруг дома стояли лагерем Лалли и репортеры всего мира. Я не успел и четырех шагов отойти от крыльца, как они уже взяли след. Теперь они уверены, что рюкзак у меня битком набит травой. А прошлая ночь была долгой, блин, долгой и промозглой от призраков и внезапных озарений. Озарений насчет того, что пора вынимать голову из жопы и что-то делать.
– Когда сюда зайдет Вейн со своими собаками, – говорит парикмахер, – то я ей скажу, что нам тут нужны не бобики на поводках, а спецназ, с этими их автоматами[6], которые рубят преступников в капусту.
Щелк, шш-ахх; между делом он ровняет мой череп. Я оглядываю пол: не появилось ли там ухо-другое.
– Капуста она завсегда лучше собак, – говорит Дойчман.
– Верн, сиди смирно, – говорит матушка.
– У меня срочное дело.
– Кстати, можно попробовать в магазине Харриса.
– Что?
– Ну, спросить насчет работы. Зеб Харрис, вон, даже грузовик себе купил!
– Я не об этом. К тому же, видишь ли, у Зебова папаши собственный магазин.
– Я в том смысле, что поскольку ты теперь единственный мужчина в доме, то мне кажется, что я могу на тебя рассчитывать. Все ребята уже нашли себе работу.
– Какие именно ребята, ма, ну, просто для примера?
– Ну, Рэнди. И Эрик.
– Рэнди и Эрик умерли.
– Вернон Грегори, я всего лишь навсего хочу сказать, что если ты считаешь себя достаточно взрослым, то тебе давно пора взяться за ум и понять, как устроен мир. Пора стать мужчиной.
– Вот именно.
– И нечего тут умничать, просто перед людьми неудобно. А то опять все кончится, как в прошлый раз, когда я нашла те самые трусики.
У Дойчмана под покрывалом дергается рука.
– Т-твою мать! Мама!
– Давай, давай, ругайся на мать, ругайся.
– Я не ругаюсь!
– Господи боже мой, если бы только твой отец все вот это видел…
– А вот и Вейн, – говорит парикмахер.
Я штопором выкручиваюсь из кресла, стаскивая на ходу через голову покрывало.
– Давай, давай, Вернон, продолжай в том же духе, унижай свою мать после всего, что мне пришлось пережить.
Да пошла ты на хуй. Я пинком распахиваю дверь-сетку и вываливаюсь на солнышко. Солнечные зайчики от капота фургона из графства Смит скачут между ног у марширующего оркестра. Может, Мученио – это вам и хиханьки, но с ребятами из графства Смит лучше не связываться. В графстве Смит есть даже бронированные грузовики для переброски личного состава, это вам не хер собачий. Тромбоны плюются солнечным сиянием, в полированных боках фанфар отражается Вернон Литтл: он прикидывается ветошкой, съеживается и утекает в кусты, вверх по склону, за домом.
Горячая трава хлещет по лицу, пока я карабкаюсь вверх по склону; кузнечики буравят воздух во всех направлениях, но пыль настолько разомлела на солнышке, что подниматься не желает. Над моим пустым, отчаявшимся телом маячит в небе одинокое облачко. Неужели вы думаете, что моя старушка мама побежит за мной следом? Щас. Она останется, чтобы выложить ребятам все говно, какое только есть у нее в запасе на мой счет, так, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся на улице, на лице у них играла мудрая, всепонимающая улыбка. Теблядьсамыетрусики. И какие там, на хуй, наркотики. У Хесуса в жизни не было столько денег, чтобы покупать наркотики. Ебаный Мухосранск. Если верить науке, в этом городе должно быть в общей сложности десять сквиллионов серых клеток, но если тебе еще нет двадцати одного года и тебя стошнит прилюдно, здешний народец общими усилиями родит максимум две мысли: значит, либо ты обдолбанный, либо залетел. Еб твою мать, какое блядство. Надо рыть отсюда куда глаза глядят. Жизнь проста, когда я злой. Я просто знаю, что надо делать, иду, блядь, и делаю. Трусики, блядь.
Вот еще послушайте, что я знаю: у любителей повертеть ножами, вроде моей матушки, в жизни, кроме сна, есть одно-единственное главное занятие. Они плетут из говна большие такие, влажно поблескивающие сети. Как пауки. Нет, правда. Сколько ни есть во вселенной слов, словечек и словишек, они любое мигом переадресуют аккурат тебе в спину. Так что в конце концов уже не важно, что ты говоришь, ты просто чувствуешь каждое слово сквозь лезвие. Типа: «Глянь, вот это машина!» – «Ага, того же самого цвета, что свитер, который ты порвал на рождественском празднике, помнишь?» Я уже давно успел усвоить, что родители всегда одерживают верх потому, что с самого твоего рождения собирают базу данных, в которую заносят каждую сделанную тобой дрянь или глупость, и в любой момент готовы пустить ее в дело. Глазом моргнуть не успеешь, а тебя уже срезали как миленького; только подумаешь, чем бы таким в них запустить, глядь, а тебя уже возят лицом по асфальту. А когда им нечего делать, они ебут тебя просто от нечего делать. Чтобы глянец не тускнел.
Я останавливаюсь как вкопанный. Из-за поворота, скрипя на ходу, выкатывается нечто. Красный фургон, от которого вниз по склону вихрем катятся завиточки сизого дыма. Я, как старый маразматик, который не помнит, чего ему лучше не делать и с кем ему лучше не связываться, киваю головой на слово, написанное на моей отчаянно-красной футболке. «Опа-на», – издалека читает Лалли. Он притормаживает со скрежетом и ладонью выдавливает вниз боковое стекло с электроподъемником. Механизм тикает в ускоренном темпе, ровнехонько совпадая с ритмом моего собственного сердца: тик-тик-тик.
– А, командир!
Я машу ему рукой с таким выражением на лице, как будто продаю холодильники в «Мини-Марте» или еще того хуже. Надо было бы сбросить дурь прямо здесь же, на месте, но собаки слишком близко. Учуют, суки. К тому же я вообще по жизни человек не настолько решительный – по крайней мере, в тех случаях, когда злость уже испарилась, а проблем полны штаны. Меня это просто убивает. Нужно быть Ван Даммом, чтобы сбрасывать наркоту прямо здесь и сейчас.
Лалли смотрит мне в глаза.
– Видал вон тех копов? Они прямиком с твоего домашнего адреса. Давай садись.
По полу перекатываются пузырьки с женьшенем, а мы – огородами-огородами – едем домой.
– А где остальная часть твоей головы? – Лалли смотрится в зеркало заднего вида и приглаживает брови. Это зеркальце у него явно не для того, чтобы смотреть на дорогу.
– Не спрашивай.
– Ты куда-то намылился?
– В Суринам.
Он смеется.
– А как ты сюда-то добрался? Я не слышал утром, чтобы от дома отъезжала машина…
– Мы пешком пришли.
Надо было сказать, что матушкина машина в мастерской. Вот только она не в мастерской. Она ушла на покупку нового ковра для гостиной, того самого, об который Брэд вытирает пальцы.
– А как ты думаешь, что нужно этим копам?
– Меня обшманать.
– Ц-ц. – Лалли качает головой. – Час от часу не легче. Послушай моего совета: я мог бы к концу дня сделать репортаж, а к вечеру он был бы уже в эфире, Берн! Мне кажется, настало время рассказать, как все было на самом деле. Твою истинную, настоящую историю.
– Может, оно и так, – говорю я и стараюсь посильнее растечься по сиденью. И чувствую, что Лалли внимательно за мной наблюдает.
– Тебе не нужно будет даже появляться в кадре, картинку я сделаю. Друзья, родные. Камера на товьсь, командир. Только свистни.
Я слышу, что говорит Лалли, но молчу. Больше всего на свете мне хочется, чтобы Мэрион Кастетт рассказал свою историю. Он знает, что я чист, он там был. Это же уму непостижимо: я, значит, верчусь, как карась на сковородке, при том что у меня и без того есть о чем подумать, семейные тайны и все такое, а он где-то прохлаждается и имеет, падаль, право хранить молчание. В смысле, ему-то что скрывать?
На фальшивой ноте от кашляющего вдалеке оркестра мясокомбината мы в вихре ошметков от опавших листьев вылетаем на Беула-драйв. С тех пор как я в последний раз здесь был, вокруг нефтяной качалки успела вырасти целая детская ярмарка. На одном лотке продают гордость Мученио – специальные фартуки для барбекю, как у Пам. У соседнего репортерская публика покупает какие-то дешевые сласти из Хьюстона и платит по доллару за штуку. Один из тех, кто продает сласти, мрачно завязывает на себе фартук. Продавцы фартуков мрачно жуют сласти; выражение, которое вы можете лицезреть на моей физиономии, называется Трахнутая Мартышка. Предназначено специально для тех случаев, когда жизнь вокруг тебя катится псу под хвост, а ты стоишь как дурак и не можешь пошевелиться. Вот, к примеру, вокруг нашего богомола успел вырасти целый базар, а у меня все те же нерешенные проблемы, что и утром. Я просто роняю голову и принимаюсь гонять ногой по полу пузырьки с женьшенем.
– Бери один, – говорит Лалли.
– Что?
– Возьми женьшень, выпей, глядишь, сил прибавится.
И как только он договаривает эту фразу, я замечаю, что у женьшеня и у зажатых у меня в руке таблеток кислоты один и тот же ссаный цвет. Даже оттенок один. Собаки сквозь женьшень ни в жисть ничего не учуют. Я тянусь за пузырьком, но тут Лалли шарашит по тормозам, чтобы объехать сбежавшего от товарищей плюшевого мишку под Лечугиной ивой; я теряю равновесие, и из руки у меня сыплются сигареты с травкой.
Лалли глушит мотор, смотрит на косяки, подбирает один с пола, нюхает его и ухмыляется. Потом он смотрит на меня.
– Ц-ц, мог прямо сказать, что не хочешь делиться, и все дела.
– Если честно, они не мои.
– В любом случае надолго они у тебя не задержатся, – говорит он и хмурится в зеркальце.
Я проворачиваюсь на месте и вижу, как на Беула-драйв, в квартале от нас, выруливает фургон из графства Смит. И в животе у меня разбегаются во все стороны ебаные велкро-мураши.
– Давай сюда, мухой, – говорит Лалли. Он привстает и заталкивает косяки в прореху на сиденье.
– Спасибо, я сейчас вернусь.
Я лечу через лужайку в дом, потом через коридор к себе в комнату и срываю с пузырька крышечку. Тейлоровы жемчужинки ЛСД проваливаются внутрь. Цвет – как по заказу, и крышечка встает на место, как тут и была. Я швыряю пузырек в коробку из-под «найков», рядом с ключом от висячего замка, а коробку ставлю в шкаф. Невозмутимо, весь в испарине от внезапно прихлынувшего чувства облегчения, я выхожу на крылечко как раз вовремя, чтобы увидеть, как подъезжают на своей спецтехнике Вейн Гури, матушка и полицейский из графства Смит. Струя воздуха от кондиционера раздувает им волосы, как водоросли под водой, кроме матушкиных, которые скорее похожи на эту жгучую херню, как ее, анемон, что ли. Лалли тихо притулился в тени Лечугиной ивы. У меня такое чувство, что в конечном счете наш старина Лалли оказался парень что надо. «Нашего полета птичка» – как говаривал мистер Сраный Мерин Кастетт в те времена, когда он был куда разговорчивей нынешнего.
Судьба неожиданно ходит с правильной карты. Мимо нефтяной качалки скользит Леонин «эльдорадо», полный высохших заплесневелых влагалищ и глубоких, отчаянных страстей. Матушка жухнет на глазах. Должен сказать, чутье у этих дамочек просто охуенное, такое впечатление, что у них радар настроен на скандалы или другая какая техника. Они вытекают из автомобиля, как пена из автоматической стиральной машины по производству мыльных опер, и только малыш Брэд остается в резерве. Наверняка достал комок соплей погуще и наворачивает за обе щеки. Бетти Причард принимается вышагивать взад-вперед по лужайке, как ебаная курица.
– У меня такое чувство, что мне срочно нужно принять ванну: такая грязь, такая инфекция!
Леона и Джордж занимают стратегическую позицию под нашей ивой.
– Привет, Дорис. – Они делают ручкой.
Я уже разворачиваюсь, чтобы идти назад в дом, но Вейн Гури проявляет удивительную шустрость – для этакой свиноматки.
– Вернон Литтл, не могли бы вы уделить нам минуту внимания?
– Очередная незадача, Дорис? – с надеждой спрашивает Леона.
– Да нет, девочки, все в порядке, – отвечает матушка. – Кстати, в доме есть кое-какие сласти.
– У нас времени всего ничего, – говорит Леона, – в три часа начнется фуршет, будь он неладен.
– Ну а мне, знаете, показалось, что это мое Специальное предложение. – Матушка суетливо бежит через клочок вытоптанной земли. – Увидела машину – вот и подумала: должно быть, везут мой новый холодильник…
– Ма? – зову ее я.
Но она меня не слышит.
Джордж по-хозяйски опускает руку ей на плечо, и они исчезают в доме.
– Милочка, рано или поздно это должно было случиться, раз он отказывается принимать человеческий вид. Прическа у него – это же просто жуть какая-то.
Дверь-сетка захлопывается на замок, матушкин голос стихает в полумгле коридора.
– Он совершенно меня не слушает, ты же знаешь, какими они теперь вырастают…
– Вернон, – говорит Гури. – Составьте нам компанию.
Я ищу у нее на лице симптомы внезапного озарения, а также скорого и неминуемого раскаяния. Ни хрена подобного там нет.
– Мэм, меня ведь даже там не было…
– Да что вы говорите? Тогда довольно трудно объяснить некоторые из найденных нами на месте преступления отпечатки пальцев, не правда ли?
Представьте себе фургон шерифа графства Смит на дороге между трех деревянных домиков, а в фургоне меня. Птички заливаются в ивах, и все им по фигу. Тарахтит богомол, а перед ним стоят сооруженные из кухонных столов прилавки – на фоне зарослей бурьяна, в которых утопают окраины Мученио и которые тянутся отсюда до самого Остина. Потом у меня в окошке появляется Брэд Причард; нос смотрит в небо, указательный палец – на кроссовки.
– «Эйр Макс», – возглашает он. – Новые.
И стоит, прикрыв глаза: не то ждет, что я пошлю ему воздушный поцелуй, не то, что зальюсь слезами, не то еще не знаю чего. Жопа с ручкой.
Я задираю к окошку ногу.
– «Джордан Нью Джекс».
Прежде чем перевести взгляд на мои «найки», он на мгновение прищуривается.
– Старые, – терпеливо объясняет он. Потом указывает на свои собственные. – НОВЫЕ.
Я указываю на его:
– По цене автоприцепа для Барби. – Потом на свои. – По цене бомбардировщика средней дальности.
– Хуй там.
– Хуй тебе в рыло.
– Приятной отсидки.
Он неторопливо плетется через лужайку, потом мигом взлетает на крыльцо. Одинокий, поднятый в прощальном жесте палец светит мне сквозь дверь моего же собственного дома, пока не защелкнулась сетка. Потом, в тот самый миг, когда полицейские заводят мотор, сетка распахивается еще раз. Наружу выстреливает моя ненаглядная матушка и летит к дороге.
– Вернон, я тебя люблю! Забудь все, что было, даже убийцы остаются для своих родных – родными, понимаешь…
– Черт, ма, я не убийца!
– Да, конечно, я знаю, это просто к примеру.
Лалли встречается со мной глазами и поднимает руки к плечу, как будто держит камеру.
– Ты только свистни, – вопит он на всю улицу.
Матушка беспомощно останавливается посреди дороги и роняет голову на грудь. Губы дрожат, сейчас хлынут слезы. Меня сечет болью наискось и выворачивает наизнанку. Я оборачиваюсь к заднему окну и вижу, как Лалли подбегает к ней через дорогу и обнимает ее за плечи. И горемычная ее головушка тут же утыкается в крепкое мужское плечо, каковое он тут же ей подставляет, чтоб было куда плакать, а потом встает во весь рост и с мрачным видом смотрит вслед отъезжающему грузовику.
Это уже выше моих сил. Я переваливаюсь через Гури и кричу что есть сил сквозь ее окошко, забрав в грудь весь воздух, какой только есть в этом ебаном мире:
– Давай, Лалли, расскажи им, сукам, правду!
Воздух нынче вечером в тюрьме какой-то особенно затхлый. Спертый. Как будто между жопой и трусами, если долго сидишь на одном месте. Где-то на заднем плане бормочет телевизор; я все жду срочных известий о собственной невиновности, но вместо этого играет тема из прогноза погоды. Какой только мудак ее придумал? Потом по коридору гулко раскатывается чей-то голос. Шаги приближаются.
– Не дай бог я приеду, а этих, блин, бургеров на месте не окажется, вот что я хочу тебе сказать. Да, конечно, я понимаю, теперь это называется диетреволюция доктора Активно, как же, как же. Сперва трепалась, не затыкаясь, про своего Притыкина, а теперь – ты мне сказки не рассказывай, – теперь у нас диета из бургеров, правильно я понимаю? Ага, чистый протеин, и от него худеют. Что? Потому что никаких других новостей, кроме того, что жопа у тебя стала шире сраного амбара, нет и быть не может…
Теперь он поравнялся с моей камерой. Свет сквозь решетку вычерчивает опиздененную такую гримасу, и зубов полон рот. «Барри И. Гури – старший надзиратель», – гласит нашивка на груди. Он видит, что я не сплю, и вдавливает телефон себе в шею.
– Ты там, часом, за пипку себя не теребонишь, а, Литтл? Небось днем и ночью в бильярд гоняешь, правда?
И смеется этаким блядским смехом, как Мисс ебаная Вселенная, которая только что отсосала у председателя жюри. Стоит ему выдохнуть – и даже на таком расстоянии выхлоп бьет в лицо не хуже кирпича, а потом стекает каплями, оставляя жирный привкус лукового соуса и сала. Милейший представитель рода человеческого. И если весь этот кошмар превратит всех здешних жителей в таких же ебнутых монстров, из города нужно не просто утекать, а рвать безоглядно. Может, даже и вообще из Техаса. Пока они не разберутся, что к чему. Даже и бабуля живет недостаточно далеко, если прикинуть, до какой степени они здесь все охуели.
Барри послоняется еще немного, а потом зависнет на всю ночь в холле возле телика. Я откидываюсь на койке и углубляюсь в немаловажную и чреватую неожиданностями область собственного будущего. Помните такой старый фильм «Против всех шансов», где была такая классная девочка, а у нее был такой классный дом на пляже в Мексике? Вот туда бы мне и следовало срыть. После того как все уляжется, матушка сможет приезжать ко мне в гости. Я вижу ее как наяву, плачущую от радости, раскрасневшуюся старушку Дорис Литтл, которую могла бы сыграть Кэти Бейтс, которая снялась в этом фильме, «Несчастье». Слезы гордости за отличные санитарные условия, сопутствующие моей новой, достойной и упорядоченной жизни. Видите, как все обернулось? Это вам картинка из будущего, справедливость восторжествовала, и юношу по имени Вернон оправдали вчистую. И вот он покупает ей керамического ослика или эти самые салатницы, по которым так прикалывается миссис Лечуга. Продавец керамических салатниц спросит меня: «Вам те же самые, какие обычно берет миссис Лечуга, или, может быть, элитную серию?» И мы заделаем старой пиздюле миссис Лечуге по самые гланды. Поняли теперь? Именно так и сделаю. Еда там – пальчики оближешь, все эти буррито-капучино и прочая радость. А обменный курс, говорят, такой, что просто дух захватывает, – так что нищенствовать мне никак не придется. И ведь кто-то же и в самом деле должен жить в этих домах на пляже.
Но тут в дело вступает мой встроенный пессимист и говорит: «Па-арень, забудь про каникулы, чиво тибе, в натуре, не хватает, так это, бля, типа, торта с бомбой». У моего пессимиста нью-йоркский акцент, не спрашивайте почему. А я плевать на него хотел. Мне еще надо решить вопрос с девочкой; никто ведь не сматывается в Мексику один, согласны? Кого надо бы прихватить, разговора нет: Тейлор Фигероа. Она сейчас в Хьюстоне, в каком-то колледже-шмолледже, на том основании, что несколько старше меня. Но если нужна крутая козища, чтобы срыть с ней в Мексику, то лучше не найдешь. Сквозь решетку прорывается влажное дуновение воздуха и кажется мне гормоноплещущим сквознячком от ее разлетевшейся юбки. Я буду не я, если не увезу эту цыпочку в Мексику. На спор. Теперь я взрослый, в тюрьме сидел – чего же еще? В школе я к ней особенно близко так и не подобрался, хотя один раз мы чуть было не поладили. Я сказал «чуть было» потому, что она была у меня буквально на блюдечке, а я ее отпустил. Что весьма для меня типично. Никто ведь не научит человека, когда ему в жизни стоит хлопать ушами, а когда нет. Это было на вечеринке для выпускников, куда меня, естественно, не пригласили, а Тейлор там была, и лицо у нее было мягкое, как трусики, и огромные влажные глазищи во все лицо. Она ушла с вечеринки и приземлилась на заднем сиденье «бьюика» на парковке возле церкви, а я как раз случился неподалеку – просто ехал мимо на велике. Она была явно не в себе. И позвала меня. Голос у нее был тягучий, как свежеоткушенный кусочек торта. Из кармана у нее высыпалась кое-какая наркота, на землю возле машины. Я подобрал. Она попросила, чтобы я их для нее сберег, на случай – если она вырубится или еще что-нибудь в этом роде. Я и сберег, сами знаете. Потом она стала повторять мое имя и ерзать на подушках. Не спрашивайте меня, кто ездит в нашу ебаную школу на «бьюике», но заднее сиденье у него теперь еще дороже, чем сама тачка. Я помог ей чуть-чуть стянуть шорты, «чтобы ей было чем дышать» – ее слова, не мои, а я-то даже и не догадывался, что люди дышат через жопу. Кипа волос из рекламы бальзама «Браун Вэлла» ласкала ее спину вплоть до самых булочек, где виднелся краешек коричневых «танго»: райская расщелина в кружевах каждодневной росы. Она была, конечно, не в себе, но знала, что делает.
Догадайтесь с трех раз, что сделал наш ебанутый герой. Вернон Герой Литтл прямым ходом отправился в зал и нашел там ее лучшую подружку, чтобы та за ней присмотрела. Я даже пальца не запустил к ней в трусики, хотя едва не заразился болезнью, которая донимает меня в данный непосредственный момент, под названием «лизни свой пальчик и понюхай»; и навязчивые, сука-блядь, воспоминания о сияющем кусочке кожи между резинкой и бедром, о резком, как танец танго, запахе хлопка и абрикосовой сдобы, крем-сыра и мочи. Но нет же, блядь, я ринулся в зал. И вошел туда, как охуительный доктор из «скорой помощи», весь такой взрослый, раздумчиво наморщив яйца. Нет, блядь, меня это просто убивает, она же была у меня в руках. Потом я пытался подкатить к ней еще и еще, но Судьба всякий раз отоваривала меня той остоебенной бытовухой, которая у нее всегда наготове, если ты умудрился идиотским образом просрать свой звездный час. Мильон причин, по которым я никак не мог застать ее в нужное время на нужном месте, и прочее хуе-мое. Вот такие дела у нас с Тейлор Фигероа.
Но сегодня моя собственная ладонь – ее губы. И с каждым ударом ее хлопковая ткань становится все ближе и выпускает пахнущие фруктами сквознячки, от которых я плавлюсь и таю. Мексиканские, пахнущие фруктами сквознячки, дружок, если все у меня получится как надо. А потом я погружаюсь в грезы, а по коридору заразным вирусом продолжают расползаться истошное болботанье теленовостей и сраные фанфары заставок. И тогда храп узника переходит в хохот.
6
– Подушку мял? В смысле, опищатки пальцев брали? – интересуется мистер Абдини.
Даже не спрашивайте меня, как читаются все остальные запчасти от его фамилии.
– Отпечатки пальцев? Ну… вроде да.
Меня сегодня и без того с души воротит. И только таких вот муделей мне и не хватало.
Абдини толстый, ну вроде как наковальня может быть толстой, а лицо худое. И тараторит как из пулемета. Такое впечатление, что рот у него – самая тренированная часть тела. Оттого и лицо худое. Он – мой адвокат, и назначил его судья. Судя по всему, кроме него, никто в этой конторе по воскресеньям не работает. Я знаю, что теперь уже вроде как нельзя говорить, что в других странах все не так и все такое, но, если между нами, нужно не один век тараторить без умолку и заключать двойные сделки, чтобы на выходе получился Абдини. Синдром Абдини. Пинго, блядь, понго. «Чпок, чпак, чвак!» Одет он весь в белое, как кубинский посол или еще кто-нибудь в этом роде. Я бы на месте судей вынес самый суровый приговор только за то, как у него сияют туфли, хотя по большому счету его туфли – это не самая большая из моих проблем. Это самая крошечная из моих проблем, и знаете почему? Потому что если собрать кучку вялых белых, которым все по фигу, кроме каких-нибудь благотворительных ярмарок на самом солнцепеке, которые они же сами и устраивают, и посадить их на скамью присяжных, а потом выпустить на них этакого вот тараторящего жучилу хуй знает из какой Мудландии, то есть некоторая вероятность, что они на него не купятся. Они сразу решат про себя, что он мразь, но реально сделать ничего не смогут, потому что теперь у нас по всем фронтам охуительная, блядь, терпимость. Так что они просто ничего не станут у него покупать. И все дела. Вот какую народную мудрость я для себя усвоил.
Таким образом, мистер Что-то Там Ебиего Абдини Что-то стоит посреди моей камеры, потеет и что-то там готовится сказать. Например: «Таким образом». В руке у него папка, в папке – я, весь как есть, в машинописном формате, и он елозит по строчкам глазами. Потом хрюкает.
– Давай, рассказывай, какнвсьбыло.
– Э, простите?
– Рассказывай, как оно все было в школе.
– Ну, видите ли, я уходил с урока, а когда вернулся…
Абдини поднимает руку ладонью вперед.
– Ты ходил вталет?
– Ну, в общем, да, только я не…
– Оч важнаеданны, – шипит он и что-то царапает на бумажке.
– Да нет, вы не поняли, я был…
В этот самый момент к двери подходит охранник и щелкает замком.
– Шшш, – вскидывается Абдини и похлопывает меня по руке. – Я всевысню. Ты сильну вещь скзал – прост муха цеце. И пробить нщёт залога.
Барри нет в участке с самого утра; другой охранник выводит нас через заднюю дверь и конвоирует по переулку за Гури-стрит. Абдини сказал, что сегодня в зале суда не будет никакой прессы – на том основании, что я несовершеннолетний. В любом случае все на похоронах. «Данный опцион имеет ограниченную привлекательность», – как сказал бы ныне впавший в немоту мистер Мудель Кастетт. И жарит сегодня не дай бог: редкость для самого начала лета. И тихо так, что, если затаить дыхание, слышен шорох ситцевых платьев на Гури-стрит и как дети прыгают через фонтанчики. Типичные воскресные дела, вот только спрыснутые шипучей перекисью слез. А за слезами – очередная теплая волна печали.
Через три дома от шерифова участка стоит старый-престарый бордель, одно из самых красивых зданий на всем Диком Западе. Теперь там по соседству расположен суд, так что веселым девочкам пришлось освободить помещение. Отныне единственная веселушка на всю здешнюю округу – Вейн Гури, бочонок здорового смеха. Просто, блядь, уссышься. Стоит и ждет нас на задах, и бровки нынче домиком. Меня проводят вверх по лестнице в почти пустой зал суда, где охранник заруливает вашего покорного в маленький деревянный загончик, а вокруг ограждение. Здесь, наверное, можно позволить себе быть решительным и смелым, если, конечно, снарядиться надлежащим образом. Все свое: «найки», «Калвин Кляйнз», молодость и полная фактическая невиновность. Но что выводит из себя и мешает сосредоточиться, так это запах. Судейский запах, пахнет как в первом классе средней школы; автоматически оглядываешься вокруг в поисках детских рисунков на стенах. Не знаю, не нарочно ли это делается – чтобы вернуть тебя в прошлое и заставить вести себя по-идиотски. По правде говоря, должен быть у них какой-нибудь специальный освежитель воздуха для классных комнат и зала суда, просто чтобы человек не расслаблялся. «Вин-О-Вен» или что-нибудь вроде этого, чтобы в школе ты чувствовал себя так, как будто тебя уже судят, а когда тебя в конце концов действительно занесет ветром в зал суда, ты чувствуешь, что вернулся в школу. Тебя учат малевать гуашью солнышко, а потом оказывается, что перед тобой сидит тетка с раздолбанной пишущей машинкой. Все, парень, пиздец. Ты в суде.
Я оглядываюсь. Все вокруг шуршат бумажками. Матушка не пришла, что само по себе не так уж плохо. Я уже усвоил, что официальные инстанции ножей не замечают. Твой нож – штука невидимая, отчего настолько и удобен в применении. Видите, как оно все устроено? То, что можно, просто сказав «привет!» или еще какую-нибудь невиннейшую на первый взгляд ерунду, на самом деле провернуть в чужой спине нож, доводит людей до самых ужасных преступлений – или до психушки. Это я понял. Судьи же буквально обделаются со смеху, если ты примешься им доказывать, что щенячье хныканье может изобличать мастерское владение ножом. Но отчего, спрашивается, они будут так ржать? Не оттого, что сами не в состоянии увидеть этот нож, а оттого, что знают: никто на это не купится. Ты можешь стоять перед дюжиной добрых граждан, у каждого из которых в спине торчит по тесаку, а их родные и любимые обладают властью в любой момент вертеть у этих мясорубок ручки, и никто из них в том не признается. Они и думать забудут о том, как все устроено на самом деле, и вместо этого с головой уйдут в сценарий телефильма, где все должно быть очевидно. Это я вам гарантирую.
Тетка с раздолбанной машинкой общается через скамью с пожилым охранником.
– Нет, я вас уверяю. У нас с девочками есть экземпляр того же самого каталога.
– Вот это да, – говорит охранник, – неужели того же самого?
Он гоняет языком во рту слюну. Что, видимо, должно означать: он пытается представить себе услышанное. Потом он на секунду застывает, напрягается – вот, представил, – после чего говорит:
– Не забывайте, что у судьи, между прочим, тоже дочки растут.
– Это уж точно, – говорит машинистка.
Они поворачиваются и смотрят на меня: четыре кинжала. У машинистки кинжалы обернуты в «клинексы», должно быть, для того, чтоб не запачкать лезвие говном. Я просто сижу и пялюсь на свои «найки». Все, пиздец, шутки кончились. Судебная система не для таких людей, как я, это ежу понятно. Она для людей очевидных, которых мы наблюдаем в кино. Нет, блядь, если сегодня же все не встанет на свои места, если все присутствующие хором не принесут мне свои извинения и не отвезут домой, надо выходить под залог и уебывать через границу. «Против всех шансов». Я скроюсь во мраке ночи, уеби меня бог, если не скроюсь; ночным мотыльком я промчусь над страной, увлекая в кильватере все, что успел в неискушенности своей понять за это время, – пополам с полуночными грезами о трусиках Тейлор Фигероа.
– Встать, суд идет! – выкрикивает охранник.
За самый высокий стол пробирается коротко стриженная седая леди со светлыми глазами в толстых двухфокусных очках. На груди табличка: «Судья Хелен Э. Гури». Шарнирное кресло благосклонно покачивается, когда она в него садится. Трон Господень.
– Вейн, – говорит она, – надеюсь, сегодня у вас что-нибудь более серьезное, чем всегда?
– Гх-ррр. У нас есть подозреваемый, ваша честь.
Встает Абдини:
– Ваша честь, мы просим назначить преварительные сушнья.
Судья смотрит на него поверх очков.
– Предварительные слушанья? Черт вас подери, погодите минуту, я хочу напомнить вам обоим о существовании такой вещи, как Техасский семейный кодекс, и в данном случае перед нами случай, связанный с несовершеннолетним. Вейн, я надеюсь, вы строго следовали всем необходимым процедурам, предусмотренным в случаях, когда процесс подпадает под эту категорию?
– Гх-ррр.
– А почему к иску не подшита стенограмма допроса?
И тут позади меня скрипит главная дверь. В комнату на цыпочках входит шериф Покорней и снимает шляпу. Вейн застывает, как рыбья кость в горле.
– Мы надеялись, что в ближайшее время – до начала слушаний – к нам поступят особо важные улики, мэм, – говорит она.
– Вы надеялись, что улики поступят? Иными словами, вы надеялись, что они вот так возьмут и появятся из ниоткуда? Сколько времени этот молодой человек провел под стражей?
– Гх… – Вейн стреляет глазами в сторону шерифа.
А тот стоит себе у дверей, сложив на груди руки, и ему все по фигу.
– Боже правый! – Судья Гури хватает со стола какую-то бумажку. – Вы предъявляете обвинение?
Она сдергивает с носа очки и фиксирует взгляд на Вейн.
– И все, что у вас есть, – это отпечатки пальцев?
– Мэм, позвольте объяснить, дело в том…
– Заместитель шерифа, я сомневаюсь, чтобы вам удалось довести до нужной температуры членов большого судейского жюри при помощи одного-единственного комплекта пальчиков. Вы их даже разморозить не сумеете.
– Там не один комплект, ваша честь.
– Не важно, сколько их там у вас, они все с одного и того же предмета, со спортивной сумки. Так что – ради бога. Вот если бы это был ствол, тогда, может быть…
– Мэм, вчера вечером достоянием гласности стала некая информация, которая, как мне кажется…
– Суд не интересуется тем, что вам кажется, Вейн. Если уж вы взяли в руки палку и разворошили весь этот улей, это не самое простое дело, мы хотели бы слышать от вас только то, в чем вы действительно уверены.
– Ну, кроме того, мальчик мне лгал и сбежал с допроса… Гх…
Судья Гури сцепляет перед собой ладошки, как заправская учительница начальных классов.
– Вейн Миллисент Гури, я хочу напомнить вам, что мальчик не выступает в качестве обвиняемого. Учитывая все находящиеся в моем распоряжении факты, я склоняюсь к тому, чтобы освободить вашего подозреваемого из-под стражи, а затем поиметь вашего шерифа на очень долгий разговор относительно качества тех следственных процедур, которые предшествуют вынесению дела во вверенную мне инстанцию.
Ее взгляд проникает в каждую дырочку на теле Вейн, сколько их у той ни на есть. Шериф возле двери поджимает губы. Затем надевает шляпу и, осторожно скрипнув дверью, выходит прочь. Не знаю, как в ваших местах, а здесь у нас суровые уроки жизни мы привыкли читать по губам.
Вскакивает Абдини:
– Защита возражает!
– А вас, мистер Абдини, вообще никто не спрашивает. Иначе суд может пересмотреть вашу кандидатуру, – тут же отвечает судья.
Гури вздергивает брови.
– Ваша честь, эта новая информация, она, видите ли…
– Нет, не вижу. Я вижу только то, что лежит передо мной на столе.
Машинистка и Гури обмениваются взглядами. Обе вздыхают. Старый судейский надзиратель тут же, сурово нахмурясь, оборачивается ко мне.
– Она еще самого главного не видела, – еле слышно говорит надзиратель у меня за спиной.
И все поджимают губы.
– Что здесь вообще происходит? – спрашивает судья. – Этот суд что, переместился в параллельную реальность? А я одна не успела на праздник?
– Мэм, выяснились некоторые новые подробности, и в данный момент мы их как раз расследуем.
– В таком случае я намерена отпустить вашего подозреваемого до тех пор, пока вы не представите мне конкретных деталей. Кроме того, я считаю, что вы должны извиниться за причиненные неудобства.
Меня насквозь пробивает высоковольтной дрожью надежды, возбуждения и детского, голожопого страха. Вы думаете, я стану сидеть и ждать, покуда система так называемого правосудия поймет, какое говно к чему относится? Хуй там. Автобусы из Мученио идут каждые два часа, не в Остин, так в Сан-Антонио. Банкомат, в котором покоятся пятьдесят два доллара из бабулиного газонокосильного фонда, стоит в квартале от терминала «Грейхаунд»[7]. То есть в пяти кварталах отсюда.
Машинистка вздыхает, и губы у нее вытягиваются в еще чуть более тонкую ниточку. Засим она перегибается через стол и, сложив ладошку чашечкой, принимается что-то шептать судье на ухо. Судья Гури слушает и хмурится. Потом надевает очки и смотрит на меня. Потом на машинистку.
– Когда у нас следующее слушанье? После обеда?
Машинистка кивает одним глазом, гордо зыркнув на Вейн. Судья тянется за молотком.
– Заседание отложено до двух часов дня.
Бамм.
– Всем встать! – выкликает надзиратель.
Мужчины, заскорузлые от жизненных противоречий, стальные люди, которые многое поняли про этот мир и незаметно для посторонних глаз пользуются этим знанием, заматеревшие носители прорезанных жизненным опытом глубоких морщин, должно быть, просто выкуривают во время перерыва в слушаньях сигарету-другую, лежа на койке в камере и глядя в потолок. Им, вероятнее всего, не приходится общаться с собственными матушками.
– В общем, Вернон, что я хочу сказать. У тебя там отдельная комната или они тебя поместили вместе с другими – ну, сам понимаешь, с другими мужчинами?..
Барри стоит рядом с телефоном и щерится, и глаза у него съежились в две козьи пизды. Такое впечатление, что у Эйлины, как и у некоторых прочих дам, сегодня в обед зарядка для бровей: эта вздернула их настолько высоко, насколько позволяет деревянная прическа. Не знаю, как обстоят дела в тех местах, где живете вы, но у нас высота нравственного чувства прямо пропорциональна высоте вздымания бровей.
– Ну, ты же сам понимаешь, – говорит матушка, – тебе же наверняка приходилось слышать про то, что чистые, неиспорченные мальчики всегда попадают… ну, сам знаешь, все эти истории насчет взрослых мужчин, закоренелых преступников, которые привязываются к неиспорченным мальчикам и…
Прожив бог знает сколько лет в этой свободной стране, она не в состоянии просто взять и выговорить: «Тебя, часом, не трахнул в попку какой-нибудь маньяк с пожизненным сроком?» И вот такая херня сплошь и рядом. Вот перед вами женщина, которая задергивает занавески и принимается молоть бог знает какую поебень, если посреди улицы кобель трет сучку. И при этом, насколько я могу судить, она чуть не каждую ночь пежит сама себя пожарным гидрантом, просто так, для интереса. Я знаю, о чем говорю. И если преувеличиваю, то не слишком.
Я как птенец-слеток, едва оперившийся надеждой на собственную стойкость, и вот теперь ее голос ошелушил меня с ног до головы, и я стою как дурак – весь в пуху. И это, спрашивается, жизнь? Сквозь окошко сочится свет, зовет меня и поет о подтаявшем на солнцепеке мороженом, и где-то рядом ошивается призрак пары-тройки непрошеных слез. Летние платья, полные свежим ветром, и впереди по курсу Мексика. Но не для меня. Я обречен смотреть, как Эйлина тщательнейшим образом протирает шерифово кресло – уже во второй раз с тех пор, как меня сюда привели.
Ловлю себя на мысли: если она каждый день уделяет шерифову подзаднику столько внимания, то почему, спрашивается, до сих пор не протерла его до дыр. Потом я замечаю, что в комнате стоит телевизор. И что Эйлина вся в нем с головой.
Обеденные новости. Трубят фанфары, бьют барабаны, и в дальнем далеке появляется лицо какого-то мудилы, которого увозят на шерифском фургоне из графства Смит, а он пялится в заднее окошко.
– Вернон, мне нужно кое-что с тобой выяснить, – говорит матушка.
– Мне уже пора.
– Послушай, Вернон…
Щелк.
Я прилипаю взглядом к телеэкрану. Ветерок перебирает целлофан на Лечугиной ферме по разведению плюшевых мишек, потом подхватывает завиток волос Лалли и вздымает их над головой. Фоном для его голоса служит ритмичный скрип нефтяной качалки.
«Эта маленькая, но наделенная чувством собственного достоинства община сделала решительный шаг, чтобы выйти из тягостной тени трагических событий, случившихся здесь во вторник. Сегодня произведен арест новой фигуры в той паутине из причин и следствий, которая поставила этот некогда мирный городок на колени».
– Давненько я не стоял на коленях, – говорит Барри, садясь верхом на стул.
«Соседям Вернон Грегори Литтл казался обычным тинейджером. Мальчик был немного неловок в общении, но, встретив его на улице, вы не обратили бы на него ровным счетом никакого внимания. Именно так все и обстояло – до сегодняшнего дня».
На экране появляются нарочито яркие картинки, место преступления, пленка пляшет под затемненным небом, плачущие женщины, по уши обмотанные соплями. Потом мое школьное фото, с улыбкой во весь рот.
«Конечно, я обращала внимание, что с мальчиком происходят какие-то перемены, – говорит Джордж Покорней. Она сидит у нас дома, и из-за миски с фруктовым салатом с ней рядом предательски выглядывает пачка сигарет. – Он стал носить более агрессивную обувь, а эта стрижка под скинхеда к нему словно приросла…»
«Как я тебя понимаю», – произносит где-то на заднем плане Бетти.
Камера переходит на Леону Дант. На сумочке у нее написано «ГУЧЧИ» такими большими буквами, что сама сумочка, по идее, должна быть выше на целый ярд.
«Да, но он казался похожим на любого другого вполне нормального ребенка».
Камера выруливает в коридор и движется по направлению к моей комнате: к саундгреку примешивается зловещая, на сбитом ритме ксилофонная музыка. Лалли останавливается возле моей кровати и разворачивается лицом к камере.
«Мне описывали Вернона Литтла как парня довольно замкнутого; близких друзей у него почти не было, скорее, он предпочитал общению со сверстниками компьютерные игры и – чтение».
Камера как бы нечаянно ныряет так, что в кадре оказывается громоздящаяся возле кровати стопка белья. Потом появляется каталог белья женского.
«Однако в личной библиотеке Вернона Литтла нам не удалось отыскать ни Стейнбека, ни Хемингуэя… По правде говоря, его литературный вкус ограничивается вот этим…»
На экране разворот за разворотом; те же отвязные позы, что когда-то гнали по моим жилам густой стыдный сок, сегодня режут, как бритва. И тут мы доходим до страницы 67. Стоп машина!
«Невинное детское рукоблудие, – задается вопросом Лалли, – или же леденящая душу подробность о подавленных сексуальных импульсах Вернона Литтла, напрямую связанная с трагедией минувшего вторника?»
Ксилофону начинает вторить душераздирающий вой скрипки. В кадре оказывается дисплей моего компьютера, папка с названием «Домашняя работа». Клик. Выход на картинки с порносайта ампутантов, которые я распечатывал для старого Сайласа Бена.
«Боже правый, – говорит мама. – Я и понятия не имела».
Лалли сочувственно присаживается рядом с ней на моей кровати, и брови у него, как положено, домиком.
«Не будет ли справедливо считать и вас, мать Вернона Литтла, одной из жертв этой трагедии?»
«Да, пожалуй, я и в самом деле жертва. Да, вы правы».
«И все же вы настаиваете на том, что Вернон невиновен?»
«Боже мой, для собственной матери ребенок всегда останется невиновным, вы же знаете, что даже убийцы остаются для своих родных – родными».
Вот, ни хуя себе, поворот событий. Такой, что даже и подставой назвать язык не повернется. Камера снова дергается, и Лалли просто дает ей понемногу скользить в сторону. Даже Барри Гури понимает, что это конец всему; он просто вздыхает, встает со стула и говорит мне: «Пора идти». Он ведет меня к двери, но я оборачиваюсь, чтобы принять последний удар. Я знаю, что сейчас будет. Все вышло бы совсем по-другому, если бы я немного раньше научился писать, если бы я был чуть более сообразительным и правильным ребенком. Но на деле, пока мне не стукнуло семь или около того, я при всем желании не смог бы написать «Аламо»[8]. Так что на всех тех рисунках, которые я подарил матушке, когда мне было пять лет, подписи нет. Просто груды трупов, палка-палка-огуречик, и все вокруг залито кровью.
«Что ж, теперь вы сами понимаете, что Вернон Литтл был обычным ребенком – почти во всех отношениях».
– Встать, суд идет!
Надзиратель прогуливается вокруг моего компьютера и целой коробки всякого прочего дерьма, которые стоят на полу в зале суда. Матушкиному каталогу с подштанниками выделили отдельный стол. Даже мои старые детские рисунки и те здесь; но в коробку из-под «найков» они, судя по всему, нос не сунули. У судейского озона появился нездоровый хрусткий привкус.
– Мистер Абдини, – говорит судья, – надеюсь, ваш клиент отдает себе отчет в том, что его привлекают к суду, и я хочу обратить ваше внимание на различные основания для подачи протеста, которые могут возникнуть по ходу слушаний.
Абдини вскидывает голову.
– Ваша честь?
– Дело дойдет до обвинительного акта, сэр. Может случиться и так, что вам тоже удастся принять в этом участие.
– Мэм, – говорю я, – разрешить все это дело можно проще простого: вызвать моего свидетеля, он же мой учитель, и все…
– Шшш, – шипит Абдини.
– Советник, я прошу вас поставить вашего клиента в известность о том, что в данном случае он не является обвиняемым. А кроме того, указать, что суд не обязан выполнять для него работу, находящуюся в компетенции шерифа.
На секунду она откидывается на спинку кресла, потом поворачивается к Вейн.
– Заместитель шерифа, вы опросили свидетелей, которые могли бы дать основания для алиби?
– Боюсь, что последний свидетель, мисс Лори-Бетлехем Доннер, скончалась сегодня утром, ваша честь.
– Понятно. А как насчет учителя этого молодого человека?
– Мэрион Кастетт не упоминал о том, что обвиняемый в момент трагедии находился на месте преступления.
– Не упоминал или вы его об этом не спрашивали?
– Лечащие врачи утверждают, что он не сможет давать свидетельских показаний вплоть до конца марта следующего года. Все, чего мы смогли от него добиться, – это несколько слов, мэм.
– Вейн, черт вас побери. Что это были за слова.
– Насчет второго ствола, мэм.
– О господи.
Вейн кивает и поджимает губы. И не может, сука, удержаться, чтобы не глянуть в мою сторону.
– Ваша честь, мы хотели бы обсудить размер залога, – говорит Абдини.
– Да что вы говорите, – вскидывается Вейн. – Ваша честь, этот молодой человек начал бегать от органов правосудия даже раньше, чем запахло жареным…
Абдини вздымает руки к потолку.
– Но этот малыш есть часть семейного коллектива, и в доме столько дорогих для него вещей – почему вы думаете, что он обязательно сбежит?
– Это неполная семья, ваша честь. Я не вижу способа, которым одинокая женщина смогла бы подчинить своей воле мальчика-подростка.
Ей, видимо, не доводилось наблюдать ножа в моей спине.
– Н-да, ситуация почти трагическая, – говорит судья. – Каждому ребенку нужна крепкая мужская рука. А нет ли возможности как-то связаться с отцом мальчика?
– Гх, вообще-то он числится умершим, ваша честь.
– Боже мой. А мать сегодня не смогла прийти в суд?
– Нет, мэм, у нее машина в починке.
– Так, – говорит судья Гури. – Так, так, так.
Она откидывается на спинку трона и строит из пальцев подобие храма Господня. Потом разворачивается в мою сторону.
– Вернон Грегори Литтл, я не хочу прямо сегодня отказывать вам в прошении об освобождении под залог. Но выпускать вас я также не намерена. В свете всех представленных мне фактов и исходя из вверенной мне ответственности перед обществом я оставляю вас под стражей вплоть до получения результатов психиатрического освидетельствования. В зависимости от рекомендаций, данных психиатром, я приму решение относительно вашего прошения в следующий раз.
Вам – опускается молоток.
– Всем встать! – выкликает надзиратель.
Нынче где-то неподалеку от следственного изолятора играет музычка. Я – и, наверное, не только я – от этого просто охуеваю. Текст такой: «И я ска-зал, Я райских роз тебе не о-бе-щал». Как только наступает жара, откуда-то всплывают эти сраные старые песенки, всегда на заднем плане, на хуевом моно. Судьба. Вот, кстати, обратите внимание: всякий раз, когда в твоей жизни происходит что-то важное, ну там влюбился или еще что-нибудь, непременно прилепится какая-никакая мелодия. Мелодии судьбы. И это такое говно, с которым нужно быть повнимательней.
Я лежу на койке и представляю, как бы та же самая мелодия звучала на терминале «Грейхаунд». В том телефильме, который я снимаю про себя, я был бы оттянутым, тертым пацаном, всегда одиноким и с тоской в душе, и выглядел бы старше своих лет; на закате я сажусь в междугородный автобус, на котором написано: «Мексика», и по земле за мной тянется длинная тень. Псссчшшш! Оттянутый, много повидавший на своем веку водитель открывает дверь своего крейсера и улыбается так, словно знает самую главную тайну: что все будет хорошо. «Найковский» ступарь поднимается из дорожной пыли на ступеньку. Тихо свингует на заднем плане гитарная тема главного героя. В середине салона сидит девочка-ковбой, одна, блондинка в «левайс», такая, что под джинсами у нее, должно быть, джинсовые же трусики. Бикини или танго. Скорее, бикини. И никакой в ней отгянутости. Понимаете, о чем я? Именно такие стратегические озарения и отличают нас от животных.
Вот звонит моя старуха, но они с моим воображением суть две вещи несовместные. Мне как раз хватит времени до ебаной среды, чтобы полежать и помечтать. На среду забили с мозгоклювом. Два с половиной дня я вынужден жить бок о бок с притаившейся в свинцовых тенях по углам душой Хесуса, и еще три резиновые ночи, озвученные эхом его смерти. Под конец, чтобы убить время, я принимаюсь выдумывать лица, которые следует показать психиатру. Просто не знаю, разыгрывать мне психа, или нормального, или кого еще. Если судить по тем мозгоебам, которых показывают по телику, то вообще ни хуя не понятно, что делать, потому что они просто повторяют каждое сказанное тобой слово, и все дела. Если ты, к примеру, скажешь: «Я в отчаянии», они на это отвечают: «Насколько я понимаю, вы уверяете, что состояние у вас плавкое к отчаянию». И как с таким бороться? Единственный вывод, который я сделал для себя на прошлой неделе: что здоровая человеческая жизнь на ощупь должна быть губчатой и влажной, как буррито. Но сегодня вторник, вечер, ровно неделя с тех пор, как все умерли, и жизнь моя хрустит и колется, как кукурузные хлопья.
Я слышу, как в коридоре позвякивает у Барри на поясе цепочка с ключами, звяк да звяк. Он останавливается возле моей решетки, вне пределов видимости, просто стоит, дышит и звенит цепочкой. Он знает: я сижу и жду, что вот сейчас он скажет – тебе звонят. Но он поворачивается и идет прочь, и только потом как бы нехотя возвращается к моей двери. Ясно вам?
– Литтл? – говорит он в конце концов.
– Да, Барри?
– Тебя там офицер Гури спрашивает. Ты там, часом, шланг не мылишь, а? Небось, надраиваешь румпель всю ночь напролет и думаешь про своего приятеля-индейца? Грр-хрр-хрр.
Вот сука ебаная. Он ведет меня наверх к телефону, а я иду и мечтаю о том, как бы так изловчиться и засунуть эту резиновую дубинку ему в жопу. По самые гланды. Впрочем, он, вероятнее всего, этого даже не почувствует.
Из телевизора в приемной доносится тема прогноза погоды. Душераздирающий саксофон. Просто чтобы жизнь мне медом не казалась. В трубке я слышу, как где-то на заднем плане, на фоне болботания толстых баб, обсуждающих чужие деньги, заливается беззаботным смешком Леона. На том конце тоже играет мелодия из прогноза погоды. Мне ее упаковали, блядь, в стерео. Потом откуда-то сбоку выплывает матушкин голос:
– Вернон, с тобой все в порядке?
Она так сопит и хлюпает, что я почти физически ощущаю, как она лезет языком мне в ухо, как муравьед или как там его называют. Хочется разом блевать и орать во всю глотку и поднять на уши всю эту халабуду. И знаете, почему она такая ласковая? Не знаете, так я вам скажу: потому что теперь я не только в тюрьме, но могу оказаться еще и ебанутым. Какая охуенная удача, если я окажусь еще и сумасшедшим. И тогда ее главная проблема будет в том, что она уже израсходовала все свои самые шикарные позы, и для того, чтобы и дальше разыгрывать Трагедию Своей Допиздыразбитой Жизни по нарастающей, ей теперь придется выдумать что-нибудь экстраординарное. Отрезать себе грудь или еще что-нибудь в этом духе. Я из чистого человеколюбия отсчитываю десяток всхлипываний на том конце провода и только после этого открываю рот.
– Ма, как ты могла?
– Я всего лишь сказала правду, Вернон. И вообще, молодой человек, как ты мог сделать со мной такое.
– Я ничего такого не делал.
– Знаешь, знаменитые артисты, для того чтобы заплакать в кадре, перед самой съемкой мажут под каждым веком зубной пастой.
– Что ты сказала?
– Я просто хотела дать тебе совет, как себя вести в суде, на случай, если ты будешь выглядеть слишком непрошибаемым. Ты же сам знаешь, как до тебя порой бывает трудно достучаться.
– Ма, просто не говори больше ни о чем с Лалли, ладно?
– Не вешай трубку. – Она говорит в сторону: – Все в порядке, Леона, это привезли холодильник.
На заднем плане шум, голоса, ни стыда, ни совести, вы бы еще попозже его привезли; потом на линии опять объявляется матушка:
– Нет, ты скажи, это же просто бред какой-то, я ждала их несколько дней!
– Спокойной ночи, ма.
– Подожди! – Она прижимает руку ко рту и принимается шептать в трубку: – Вернон, может быть, лучше не говорить ничего о… ну…
– О ружье?
– Ну, в общем, да, может, пусть лучше это останется между нами?
Отцовское ружье. Если бы только она разрешила мне держать его дома. Так ведь нет. У нее от ружья просто мурашки, блядь, по коже бегали. И мне пришлось припрятать его подальше от дома, там, где заканчивались частные земельные участки. Кастетт наверняка знает, где именно оно лежит. Хесус вполне мог воспользоваться этим ружьем в качестве джокера, чтобы снять Кастетта с хвоста: путь думает, что там у нас притарен целый арсенал. Но теперь Хесуса больше нет. Он ушел и унес с собой всю самую нужную информацию, весь контекст, все наши с ним невинные мальчишеские времена. Унес с собой правду.
А осталось только это ружье. Мое ружье, и на нем самые что ни на есть неправильные отпечатки пальцев. Оно лежит и ждет.
Действие 2
Как я провел летние каникулы
7
Табличка на дверях у мозгоклюва гласит: «Доктор Дуррикс». Ничего себе, шуточки. Дуррикс. Я не знаю, как звали человека, который изобрел лампы дневного света, но он наверняка на этом поднялся, и имя его до сих пор сияет нам в ночи. Пока меня сюда везли, я перебрал целый вагон вариантов насчет того, как мне получше включить дурку: ну, там, сыграть Забитую Собаку, или Вспугнутую Лань, или еще что-нибудь из матушкиного репертуара. Я даже подумывал: а не насрать ли мне в штаны, ну, в качестве крайнего средства. Прикол, конечно, не из приятных, и не мне бы с такими вещами играть – это я понимаю. Но я все-таки расслабил задницу, на всякий случай, если до этого дойдет. Но теперь, при беспощадно трезвом свете ламп дневного света, мне остается только надеяться, что я как следует почистил зубы.
Мозгоклювня расположена за городом; пыль, пыль, пыль, а потом пахнет клиникой. Секретарша – с остренькими зубками и голосом, как будто в горле у нее коробка из восковки, в которую наловили пчел, – сидит за столом в приемной. Меня от нее просто в дрожь бросило, а тюремным охранникам хоть бы хны. Очень хотелось спросить, как ее-то зовут, но не спросил. А то скажет еще что-нибудь наподобие: «А зовут меня Стоили Скалпел», или «Ахтунг Йоппс», или еще какую-нибудь хуетень в том же роде. Готов поспорить, что каждый мозгоклюв специально подыскивает себе такую секретаршу, которая заранее вымотает из тебя все кишки, если только ты не будешь изображать из себя полного идиота. И если на входе с нервами у тебя все было в порядке, стоит тебе немного пообщаться с такой вот секретаршей – и ты законченный невротик.
«Блууп», – по-совиному ухает у нее за спиной интерком.
– Вы получили мое сообщение по электронной почте? – спрашивает мужской голос.
– Нет, доктор, – отвечает секретарша.
– Буду вам весьма признателен, если вы обратитесь к системе; какой, спрашивается, смысл апгрейдить нашу технику, если вы не даете себе труда обращаться к системе. Я отправил вам сообщение уже три минуты назад – насчет нашего следующего клиента.
– Хорошо, доктор.
Она щелкает по клавише, нахмурившись смотрит на дисплей, потом поднимает глаза на меня.
– Доктор сейчас вас примет.
Мои «найки», повизгивая о черно-зеленый линолеум, несут меня через холл, через дверь, в комнату с освещением, как в супермаркете. У окна стоят два кресла; рядом с одним из них – старенькое стерео, на котором угнездился компьютер-ноутбук. У дальней стены расположилась больничная кушетка-каталка, накрытая махровой простыней. А еще в комнате поджидает меня доктор Дуррикс; кругленький, мяконький, толстозаденький и самодовольный, как диснеевская гусеница. Он милостиво мне улыбается и указывает на кресло.
– Синди, принесите, пожалуйста, дело нашего клиента.
Остоебенное, должно быть, у меня сейчас выражение лица. Синди! Ежкин кот! При этаком имечке она должна отозваться из глубин: «Будь спок, брателло!» – и вломиться в дверь в микроскопической теннисной юбочке, и все такое. Она, однако, ничего подобного не делает – при ясном свете ламп дневного света. Она уныло шаркает мимо меня, она надела носки под сандалии и вручает Дурриксу папку. Тот листает бумажки и явно ждет, пока она скроется за дверью.
– Вернон Грегори Литтл, как вы сегодня себя чувствуете?
– Ну, в общем, нормально. – Мои «найки» постукивают друг о друга.
– Вот и славненько. А вы можете мне объяснить, почему вы сюда попали?
– Наверное, судья решил, что я не в своем уме или типа того.
– А вы в своем уме?
Губы у него складываются в куриную жопку, ему смешно, как будто и без того понятно: с головой у меня ай-яй. Может, оно бы и к лучшему, если бы судья решила, что у меня крышняк отъехал, но, глядя на Добрейшую Старушку Дуррикс, хочется уткнуться ей в передник и рассказать все-все, про то, что я на самом деле чувствую, про то, как все на свете накинулись на меня, обосрали с ног до головы и загнали в угол.
– Ну, это, наверное, не мне решать, – отвечаю я.
Однако этого, судя по всему, недостаточно; он сидит и смотрит на меня. Мы с ним встречаемся глазами, и я чувствую, как прошлое поднимается у меня к самому горлу горькой удушливой волной, неостановимым потоком слов.
– Понимаете, сначала меня третировала каждая собака за то, что у меня друг мексиканец, потом за то, что он странный и никому не нравится, а я все равно с ним дружу, а я-то думал, что дружба – это вещь святая; а потом это был просто кошмар, а теперь они пытаются все это повесить на меня и выворачивают наизнанку каждую мелочь, чтобы и ее пришить к делу…
Дуррикс поднимает руку и ласково мне улыбается.
– Ладненько, давай-ка попробуем сами во всем разобраться. И пожалуйста, постарайся и дальше быть столь же откровенным. Если ты сам, по собственной воле, будешь сотрудничать со следствием, у нас с тобой вообще не будет никаких проблем. А теперь ты мне вот что скажи: что ты чувствуешь, вспоминая о том, что произошло?
– Я просто сам не свой. Все из рук валится. А теперь все на свете называют меня психом, да-да, именно так и есть.
– А как ты думаешь, почему они так делают?
– Им нужен козел отпущения, нужно повесить кого-нибудь повыше для острастки.
– Козел отпущения? А тебе не кажется, что трагедия произошла как-то сама собой, необъяснимо?
– Да нет, конечно, в смысле, если бы тут был мой друг, Хесус, живой и здоровый, он сразу бы взял всю вину на себя. Стрелял только он, а я был просто свидетелем, даже и отношения ко всему этому не имел никакого.
Дуррикс внимательно изучает мое лицо и делает и бумагах пометку.
– Ладненько. Что ты можешь сказать о своей семейной жизни?
– Нормальная семейная жизнь.
Дуррикс держит ручку наготове и выжидающе смотрит на меня. Понял, сука, что нащупал самый главный геморрой в моей больной заднице.
– В деле указано, что ты живешь один с матерью. Что ты можешь сказать о ваших с ней отношениях?
– Ну, в общем, нормальные отношения.
И с этими словами у меня из задницы шлепается на пол огромная раковая опухоль, не спрашивайте почему. И теперь лежит себе на полу, подергивается и оплывает слизью. Дуррикс откидывается на спинку кресла, чтобы не так шибало в нос от моей ебаной семейной жизни.
– Братьев у тебя нет? – спрашивает он, предусмотрительно разворачиваясь на пару румбов к востоку. – Или дяди, или вообще какого-нибудь мужчины, который пользовался бы в вашей семье авторитетом?
– Считайте, что нет, – отвечаю я.
– Но у тебя же есть друзья?..
Я роняю глаза в пол. Несколько секунд он сидит тихо, потом опускает руку мне на колено.
– Пожалуйста, поверь: Хесус и мне был глубоко небезразличен – и меня тоже глубоко перепахала вся эта история. Если можешь, расскажи мне, пожалуйста, как все случилось в тот день.
Я пытаюсь справиться с приступом паники, который охватывает человека всякий раз, когда он чувствует, что вот-вот разрыдается в голос.
– Когда я вернулся, все уже завертелось.
– А где ты был?
– Я задержался, бегал с поручением и задержался.
– Вернон, ты не в суде. Прошу тебя, постарайся быть точным в деталях.
– Мистер Кастетт послал меня с поручением, и на обратном пути мне понадобилось зайти в туалет.
– В школьный туалет?
– Нет.
– Ты удрал из школы? – Он наклоняет голову вперед: словно боится, что мой ответ хлестанет ему прямо в лицо.
– Ну, не то чтобы прямо-таки взял и удрал. Да и не слишком далеко.
– Ты вышел из школы, чтобы испражниться? В то самое время, когда там разыгрывалась трагедия?
– Иногда со мной такие вещи случаются совершенно внезапно.
Молчание заполняет собой те сорок лет, которые Судьба отводит мне, тупому, чтобы понять, чем оно все теперь обернется. С Ван Даммом ничего подобного в жизни бы не случилось. Герои не срут. Они ебут и убивают.
В глазах у Дуррикса загорается огонек.
– Ты говорил об этом суду?
– Что я, дурак, что ли?
Он на секунду прикрывает глаза, затем складывает руки на груди.
– Ты меня, конечно, извини, но с юридической точки зрения разве свежий стул, обнаруженный на некотором расстоянии от места преступления, не выводит тебя автоматически из числа подозреваемых? Видишь ли, фекальная масса может быть датирована с точностью чуть ли не до минуты.
– Ну, наверное, вы правы.
Дуррикс, можно сказать, оказывает мне дополнительную услугу. В его задачу входит вытянуть из меня как можно больше информации для суда, не более того, но – вот он, тут как тут, человек, который не пройдет мимо возможности оказать ближнему помощь, скажем, открыть мне глаза на тонкости современной криминалистики. Он плотно сжимает губы, чтобы значимость происходящего стала яснее и весомее. Потом опускает глаза.
– Ты сказал, что такие вещи иногда случаются с тобой внезапно?
– Это не такая большая проблема, как может показаться. – Я выписываю бортиками «найков» круги по полу.
– А ты обращался с этим к врачу? Есть какой-то диагноз – слабый сфинктер или еще что-нибудь в этом духе?
– Да нет. К тому же в последнее время, считай, ничего такого со мной уже и не бывает.
Дуррикс облизывает верхнюю губу.
– Ладненько. А теперь скажи мне, Вернон, тебе нравятся девушки?
– Конечно.
– А ты можешь сказать, как зовут ту девушку, которая тебе нравится?
– Тейлор Фигероа.
Он закусывает губу и делает в бумагах пометку.
– Ты вступал с ней в физическую близость?
– Ну, вроде того.
– Что тебе сильнее всего запомнилось после близости с ней?
– Наверное, запах.
Дуррикс, сурово нахмурившись, заглядывает в папку, записывает еще несколько слов, потом откидывается на спинку кресла.
– Вернон, а тебе не случалось испытывать влечения к другому мальчику? Или к мужчине?
– Боже упаси.
– Ладненько. Давай-ка посмотрим, что нам с тобой удастся выяснить.
Он тянется к стерео и нажимает «Play». Звучит военный барабан, сначала тихо, потом по нарастающей, с явной угрозой, как медведь, который лезет наружу из пещеры, или, наоборот, медведь лезет в пещеру, а в этой ебаной пещере сидишь ты.
– Густав Холст, – говорит Дуррикс. – «Планеты». Марс. Должно вызывать в мальчишеской душе возвышенные устремления к славе.
Он встает, идет к кушетке и шлепает по ней ладонью. Барабаны в динамиках принимаются рокотать совсем уже отвязанно.
– Давай-ка раздевайся – и ложись сюда.
– Раз-деваться?
– Естественно. Для завершения нашего с тобой обследования. Мы, психиатры, в первую очередь врачи, медицинские работники. Не стоит смешивать нас с обычными психологами.
Он напяливает пару очков, как у сварщика, только с прозрачными стеклами; свет подкрашивает ему щеки горячим румянцем. На то, чтобы как следует свернуть мои «Калвин Кляйнз», требуется время, чтобы из кармана не сыпалась мелочь. Пусть даже она и осталась лежать у шерифа в участке, в пластиковом пакете. Когда я взбираюсь на лежанку, вступают ударные, зловеще и мрачно. Дуррикс указывает на мои трусы.
– И это – долой.
Мне в голову приходит мысль: лежать в лучах истошного дневного света, как в супермаркете, и чувствовать, как ветерок задувает тебе в задницу, должно быть позволено только мертвым. Я голый, как ебаная зверушка. Но даже голеньким зверушкам приходится иногда беспокоиться о том, чтобы их выпустили на поруки. Голеньким зверушкам это нужно, пожалуй, сильнее, чем кому бы то ни было.
– Перевернись на живот, – командует Дуррикс. – И раздвинь ноги.
Та-т-т-т, ТА-ТА-ТА.
Под аккомпанемент этого ада кромешного к моей спине прикасаются два пальца. Они прочерчивают линию вдоль позвоночника вниз, а потом превращаются в две руки и стискивают мне ягодицы с обеих сторон.
– Расслабься, – шепчет он, оглаживая меня по жопе. – Разве это не помогает тебе думать о Тейлор?
ТА-ТА-ТА, ТА-Т-Т-Т!
– Или – еще о чем-нибудь?
Дыхание у него учащается по мере того, как пальцы описывают вокруг моей дырочки все более и более узкий круг. Матюкам в моей глотке становится все теснее, и они все отчаянней рвутся на волю. Но их тягу к свободе останавливает моя собственная тяга к свободе.
– Доктор, это не очень похоже на медицинское обследование, – говорю я.
И добавляю про себя: «Ах ты, пидор хуев». Сейчас бы зарядить ему в дышло ножкой от стола, чтобы хрюкнул, как свинья под ножиком. Жан-Клод именно так бы и сделал. Джеймс Бонд сделал бы это, держа в руке ебаный стакан с коктейлем. А я – я только взвизгиваю, как первоклассница. Он все равно не обращает на это никакого внимания. Музыка заходится в финальном экстазе, и я чувствую, как в меня входит холодный резиновый палец. Я хрюкаю, как свинья под ножом.
– Лад-нень-ко, думай о Хесусе. Просто расслабься, и все; следующая процедура – тебе совсем не будет больно. А если почувствуешь, что начал возбуждаться, – ты не стесняйся этого.
Он хватает пару стальных щипчиков, какими раскладывают по тарелкам салат, поправляет очки и подается рожей к самой моей заднице.
– Да пошел ты на хуй!
Меня передергивает дрожью, и я вырываюсь у него из рук. Изо рта у меня фонтаном летят слюни.
Дуррикс отскакивает, подняв перед собою согнутые в локтях руки, как хирург на операции.
Он медленно поднимает с кушетки махровую простыню и вытирает средний палец. Сквозь стекла сварочных очков пялятся колючие рыжие глаза. Представьте себе скорость, с которой одеваешься в школу темным зимним утром. А теперь – ее полную противоположность. Вот с такой скоростью я и напяливаю на себя свои распроблядские тряпки. Рубашку я не застегиваю, шнурков не завязываю. И ни хуя, блядь, не оглядываюсь назад.
– Подумай как следует, Вернон, – говорит Дуррикс. – Очень хорошо подумай, прежде чем ставить крест на своем прошении о выходе под залог.
Он замолкает на секунду, чтобы вздохнуть и покачать головой.
– Не забывай, что люди в твоем положении делятся всего на две категории: на славных, сильных духом мальчиков и на тех, кто сидит в тюрьме.
Музыка подхлестывает меня, как удар кнутом, и я вылетаю из здания через приемную и слышу, как позади, сквозь истеричный барабанный бой, надрывается Доктор Ебаный Педрила Дуррикс:
– Ну что ж, ладненько…
Я сижу на персональном облаке за решеткой в полицейской «канарейке», как сфинкс, как сфинкстер, и в ушах у меня гремит оркестр убойных барабанов Густого Хлюста. Но избавиться от воспоминаний о мозгоебе с его методой добираться до мозгов через жопу он не помогает. Я стараюсь не думать, что он там понапишет в своем заключении. Просто сижу и смотрю на пейзаж за окном. Обочина вдоль дороги к городу сплошь усеяна трупами предметов: кем-то забытая тележка из супермаркета, скелет дивана. Под деревом расположился наикрутейший телевизор с вынутым высокотехнологичным нутром. Нефтяные качалки тычут грязными пальцами в окружающий ландшафт, но мы катим мимо всей этой лабуды, включая небо и дальние дали, и даже не думаем о высоченном заборе из колючей проволоки, который струной натянут поперек дороги отсюда в Мексику.
Мексика. Очередной отрывной талон в ту неслабую пачку билетов, которую я, ей-богу, прокатаю всю как есть: дайте только набрать хоть немного силы и веса в этой ебаной жизни. Вы только оглянитесь вокруг, и что вы увидите? Всюду громоздятся небоскребы из таких вот неиспользованных купонов, и люди суют туда все новые и новые, прикидывая, что они сделают, если… что они станут делать, когда… Теплое чувство ожидания дерьма, которое так и не соизволит появиться.
– Эй, парень, – обращается ко мне один из охранников, – ты там, сзади, часом, морковку не шинкуешь, а?
Засим следует нечто вроде «Грр-хрр-хрр», которому он научился у жирножопого Барри. Голову даю на отсечение, что у этих ребят одна и та же шутка на всех и на все случаи жизни, а по вечерам после работы Барри наверняка дает им практические уроки этакой вот незамысловатой похабели. До меня доносятся обрывки их разговора.
– Угу, Вейн Гури послала запрос в графство, чтобы сюда направили спецназ.
– Через голову шерифа?
– Угу. А Барри в тот же день подписался на новый страховой пакет, и на охуенный, я тебе скажу, пакет.
– Он сам тебе об этом сказал?
– Мне так сказал.
– Так Как-его-там-по-фамилии, который в морге работает? А ему откуда знать про страховку Барри?
– Так торгует этой сраной страхуевкой. Он из «Амвей» ушел, чтобы продавать ебаную страховку.
– Вот урод.
Вот вам еще одна жизненная мудрость: в конечном счете за все на свете отвечают люди, значительно более тупые, чем ты. Вы только приглядитесь повнимательней. Я не какой-нибудь там ебнутый гений, но за каждый мой пук отвечают вот эти дебилы. Волей-неволей начинаешь задумываться: а что, если в этом мире чем тупее человек, тем в большей он безопасности? Что, если жизнь бережет только тех, кто бредет со стадом и не задумывается даже о самой мелкой малости? А теперь посмотрите на меня. Мне как раз и приходится думать о каждой хуйне, и чем хуйня мельче, тем она хуевей.