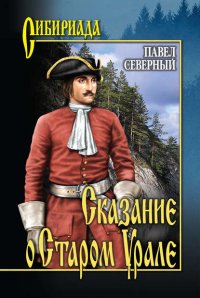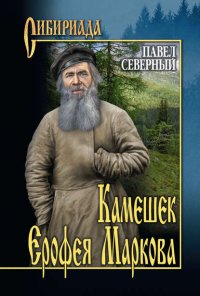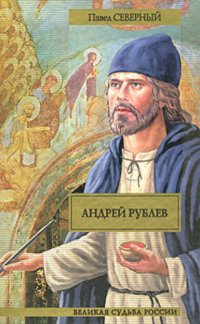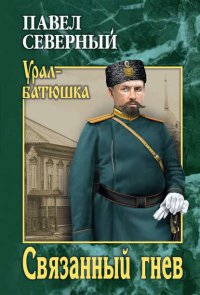Читать онлайн Ледяной смех бесплатно
- Все книги автора: Павел Северный
© Северный П.А., 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
* * *
Глава первая
1
Под Екатеринбургом летняя, темная ночь без единой звездной лампады.
Город оставлен войсками и гражданской властью омского правительства адмирала Колчака. Красная Армия в город еще не вошла, но уже близко.
Еще недавно сытый, пьяный и шумный Екатеринбург, став ничейным, пустынен, с улицами, полоненными голодными, бездомными собаками, поднимающими вой и грызню из-за обглоданных, старых костей.
На исходе полуночь. Глухо слышны выстрелы и пулеметные очереди. Вышедшие из подполья коммунисты дают отпор мародерам.
В окнах домов, слившихся с темнотой, нет даже тусклого огня. Обитатели, не покинувшие родные закутки, по привычке затаившись, ждут своей судьбы при красных.
По булыжной мостовой, откашливаясь, шаркая подборами башмаков и сапог, серединой улицы шагают раненые солдаты с поручиком Муравьевым. Их девятнадцать. У одиннадцати винтовки, а к ним всего-навсего шестьдесят восемь патронов.
Когда дошли до дворца Харитонова, куривший солдат спросил:
– В каком дому тут царя Николая жизни лишили?
Кто-то из солдат уверенно ответил:
– Вон, гляди, в том, за забором. Ипатьев какой-то ему хозяин.
– Вот как скопытился. Эдаким государством владел, а с жизнью простился в домишке за забором.
Снова шагали молча, покашливая, скобля подборами булыжники.
Собрал восемнадцать солдат, от скуки бродивших по городу, поручик Вадим Сергеевич Муравьев. Сам раненный в голову и руку, был направлен для лечения в екатеринбургский лазарет, который забыли эвакуировать. Не желая попасть в руки красных, охваченный всеобщим страхом, он убедил этих солдат покинуть брошенный город и пешком добраться до реки Тавды.
Муравьев был свидетелем жизни города за последние два месяца. Набитый до отказа именитыми, титулованными и состоятельными беженцами, он с конца апреля 1919 года жил в липком тумане панических слухов.
Слухи о грядущей катастрофе для власти Колчака на Урале стали особенно настойчивыми с того момента, как командарм Михаил Тухачевский принял командование над Пятой Красной армией и, неудержимо ломая сопротивление пятидесятитысячной армии генерала Ханжина, прокладывал путь к Екатеринбургу.
Столицу Урала страх перед советской властью держал цепко в мохнатых паучьих руках, уничтожая в людях понятия о долге, чести, совести и всех остальных человеческих чувствах.
Военные и гражданские власти, не имея возможности справиться с паникой, все еще пытались создавать впечатление о надежной защите города. Генерал Рудольф Гайда в своих штабных сводках уверял, что город не будет сдан противнику, но свой штаб все же перевел в поезд, стоявший на первом пути городского вокзала.
Ловкие штабные дельцы в рангах генералов и полковников, умело используя людской страх, бойко торговали местами в вагонах и теплушках поездов, покидавших город.
Спрос на любые способы эвакуации был велик, поэтому и плата воспользоваться ими менялась ежечасно. А расплата за избавление от кошмаров красной опасности взималась брильянтами, золотом и даже молодым женским телом.
Агония катастрофы началась после того, как поезд генерала Гайды покинул город. Незадачливый командующий только в пути узнал, что в Екатеринбурге оставлены на произвол судьбы кое-какие правительственные учреждения и госпитали. Он просил Омск оказать им срочную помощь присылкой пароходов и по реке Тавде вывезти оставленных, спасая их от неизбежного возмездия большевиков.
Весть об этом разнеслась по городу, а жаждущие спасения хлынули людским потоком к берегам мало кому до сей поры известной реки.
На просторах великой России продолжали метаться шквалы Гражданской войны, и на ее земле выплескивалась живая русская кровь.
2
При ветре у июньской ночи разные запахи. Пахнет ее воздух росной сосновой смолой, горечью полыни, а то просто пылью иссушенной земли.
На Урале лето девятнадцатого года выдалось засушливое.
На берегах реки Тавды от ветра в лесных шумах и скрипах тревожность. На тавдинском водоразделе лес, смешиваясь с тайгой, стирал границу Урала и Сибири.
В июньскую ночь ветер одичалыми порывами налетал на лесные чащобы. Он яростно раскидывал, раскачивал лесины, а медвежьи лапы всяких ветвей ожесточенно исхлестывали себя. Когда ветреные порывы взметались вверх, то столбами поднимали с земли лесной мусор с опавшей хвоей и лихо начинали посвистывать у вершин.
Ветер гнал в северную сторону растрепанные облака, низко стелившиеся над землей, седые и неприветливые.
Над облаками высокое чистое небо, будто сапфировое, и катилось по нему по паутинам притушенных звезд серебряное колесо полной луны.
От полета облаков ползут по земле пятна теней и световых бликов.
От этого меняется окраска ночи. Загустеют облака, прикрыв на землю доступ лунного света, тотчас заносятся стаи черных воронов, темнота торопливо начнет прятать в себе все окружающее, но как только облака поредеют, пропуская лунный свет, стаи воронов мгновенно разлетятся, и ночь опять становится похожей на хмурый день.
Беспокойны напевы шумов в лесных чащобах, но их шум все же не в силах заглушить остальные земные звуки. Издалека доносится настойчивое верещание коростелей, и в птичьих голосах ясно слышится, будто совсем человечье, слово «зря», «зря», «зря»…
Костры на берегу Тавды медленно догорали и совсем потухли только после полуночи. На кострищах порывы ветра копошились в сером пухе золы, в нем нет-нет да и вспыхивали живые искры, как зрачки кошачьих глаз.
Беженцы весь день жгли костры возле пакгаузов.
Теперь люди спали. Они лежали на земле, на телегах, на узлах, корзинах и чемоданах. Все спали тревожно, даже во сне не в состоянии забыть о пережитом за день, а кроме того, их жалили злющие комары. Спавшие храпели, вскрикивали, стонали. Жалобно канючили дети.
Тут глухие места на берегу Тавды. На них упиралась в тупик железнодорожная ветка из Екатеринбурга.
Тут пустынно. Только возле станционных построек жались друг к другу избенки, да и то их не больше десятка.
Это лесное безлюдье оживилось, внезапно наполнившись кишащим людским муравейником. Тысячи людей разных возрастов, сословий и званий съехались к берегу реки на поездах, на скрипучих телегах, приплелись пешком.
Все это русские, которых Октябрьская революция сразу лишила привычных для них житейских привилегий.
На берегу Тавды они стали просто сливом людского потока после панического бегства из Екатеринбурга. Просто никому не нужные русские люди, не пожелавшие признать новых законов революции. Еще несколько недель назад они, казалось, безбедно жили в красивом городе. Жили с полной уверенностью, что их житейское спокойствие и благополучие на Урале нерушимы под защитой штыков колчаковской армии.
Постепенно сбежавшись на Каменный пояс со всех великих весей России, они собирались, распродавая ценности и золото, пересидеть в Екатеринбурге страшную бурю пролетарской революции.
Еще совсем недавно они надеялись на скорое возвращение к родным местам в свои поместья, в барские квартиры, в лабазы и лавки в городах, временно захваченных Красной Армией. Они действительно верили, что скоро вновь начнут привычную для них жизнь если уже не в званиях верноподданных империи, то хотя бы гражданами Российской республики. И, конечно, никто из них не сомневался, что все будет именно так, как мечталось, как их ежедневно уверяли в этом фронтовые сводки штаба генерала Гайды о скором взятии красной Москвы.
Но большевики взяли Пермь, радужные надежды бездомных бродяг рухнули, как песчаная горка от проливного дождя.
У людской паники глаза, как у жабы, навыкате, и такие выпученные глаза были у всех, кто в тревожных сновидениях коротали ветреную ночь на берегу Тавды.
Радужные мечты рухнули, но беженцы все еще не хотели с этим примириться, а потому днем, забывая о людских взаимоотношениях, позабыв о заученных с детства чинопочитаниях, проклиная всех и вся, захватывали для себя самые удобные места в пакгаузах, в избах, даже под открытым небом, окружая себя пожитками, в которых были увязаны после бегства из Екатеринбурга остатки их достояния.
Оберегая их, они становились грубыми. Спорили, ругались до хрипоты, отстаивая свои права на первенство спасения своей жизни на обещанных Омском пароходах, убежденно доказывая, что именно их существование крайне необходимо несчастной России, которая, однако, продолжала жить и без них, совершая построение и укрепление Советской республики.
Даже на берегах Тавды эта плачевная российская юдоль все еще надеялась на чудо своего спасения, продолжая предрешать судьбу России, упорно пророча гибель большевиков.
Люди уверяли себя, что победы Красной Армии – временное явление, что всем им не дадут на берегу Тавды погибнуть Бог и армия Колчака.
Криками, склоками они старались отвлечь мысли от полной растерянности перед неизвестностью своего завтрашнего дня. Хотели освободить уставшее сознание от клещей животного страха.
На берегу Тавды у них было единственное желание: уплыть на берега Иртыша, в город Омск, где шла шумная жизнь колчаковской Сибири.
Но проходили тягостные для беженцев дни ожидания, наполненные противоречивыми слухами о стремительном приближении Красной Армии, а ожидаемые из Омска пароходы не приходили.
Из распахнутой двери пакгауза вышла высокая стройная девушка. Перешагнув порог, она остановилась в лунной полосе, а четкая тень от нее отпечаталась на стене уродливым вопросительным знаком.
На девушке строгое черное платье. Светлые волосы заплетены в тугую косу. Анастасия Кокшарова. В семье просто Настенька.
Искусанная комарами, она тоже крепко спала, даже видела сон, будто, прогуливаясь по набережной Невы, остановилась у сфинкса, любуясь статуей, неожиданно увидела на лице сфинкса брезгливую гримасу. От сна проснулась влажная от испарины, вышла на прохладу ветреной ночи.
Находясь все еще под впечатлением непонятного сна, Настенька стояла, прищурив глаза, вслушивалась в напевы лесных голосов. Слышала, как в селении тявкали собаки, как на станции сифонил паровоз, которому некуда больше бежать, как пела где-то далекая гармошка вальс на «Сопках Маньчжурии». У ближних телег отфыркивались лошади, отмахиваясь хвостами от гнуса и, похрустывая, перетирали на зубах овес и сено.
Перед взором Настеньки знакомая ночная панорама просеки, заполненная спящими людьми, ставшими ей такими привычными за прожитые на берегу Тавды дни и ночи.
Зябко пошевелив плечами, Настенька не спеша сошла по скрипучим ступенькам лесенки на землю, медленно пошла среди спящих к перелеску, отделявшему берег реки от просеки. Дошла до тропинки в перелеске, протоптанной за эти дни тысячами ног. Тропинка сейчас перечерчена полосками теней с накиданными на ней яркими лунными пятнами.
Настенька шла по тропинке, то появляясь на свету в сопровождении своей тени, то сливаясь с темнотой, и тогда над ее головой шелестела листва и размахивали ветвями омшелые ели.
Выйдя на берег, Настенька от яркого света луны прикрыла глаза козырьком ладони, а брильянт в кольце на пальце мгновенно высыпал пучок голубеньких искр.
Запорошена кромка берегового обрыва разноцветием полевых цветов, и больше всего в них белых пуговок ромашек.
Настенька неожиданно увидела неподалеку от себя одинокую женщину с непокрытой седой головой. Она стояла, скрестив руки на груди, походила на статую, высеченную из серого гранита. Женщина смотрела вдаль, а там, на шершавой от легкого волнения поверхности реки, шевелился половик серебристого лунного отражения, протянувшийся через Тавду с берега на берег.
Напряженность в застывшей фигуре незнакомки невольно заставила Настеньку задуматься, ей захотелось понять, почему женщина так пристально смотрит вдаль и чего она ждет от встречи с далью.
От мыслей о судьбе незнакомки по телу Настеньки пробежали мурашки. Она, не отрывая взгляда от женщины, начала спускаться с обрыва по крутой песчаной тропке. Ступни ее ног с хрустом погружались в сухой песок с мелкой галькой, осыпавшейся с шорохами от ее шагов.
Сойдя с обрыва, Настенька, обернувшись, снова увидела стоящую седую русскую женщину, смотрящую вдаль с таинственными, только ей одной принадлежащими мыслями, заставившими ее окаменеть под лунным светом.
Над Настенькой прошелестели крылья ночной птицы, упавшей в кусты, ее внимание привлек вдали костер у самой воды. Его пламя то ярко взметалось ввысь красными лоскутами, то зарывалось в густом дыму, рассыпая каскады искр.
Глядя на костер, Настенька ощутила, что жизнь его огня как-то разом согрела ее сознание от недавних мыслей, навеянных увиденным непонятным сном об улыбке петербургского сфинкса.
Мирный одинокий костер в лунной ночи заставил Настеньку разворошить в памяти все такое недавнее прошлое. Родившсь за год до начала нового века, она помнила все, что осталось позади, но не знала, что будет с ней впереди, после того как она расстанется с этим полюбившимся ей очарованием природы на берегах Тавды, реки, о которой она даже не учила в географии, но сознавала, что запомнит ее имя на всю жизнь.
Одинокий костер среди суровой лесной мудрости природы помог памяти отдать мыслям всю таившуюся в ней сокровенность девичьей жизни.
Настенька провела радостное детство в блистательном Санкт-Петербурге. Дочь адмирала Балтийского флота. Видела блеск царских балов и парадов. Пережила войну, запомнив ее по пахнущим лекарствами палатам госпиталей со стонами раненых. Потом Февральская революция. Внезапная смерть обожаемой матери. Тревожные дни за судьбу отца и брата. Отъезд из столицы в псковское поместье. Известие, что брат, морской офицер, остался на флоте с большевиками. Новый переезд на Урал, где у покойной матери были наследственные золотые прииски.
И наконец, берег лесной пустынной Тавды. Здесь возле Настеньки молчаливый, хмурый отец, ее жених, слепой морской офицер, женой которого она станет в Омске, и старый матрос Егорыч, с седой холеной бородой.
Склонив голову, вспоминая, Настенька шла по кромке мокрого песка, услышав в ближних кустах кашель, остановилась. Из кустов вышел молодой офицер. Подойдя к ней, отдал честь и спросил:
– Как это, сударыня, не боитесь ночью бродить по берегу.
Настенька узнала в подошедшем именно того офицера, который три дня назад помогал ей переносить вещи с просеки в помещение пакгауза. Сейчас он пьян и хмуро ощупывал ее тяжелым взглядом.
– Разрешите быть вашим спутником?
– Мне хочется побыть одной. Извините.
– Вежливо отказываетесь от моего общества? Но я буду вас сопровождать. Не подходящее дело для одинокой девушки – ночные прогулки.
Настенька пошла вперед, офицер, нагнав ее, шел рядом.
– Должен признать, что вы чертовски красивы.
Офицер сделал попытку взять ее под руку, но Настенька, прижав локоть, ускорила шаг.
Так, молча, они поравнялись с костром. Около огня сидели три солдата. Двое из них пили чай из жестяных кружек. На плечи третьего была накинута шинель, и он курил. На его коленях лежала винтовка. Над костром на рогульке висели два котелка.
Появление Настеньки с офицером не заставило солдат изменить свое занятие, но они безразлично проводили их взглядами, а куривший громко сказал то ли товарищам, то ли Настеньке с офицером:
– Ветерок-то ноне с доброй студеностью.
Впереди виднелась березовая рощица, разлохмаченная и шелестящая листвой под порывами ветра. Упорное молчание Настеньки заставило офицера снова задать ей вопрос:
– Неужели вам со мной скучно?
Настенька встретилась со взглядом попутчика, ей стало не по себе от его настойчивой хмурости. На вопрос ничего не ответила.
Они вошли в рощицу. Облака временно прикрыли луну, и все потонуло в мглистости. Настенька почувствовала, как руки офицера легли на ее плечи, сжав их, потянули ее к себе. Ее грудь уперлась в грудь офицера, ее лицо окатывало горячее дыхание пьяного. Настенька закричала. Оттолкнула от себя офицера и, выбежав из рощицы, устремилась к костру. С неба снова лился сероватый свет. Облака открыли луну.
Солдаты у костра, встав, смотрели на бежавшую в их сторону девушку. Один из них, скинув накинутую шинель, с винтовкой в руках кинулся ей навстречу.
Настенька, увидев бегущего к ней солдата, замерла на месте. Растерявшись перед новой опасностью, она быстро сняла с пальца кольцо, смотря на подбегавшего солдата, протянула ему руку с кольцом на ладони.
– Возьмите! Больше у меня ничего нет!
Опешивший солдат с пшеничными усами, нависшими над ртом, откашливаясь, заговорил:
– Ты чего, голубушка, несуразное шепчешь? Мы не с тем к тебе поспешали. Крикнула ты. Вот и встревожились. Все трое порешили помыслом, что тебя обидеть надумал офицер. Прошла мимо нас с ним рядом, а из березок выбежала в одиночестве. Ну, конечно, сдогадались, что офицеришко-то тебе с боку припеку. Никто он тебе, видать?
Настенька молча кивнула головой и облегченно вздохнула.
– Вот ведь какие дела творятся. Но ты, так понимаю, характером из бедовых, ежели в эдакую пору одна по берегу бродишь. Чать не малолеток какой, должна понимать чё к чему. Ноне и офицерье всякое бывает. Война-то душу людскую всякой поганостью наделила. Да, что говорить, ноне мужики кроме женской ласковой сласти в благодарность за нее и нательный крест снять могут с обласкавшей. Потому тепереча у всех мозги набекрень, особенно по женскому вопросу. По фамилии кто будешь?
– Кокшарова.
– Из беженцев?
– Да.
– Теперь мне понятно. Беженцев тута тьма-тьмущая. Все лупим без оглядки от красных. На пароходы надемся, а кто знает, приплывут ли они за нами. У правителя в Омске поди тоже поджилки в дрожи. Красные сыплют нам жару в штаны. Тепереча всем на нас, тутака живущим, прямо сказать, наплевать. Слыхала, что в Катеринбурге наших раненых побросали в лазаретах? А как красные с имя обойдутся? Потому до страсти русские на русских озлились. Как цепные псы, прости господи. А Гайде этому разве понять русскую душевную мудреность. Сказывают, будто он из какой-то чешской земли, а черт ее знает, где эта самая земля, разве ее увидишь из нашей Русской земли. Она вон ведь какая. Из конца в конец в год не дошагаешь.
Солдат приметил, что от его слов девушка успокоилась, но посмотрела на него по-прежнему с удивлением. Наконец он предложил:
– Пойдем! Провожу, куда скажешь. А колечко не держи в руке, одень на палец, а вдруг обронишь. Не бойся. Мне оно ни к чему, не охочь до колечек. Потому сроду их, кроме обручального, не нашивал. Я тебя не обижу. Но проводить провожу. Время тугое сейчас, барышня. Социальная революция. Читала в газетах про такую. Ленин будто ее обозначил для судьбы России, а наш Колчак с этим не согласен, вот и молотимся да выплескиваем на земь русскую кровушку. Пойдем, говорю. Меня, заверяю, не бойся. У меня в Самаре своя дочка осталась, только волосом чернявенькая.
Солдат и Настенька пошли рядом. Солдат надел ремень винтовки на плечо вверх прикладом.
– Перепугалась? Когда подбежал к тебе, личико твое белее бумаги было.
Потом долго шли молча. Солдат глухо покашливал. Подошли к тропинке на обрыв, Настенька тихо сказала:
– Спасибо. Теперь одна дойду, там везде люди.
– Ступай. Прощайте, барышня. По фамилии я значусь Корешковым Прохором Лукичом. Для памяти моя фамилия легкая. Поглядишь на любой корешок и вспомнишь, что живет на божьем свете солдат Прохор Корешков.
– Спасибо, Прохор Лукич.
– Желаю вам здравия.
Настенька протянула солдату руку, он пожал ее. Она пошла на обрыв, но Корешков спросил ее вслед:
– Чуть не забыл. Вы тута в одиночестве обретаетесь али со сродственниками?
– Со мной папа, – ответила Настенька, остановившись.
– А в каком звании папаша пребывает?
– Адмирал Балтийского флота.
Корешков, от удивления ничего не сказав, покачал головой, пошел обратно к костру с товарищами. На ходу он, не торопясь, свернул цигарку, раскурив ее, сказал сам себе вслух:
– Скажи на милость, адмиральская дочка, а в обхождении с солдатом правильная. Но все же дуреха. С перепугу сперва хотела колечком откупиться. Ну скажи, едрена мать, какая пора пошла. Русский человек в своем сородиче жулика видит. Вот как революция для русского человека обернулась. Видать, что все спуталось в наших мозгах. Да и как не спутаться. Колчак-правитель о своем народу обещание дает, а у красных Ленин вовсе другое сулит. Вот и разберись, кому верить…
3
Только на вторые сутки солнечным, но ветреным утром поручик Муравьев с девятью ранеными солдатами подошел к станции Тавда.
Из восемнадцати солдат, ушедших из полуночного Екатеринбурга, пятеро уже на следующее утро пожелали остаться в Режевском заводе, а четверо тайно ушли прошлой ночью с последнего ночлега.
Дошедшие до Тавды были переходом вымотаны из сил до предела, а кроме того, страдали от различных ран.
Прежде чем вывести людей из леса, Муравьев послал двух солдат в разведку. Те, вернувшись через час, с улыбками доложили поручику, что красных пока нет, но что всякого штатского хорошего народа, солдат и офицеров великое множество.
С лицами, искусанными до припухлости комарами и гнусом, со следами копоти от спаленных костров путники с удовольствием помылись в холодной воде речушки с веселым шепотком течения, приведя себя в надлежащий для солдата вид. Муравьев пришел на перрон с солдатами, построенными попарно. Перрон был заполнен нарядной публикой, пришедшей с различной посудой на станцию за кипятком.
Поручика окрикнул пожилой мужчина барской осанки в соломенной шляпе, но в помятом синем шевиотовом костюме. Подойдя к нему, Муравьев, обрадовавшись, узнал в нем екатеринбургского уездного товарища прокурора, пожав его протянутую холеную, пухлую руку.
– Вадим Сергеевич! Поверить глазам боюсь. Господи, вы-то каким образом здесь очутились с нами, многогрешными?
– Только что из леса… Пришел пешком с девятью солдатами. Вот они стоят.
– Неужели пешком?
– А что поделаешь, если генерал Домонтович проституток вывез, а про нас, кажется, намеренно позабыл. Нестроевые, нуждаемся в заботах, вот поэтому и позабыты.
– Ну, батенька, зря так генерала аттестуете. Вспомните, что творилось в городе. Немудрено, ежели кто и про родного отца позабыл. Домонтович, слов нет, подлец. Но любой бы на его месте не смог предоставить всем места в отходящих поездах и эшелонах. Вспомните, сколько вагонов у нас отняли только чехи с поляками? Шутка ли, чуть не вся сословная Россия сбежалась на Урал. Меня генерал тоже позабыл эвакуировать. Кое-как сюда добрались с судом и, моля Бога, ждем ниспослания от него чуда.
– Неужели пароходы не пришли?
– Не будьте таким наивным, батенька. Может быть, совсем не придут, и попадем здесь в лапы красных. Что, если Гайда, сообщив о пароходах, по привычке наврал? А он, не приведи Господь, какой галантный врун. Что тогда? Сна лишился от мрачных мыслей. Пойдемте к нам чай пить. Мария Михайловна будет рада. Мы в той избе неплохо устроились с ночлегом. Правда, клопики покусывают, но все же лучше, чем под открытым небом. Народу здесь множество. Даже не представляю, смогут ли все отсюда выбраться.
– С удовольствием зайду к вам, но позже. Сначала своих спутников устрою. Некоторым нужно сделать перевязки.
– Родитель ваш где обретается?
– В Невьянске.
– Неужели его обрекли на погибель? Не вывезли?
– Разве не знаете, что отец отказался покинуть вверенный ему пост на заводе?
– Господи! Что это случилось с Сергеем Юрьевичем? Добровольно остаться под большевиками с его независимым, крутым характером. Как же вы-то такое допустили?
– Я настаивал, но отец запретил мне вмешиваться в его личные дела. Даже мне советовал остаться на Урале.
– Чем же мотивировал свой отказ?
– Коротко. Не хочет быть среди проходимцев, продающих родину иностранцам.
– Неужели этим мотивировал? С ума сошел. Может быть, его уже и в живых нет. Большевики уже заняли Невьянск. Матушка ваша с ним?
– Конечно. Мама никогда не сочувствовала Белому движению.
– А Лариса Сергеевна где?
– Последнее письмо от сестры я получил три месяца назад. Она вышла замуж за капитана Ольшанского, коменданта города Томска.
– Лучше бы я вас и не встречал. Совсем огорошили меня своими новостями. Поверить страшно. Горный инженер, видный администратор, ученый Муравьев, дворянин и монархист, остался, и при том добровольно, во власти Советов. Чудовищно! Просто чудовищно! Лучше не скажешь. Да и сами, батенька, тоже хороши. Как это решились с такими рожами по глухим лесам прогуливаться? Ну смотрите, один их облик чего стоит. Ведь могли вас прикончить.
– Почему?
– Да разве теперь можно быть таким доверчивым. Почему? Просто потому, что офицер, а в их понятии – золотопогонник.
– На их плечах тоже погоны.
– А что у них в черепах? Проклятое христолюбивое воинство! Что, если они переодетые большевики и при том вооруженные? Зачем вы привели их сюда? Им бы нашлось место и под большевиками. Чертовы защитники! На перегонки удирали от красных, а ведь всем были обеспечены для защиты Урала. Слышали наверняка, что от вашей победоносной Седьмой уральской дивизии остались одни рожки да ножки. Командир ее Голицын удрал, пристроившись к чешскому эшелону. Знаете, попав сюда, я просто не могу без дрожи видеть солдатские и офицерские рожи. Ваши попутчики мне просто не внушают доверия. Уверен – в погонах, а в душе готовенькие большевики.
– Они, как и вы, не хотят быть у красных.
– Оставьте, Вадим Сергеевич. Пошли с вами, потому и поняли, что могут поживиться возле беззащитных беженцев. Будьте осторожны с ними. Мой совет: покажите их коменданту, хотя он тоже недалеко от них ушел, потому первостепенный мужлан и хам. И, конечно, отберите у них винтовки, ну зачем раненым огнестрельное оружие? Почему так неласково на меня смотрите?
– Смотрю, что ошибался, считая вас порядочным человеком. По виду вы на него похожи, но по человеческой сути…
– Что хотите сказать?
– Что вы негодяй…
Резко повернувшись, Муравьев, отойдя от прокурора, подошел к солдатам и громко сказал:
– Пойдемте, братцы, искать полевой лазарет, чтобы раны привели в должный порядок…
Поздним вечером Муравьев, устроив солдат на ночлег, пришел на станцию в надежде на случайную встречу с кем-либо из екатеринбургских знакомых.
Побродив по перрону, решил пойти к реке, но столкнулся со штабс-капитаном Голубкиным, сослуживцем по дивизии. Оба от удивления развели руками и обнялись.
– Григорий!
– Вадим! Живой, слава богу!
– Считал меня покойником?
– Капитан Зверев сообщил, что тебя под Пермью насмерть кокнуло.
– И Зверев здесь?
– Что ты. Он, милок, неплохо обосновался в штабе Ханжина. Ты когда здесь объявился?
– Сегодня утром своим ходом из уральской столицы с девятью солдатами.
– С какими солдатами?
– Собрал на улице раненых.
– Не врешь? С вооруженными?
– При винтовках, но с ограниченным количеством патронов. А у самого добрый наганчик.
– Поверить трудно. В наше время с девятью солдатами шагал по лесным дебрям.
– Чего мелешь, Григорий? Вижу, вы тут от страха сами труса не прочь попраздновать. Неужели солдат стали бояться?
– У меня лично к ним нет ни малейшего доверия. Под Кунгуром один солдатик меня чуть штыком не пырнул, когда матюгнул его за неотдание чести.
– Тебе отданная солдатская честь крайне необходима?
– Это дисциплина. Ты же знаешь, Вадим, что я службист. Оттого и драпаем от красных, потеряв дисциплину. А от этого от генерала до солдата ни в ком нет веры в нашу идею о единой, неделимой России, подпираемую иноземными подручными. Все иноземное, только, слава богу, адмирал русский, да и то с турецкой кровью.
– Со сказанным согласен. Убежден, что русская душа вольготно дышит только под холщовой рубахой, вытканной из отечественного льна.
– Слава аллаху, мыслим одинаково, но во мнении о солдатах, задымленных кострами революции, расходимся. Не сомневаюсь, что и ты скорехонько избавишься от своей дворянской демократичности. Пойдем ко мне. Есть коньячок, и при этом настоящий, шустовский.
– Где прислонил головушку, Гришенька?
– В том служебном вагончике дорожного мастера. Места и для тебя хватит. Только предупреждаю, что не одинок.
– Женился?
– Неужели таким глупым кажусь? Просто временно пригрелся около купеческой жены. Муж ее где-то потерялся. Бабенка – пальчики оближешь. Здесь, милый Вадимушка, столько прелестных женщин, что просто на любой вкус. Мы и тебе подружку найдем. Если поплывем, то не меньше недели. Живем только раз, а теперь совсем укороченными темпами. Пойдем.
– Честное слово, приютишь?
– Что за вопрос? Говорю, места хватит.
– Обязательно приду, но прежде разреши взглянуть на Тавду. Целый день около нее промотался, а реку, нашу единственную надежду на спасение, в глаза не видал. Скажи откровенно, Григорий, веришь, что придут пароходы?
– И верю, а главное, надеюсь. Но только когда. Ведь ждут их люди уже пять дней. Одна надежда на Николу Угодника, что он раньше пароходов не допустит сюда красных. Беру с тебя, Вадим, слово, взглянешь на Тавду и в мой вагончик.
– Не сомневайся, приду. Думаешь, не хочется на купеческую женушку посмотреть. Давненько не видел вблизи лучистых женских глаз. А ведь в них столько прелести.
Расставшись с Голубкиным, придя на берег Тавды, Муравьев сел на край обрыва.
Перед ним в густом сурике закатных лучей на противоположном берегу стеной стояли лесные чащи, а от их отражений вода в реке казалась бездонной. В болотистых заводях крякали дикие утки. Где-то слаженно пел женский хор, а эхо разносило грустный напев песни. Под обрывом на песчаной кромке берега косматились огни костров, отражения их огненных вспышек змейками расползались по воде, прикрытые прозрачными вуалями дыма.
Вадим Муравьев уроженец Урала. Сын видного горного инженера. После окончания пермской классической гимназии стал студентом Горного института. Вскоре прапорщик выпуска 1915 года. Германский фронт. Орден Станислава с мечами. Анненский темляк на эфес шашки. На пороге Февральской революции – поручик. Гражданская война застала на Урале. Мобилизация в колчаковскую армию. Командир роты 25-го Екатеринбургского полка 7-й Уральской дивизии. Поэт, обративший на себя внимание критики. Таковы страницы его жизни за двадцать шесть лет от рождения.
Стемнело. Возвращаясь с берега, Муравьев услышал звуки рояля. Кто-то мастерски играл в пакгаузе вальсы Шопена. Вслушиваясь в мелодии, дошел до станции. Ее перрон пустынен. Дойдя до вагончика Голубкина, услышал в нем по-вульгарному заливчатый женский смех. Остановился и, не зайдя в вагончик, вернулся на станцию. Сел на скамейку под колоколом, таким ненужным сейчас. Со станции поезда больше не уходили, но и не приходили.
Из-под скамейки вылезла собака, обнюхала сапоги Муравьева, зевнув, легла у его ног, будто возле хозяина. Вадим, улыбнувшись, нагнулся, ласково погладил псину по голове…
Глава вторая
1
Первый из ожидаемых пароходов появился на Тавде на рассвете.
Густой басок его гудка, прозвучав над рекой, укутанной в туман, подхваченный лесным эхом, прокатился вздохами над берегами.
Люди, не веря своим ушам, вскакивали со своих лежанок, хватая пожитки, бежали к реке, создавая на просторах просеки давку. Толпы, напиравшие сзади, просто сталкивали передних с обрыва. Неслись истошные крики, визги женщин, плач детей. Под лучами взошедшего солнца в клубах пыли с обрыва сползали люди, кувыркались чемоданы, корзины, узлы.
Красивый комфортабельный белый пароход с названием «Товарпар» стоял у берега в сизом мареве подсыхающего тумана.
Беженцы на берегу, разбирая перепутанные в спешке вещи, орали осипшими голосами, сгруживаясь перед пароходом у самой воды, а некоторые от напора сзади уже стояли в реке по колено в воде.
Возбужденная, потная от волнения толпа с раскрасневшимися лицами жадными взорами осматривала пароход. От толпы шел крепкий дух пота, духов, мыла и махорки.
Рыжеволосый толстый священник в чесучевой рясе, держа в руках наперстный крест, служил молебен, благодаря Господа за ниспослание людям спасения от рати грядущего красного антихриста.
Охраняя пароход от штурма будущими пассажирами, по берегу растянулись цепочкой солдаты с приказанием примкнутыми штыками на винтовках держать порядок при посадке.
Утомительно долго матросы на пароходе спорили, решая, как лучше спустить на берег два трапа. Но трапы наконец были спущены. Толпа с радостными криками, хлынув к ним, смяла солдат, а они, отступая в воду, осыпали садившихся на пароход цветастой матерной бранью.
Капитан парохода, коренастый сибиряк в белоснежном форменном кителе, надрывая голос, в медный рупор тщетно призывал пассажиров при посадке к порядку. Он даже угрожал прекратить доступ, но его угроз и выкриков никто не мог расслышать из-за гула людских голосов.
Сопровождаемый солдатами с примкнутыми штыками, в узком коридоре толпы появился генерал-майор Случевский, держа под руку миловидную молодую женщину.
В толпе люди, натыкавшиеся на солдатские штыки, выкрикивали в их адрес оскорбительные реплики:
– Глядите, генеральские мощи шествуют!
– Сиганул с фронту, а теперь наперед всех лезет.
– Бабенка с ним – артистка.
– Так и есть. Она оперная балерина.
– Недавно с другим путалась, а теперь при генеральской декорации вышагивает.
Генерал со спутницей уже давно были на пароходе, а в толпе все еще продолжали вспоминать, у кого балерина побывала в любовницах.
Энергично работая локтями, к трапу протискивалась в людском месиве полногрудая белолицая купчиха. Ее покатые плечи туго обтягивала пестрая кашемировая шаль. Сзади и спереди купчихи с узлами и корзинами шли две женщины в одеянии монахинь. Купчиха, расталкивая людей, со вздохами и ахами, облизывая языком высохшие губы, отвлекая от себя внимание, без устали выговаривала:
– Да что же это творится, Господи! Ужасти-то какие! Не приведи бог, что с народом деется. Гулящие девки без стыда наперед законных жен на пароход лезут.
Передняя приживалка, задыхаясь под тяжестью поклажи, сыпала скороговоркой:
– Матушка, Глафира Герасимовна, нервы свои из-за них в пружинку не скручивай. В людях ноне мало порядочности. Гулящих бабенок здеся табун собрался. Чтобы осередь нас втереться, они морды вуальками прикрыли. Но я их разом узнаю, они всем от нас, порядочных, разнятся.
На пароходе у трапа стоял молодцеватый офицер в черкеске «Дикой дивизии» генерала Врангеля. Это князь Мекиладзе. На груди у него блестели позолоченные гозыри. Его осиная талия перетянута тонким ремешком, на котором висели кобура и кинжал, осыпанный самоцветами. У князя красивой линии орлиный нос и хищный взгляд глаз, а его стройная фигура была хорошо знакома жителям Екатеринбурга, ибо князь долгое время состоял адъютантом у полковника принца Риза-Кули-Мирзы, перса по происхождению, пребывавшего в рядах русской армии.
Лихо заломив папаху, Мекиладзе стоял, рисуясь своей стройностью, и, временами наводя среди пассажиров порядок, хлестал коричневым стеком мужские спины, но обладатели их отвечали на его похлестывания подобострастными улыбками…
Под обрывом, около помятого кустарника, были сложены чемоданы и корзины. Около них в бескозырке седобородый матрос Егорыч, прищурившись, наблюдал за толпой, лезшей на пароход.
За чемоданами стоял коренастый адмирал Владимир Петрович Кокшаров. Седой старик с суровым худым лицом, хорошо выбритым, с бородкой, как у египетских фараонов. Усталые глаза адмирала смотрели на происходящее вокруг из-под лакированного козырька офицерской фуражки, низко надвинутой на лоб над кустистыми бровями.
Настенька, в том же черном платье, держала под руку мичмана Сурикова, глаза которого были повязаны черной лентой.
К ним подошли пятеро солдат. Один из них Корешков, козырнув адмиралу, обратился к Настеньке:
– Доброе утречко, барышня!
Настенька, осмотрев Корешкова, улыбнулась. Одетый по форме, и на шинели, на груди, на банте георгиевских лент, блестел золотой солдатский Георгий.
– Здравствуйте, Прохор Лукич.
– Явился, стало быть, с товарищами пособить вашему семейству погрузиться.
Встав по форме перед адмиралом, Корешков, молодцевато отдав честь, обратился:
– Дозвольте, ваше дитство, оказать посильную помощь. Сами понимаете, что вокруг творится. Медлить по сему опасно. Людишки, того и гляди, до отказу набьют посудину, так что можете оказаться вовсе без места. Шалеет народ со страху. Видать, не слыхали, что возле трапу женщину с ребенком насмерть помяли.
Адмирал с удовольствием смотрел на подтянутого пожилого георгиевского кавалера и спросил:
– Сибиряк?
– Никак нет. Волжанин. Захлестнула смута меня и аж под самую Сибирь щепкой кинула. Революция. У нее законы, дозвольте сказать, вроде как беззаконные.
– Какого полка?
– Германскую воевал в Фанагорийском, а ноне в 27-м Камышловском. Пятеро нас тут от полка.
– А полк где?
– Не могу знать. Раскидало его после страшенных боев на Сылве.
– Это плохо, братец.
– Хуже быть не может. Бывший наш командир, генерал Случевский, тоже здеся.
– Может, с погрузкой все же подождать?
– Никак нет. Медлить нельзя. Суворов-генералиссимус частенько солдатам говаривал, что промедление смерти подобно.
– Тебе видней, братец.
– Благодарствую, ваше дитство.
Сурово оглядев пришедших с ним солдат, Корешков четко приказал:
– Разбирайте, братаны, чемоданы. Только с полной аккуратностью. С дочкой, ваше дитство, я по ночной оказке заимел честь знакомство свести.
Солдаты начали разбирать чемоданы, но матрос Егорыч остановил их:
– Этот не троньте. Сам понесу.
Корешков хмуро посмотрел на старого моряка.
– Тебе, матрос, не к лицу со своими таким манером разговаривать. С разрешения его дитства ребята за вещи берутся. Поседел, а понять не можешь, что мы народ бывалый, а вдобавок фронтовики. А окромя всего прочего жулики с нашими ликами не родятся. Крест видишь на груди? Им меня за честную солдатскую храбрость под Перемышлем наградили. Честность мою, к примеру сказать, может тебе барышня засвидетельствовать.
– Зря служивый обиделся на меня. Я не хотел. Пускай любые берут, а только этот сам понесу.
– Вот это понятная форма разговора. Чать все военной жизни хлебнули не по своей воле.
Корешков, хлопнув Егорыча по плечу, улыбнувшись, посмотрел на Настеньку и, почмокав губами, сказал:
– Дозвольте, барышня, одно дельное соображение высказать.
– Говорите.
Корешков, нагнувшись к уху Настеньки, заговорил шепотом:
– Колечко с камешком лучше сымите. Камешек, по моим понятиям, недешевый, а у народу в мозгах может худое пошевелить.
– Вы правы.
Настенька сняла с пальца кольцо, положила в кожаный саквоях, который держала в руках.
– Можно трогаться, ваше дитство. Вы сами с дочкой и господин мичман, промеж нас встаньте. Ты, Кузя, ставь корзину на земь. Порожняком пойдешь в нашем авангарде. К винтовке штык примкни. В нем для нас большая подмога, потому кому охота на его шильце натыкаться. Дозвольте трогаться, ваше дитство…
Пароход, приняв на себя предельное количество пассажиров, на закате отвалил, провожаемый оставшимися на берегу беженцами, глубоко осев, пошел по Тавде, оставляя за собой вспененную волнистую дорогу.
Мекиладзе, вовремя устроив Случевского в роскошной каюте, был благодарным генералом назначен комендантом парохода.
Он метался по палубам, устраивая высокопоставленных пассажиров. Лихо освобождал своей властью каюты, захваченные чиновниками и купцами. Некоторые толстосумы охотно откупались от власти коменданта, карманы кавказского князя наполнялись золотыми монетами и слитками, и все у него шло как по маслу…
Однако через час пути у Мекиладзе произошло столкновение с капитаном парохода, когда ротмистр устроил нескольких женщин, выжив из собственной каюты помощника капитана. Капитан оказал расторопному офицеру должное сопротивлени, и горячему горцу пришлось отказаться от своей затеи.
Река, отражая переливы закатных красок, медленно погружалась во мглу сумерек.
Монотонное шлепание колесных плиц по воде старательно повторяло услужливое эхо прибрежных лесов. Леса скатывались по берегам с косогоров к самой воде, стояли плотными стенами, охраняя покой ее водного пути.
Пассажиры, все без исключения утомленные до изнеможения погрузочной суетой, криками, борьбой за места, наконец разместились, заняв даже самые глухие пароходные закутки, успокоились. У всех с лиц исчезла озабоченность, а наступившая нервная реакция заставляла людей думать только о покое. Неожиданно соседи по местам стали внимательно присматриваться друг к другу. Знакомились, заводили разговоры о таком самом обычном, о чем совсем не думали все эти дни на берегу в ожидании решения своей судьбы. Охотно друг перед другом раскрывали корзины и погребки со съестными припасами. Кое-кто охотно делился подробностями, как лучше заваривать чай фирмы Высоцкого или фирмы Губкина и Кузнецова.
Каюты первого и второго классов заняли военная и чиновничья элита, промышленники и самые состоятельные купцы Екатеринбурга. Это были пассажиры, жившие на берегу в крестьянских избах и в пакгаузах, у которых чад костров не пудрил лица копотью и сажей.
Адмиралу Кокшарову каюты в этих классах не нашлось, но он довольно прилично устроился с дочерью и мичманом Суриковым в одном из углов рубки второго класса. Но когда об этом узнал капитан парохода, то освободил для престарелого адмирала свою каюту и после долгих разговоров убедил старика занять ее, вернее, просто распорядился, чтобы матросы перенесли адмиральские пожитки.
Вскоре после ужина молодые дамы, приведя себя в надлежащий, привычный порядок, сменив туалеты, кокетничали с офицерами…
В открытых пролетах на всякий случай стояли на постах вооруженные солдаты и посматривали не без опаски на прибрежные леса, уже сливавшиеся с вечерней темнотой.
Среди них был Прохор Корешков, хорошо зная устав солдата на посту, он на пароходе допускал некоторую вольность, вел беседу с матросом Егорычем, с которым уже успел в охотку попить чай.
Начался их разговор с германской войны. Разговор обо всем, что Корешкову пришлось пережить в окопном сидении, и, конечно, немало было сказано о вшах, особо ненавистных любому русскому солдату. Попутно вспоминали Корнилова и Керенского. Немало говорилось о Смольном и большевиках. Корешков и Егорыч в октябрьские дни в Петрограде не были, но оба – грамотные и внимательно читали газеты.
Егорыч о недавних днях эвакуации из Екатеринбурга говорил по-матросски сдержанно, но по тону его голоса можно было понять, что они глубоко возмутили его матросское сердце.
Корешков обо всем говорил напористо, не старался обходиться без крепких словечек, утверждая свое окончательное мнение. Видел, что стоявший с ним на посту рыжий солдат внимательно прислушивался к его разговору с Егорычем.
– Я тебе так скажу. Эти самые большевики чем народный замысел к рукам прибирают? Понятным словом! Они запросто разъясняют, что, дескать, народ – хозяин земли. А ведь для мужика всякое слово о земле – самое святое слово. Вот, к примеру, в крестьянском сословии в земле все. Он спит, а сны о земле видит. Потому с землей у него жизнь воедино слита, даже ползать по ней начинает. Да что говорить. Земля она земля и есть. О ней русский мужик боле всего тоскует, потому всю свою силу работой ей отдает, а ведь знает, что она чужая, барская, и к старости подходит с мыслишкой, что только смертью своей займет в ней вечное место длиной в три аршина.
Помолчав, Корешков спросил:
– Про Ленина слыхал?
– Кто же о нем не слышал.
– Так вот о нем так понимаю. Этот самый Ленин о земле для мужика наперед всего подумал. А почему? Потому что сумел вовремя доглядеть и понять думу мужика про землю.
В окопы к нам большевики наезжали, понимай, что такие же, как мы, солдаты. Сказывали нам про ленинские разумения о земле и крестьянской доле.
Слушал я их, понимал, что по-дельному говорят, но все одно с открытой душой поверить в их правду опасался. А по какой причине? Да по той же, что эсеры и меньшевики тоже про землю не позабывают, но у всех разговор о земле разный. Вот и зачинает мутить разум сомнение, кому поверить, то ли большевикам, то ли прочим партиям. А спрошу тебя, по какой причине заводятся у меня подобные сомнения? Да все оттого, что в разуме моем темнота и света в нем не больше, чем от огонька копеечной свечки.
– А ты, как послушаю, краснобай.
Сплюнув сквозь зубы, рыжий солдат заключил:
– Коли тебе нескучно от моего краснобайства, то слушай. Потому и ты – солдат под стать мне, разнимся только краской волос, коей матери наградили.
– Верно. Солдат. И шинельки у нас одинаковые. Только я с иным понятием. Я ни за царя, ни за помещиков Богу не молился. К Колчаку в армию встал, когда прознал, что красные вместе с господами и нам по загривкам втыкают. Ты про Ленина поминал?
– Поминал.
– Его своими глазами я видел и слышал. Он о земле много говорил.
– Запомнил?
– Врать не стану. Стоял от него далеконько, когда он с балкона царской полюбовницы речь к нам держал.
– А говоришь, слыхал. Ты, стало быть, со слов других вникал в его слова. Потому, может, не то тебе в уши вкладывали, перевирая его слова на свой лад. Слышал Ленина с чужого голоса, а этому полной веры отдавать нельзя.
– Колчак тоже землю обещает.
– Обещает, да только ее хозяева плохо его слушают.
– Я Колчаку верю. С хозяевами можно самому поговорить по душам, пока винтовка в руках.
– Ты никак сибиряк?
– Сибиряк. А что?
– А то, что у вас с землей и раньше легче нашего было.
– А чего знаешь про эту легость?
– От сибиряков в окопах слышал про нее кое-что. Жили-то без крепостного права?
– Но со своими мироедами. На них тоже горбы мозолями натирали. Революция обязана наградить сибирских крестьян. Вот я и стану на родной земле оружием ее от всех партиев защищать.
– Ты ее, браток, сперва от большевичков отвоюй, а уж опосля мечтай на нее ногами наступать. Тебе легче моего. К своей земле вон на каком пароходе плывешь. А мне до своей землишки на Волге-матушке далеконько вышагивать. Вот, к примеру, я шагал по ней, а красные за это пинков в задницу поддали, да так ловко, что я от Перми до Тавды без птичьих крылышек долетел.
– Скажу те, голуба, по своему сибирскому понятию, что заплутал ты в понятиях о земле.
– Коли я плутаю, так ты, сделай милость, по-братски выведи меня на правильную тропу своего понятия. Кто мы? Мужики. Это война нас в шинелки нарядила. А снимем их – и станем мужиками. А уж ежели у тебя в мозгах свечка за пятак горит, то тебе просто совестно не рассказать о своем понятии о земле.
– Да, по правде сказать, и сам не хуже тебя плутаю.
– А тогда помалкивай. В чужой разговор не встревай. Видал людей на Тавде?
– Не слепой.
– Видал, как страх их принаряжал в трусов? Про все забывали, лишь бы убежать от красных, да подальше.
Видал, как с нашим братом все господа по-ласковому норовили разговаривать, за ручку здоровкались и прощались? Потому мы им надобились, у нас в ручках винтовочки, что при любом случае можем их под свою защиту принять. А теперь что видишь?
Сибиряк более зло послал слюну через зубы, но промолчал на заданные вопросы.
– Онемел? Потому опять понимаешь, что у всех, кто на посудине, на тебя надежда. У пролетов мы с тобой стоим, а пассажиры всяких сословий чаи гоняют, стерлядку на пару винцом запивают, а нам в благодарность, что бережем их, чарочки не подносят.
– А ты отдай им винтовку и садись с имя за стол.
– Я винтовку до самой смерти не отдам. Да они и держать ее не умеют. Они за веру, царя и отечество своей кровью вшей не поили. Они шепотком эти слова промеж себя произносили, а я за Отечество с начала войны немцев убавлял со свету.
– Будет про то.
– Нет, не будет. Хочу плескать мысли в словах, хочу понять, почему Россия на двое раскололась у одного русского народа?
– На крестьянской стороне правда. Единой должна быть Россия.
– А красные о чем толкуют. Тоже про единую.
– Мне их понятие знать неинтересно. Мое дело – в Сибирь их не допустить. По мне пусть возля Сибири свою власть разводят. В Сибири большевикам с их властью делать нечего. И боле от меня никаких высказов не жди.
– Может, ты и тем недоволен, что я в твою Сибирь плыву?
– У тебя винтовка. Должен помогать сибирякам не допускать до нашей земли большевиков.
– А, к примеру, спрошу. Выйдет по-твоему. В Сибирь красных не допустим, так ты в благодарность за помощь со мной своей землей поделишься?
– Пошто делиться-то?
– Да за помощь мою винтовкой?
– Ну об этом начальство решит. Его забота – всех землей оделить. У нас земли много. Корчуй тайгу и владей.
– Неплохо рассудил. Только и я судить умею.
– Твое дело – Колчаку служить верой и правдой, а у него ума хватит, как за службу с тобой землей расплатиться.
– Тогда уж скажи, как с чехами он поступит? Они тоже помогают.
– С имя расчет не землей. Им хлеба и золота дадут, а этого добра у Колчака хватит.
– Велишь понимать, что выращенный тобой хлебушко тоже на расплату пойдет?
– Ежели его откупят у меня. Я до родных мест дойду и с меня хватит.
– С бабой спать ляжешь, а Корешков за тебя воюй.
– А тебя не звал. Надо было тебе красных на Волгу не пускать.
– Верно. Только они меня об этом не спросили. Когда с Урала в Сибирь пойдут, тебя тоже не спросят.
– Это мы поглядим. Скажу те, солдат, пока погоны носишь, думай о таком про себя. А то…
– Скажешь начальству, что я красный.
– Мое дело в том – сторона. Я к дому спешу, а про остальное пусть Колчак думает, на то звание у него Верховный правитель. Ты постой пока один. Поспрошаю, пошто долго нас не сменяют. Не нанимался век на этом посту стоять.
Рыжий солдат ушел. Корешков спросил Егорыча:
– Слыхал, моряк?
– Ты лучше полегче, а то и впрямь.
– Да охота мне до правды дознаться.
– Да она, Прохор, пока в твоих руках, потому с винтовкой. Правильно, что не хочешь ее отдавать. Молчи. Думай. А у людей о правде не допытывайся. Потому теперь никто не знает, у кого она за пазухой схоронена. Пойду проведаю адмирала, может, надо что старику…
2
Темнота густых сумерек укрыла водяную дорогу Тавды.
Река петляет, обжатая лесистыми берегами, а в иных местах настолько суживается, что от парохода до любого берега только сажени.
Из-за зазубрин прибрежных лесов показался край огромного шара луны. Ночное светило всходило раскаленным оранжевым жаром, стеля на реку полосу отражения, которую пароход не мог пересечь.
Сырое дыхание реки почти очистило палубы от людей.
Настенька Кокшарова, завернувшись в пуховую шаль, стояла под капитанским мостиком. На нее падал слабый свет от зеленого сигнального фонаря.
Наблюдая за восходом, Настенька видела, как огромная облачная пелена, неумолимо надвигаясь, заслонила восход оранжевого раскаленного светила и с реки исчезла полоса его отражения.
– Чем тревожите память, Анастасия Владимировна?
Обернувшись на голос, Настенька увидела перед собой офицера с забинтованной головой и с левой рукой на повязке.
– Кажется, не узнаете?
– Разве знакомы?
– Разрешите снова представиться. Поручик Муравьев.
– Вадим Сергеевич! Боже, как изменились.
– Вид у меня действительно непривычный.
– Ранены? Когда?
– Под Пермью. В Екатеринбурге лежал в госпитале, но из-за панической эвакуации меня в нем забыли. На мое счастье, ноги целы, вот и добрался до них до Тавды. Вы, Настенька, простите, Анастасия Владимировна, видимо, совсем забыли о моем существовании. В Екатеринбурге разыскивал вас, но, увы, безрезультатно. Такой невезучий. Как здоровье папы?
– Спасибо, по-стариковски. Он на пароходе.
– А мичман Суриков? Как его глаза?
– К сожалению, совершенно ослеп.
– Бедный! Это просто ужасно для него, ибо такой жизнелюбивый.
– Он с нами.
– И вы, конечно, его невеста?
– Да. Я его невеста.
– Вас я увидел сегодня, когда поднимались по трапу на пароход, и от неожиданности так растерялся, что не отважился подойти.
– Растерялись? – переспросила Настенька. – Отчего?
– От внезапной встречи, долгожданной, но слишком неожиданной.
– Увидели и не позвали. Неужели действительно растерялись?
– Кроме того, не хотел показываться вам в таком забинтованном варианте. Но, как видите, стою перед вами и радуюсь, что слышу ваш голос.
Муравьев старался рассмотреть девушку, она, заметив упорство его взгляда, спросила:
– Находите во мне перемены?
– Нет, вы прежняя. Пожалуй, только еще более красивая. Но во взгляде не привычная для вас озабоченность, вернее, встревоженность.
– Неужели разглядели взгляд в такой темноте?
– На вас падает зеленый свет.
– Все может быть, и встревоженность, и озабоченность от недавних переживаний при эвакуации.
– Почему не покинули Екатеринбург по железной дороге?
– У генерала Гайды для папы не нашлось места. Куда едете, Вадим Сергеевич?
– В Омск. Временно отвоевался.
– Ранения тяжелые?
– Голова поцарапана осколками шрапнели, а с рукой плохо.
– Вижу, в лубках.
– Перебита кость. Доктора успокаивают, что все будет нормально. Говорят, что в этом окажет помощь молодость. Вы тоже в Омск?
– Да.
– Надеюсь, что там будем встречаться?
– Мне будет приятно общение с вами. – Настенька, отвернувшись к реке, продолжала говорить: – Какая темень. Перед вашим приходом взошла луна, но ее прикрыли тучи. Мне так хотелось посмотреть восход луны. Восход солнца посчастливилось увидеть на берегу Тавды, когда все так волновались ожиданием пароходов. Стихи пишите?
– Пытаюсь, но редко и неудачно. Слишком много омерзительной прозы жизни.
– Да, проза действительно мрачна и омерзительна.
– Меня глубоко волнуют наши неудачи на фронтах. Это паническое отступление, граничащее с постыдным бегством. И причина всего в базарной грызне генералов. Не могут решить, кому из них надлежит оседлать белого коня, чтобы въехать в красную Москву. Честное слово, даже трудно представить, до чего дошел маразм генеральского тщеславия. Пример – командир нашей дивизии генерал Голицын. На словах, за застольем послушаешь – Бонапарт, а как дошло до дела, то драпанул на восток в чешском эшелоне, воспользовавшись дружбой с Чечеком.
– Огорчена, что не пишете стихи. Из напечатанных все наизусть знаю. В Екатеринбурге читала на благотворительных вечерах, и всегда с большим успехом. Вы модный поэт. Мне ваша поэзия нравится, а если быть откровенной, то надо сознаться, что она мне созвучна и близка.
Наступило длительное молчание, и прервала его Настенька.
– Вы в чем-то созвучны Блоку.
– Что вы? У него «Незнакомка».
– А у вас «Девушка с васильками». Вспомните, что раньше всегда принимали на веру мое мнение о ваших стихах. А почему теперь сомневаетесь в его правдивости? Взгляните мне в глаза, и уверена, поверите, что говорю правду.
Настенька шагнула к Муравьеву, подставив лицо под зеленый свет фонаря. Муравьев совсем близко увидел ее глаза, лучившиеся под крылышками длинных ресниц. Он взял руку девушки, поцеловав ее горячими, сухими губами.
– Спасибо, Анастасия Владимировна.
– Поверили?
– Поверил.
– Знаете, папа частенько о вас вспоминает. Пришлись ему по душе.
От неожиданно прозвучавшего гудка парохода Настенька, подавшись вперед, коснулась руками плеч Муравьева, но, сконфуженно отдернув их, засмеялась.
– Видите, какая перепуганная стала? Пойдемте скорей к папе. Он будет удивлен и обрадован.
– Поздно, Анастасия Владимировна.
– Пустые разговоры. Вас к папе я и в полночь бы повела. Забыли, что Настенька настойчивая и упрямая. Что задумает, никогда не откажется. Пойдемте…
Когда Настенька и Муравьев вошли в каюту, адмирал сидел в кресле спиной к двери и читал книгу.
Мичман Суриков крепко спал, укрывшись шинелью.
– Папочка, взгляни, кого я привела в гости.
Адмирал, обернувшись, снял очки и от удивления выронил из рук книгу.
– Муравьев! Вот уж действительно нежданный, негаданный гость.
Адмирал встал, подойдя к Муравьеву, положив руки тому на плечи и расцеловался с ним.
– Батюшки, да у вас ранение в голову?
– Нет, ваше превосходительство, только легкие царапины от осколков шрапнели, но, конечно, шрамы на лбу останутся.
– Это ерунда. Офицеру любые шрамы делают честь. С рукой что?
– Тут несколько серьезнее.
– Кости повреждены?
– Да.
– Когда все это случилось?
– Под Пермью.
– В Екатеринбурге я наводил о вас справки, но толком, где вы, ничего не узнал. Садитесь. Вот сюда, к свету. Хочу разглядеть вас. Здорово осунулся, но в ваши годы это пустяки, особенно если есть аппетит.
Муравьев поднял с пола оброненную адмиралом книгу, сел на раскрытую офицерскую походную кровать.
– Толстого перечитываю. Прощание старого Болконского с сыном Андреем перед отъездом в армию меня буквально очаровывает мастерством написания. Все-таки как Лев Николаевич глубоко знал отцовское нутро.
Муравьев также внимательно осматривал адмирала. Внимание прежде всего привлекли его глаза. В них усталость притушила прежнюю властную суровость. Это уже не был тот волевой старик, которого увидел Муравьев при их первой встрече. Понурость фигуры сделала его ниже ростом.
– На пароходе как очутились?
Настенька поспешно ответила за Муравьева на отцовский вопрос:
– Совершенно невероятно, папа. Вадим Сергеевич пришел на Тавду пешком с девятью солдатами. Госпиталь, в котором он лечился, забыли эвакуировать.
– Дочурка, твое заключение не совсем точно. Я думаю, что не позабыли, а оставили умышленно. Во-первых, понадобились вагоны для других, более ценных, особ, а во-вторых, раненые – всегда неприятная обуза, особенно при такой спешной эвакуации, которую мы с тобой видели в Екатеринбурге. Вадим Сергеевич, согласны со сказанным?
– Совершенно, ваше превосходительство.
– Давайте раз и навсегда условимся обходиться без чинопочитания. Без этого у нас сразу образуется теплый человеческий разговор. Сами подумайте, какое я теперь «ваше превосходительство»? С этой минуты для вас только Владимир Петрович, или адмирал. Как на душу ляжет, так и называйте.
– Тогда в свою очередь разрешите считать, что для вас я просто Вадим.
– Согласен!
Встреча с Муравьевым взволновала адмирала, он сразу оживился, разбудил спящего мичмана Сурикова.
– Мишель, у нас удивительный гость.
Суриков, скинув шинель, сел на койку. Вадим увидел его худое, изможденное лицо с черной повязкой на глазах.
– Кто у нас в гостях, адмирал?
– Поручик Муравьев.
– Вадим! Не может быть! Вадим, протяни ко мне руки.
Суриков, поймав руки Муравьева, притянул его к себе.
– Я должен с вами расцеловаться. Жаль, что не могу увидеть.
Офицеры обнялись, долго не разжимая объятий. Потом руками Суриков ощупал голову Муравьева.
– Ранен?
– Осколочные царапины.
– Глаза не повреждены?
– Нет!
– Вот мне не повезло.
– Миша, прошу!
– Хорошо, Настенька. Она не любит, Вадим, когда говорю о своем несчастье, но ты понимаешь, как мне тяжело.
Суриков сидел, потирая руки, как будто отогревая их от холода, низко склонив голову.
Адмирал закурил папиросу, спросил:
– Направляетесь, Вадим, конечно, в Омск? Кажется, сибирский городок для таких, как я, станет Меккой.
– Там, адмирал, вы увидитесь с Колчаком? Вы ведь знали его близко.
– Постараюсь добиться с ним встречи. Если по старой памяти примет меня. Ведь его свидание со мной кое-кому, особенно из иностранного его окружения, может оказаться нежелательным.
Последнее время не перестаю удивляться, как в нынешней обстановке меняются у людей отношения, знакомства и даже привязанности. У очень многих в обиходе появилась омерзительная в русском характере черта. Буквально все начинают перед власть имущими играть роль грибоедовского Молчалина. Правда, это было и раньше, но не так оголено. Микроб подхалимничания у нас, видимо, в крови.
Так вот, Вадим, хочу увидеть Александра Васильевича. Надеюсь, в своем нонешнем высоком звании он меня не забыл, ибо я был среди тех, кто настоятельно советовал государю именно адмирала Колчака назначить командующим Черноморским флотом, когда там пиратствовал Гебен и Бреслау. Он блестяще оправдал наши рекомендации, заперев для немецкого флота Черное море на крепкий русский замок.
Из песни слова не выкинешь. Колчак лихой адмирал. Любимец моря и матросов. Но чувствую, что на суше у него под килем нет необходимых семи футов.
Возможно, мои опасения несостоятельны. Ибо сужу обо всем с чужого голоса, но моя интуиция меня редко обманывает. Я становлюсь нетерпимым пессимистом. И не без основания после того, как в поезде штаба Гайды для меня не нашлось места. Хотя брюзжу в данном случае напрасно, прекрасно зная, что на суше флот у армии не в чести.
Адмирал замолчал, начал нервно покашливать, заложив руки за спину, постоял в раздумьи и продолжил:
– Кроме того, побаиваюсь, что в Омске меня посчитают за балтийца с опасно неустойчивыми политическими взглядами. Ведь многие в Екатеринбурге знали, что сын мой сражается на стороне большевиков. Мы, кажется, вам об этом еще не говорили?
– Нет, Анастасия Владимировна сказала мне об этом еще в санитарном поезде.
– Неужели? Дочурка у меня храбрая, ничего не скажешь. И как же вы приняли столь шокирующее нас известие?
– Скажу откровенно, сейчас даже не помню. На меня это известие не произвело особого впечатления. Мой отец тоже.
– Знаю, Вадим. Мне случайно рассказал об этом в Екатеринбурге золотопромышленник Вишневецкий. Он дружил с вашим отцом и буквально был потрясен, что тот отказался эвакуироваться, кажется, с древнейшего демидовского завода. Судьба отца вас не взволновала?
– Обожаемая мною мать воспитала меня считать любые поступки родителей правильными и не подлежащими сыновьему обсуждению. Но за судьбу отца волнуюсь только потому, что у него слишком твердый, негибкий характер. Молчалиным он ни перед кем расшаркиваться не станет.
– Да, да. Видите, как после Октябрьской революции просто решаются сложные проблемы отцов и детей. Но на все воля Всевышнего. Понять не могу, почему мне сегодня все время душно, видимо, будет гроза. Может быть, Вадим, выйдем с вами побродить по палубе?
– Я думаю, папа, сейчас для тебя будет прохладно. Ты и так кашляешь.
– Кашляю, Настенька, от табака. Кроме того, дочурка, ты уже убедилась, что на воде я выхожу из повиновения всех твоих забот и желаний. Чтобы не волновалась, накину шинель.
Муравьев, сняв с вешалки шинель, накинул ее на плечи адмиралу.
– В таком случае я тоже пойду с вами.
– Нет, доченька, разреши нам быть без тебя. Может начаться мужской разговор.
– Хорошо, папа.
– Конечно, недовольная моим отказом, ты сейчас завяжешь свои губы пышным бантиком?
Настенька, засмеявшись, ответила:
– Ошибаешься. Не завяжу. Хотя мне очень обидно, что не буду слышать ваш мужской разговор о происходящих событиях. Попробуй, папа, разуверить меня, что я не права?
– Права. Но мы идем с Вадимом вдвоем.
– А Миша?
– Будем рады, если у него есть желание прогуляться.
– Прошу меня извинить, нестерпимо болит голова…
Выйдя на пустынную палубу, адмирал и Муравьев молча обошли два круга. Адмирал, закурив, откашливался. На реке дул низовой ветер и воздух был влажным.
Адмирал, остановившись на корме, спросил:
– Мне интересно ваше мнение, Вадим, обо всем происходящем. У молодежи теперь обо всем свое особое мнение. И я нахожу это правильным. Как вы думаете, почему после недавних успехов на фронтах вдруг началось такое паническое отступление, похожее на безудержное бегство? Надеюсь, не оставите мой вопрос без ответа?
Муравьев ответил не сразу:
– Удовлетворит ли вас мой ответ, адмирал? Я очень озлоблен, наблюдая происходящее вокруг меня. Меня бесит вранье о несокрушимости колчаковской Сибири, бесит вранье наших газет о скорой гибели советской власти. И не скрою, что порой мне кажется, что уже присутствую при начале конца. Начало конца, когда светлая идея о создании единой неделимой России, отвоеванной нами у большевиков, окажется просто-напросто бредовой мечтой ловких, жуликоватых политиков, как отечественных, так и иностранных, греющих руки на страдании русских в Гражданской войне. Все происходящее так не похоже на неповторимую легенду о затонувшем на глазах врагов благочестивом граде Китеже. Сибирь, в которой мы еще держимся. Омск с его неблагочестием вместе с нами, грешными, не затонет в Байкале на глазах большевиков, а мы, оказавшись под их властью, ощутим немыслимые горести тяжелых испытаний. Омск не станет новым Китежем. Я видел благочестие нашей жизни в Екатеринбурге, и мне трудно поверить, что в Омске совсем иная жизнь.
– В чем главная причина наших неудач?
– Причин много. Главная – отсутствие человека, которому можно верить, что именно его разум и воля способны осуществить желанное всеми нами будущее России. Кроме того, у нас нет ясности, какую мы хотим новую Россию. У большевиков есть предельная ясность, они громко заявляют, что их будущее – власть пролетариата и его диктатура. Народ их тоже боится, но верит, что у них есть воля сдержать слово об обещанной Советской России. И я уверен. Да, именно уверен, что русский народ верит большевикам не только потому, что находится под игом их страшного террора. Народ верит им если не сердцем, то разумом. Я видел, Владимир Петрович, страх наших солдат в боях перед красными. В нашей армии уже знают большевистских революционных героев. Чапаев живая легенда. А где наши герои с ореолом, подобным чапаевскому? Их у нас нет.
Зато у нас есть генералы, мнящие себя полководцами, но ради своего мещанского честолюбия враждующие между собой, подставляющие друг другу ножки при невыгодных для них выполнениях боевых заданий.
– Но ведь у нас немало говорят о Каппеле? Его войска сражаются.
– Сражаются. Но разве не знаете, что популярность Владимира Оскаровича многим высшим чинам не по душе. Например, генерал Ханжин считает его неумным карьеристом, сделавшим себе славу психическими атаками офицерского полка. Все мы, адмирал, будем сражаться до тех пор, пока нами правит страх перед большевиками.
– Песья свора наших генералов, Вадим, еще полбеды. Главная наша беда, что мы идем на поводу Антанты. У этого иноземного капиталистического ворья подлая ставка на нашу вражду. Они еще сами не решили, чего им сделать с Россией, добившись ее полного изнеможения в междоусобной распре. Что льется кровь русского народа, им наплевать. И я уверен, что Колчак, ставший Верховным правителем при их содействии, правит Сибирью со связанными руками.
– Но тогда почему не скажет об этом своей армии, которая поможет ему развязать руки?
– Чем? Оружием, которое она получает от наших союзников по борьбе с большевиками?
– Мы платим за него русским золотом.
– Русским золотом! Вот оно-то заставляет этих стервятников разжигать нашу вражду между собой, вражду генералов, чтобы под шумок наживаться на страшной беде русского народа.
Уверен, Вадим, что вы не задумывались над тем, была бы Гражданская война такой жестокой по нашей озверелости, если бы в ней не принимали участие интервенты? Я думаю об этом постоянно. Вот в этом, считаю, главная причина наших неудач, ведущих Белое движение к катастрофе. Мы, несомненно, идем к катастрофе. В этом меня убеждает даже мнение моего преданного матроса – Егорыча. А что, если мой сын и ваш отец правы в том, что, презрев все страхи перед социалистической революцией, остались преданными чаяниям народа, кровь которого течет в их жилах.
Уверен, что не за горами то время, когда и нам с вами придется допрашивать свою совесть, что же нам делать? Быть с Родиной или изгоями без нее?
Конечно, услышав это, вы удивлены, до чего может додуматься старый адмирал русского флота, когда ему страшно от одиноких раздумий. Мне страшно даже думать о подлости, которую, видимо, придется сделать. Уйти по своей воле за пределы России в бедственное для нее время и всего-навсего только из-за того, что разум не может понять правду всего происходящего в Гражданской войне. Россия свою судьбу решит без нас. Теперь это мне ясно. Но я хочу уверить себя, что еще можно что-то сделать, чтобы и для меня в этой судьбе нашлось место для жизни после того, как мы, противники большевизма, так упорно мешали народу наладить в стране мирную жизнь, мешали по указке наших незадачливых политиков, связанных подлейшим сговором за нашими спинами с интервентами.
Однако пойдемте спать! Ибо ни в эту ночь, ни во все последующие ночи мы вряд ли поборем в себе въедливый классовый страх перед волей народа, идущего с большевиками к утверждению советской власти. Мы не решим этого еще и потому, что политически безграмотны. Для меня лично все политические революционные партии с их программами и посулами, якобы необходимыми для будущей государственной структуры России, одинаково непонятны и неприемлемы.
И порой мне даже бывает стыдно, что, сознавая обреченность своего класса, я до сих пор живу, не имея мужества прервать даже мне самому не нужную жизнь.
Адмирал только от четвертой спички раскурил очередную папиросу. Муравьев проводил его до каюты.
– Покойной ночи, Владимир Петрович.
– Уверены, что она будет покойной? Разворошили мы свои рассудки непозволительно вольными для нас рассуждениями. Не обижайтесь на старика за понятую им правду о своей никчемности. Не обещайте, в память об этом разговоре, все-таки решить вопрос, как поступить, когда вам придет необходимость расстаться с Россией, презреть в себе страх или, пригрев его за пазухой, порвать кровную связь с родным народом. Покойной ночи!
Оставшись в одиночестве на пустынной палубе, Муравьев сел на скамейку, плотно прижав холодные ладони к горячему лицу.
Над Тавдой висел чернильный мрак ночи, проженный калеными угольками высоких звезд…
Глава третья
1
Приближаясь к слиянию Тавды с Тоболом, пароход «Товарпар» повстречал идущие за оставшимися беженцами пароходы «Иван Корнилов» и «Фелицата Корнилова».
Пароходы обменялись протяжными, приветственными гудками, а их капитаны в медные рупоры пожелали друг другу счастливого плавания.
2
Ранним утром при ослепительном сиянии солнца «Товарпар» пристал к пристани города Тара.
В городе колокола благовестели к ранней обедне. Под крутым косогором берега с реки поднимались бородки тумана, а в спокойной глади реки четко отражались стоявшие по берегу дома и избы с окнами, изукрашенными деревянными кружевами наличников.
По пароходу быстро разнесся слух, что едва он успел причалить, как на него вступил дежурный офицер комендантского управления с приказанием всем находящимся на судне офицерам немедленно явиться к коменданту.
Столь незначительное событие, такое понятное в военное время, однако, вновь взбудоражило едва обретенный покой пассажиров. Опять все ходили с озабоченными лицами, обменивались мнениями, почему именно только офицеры, и при том так срочно, понадобились коменданту.
Успокаивая волнения пассажиров, капитан обещал лично побывать у коменданта и объявил, что пароход у пристани простоит несколько часов, ибо необходимо пополнить запас топлива.
Спокойная уверенность капитана, его обещание лично все выяснить скоро заставили пассажиров за утренними заботами забыть уход офицеров. Многие отправились в город поставить в церквах свечки Николаю Угоднику, купить хлеба, чаю и сахара, а также других продуктов, ибо не все пассажиры могли пользоваться пароходной кухней из-за ее дороговизны.
Настенька с мичманом Суриковым вышли на палубу, намереваясь сойти на берег для прогулки, но девушку невольно заинтересовала группа пассажиров, окружившая невысокого ростом седого мужчину в пенсне в золотой оправе. Он говорил о городе, и говорил громко.
– Миша, послушаем? – спросила Настенька Сурикова, а он ответил:
– Конечно. Видимо, речь идет о чем-то интересном.
Они подошли поближе к группе и, остановившись, слушали.
– Да, господа хорошие, на вид Тара уютный, сонный, сибирский городок, торгующий крупчаткой, овсом и сыромятными кожами. Глядя на него, не подумаешь, что у него может быть особая, тягостная история. А она у него была, и не только тягостная, а без преувеличения трагедийная.
Мужчина замолчал, внимательно оглядев всех слушателей, и, убедившись, что у них есть интерес к его рассказу: продолжал:
– Что же произошло в Таре в первой половине восемнадцатого века? Что претерпел городок в годы самодержавного величия в империи Петра Великого?
– Будьте любезны сказать, что же произошло, – нетерпеливо спросила высокая дама в горностаевой пелерине.
Рассказчик чиркнул в ее сторону недовольным взглядом и, понизив голос, со вздохом произнес:
– Произошла трагедия. Могу с уверенностью сказать, что никто из вас, господа хорошие, никогда еще не слышал о так называемом тарском пропавшем бунте. И это понятно. Ни в одном учебнике истории о нем нет даже самого краткого упоминания. Но трагедия в Таре произошла. Причиной ее явился известный указ Петра Великого от 5 февраля 1722 года. Гласил этот указ о том, что правящий Российской империей император может по своей воле назначить себе наследника.
– Скажи на милость! – прошептал стоявший в группе русоволосый священник, перекрестившись, поцеловал висевший на его груди серебряный наперстный крест.
Рассказчик, сняв пенсне, протер его пальцами и, держа в руке, продолжил:
– Что же вытекало, господа хорошие, из царского указа? А вытекало нижеследующее. Необходимо было всех российских верноподданных незамедлительно во всей империи приводить к присяге будущему, еще не названному, совершенно неведомому наследнику, известному пока только самому Петру Великому.
Кому из нас не известно, что благодаря смелому реформаторству Петра на Руси почитали за Антихриста, а поэтому обнародованный царский указ вызвал в стране волнения. На Урале и в Сибири было главное скопление беглой Руси, крестившейся двумя перстами, и естественно, ожила молва, что по царской воле народ должен присягать неведомому, грядущему Антихристу, да такому страшному, что его имя невозможно даже вымолвить.
– Кого царь Петр все же назвал своим наследником? – снова с прежним нетерпением спросила дама в горностаевой пелерине.
– Не успел император назвать наследника! Не успел. Попрошу не прерывать мое изложение вопросами. Ибо все расскажу по порядку. И так начались по Уралу и Сибири бунты, и в мае 1722 года вот в этом городке Таре начался бунт населения совместно с казачьим гарнизоном против принесения присяги не названному царем наследнику.
Сполох о бунтах на уральской земле и в сибирских городах, а особенно о самом дерзком из них, тарском, бунте достиг столицы, и император, крутой до жесткости по характеру, незамедлил на него откликнуться своей волей.
Присланный под Тару карательный отряд после многодневного сражения с городским гарнизоном в конце концов захватил город. Началось жесточайшее следствие, повлекшее за собой массовые аресты и казни. Особенно бесчеловечно обошлось следствие с зачинщиками бунта. Их четвертовали и даже сажали на колы в назидание будущим потомкам.
Однако все это сугубо мрачное историческое событие не стало гласностью. После смерти Петра о нем монархи предпочитали хранить молчание. А казнено было более тысячи человек.
– Как вы узнали об этом? – спросили сразу несколько слушателей.
– Случайно, господа хорошие. Прочитав буквально несколько строк о страшных тарских событиях в книге известного сибирского историка Словцова, опубликованной в 1838 году. Прочитав подобные строки, естественно, начал искать им подтверждения в памяти жителей город, и, надо сказать, узнал много интересного. Вот если пойдете в город, обратите внимание на соборной площади на два больших деревянных креста. Старожилы их старательно обновляют. Официально известно, что поставлены они для молебствий, а на самом деле стоят на местах, где казнили бунтовщиков.
– Вы, видимо, бывали в городе?
– В молодые годы я учительствовал в Таре.
В этот момент к Настеньке с Суриковым подошла знакомая по пароходу дама, вернувшаяся из города. Еще не услышав от нее ни одного слова, девушка по ее взволнованному до бледности лицу догадалась, что она принесла тревожные новости.
– Анастасия Владимировна, если бы только знали, что я услышала в мясной лавке. Не поверите! Позавчера в городе было сражение с большевиками. Конечно, не с красными войсками, а только с сочувствующими им рабочими и крестьянскими отрядами. Они грабят деревни и села, обстреливают проходящие пароходы, даже останавливают их для ограбления и насилия над женщинами. Едва дошла до пристани, от узнанного ноги стали совсем ватными. Мы-то ведь с вами на пароходе, да еще на каком шикарном. А сколько среди нас богатых людей. Что, если?.. Сохрани, Господи, нас грешных. Извините побегу: надо со всеми поделиться страшной новостью. Адмиралу не забудьте сказать. Простите, побегу…
Офицеры, вызванные к коменданту, вернулись на пароход вооруженными карабинами с двумя пулеметами.
Их появление разом разворошило в пассажирах недавние страхи. Со слов офицеров, известие о нападении на город красных партизан подтвердилось.
Богатые пассажиры старались уговорить знакомых взять временно на сохранение их ценности, ибо если отнимут у одних, то есть надежда, что у кое-кого они все же сохранятся.
Началось приготовление судна к обороне. Листами котельного железа укрыли рубку штурвального и в ней установили пулемет.
Родители малолетних детей получили от капитана Стрельникова распоряжение уложить их на ночь в носовой части трюма.
Вечером во время прогулки генерала Случевского по палубе от внимания пассажиров не ускользнула незначительная, на первый взгляд, мелочь на генеральском френче. На нем золотые погоны заменили погонами защитного цвета, на которых химическим карандашом зигзаги едва намечены тонкими линиями…
Перед полуночью «Товарпар» покинул Тару.
Шел по реке без сигнальных огней.
Настенька Кокшарова сидела на скамейке под окнами капитанской каюты, запахнувшись в шинель Сурикова. Она ушла из каюты, несмотря на просьбы отца и жениха. Ушла, чтобы не показать охватившего ее волнения после того, как узнала от Муравьева, что он назначен на время ночного пути к пулемету, стоявшему в рубке штурвального.
Ночь была прохладной и темной, с яркими высокими звездами. Ветер дул с берега порывами. Наносил запахи смолы и прелого листа. Горизонт часто освещали фосфорические вспышки далеких зарниц.
Остов судна ритмично вздрагивал от работы мощных машин. Настенька невольно вслушивалась в монотонный перестук колесных плиц по воде, снова думала о Вадиме Муравьеве.
Память весь прошедший день настойчиво заставляла вспоминать о первом знакомстве с ним на небольшом разъезде за Москвой, когда деморализованные солдаты, покидая фронт, остановили пассажирский поезд, выгнали из него всех пассажиров, в числе которых оказались адмирал Кокшаров, Настенька и мичман Суриков.
Адмирал, придя на станцию за кипятком, случайно встретил поручика с анненским темляком на эфесе шашки, назвавшимся Муравьевым, и комендантом санитарного поезда, переполненного ранеными и готового к отправлению. Адмирал чистосердечно рассказал приятному молодому офицеру о печальном происшествии с высадкой. Сказал, что намеревался добраться до Урала, покинув свое имение возле Пскова. Муравьев, выслушав адмирала, неожиданно предложил ему свое купе в поезде, и таким образом Кокшаровы прибыли в Екатеринбург.
Новая встреча с Муравьевым на пароходе воскресила в памяти Настеньки долгие дни следования санитарного поезда на Урал и его трогательные заботы о ней.
Налетавшие порывы ветра раскосмачивали волосы девушки. Их прядки щекотали лоб, ресницы, щеки. Настенька все время смахивала их рукой.
Она волновалась за жизнь Муравьева и не могла побороть в себе это волнение. Прошлую ночь ее не оставляла мысль о какой-то особой теплоте, окатывающей ее при мысли о Муравьеве. Чувство нежности к нему зародилось в ней еще в Екатеринбурге, когда читала на вечерах его стихи. Сегодня спрашивала себя, неужели любила Муравьева. Но тотчас гнала мысли о чувстве, помня, что невеста Сурикова. Уверяя себя, что если и полюбит Муравьева, то все равно не сможет отнять у Сурикова обещания быть его женой.
Неожиданно на верхней палубе раздались выкрики команды и топот перебегающих солдат. Настенька встала на ноги, смотря на невидимый в темноте берег, похолодев, замерла, увидев вдали пламя двух костров.
Девушка мгновенно подумала, что это костры красных партизан. Ее сердце учащенно забилось, а рот заполнила горькая слюна. Прижавшись спиной к стене каюты, она не отрывала глаз от приближавшихся костров. Они уже совсем близко, но около них нет людей. Мелькнула мысль опасения, что партизаны скрылись в прибрежных кустарниках, в любую минуту могут загреметь их выстрелы, в пароход полетят, вонзаясь, пули, убивая и раня пассажиров.
Прижимая ладони к стене, Настенька добралась до двери в первый класс, рванув ее, вошла в темный коридор.
Утихомирив дыхание, прислушивалась, но не слышала ничего, кроме звона в ушах. Медленно дошла до своей каюты. Открыла в нее дверь. Увидела тусклый свет ночной лампочки, прикрытой адмиральской фуражкой. Глаза привыкли к полумраку. Разглядела, что окно завешено адмиральской шинелью. Отец спал, слегка похрапывая. Суриков спал, прикрыв голову подушкой.
Облегченно вздохнув, Настенька увидела в зеркале свое отражение и довольно улыбнулась.
Девушка несколько минут стояла неподвижно, все еще ожидая выстрелов с берега и ответные с парохода, но так и не дождалась их.
Пароход продолжал путь, ритмично вздрагивая всем корпусом.
Настенька подошла к своей постели, сняла шинель, легла, с удовольствием вытянулась, как будто помогая страху сползти с ее тела. Подложив руки под голову, прикрыла глаза, и вновь разум заняла мысль о Муравьеве.
3
Благополучно миновав опасные лесные зоны пути, «Товарпар» бежал по Тоболу, направляясь к древнему городу Сибири Тобольску.
На третий день пути, по приказанию генерала Случевского, комендант Мекиладзе вывесил приказ, оскорбительный для младших офицеров. Приказ гласил, что обер-офицерам запрещается обедать в рубке первого класса.
Молодое офицерство, возмущенное приказом, не стеснялось выражать свое негодование. Капитан Стрельников, сорвав со стенки каюты листок приказа, пошел с ним к генералу Случевскому, но тот, узнав о причине его визита, грубо приказал ему покинуть каюту.
Тогда офицеры обратились за помощью к адмиралу Кокшарову. Он, прочитав бестактный приказ, вызвав Мекиладзе, распорядился его аннулировать. Мекиладзе не мог не выполнить распоряжение адмирала, но все же поставил о нем в известность генерала Случевского, а тот неожиданно согласился с мнением адмирала и отменил свой приказ.
Причина, заставившая Случевского быть осторожным с адмиралом, крылась в том, что еще в Екатеринбурге он узнал, что Кокшаров на короткой ноге с Колчаком, а потому не хотел с ним никаких осложнений, боясь, что они могут повредить ему при налаживании своей карьеры в Омске.
Генерал Случевский ехал в Омск, надеясь хоть там встретить прежних друзей, а через них обзавестись теплым местечком возле Верховного правителя.
Генерал с горечью сознавал, что в его биографии есть неприятные пятна. Германскую войну провел в чине полковника в свите главнокомандующего российской армией великого князя Николая Николаевича-старшего. Пребывал в свите на должности офицера для поручений. Старался держаться подальше от фронта, частенько совершая поездки в Петроград.
Когда после тяжелых поражений русских армий главнокомандующим стал император Николай Второй, Случевский некоторое время, необходимое для светской вежливости, еще состоял при попавшем в опалу дяде государя, но, выбрав удобный момент, вновь пролез в Ставку и перед самой революцией получил чин генерал-майора.
После Февральской революции благодаря знакомству с Родзянко генерал пытался втереться в доверие к Половцову, надеясь оказаться около Керенского, но реализовать свои намерения не смог, а потому в сентябре уехал в Москву, где принял участие в ее защите от большевиков, после поражения контрреволюции бежал на Волгу, а после взятия Казани белыми перебрался в Екатеринбург. Вопреки его ожиданиям в Екатеринбурге он не нашел нужных ему влиятельных особ, видимо, все они были или у Деникина, или у Врангеля. Случевский обивал пороги штаба Гайды, но безрезультатно. Однако, познакомившись с генералом Голицыным, получил в командование 26-й Шадринский полк 7-й Уральской дивизии.
Но командирская карьера Случевского закончилась скоро и не совсем ясно. На станции Кын его полк был разбит на голову. Генерал, прикинувшись психически больным, присвоив кассу полка, появился в Екатеринбурге, добившись того, что лечение проходил в домашней обстановке, изображая из себя жертву интриг офицеров, окружавших Гайду.
«Товарпар» приближался к Тобольску.
Накрапывал мелкий, будто совсем осенний, дождь. Над рекой низко висели трепаные серые тучи.
Адмирал Кокшаров, гуляя по палубе, обратил внимание на удрученный вид именитого екатеринбургского купца Мокея Кротова. Он познакомился с ним в доме золотопромышленника Вишневецкого. Купец был веселым балагуром, а сейчас сидел на скамейке, понуро склонив голову. Остановившись около Кротова, адмирал спросил:
– Не помешаю, если присяду к вам?
– Окажите честь, ваше превосходительство. Так понимаю, что часика через три будем в Тобольске. Люблю сей сибирский град. За все его люблю. За улицы, мощенные плахами, за дома, кои в нем как крепости, а главное, за седины его исторического прошедшего. Ведь какие люди в нем проживали, наказуемые за всякие умственные вольности.
– Мокей Флегонтович, вижу чем-то удручены? Нездоровится?
Кротов, взглянув на адмирала, вздохнул:
– На здоровье не обижаюсь. Матушка, родив, всем необходимым для жизни щедро наградила. Господь не обошел благополучием, но нежданно беда на сей посудине накатила и до сердечного волнения докучает. Из-за нее, поверите, ночью глаз не сомкнул.
– Какая беда? Может, есть возможность отвести ее от вас?
– Считаю неудобным для себя вмешивать вас в сию оказию.
– А вы попробуйте. Конечно, ознакомьте меня с бедой, а я решу, что мне сделать. Вмешаться или в сторону отойти.
– Ну коли так, то слушайте. Комендант парохода Мекиладзе устраивал меня в Тавде на пароходе, взял с меня за каюту куш в золоте. Но вчера потребовал каюту освободить и перебраться в третий класс. Понадобилась ему каюта для одной дамочки. Я по своей купеческой горячности круто поспорил с Мекиладзе, отказавшись выполнить его требование. А он пригрозил меня в Тобольске вообще ссадить с парохода. Время теперь военное, и свою угрозу он может выполнить запросто.
– Сколько вы ему дали?
– Двести рубликов в золотой монете. А как было не дать, когда в наше время без взятки шагу нельзя ступить?
– Обещаю, что деньги он вам вернет.
– Да черт с ними, с деньгами. Слава богу, не последние. Но у меня жена на сносях. Куда я с ней в Тобольске подамся? Родня моя в Омске да в Иркутске. Посодействуйте, чтобы грузинец отменил свое решение.
– Успокойтесь. Никто вас с парохода не ссадит.
Адмирал, простившись с купцом, пошел в рубку первого класса. Войдя в салон, увидел сидевшего генерала Случевского в компании четырех молодых дам. Раскланявшись с генералом, адмирал подошел к столику в углу, за которым сидели Настенька, Суриков и Муравьев.
– Поручик, пригласите сюда ротмистра Мекиладзе.
Муравьев, козырнув, быстро ушел. Адмирал присел к столику на диван, обитый малиновым плюшем. Настенька, почувствовав в голосе отца раздражение, спросила:
– Что-нибудь случилось, папа?
– В свое время узнаешь.
В салон рубки вошел капитан Стрельников и, направившись к адмиралу, попросил разрешения остаться в рубке.
– Вовремя поспели, капитан. Садитесь с нами. Если не знакомы, то это моя дочь Анастасия, а это – ее жених, мичман Суриков. Вы сейчас, капитан, мне понадобитесь.
Удивленный Стрельников сел на диван. Адмирал, раскрыв портсигар, спросил капитана:
– Курите?
– Никак нет.
– Молодец. Чего не могу сказать о себе.
Но Кокшаров не закурил, положив на стол раскрытый портсигар. К столику подошли ротмистр Мекиладзе и поручик Муравьев.
– Что прикажете, ваше превосходительство? – спросил Мекиладзе.
Происходящее за столом адмирала привлекло внимание всех, кто был в салоне и, конечно же, генерала Случевского. Адмирал, побарабанив пальцами по столику, глядя в упор на ротмистра, достаточно громко сказал:
– Прикажу, ротмистр, немедленно вернуть деньги господину Кротову, которые вы временно взяли у него на сохранение при посадке на пароход.
– Слушаюсь, ваше превосходительство!
– Кроме того, в должности коменданта вас через час заменит капитан Стрельников.
– Я утвержден комендантом генералом Случевским. Разрешите поставить его в известность?
– Конечно, поставьте.
– Разрешите быть свободным?
– Разрешаю.
Мекиладзе, сконфуженный и бледный, вышел. Адмирал обратился к капитану Стрельникову:
– Проследите, чтобы ротмистр не позабыл о деньгах. Он, кажется, растроился.
Генерал Случевский ясно слышал весь разговор, а потому, извинившись перед дамами, подошел к адмиралу.
– Кажется, случилась какая-то неприятность, ваше превосходительство?
– Пустяки, генерал. Сущий пустяк. – Адмирал, не предлагая Случевскому сесть, встал, что сделали также Муравьев, Стрельников и Суриков.
– Однако сей пустяк вынудил меня как старшего в чине на «Товарпаре» сменить коменданта, назначив на его место капитана Стрельникова. Надеюсь, ваше превосходительство не будет возражать. Мекиладзе, как горец, слишком горяч, но русская кровь тоже не ледяная. Во избежание каких-либо недоразумений я сменил сего горца.
– Вполне с вами согласен, ваше превосходительство. Собственно, я его комендантом не утверждал. Он сам себя назначил, я только не возражал. При посадке на пароход он проявил себя очень хорошо и дисциплинированно, хотя там был невообразимый хаос.
– Благодарю, генерал. Капитан Стрельников, займитесь порядком на пароходе и постарайтесь обойтись без непродуманных приказов.
– Слушаюсь!
– Кроме того, обязательно выясните, у кого еще ротмистром взяты деньги на сохранение и возвращены ли они. А главное, позаботьтесь, чтобы в Тобольске закончилось пребывание Мекиладзе на пароходе. А вы, генерал, простите меня за то, что сделал вас невольным свидетелем неприятного инцидента. Честь имею!
Адмирал, простившись со Случевским за руку, вышел из рубки. Случевский, проводив его до двери, вернулся к дамам и был доволен, что Мекиладзе не будет мозолить ему глаза на пароходе, ибо спутница генерала, балерина, слишком откровенно начинала кокетничать с ротмистром.
Ветер, внезапно изменивший направление, с лихой настойчивостью теребил серую куделю растрепанных туч.
Дождь почти прекратился, но в воздухе все еще стелилась пелена водяной пыли.
Подойдя к устью Тобола, «Товарпар» протяжным гудком приветствовал его слияние с Иртышем.
Любоваться панорамой Тобольска на палубы высыпали все пассажиры, а от этого пароход шел, дав крен на левый борт.
Город появлялся постепенно, как будто давал возможность любопытным, не торопясь, разглядывать свое старинное каменное и деревянное обличие.
Из разрывов в тучах временами на Тобольск низвергались потоки солнечных лучей, а тогда казалось, что с небес падали раструшенные снопы золоченой соломы, возжигая на крестах многочисленных церквей и часовен слепящие вспышки света.
Над городом гудели колокола. Слитная симфония меди звучала торжественно и тревожно.
Внимание пассажиров было приковано к огромному скоплению народа с иконами и хоругвиями и многочисленного духовенства на городском берегу у пристани. Необычайная встреча парохода, естественно, горячо обсуждалась пассажирами.
Капитан в черной парадной форме лично подводил судно к пристани, отдавая четкие приказания матросам.
С берега ясно доносились отрывистые слова диаконской эктиньи и ответное на нее слаженное хоровое пение…
На берегу, по приказу коменданта города, для поднятия патриотического духа населения правящий епископ Тобольский со сводным духовенством служил благодарственный молебен, вознося молитвы за избавление прибывших на пароходе чад Господних, миновавших геенну огненную безбожной власти большевиков.
Религиозный экстаз молебствия с берега уже перекинулся на пароход. Люди на нем, истово осеняя себя крестами, разнобойными голосами пели молитвы.
По трапам толпы пассажиров хлынули на пристань, с нее на берег, давя друг друга, совсем как при посадке на пароход на берегу Тавды.
Солнечный свет, прожигая висевший над толпой молящихся чад ладанного дыма из кадил, копоти от горячих восковых свечей, оживлял на иконах, хоругвиях, крестах и облачении духовенства блеск золота, серебра и самоцветов, создавая огненную гамму из голубых, красных и зеленых бликов.
Адмирал Кокшаров стоял в толпе молящихся, наблюдая за преображением людских лиц, на которых сейчас больше всего было выражений тайных надежд на Божью помощь в том, чем отягчен разум того или иного молившегося на тобольском берегу.
Вслушиваясь в песнопения, адмирал вновь убеждался в силе религиозного дурмана над разумом русского человека, приученного к слепому, безумному повиновению этой силе прошедшими веками укоренившегося в стране православия.
Его внимание совсем неожиданно привлек к себе высокий монах, стоявший возле иконы Богоматери. Всматриваясь в его лицо, адмирал подумал, что где-то его видел. Но где, вспомнить не мог, а потому решил, что просто ему это показалось. Последнее время он часто ловил себя на том, что чужие лица прохожих ему вдруг казались знакомыми, а он напрасно напрягал память, стараясь вспомнить, кто они такие из его давних знакомых.
После окончания молебна адмирал, опускаясь с берега по мосту на пристань, услышал за собой торопливые шаги. Обернувшись, он увидел идущего за ним монаха, стоявшего возле иконы. Адмирал остановился. Монах, не дойдя до него шага, тоже остановился, отвесив поклон, коснувшись рукой земли, произнес глухим шепотом, выдававшим сильное волнение:
– Ваше превосходительство! Если поверю глазам, вы Владимир Петрович Кокшаров.
И только тогда адмирал мгновенно узнал стоявшего перед ним монаха. Узнал в нем капитана первого ранга Дмитрия Скворцова, служившего под его начальством на крейсере «Андрей Первозванный».
Владимир Петрович шагнул к монаху. Протянул к нему руки, готовый назвать его по имени и отчеству, но тот, опередив адмирала, громко и сухо сказал:
– Отныне отец Никон, ваше превосходительство. Вот и дозволил Господь свидеться с вами.
– Да разве вы здесь?
– Смиренно молю Господа в Абалакской обители на послухе. Но ныне, по воле правящего владыки Тобольского, правлю его канцелярией.
Стояли, молча глядя друг на друга. Монах видел перед собой прекрасную старость, адмирал – бравого моряка, хотя лицо стоявшего было исполосовано морщинами пережитого страдания на пути отрешения себя от реального восприятия жизни. Монах спросил:
– В Омск держите путь со всем семейством?
– Только с дочерью, отец Никон. Супругу похоронил.
Монах, перекрестившись, произнес:
– Царство небесное рабе Господней.
Адмирал предложил:
– Может быть, окажете честь навестить меня в каюте? Настеньку мою увидите.
– Благодарствую за честь. Дозвольте здесь поговорить. Опасаюсь, что от соприкосновения с прошедшим разум мой утеряет покой. Дозвольте спросить, ваше превосходительство, надеясь услышать от вас правдивый ответ. Можно ли верить моему личному предчувствию, что вражеская красная сила безбожья и людского озлобления на своих кровных братьев уже осиливает и предрекает недобрый конец нашему вооруженному сопротивлению ее власти?
– На фронтах нас преследуют тяжелые неудачи.
– Не осуждайте меня за любопытство. Нужна мне правда о происходящем, о коем нельзя прочесть в газетах. Вере Христовой не будет места на Сибирской земле, если воинские силы Верховного правителя не спасут ее от вторжения советской власти.
– Мы знаем с вами адмирала Колчака, можем надеяться, что им будет найдено правильное решение для защиты Сибири от большевиков.
– Предчувствуя подтвержденное вами, я приготовил себя принять все грядущие для меня испытания. Я уже уготовил себе жизнь в затворе в дремучих дебрях благословенной Господом сибирской тайги. Но если и там не найду для себя спасения и покоя, то приму положенную мне Господом кончину через самосожжение ради бессмертия загробного бытия. Дозвольте молиться за вас. Молиться в память вашего благоволения ко мне в те давние, мертвые теперь для меня лета.
Глаза адмирала налились слезами, а с его губ невольно сорвалось:
– Дмитрий Всеволодович, голубчик!
Монах быстро перекрестился, как будто оборонясь этим жестом от услышанного своего прошлого мирского имени, умершего в момент пострига в монашество.
– Отец Никон, ваше превосходительство! Христос хранит вас на всем дальнейшем пути вашей жизни.
Монах размашисто осенил трижды адмирала крестом, отвесив низкий поклон, резко повернувшись, пошел на берег. Но шел он медленно, а весь его согбенный облик говорил о том, что ему было тяжело уходить от призраков прошлой жизни, уже вставших перед ним во весь рост после разговора с адмиралом.
Адмирал смотрел в след уходившему. Ему хотелось догнать его, сказать какое-нибудь теплое людское слово, но он не смог сдвинуться с места, ибо его била дрожь.
Память услужливо заставила найти в разуме незабытое, происшедшее тринадцать лет назад. Ушедший моряк-артиллерист поражал своим дарованием. Был женат на очаровательной женщине. Драма их жизни свершилась нежданно. Жена была арестована в Петербурге за участие в революционном подполье. Осуждена на ссылку в Сибирь. Скворцов вышел в отставку, последовал за ней, но по дороге жена внезапно умерла, а он пошел в монастырь.
Отец Никон давно затерялся в толпе на берегу, а адмирал все еще смотрел, надеясь его увидеть. Достав портсигар, адмирал взял из него папиросу, но, не закурив, положил обратно. Придя на пароход, шагая по палубе, адмирал думал о Скворцове, теперь иноке Абалакского монастыря. Думал, что он, не найдя смирения и покоя в вере в Бога, приготовил себя к волчьему лесному житью среди родного народа в своей стране, и все только потому, что оказался не в состоянии понять ни разумом, ни сердцем правды новой жизни русского человека.
И адмирал сознался, что и сам он на склоне лет боится признать такую же правду своей жизни. Но все же осознал, что впереди его ждет жизнь бродяги в чужой стране, конечно, более худшая, чем лесная жизнь инока Никона в родной сибирской тайге…
4
Утром над Тобольском снова стелились низкие дождевые облака, но дождя не было.
Поручик Муравьев и Настенька Кокшарова стояли на палубе в ожидании скорого отхода парохода от пристани Тобольска.
Вчера после молебна они до сумерек бродили по улицам города. Видели дом, где родился композитор Алябьев, прославленный на весь мир певицами исполнением написанного им «Соловья».
Для Настеньки, впервые видевшей сибирский город, все было ново и удивительно. Ее поражали улицы, вместо булыжника устланные деревянными настилами, на которых был совершенно другой стук конских копыт, не похожий на все слышанные прежде. Девушке нравились глухие, басовые голоса тобольских сторожевых псов, гремящих цепями в закрытых дворах. Ее восхищали дома, высокие заборы, окна с затейливой резьбой наличников, створы ворот, обитые медью или железом.
На пристани появилась шумная компания офицеров и штатских мужчин разных ворастов, сопровождая высокую девушку в серой форме сестры милосердия, с черной косынкой на голове, с нашитым красным крестом.
Мужчины, перебивая друг друга, передавали девушке пожелания счастливого пути, но она была нахмурена и, казалось, не слышала всего, что говорилось.
– Вадим Сергеевич, это же княжна. Извините, пойду встречу ее. Она будет довольна и удивлена.
Муравьев тоже узнал княжну, виденную не раз в Екатеринбурге. После ухода Настеньки к Муравьеву подошел седой бородатый старик в форме судебного ведомства.
– Господин поручик, изволите быть знакомы с вошедшей на пароход очаровательной сестрой милосердия?
– Нет.
– Разрешите представиться. Статский советник Зезин.
– Очень приятно, Муравьев.
– Уж не сын ли известного на Урале инженера Муравьева?
– Да.
– Знаю вашего батюшку. Личность незаурядная во всех отношениях. Значит, не знакомы с княжной?
– Мельком встречался с ней в Екатеринбурге. Ирина Певцова?
– Именно! Княжна Ирина Павловна. Обратите внимание, что сказал, не упоминая ее фамилии, но подчеркивая отчество «Павловна». В Санкт-Петербурге ее звали только «княжна Ирина Павловна». В недавнем прошлом фрейлина убиенной в Екатеринбурге последней императрицы из дома Романовых, поэтому и носит черную косынку и знак траура по царской семье. Особа, овеянная легендами своего тайного незаконного рождения, опутанная сплетнями и наговорами завистниц. Красивая молодая женщина, а главное, сказочно богатая.
Красива бестия. Но красота не поражающая, а околдовывающая мужское сознание и мужское начало.
Муравьев после сказанного посмотрел на старика, а тот, засмеявшись добродушно, продолжал:
– Молодой человек, не удивляйтесь. Мой возраст позволяет быть циником в оценке женской красоты. Я смотрю на них, как на кобылиц, заставляющих ржать жеребцов, раздувая ноздри.
Когда смотришь на княжну Певцову, то понимаешь, что в ней нет особенно броской красоты наших русских прославленных красавиц. Но именно в этом и кроется ее особенность русской женщины, в которой зов пола соединен с чистотой одухотворения сердца и разума. Жаль, что вы не знакомы с ней, не могли вблизи видеть ее глаза.
– Вы с ней знакомы?
– Удостоен сего несчастья.
– Почему несчастья?
– В мои годы созерцать ее облик и не иметь возможности согреться возле него – просто кощунство.
– Вы видели ее глаза? Чем же они особенны?
– Они тоже совсем обыкновенные, только в них огонь одухотворения души, сердца и разума не зависим от похоти, воплощенной в любом движении ее тела. Хотя именно ее тело вмещает в себе все необъяснимое ее обаяние как женщины, всю притягательную силу самки, способной покорять, подчинять, покоряться и подчиняться только в порывах физической близости. И если приглядеться к ней, то можно понять, что в ней во всем доминирование пола, а от этого и рождается, распространяясь на мужскую психику, ее внешнее обаяние женщины. Она, конечно, еще довольно молода, но уже знает силу своего доминирования над любым мужским сознанием.
Вам, видимо, поручик, не совсем понятно, почему именно вам говорю об этом?
– Пожалуй, да.
– Говорю об этом только потому, что понять силу ее женского владычества до конца можно только в мои годы, когда сознание привыкает в мысли, что жизнь закончилась, но мужское начало все же живет, но дремлет в ожидании своей последней женщины. И не дай Господь, чтобы ею была похожая чем-либо на княжну Певцову. Прошу извинить за отнятое время. Ваша знакомая с княжной идут сюда. Сейчас вы с ней познакомитесь. Взгляните на пристань, табун обалделых мужиков, пришедших с княжной, не расходится, страшась остаться без ее очарования. Извините за мужское восхищение женщиной.
Настенька и княжна Певцова подошли к Муравьеву.
– Вот, Ариша, это поэт Муравьев.
Княжна протянула поручику руку в черной лайковой перчатке.
– Между прочим, Настенька, понятный мне поэт. Что вам во мне не нравится? – спросила Певцова.
– Почему вы спросили об этом? – растерянно задал вопрос Муравьев.
– Удивленно смотрите на меня, как будто хотите раздеть. Не удивляйтесь сказанному. Устала и зла на мужские взгляды, способные раздевать. Пойдем, Настенька, а то наговорю Муравьеву дерзости. Как всякий поэт, он болезненно самолюбив и обидчив. Или вы исключение?
– Нет, я самолюбив и обидчив.
– Тогда простите мне всю сказанную чепуху. Мы еще поговорим с вами в пути не один раз, но, конечно, о чем-нибудь интересном. Пойдем, Настенька, должна поцеловать твоего отца.
Княжна взяла Настеньку под руку, пошла по палубе, но, сделав несколько шагов, остановилась, обернувшись, увидела, что Муравьев смотрит им вслед, громко засмеялась…
Глава четвертая
1
После Тобольска «Товарпар» бежал по широким просторам Иртыша.
Вода в могучей сибирской реке была мутной, отливая под солнцем рыжеватостью, схожей по цвету с лисьей шерстью.
На берегах редкими стали хвойные породы деревьев, теряясь среди березовых и осиновых рощ. Временами и они исчезали, а тогда неоглядные равнины занимали хлебородные поля и луга.
Резко изменилось на пароходе и поведение пассажиров. Люди меняли обличие и личины. Все присущие им прежде выверты характеров, временно загнанные страхами в пятки, снова в их сознании занимали доминирующее положение, как только они убедились, что все мнимые и реальные опасности, угрожавшие их существованию, бесследно миновали и на просторах Иртыша они могли чувствовать себя в полной безопасности.
Еще так недавно на пути по Тавде и Тоболу скромные люди, щеголявшие простотой обхождения с окружающими, начинали чувствовать себя в привычных рамках выбранного, удобного для их житейского высокомерия, надменности и напыщенности, в зависимости от рангов родовитой знатности, военной и чиновной спеси и размеров богатств.
На пароходе заметно увеличилось количество полковников. Только потому, что мужчины, до сих пор ходившие в пиджачных парах с чужого плеча, добыли из сундуков и чемоданов военные мундиры с вензелями на погонах несуществующих полков русской, царской, армии.
Прапорщики и подпоручики понацепляли на себя адъютантские аксельбанты, хотя их генералов на пароходе не было и в помине.
Особенно бросалась в глаза перемена в отношениях чиновничества, одетого в поношенные мундиры своих упраздненных революцией ведомств. В чиновничестве Российской империи всегда была велика пропасть положения на ступенях служебной лестницы. Каждый вышестоявший считал своим человеческим и служебным долгом принижать достоинство низшего по чину.
Плывшее на пароходе чиновничество, однако, было смиренно и особенно почтительно к особам военным, сознавая, что в настоящее время любой прапорщик мог быть необходим для жизненного благополучия.
Но кто после Тобольска чувствовал себя, как рыба в воде, так это купечество. Оно, вспомнив все родовые каноны гильдийного неравенства, с особой хвастливой радостью вспоминало прошедшие опасности, подстерегавшие их при бегстве из Екатеринбурга на пути по Тавде и Тоболу. Вспоминало и топило пережитые горести за обедами и ужинами в пьяных слезах и песнях, обмениваясь объятиями, заливая щегольские поддевки и сюртуки шампанским, водкой, пятнами от супов, свиных отбивных и шашлыков из жирной баранины.
В надежде на новые прибыли на просторах Сибири под охраной штыков армии Колчака богатеи азартно играли в карты, проигрывая крупные суммы в звонкой золотой монете. Их жены, наряжаясь в шелковые платья, обвешивали себя драгоценностями, а на жирных пальцах любой купчихи горели в кольцах брильянты.
Всех радовало, что на пароходе стало свободней. Часть малоимущих пассажиров в Тобольске сошла на берег, не надеясь в Омске найти для себя покойные углы для продолжения беженской жизни.
Адмирал Кокшаров, освободив каюту капитана, удобно устроился в первом классе.
Но на «Товарпаре» появились и новые пассажиры. Военные в мундирах английской армии, в которые сердобольное Британское королевство, по желанию Черчилля, за русское золото одевало войска сибирского диктатора.
Новые пассажиры вели себя крайне независимо и держались обособленно, являя собой элиту, необходимую для престижа будущей всероссийской власти адмирала Колчака, пока пребывающего с надеждой на освобождение России от большевиков в городе на берегу Иртыша.
Особое и буквально всеобщее внимание привлекла к себе княжна Ирина Певцова. Женщины на пароходе, захлебываясь, передавали о ней всевозможные слухи, выдавая их за были из ее жизни, прекрасно сознавая, что все, что говорилось о княжне, было просто-напросто выдумками, высосанными из пальцев завистливыми или досужими сплетницами.
Жены, заботясь о своем семейном благополучии, всеми доступными для них средствами оберегали своих мужей от частого соприкосновения с опасной чаровницей в серой форме сестры милосердия.
2
Красные лопасти плиц пароходных колес, вспенивая воронками иртышскую воду верста за верстой, приближали «Товарпар» к Омску.
В просторном салоне рубки первого класса, отделанного панелями из мореного дуба и голубого сафьяна с золотым тиснением, от работы машин мелодично звучал перезвон хрустальных подвесок на люстрах.
В обеденное время здесь всегда шумно и многолюдно.
Над головами обедающих в воздухе плавают паутины табачного дыма, а сам он насыщен смешением запахов и ароматов пищи, кофе и духов.
За столом возле рояля сидела компания особо знатных екатеринбургских купцов и промышленников, среди которых выделялся своим барским обликом господин Вишневецкий, известный всему Уралу золотопромышленник, совладелец многих еще перед революцией захиревших заводов.
Компания толстосумов чествовала обедом земляка – протоирея отца Дионисия.
Он появился на «Товарпаре» в Тобольске. И это событие для уральцев было ошеломляющим. Все считали его погибшим, принявшим мученический венец смерти за веру Христову. Причиной этого являлось его таинственное исчезновение с Урала после восстановления в крае власти Советов. Его почитатели тайно правили о нем молебны, но чаще всего служили панихиды как о жертве террора диктатуры рабочего класса.
Его чудесное появление на пароходе было равносильно его воскрешению из мертвых. Знавшие его близко не верили своим глазам, глядя на его дородную холеную фигуру, облаченную в рясу темно-вишневого муарового шелка с золотым наперстным крестом на груди со вставками из крупных рубинов.
Естественно, его засыпали вопросами. Всем было интересно узнать о его жизни вне Урала. Однако отец Дионисий на вопросы земляков, с которыми прежде в родном городе был знаком на короткую ногу, отвечал, обходясь довольно загадочной фразой: «Служу великому Отечеству по воле адмирала Колчака».
Его ответ земляков озадачивал, ибо был мало понятен, но все же достаточно убедителен тем, что в нем упоминались Отечество и адмирал Колчак, а этого было достаточно, чтобы считать отца Дионисия в Омске важной особой.
За обедом разговор все время вращался около основной, волновавшей всех политической темы будущего колчаковской Сибири. Участники разговора все же старались быть осторожными в высказываниях своих мнений. Но по мере того, как осушались графины водки и бутылки коньяка, разговор начал принимать острый накал суждений, а его участники уже не старались срезать в нем острые углы.
Уральские купцы, волей-неволей смирившись с потерей в родном крае большей части своих состояний, старались узнать от отца Дионисия о торговых делах Сибири. Желание их было естественно, а главное, необходимо. Им надлежало быть в курсе дел, чтобы найти на новых местах применение своим способностям с теми ограниченными возможностями, которыми они теперь располагали.
Но священник уходил от четких ответов, отделываясь фразами, в которых давал понять, что как смиренный слуга церкви не имеет никакого понятия о всем происходящем на обширной территории Сибири, подвластной Верховному правителю. Однако он не скрывал, с горечью признавал, что временные военные неудачи на фронтах борьбы с большевиками вносят в темпы государственной жизни Сибири тревожность и опасения. Эти обстоятельства, естественно, причиняют обитателям те или иные неприятности и огорчения и, конечно, не обходят стороной купечество, сословие, от которого зависит обывательское благополучие.
Вишневецкий терпеливо вслушивался в вопросы купцов и в ответы священника. Куря сигару, он недовольно покашливал. Оглядывая всех осовелым взглядом, стряхнув пепел сигары вместо пепельницы в рюмку с коньяком, обратился к отцу Дионисию:
– Досточтимый отче, не пора ли вам прекратить перед нами игру в загадочность? Мы же вас знаем, а вы знаете нас, а потому прошу, отвечайте нам коротко, но понятно на задаваемые вопросы.
– С удовольствием бы сделал это, но как служитель церкви лишен возможности, господин Вишневецкий.
– Так! Лишены возможности из-за незнания или из-за приказания кое-кого держать язык за зубами?
– Повторяю, просто считаю для себя невозможным обсуждать за трапезой дела государственные, не входящие в компетенцию святой церкви.
– Так! – На этот раз с особой интонацией Вишневецкий произнес свое привычное, видимо, необходимое для него слово в любом разговоре и продолжал: – Разрешите со сказанным не согласиться. Всем нам известно, что в церквях Сибири пастыри говорят с мирянами с амвонов обо всем происходящем. И это понятно. Церковь является главным связующим звеном между государственными деятелями и простым народом, модно называемым теперь гражданами.
Вишневецкий, говоря, все время думал, что поп просто по привычке хитрит при купцах, набивая таинственностью себе цену.
– За сказанное в дальнейшем прошу не обижаться. Слушая вас, я пришел к заключению, что вы путаник. Стали таковым, ибо побаиваетесь говорить обо всем происходящем правду, а ведь ее перед нами скрывать грешно.
Вишневецкий хорошо знал Дионисия по Екатеринбургу. Знал, с какой ловкостью он одурачивал купчих, выпрашивая у них деньги на покупку для церквей паникадил, подсвечников и облачений. Знал, что не раз был уличен в том, что большую часть денег оставлял в своих карманах. Но ему купечеством все прощалось, ибо Дионисий умел удачно предсказывать беременным купчихам о рождении у них желанных сыновей и дочерей.
– В таком случае разрешите мне как дворянину ответить землякам на их вопросы?
– Сделайте одолжение! – согласился священник.
– Вы тоже отвечали на их вопросы, но, к сожалению, ребусами, сами не зная, как их правильно разгадывать. Одним словом, говорили, что в Священном Писании явственно прописано о ежели которых и боле никаких.
Вы упорно старались скрыть от нас, в чем главная причина поражений наших армий в боях с большевиками.
– Господин Вишневецкий, не скрывал, а просто ничего об этом не знаю, и Бог мне свидетель, что говорю правду.
– А я вам эту причину сейчас назову. Она скрыта прежде всего в разногласиях, царящих в нашем правительстве. Скрыта в том странном явлении государственной власти, когда во главе штатского Совета министров стоит изумительный по честности своих убеждений адмирал Александр Колчак. Кто он для России? Человек, воспитанный морем. Человек, преданный России. Колчак самый молодой адмирал русского флота. Кто из нас во время войны, такой неудачной для нашего оружия, не восхищался адмиралом до восторгов, когда он своими поистине дерзновенными маневрами миноносцев расставлял заградительные мины, спасая Балтику от вторжения кайзеровского флота? Кто как не Колчак спас от вторжения врага ближние воды к столице империи?
Вишневецкий говорил горячо. На его большом лбу выступали бусины пота, он стирал их салфеткой. Говоря, он внимательно следил за выражением на лицах сидевших за столом. Всматривался в их глаза, желая понять, какое впечатление производят на них его высказывания. Убеждаясь, что подвыпившие купцы его слушают, даже стараются задуматься над высказанным. Только священник, нервничая, опасливо поглядывал по сторонам, ибо уже заметил, что к высказываниям Вишневецкого начинают прислушиваться компании военных за другими столами.
– Адмирала, посвятившего жизнь флоту и морю, ловкие отечественные и заморские политики неожиданно ввергли в пучину своего политического, а порой и авантюристического соперничества разномастных партий.
Как же это им удалось? Удалось! Ибо доверчивый адмирал поверил им на слово, что они хотят с его помощью опаленную огнем, ополоснутую кровью революции Россию вновь сделать могучей и великой, как в былые времена славных царей из дома Романовых. Политики на этом преуспели, добившись для себя благополучия на разбазаривании сибирских богатств, хотя прекрасно осведомлены, что это чуждо адмиралу. Принимая бремя власти над Сибирью после бесславного распада Всероссийского временного правительства, адмирал четко декларировал свое кредо печатным словом, в котором говорилось, дай Бог памяти: «…что не пойду ни по пути реакции, ни по губительному пути партийности. Главной целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками…» Но все же его заставили пойти и по пути реакции, и по пути партийности, а главное, помешали создать желанную ему боеспособную армию. Все предельно ясно, господа.
Вишневецкий, выплеснув из рюмки коньяк с пеплом сигары, налил в нее водку, выпил, ничем не закусив.
– И произошло это потому, что, к сожалению, адмирал не учел основного, а именно, что его деятельность с морских просторов перенесена на сухопутье России, вернее, только на часть ее территории, в которой укоренилась самая закостенелая, веками выпестованная самостийная и темная бытовая трясина, в которой сам черт сломит шею. Одни братья Пепеляевы чего стоят со своими сибирскими амбициями государственных деятелей.
Отец Дионисий, не волнуйтесь, не озирайтесь по сторонам, Вишневецкий за свои слова всегда сумеет ответить. Я не привык молчать и выдавать черное за белое. Мне не по душе окружение адмирала в Омске. Спросите: почему? Отвечу, что для меня Колчак за годы войны стал национальным героем в самый страшный период войны на Черном море.
Группа молодых офицеров, сидевшая за дальним столиком, зааплодировала.
– Слышите, господа? Мое мнение разделяют наши защитники! Своим появлением на просторах Черного моря адмирал снова спас престиж империи, силой флота прекратив хозяйничанье крейсеров «Гебена» и «Бреслау», прекратив их разбойные набеги на черноморское побережье, загнав их в Босфор, заперев неприступность Черного моря, и чем? Снова минными полями.
А теперь, господа, подумайте: разве можно было доверять разум флотоводца интригам всех, кто его окружает? И смею всех вас, дорогие земляки, заверить, что отец Дионисий тоже среди них, хотя и напускает вокруг себя туман о службе Отечеству по воле адмирала.
– Необдуманно и даже крайне рискованно говорите так обо мне, господин Вишневецкий.
– Не сомневаюсь в правдивости моего предчувствия и в Омске окончательно в этом удостоверюсь. Но это для меня не суть важно.
Меня крайне огорчает то обстоятельство, что адмирал, будучи монархистом, находится под влиянием людей иных убеждений и порой ему очень трудно, ох как трудно с их слов разбираться во всем происходящем на фронтах и на территории Сибири.
На флоте ему все верили, по его приказу с готовностью шли на самые фантастические по риску боевые операции и достигали желанного адмиралу успешного результата.
А в Омске все ли ему верят? А он, сталкиваясь с этим неверием, сам порой начинает сомневаться в реальности задуманного. Почему? Только потому, что этого не было в его жизни на море. Там все делали так, как он хотел, никто не решался оспаривать задуманного адмиралом. Здесь тоже как будто, принимая его приказания, не спорят. Он верховная власть. Не спорят, но и не делают так, как хочет адмирал.
И адмирал, конечно, ошибается, не опираясь в своей власти на дворянство.
– Сохранит его Господь от этого! – громко вздохнув, сказал отец Дионисий.
– Не согласны?
– Категорически не согласен, что глава государства должен опираться на дворянство. Не внушает доверие нонешнее дворянство. Вы-то ведь понимаете, что именно ваше сословие слишком постыдно показало себя в дни Февральской революции. А ведь русский народ почитал сие сословие за опору царской власти. Хороша опора, когда дворяне чуть ли не первыми отреклись от клятв верности престолу. Да разве только нонешние дворяне были такими? Чудили свободой еще со времен декабристов. Правду говорю?
– К сожалению, говорите правду.
– Сейчас вспоминать неприятно, что дворяне не делали попыток спасти свергнутого монарха от гибели. Ведь когда он пребывал в Тобольске, это можно было сделать легко, но никто палец о палец не ударил. Предпочли быть в стороне, ибо любая попытка могла стоить жизни, а рисковать ею дворяне не хотели даже ради того, кому клялись по канонам клятв древности.
А вы сами, господин Вишневецкий, чем прославили себя в Екатеринбурге в дни революции? Разве не катались на тройках по городу с красным бантом на бобровой шубе?
– Ездил! Вынужден был быть со всеми, подчиняясь бузумству стихийного народного сумасшествия.
– А когда царское семейство убили, что делали?
– Что можно было делать? Служил тайные панихиды. Но вы не должны забывать, что при большевиках на Урале, скрываясь от Чека, я в тайных местах собирал офицерские отряды, ставшие после чехословацкого мятежа главными офицерскими кадрами в армии адмирала.
– Эту заслугу вашу никто у вас отнять не посмеет. Похвально и ваше мнение об адмирале. Зело похвально и назидательно, ибо правду говорили о том, что не всем адмирал по душе приходится. Скоро в Омске сами во многом убедитесь и оправдаете меня, что страшаюсь от суждений о государственных делах.
Но позвольте заверить, что напрасно считаете, господин Вишневецкий, что адмиралу тяжело нести бремя власти. Он необычайно силен духом. Вспомните, что он ответил тем, кто хотел отнять от него золотое оружие: «Не вы мне его дали от имени Отечества и не вам я его отдам». Бросил кортик в море. Но нашелся матрос, преданный адмиралу, нырнул в Черное море и извлек снова брошенное оружие. Адмирал власти над Сибирью большевикам не уступит. Вот во что все мы должны твердо верить. Наша вера укрепит уверенность адмирала в том, что именно из его рук красным, несмотря на временные победы, вырвать Сибирь не удастся. И да будет так с помощью Господа. Аминь.
Священник перекрестился, а его примеру последовал кое-кто из сидевших за столом…
3
Над Иртышом теплая, безветренная ночь. Звезды по небу рассыпаны то кучками, то вразброд. Каждая со своим светом мерцания.
«Товарпар» бежит в нимбе световых полос от своих огней, отраженных в реке.
На невидимых берегах частые селения со зрачками огней в окнах, с лаем собак. То вдруг понесется по реке песня с плывущих плотов, да такая стройная с мудрыми словами, что, услышав ее, замрешь на месте. Подумаешь, что пропетые в ней слова о любви ты сам когда-то говорил особенно дорогой, любимой, согреваясь теплом ее лучистых глаз…
Над Иртышом звездная июньская ночь.
Для пассажиров «Товарпара» она последняя перед Омском…
В салоне первого класса тесно. Сегодня в нем собрались те, кто хочет запомнить эту ночь хотя бы потому, что за восемь дней пути в людских разумах и сердцах ожили теплые чувства, были сказаны волнующие и нежные слова, иногда даже пустые, но произнесенные вовремя, позволяли чувствовать радость.
Все порой делалось бездумно, без всякого сомнения в правильности содеянного, без угрызения совести, что кто-то обманут в супружеской верности.
Все дозволялось, ибо вокруг в жизни все шло совсем не по тем привычным канонам морали, отмененным семнадцатым годом. Россия стала страной, в которой народ ненавидел, убивал друг друга только потому, что царила Гражданская война с хаосом революционных, партийных течений. Враждовавшие стороны поучали. Белая требовала верить только Колчаку, красная убедительно доказывала, что правду жизни будущей России знает только Ленин, партия большевиков, ее основной костяк рабочий класс.
От всего происходящего терялась не только молодость, терялись люди на грани прожитой жизни. Жизнь вокруг всех шла бросками, прыжками зайцев. Никому не хотелось думать о неизвестном будущем, хотелось жить настоящим, пусть даже коротким часом, ибо жизнь каждого могла оборваться даже сейчас от прилетевшей с берега пули после выстрела неведомого стрелка.
Никто не хотел думать о дозволенном и недозволенном, когда в темноте обнимавший шептал о любви на всю жизнь. Слушательницы от этого шепота вздрагивали, задерживали дыхание, совсем не верили в правдивость сказанного, но губы сливались в поцелуях, в висках стучала кровь, в ушах звенели колокольчики, похожие на писк комара. И забывалось тогда почти все, а главное, что после ночи будет рассвет с раздумьями раскаяния, но и это не было в силах удержать стремление к радости переживаемого порыва чувства, ибо шли ночные часы и до рассвета еще далеко-далеко…
В открытые окна салона доносится на палубы звуки гитары и пение. Жена уральского заводчика поет популярные романсы. У женщины красивое по тембру контральто.
В салоне ее слушают с полуприкрытыми глазами. Вот она запела всегда желанный романс «У камина».
Романс особенно понятен тем, у кого камин жизни уже догорает и последние радости жизни у них согревает уже только нагретая пламенем зола.
По палубам гуляют пожилые люди. Им тоже не спится. Их донимают тревоги, как в Омске наладится жизнь, чтобы кормить семьи, ибо у большинства остатков разных сбережений хватит совсем ненадолго.
Певица щиплет струны семиструнной гитары, чувствуя на себе пристальный зовущий взгляд капитана Стрельцова. Она обрывает пение устало, вкрадчивой походкой идет на палубу под окна кают, в которых нет света, а в темноте замирает в руках Стрельцова, целующего ее шею, лоб, глаза и горячий до сухости полуоткрытый рот с лоскутком влажного языка.
В салоне на диване, поджав под себя ноги, сидела княжна Певцова, обнявшись с Настенькой Кокшаровой. Волосы княжны, как осенняя солома, ниспадали на плечи, похожа она по выражению лица на средневекового пажа, обиженного взбалмошной королевой.
– Где Муравьев, Настя? – спросила Певцова.
– Не знаю. Не видела его весь день.
– Может быть, увлеченный кем-то, шепчется в темном углу.
– Кем увлеченный?
– А! Сразу встревожилась. Почему?
– Разве? Тебе это показалось, Ариша.
– Может быть. Мне, Настя, нравится Муравьев. Он во всем мужчина. Хотела еще в Екатеринбурге познакомиться с ним, так его услали на фронт. Меня его стихи очаровывают. Не то сказала. Они заставляют цепенеть, сознавая свое бессилие перед властью сказанных слов. Пробовала учить его стихи наизусть и не могла выучить. Некоторые строки потрясающи по глубине высказанных мыслей. Он действительно умен, хотя молод.
– Я все его стихи знаю наизусть.
– Тогда понятно, почему встревожилась, когда я упомянула, что поэт кем-то увлечен.
– Я невеста Сурикова. Ты знаешь об этом.
– Знаю. Господи, неужели Суриков не понимает?
– Ариша, прошу тебя даже не думать об этом. Он мучается от сознания своей трагедии, но любит меня.
– А ты любишь его?
– Ариша, прошу!
– Хорошо. Прости, кажется, становлюсь бестактной. Последнее время в моем характере масса перемен. Порой даже боюсь течения мыслей. Мне иногда вдруг хочется кого-то жалеть, грустить, жить чужим страданием. А ведь я решила любить только себя. И только всем позволять себя любить, но не из вежливости к моей туманной знатности и не из-за стремления к моему богатству. Я хочу, чтобы меня любили искренне, думая, что у меня за душой последний пятак. Понимаешь, медный пятак.
К роялю подошел бледнолицый прапорщик в форме каппелевца. Заиграл и запел песенку Вертинского.
Первая была о бале Господнем, потом о безноженке, об юнкерах, посланных на смерть недрожащей рукой, о пальцах, пахнущих ладаном, и наконец, «Где вы теперь, кто вам целует пальцы…».
Прапорщик пел хорошо. У многих повлажнели глаза.
Княжна Певцова встала, подойдя к роялю, погладила голову прапорщика и, сказав: «Спасибо» – вышла из салона.
На палубе много парочек. Певцова обошла палубу кругом, всматриваясь в их лица, надеясь увидеть Муравьева, держащего в объятиях временно полюбившуюся, но его нигде не было.
Певцова в досаде сошла в третий класс, где было душно, пахло людским потом, паром и машинным маслом.
Но и тут не было Муравьева. Певцова снова направилась к лестнице на верхнюю палубу и столкнулась с Муравьевым.
– Добрый вечер, княжна.
– Что с вами, поручик? Уже не вечер, а глухая ночь. Откуда вы появились?
– Из штурвальной рубки, беседовал с дежурным помощником капитана.
– О чем он рассказывал?
– О жизни в Омске. А вы где были?
– Мы с Настей слушали песенки Вертинского.
– Кто пел?
– Симпатичный каппелевец.
– Прапорщик?
– Да.
– Так это Коля Валертинский. Слышавшие настоящего Вертинского находят, что он неплохо подражает ему.
– Я слышала Вертинского, и ему нельзя подражать. Вертинский уникальное явление. Ему помогают петь руки. Но хватит о Вертинском. Представьте, очутилась в третьем классе, ибо искала по всему пароходу.
– Кого, княжна?
– Вас, Муравьев. Мне хотелось побыть с вами.
– Польщен.
– Напрасно сказали это слово. Мне действительно хотелось поговорить с вами, услышав живые, незатасканные слова. Муравьев, неужели вы нечуткий? Будем здесь стоять у всех на виду, чтобы на нас пялили глаза и гадали, о чем мы с вами разговариваем? А поутру бабы будут представлять, как вы меня… Идемте на палубу.
Поднявшись по лестнице на палубу, Певцова и Муравьев остановились на корме. Княжна спросила:
– Почему, несмотря на все мои попытки познакомиться с вами в Екатеринбурге, вы не хотели этого знакомства?
– Боялся затеряться в толпе поклонников.
– Не надеялись быть среди них первым?
– Может быть, и поэтому.
– Лжете, Муравьев, ибо слишком самоуверенны. Сужу по тому, как держите себя в обществе.
– Я не умею, княжна, держать себя в обществе.
– Муравьев, не кокетничайте. А лучше признайтесь, что вам не нравится, что я всегда в табуне мужиков?
– Мне безразлично.
– И я безразлична?
– Не думал об этом.
– Подумайте. Прошу. Мне хочется, чтобы обо мне думал только один человек. Мужское похотливое стадо мне противно.
– Надеетесь, что поверю сказанному?
– Надеюсь. Муравьев, кроме тела у меня в нем есть душа. А у нее естественное желание мужской ответной теплоты.
– Но ее у вас избыток. Ведь у окружающих вас поклонников тоже есть души.
– У меня избыток жадных, голодных мужских глаз. Даже вы при знакомстве со мной в Тобольске…
– Вам показалось, княжна.
– Сказали правду? Перекреститесь.
– Извольте.
– Вот я и счастлива. Мне ведь надо счастья всего чуть-чуть.
Из пароходной трубы сыпались искры и, соприкасаясь с водой, гасли.
– Муравьев, дайте слово бывать у меня в Омске.
– Я не уверен, что задержусь в нем.
– Поймите, что вы нужны мне хотя бы потому, что от вас можно услышать слова, способные заставить любить людей. Хотя они этого не заслуживают, ибо отличаются от животных только тем, что бродят на двух ногах.
Певцова неожиданно зажала в ладонях голову Муравьева и поцеловала.
– Зачем, княжна?
– Чтобы, злясь на поцелуй, все же помнили обо мне. Теперь пойдемте в салон. Там Настя. Вы должны ей показаться. Поддержите меня, Муравьев! Кружится голова!
Муравьев обнял княжну, а она громко рассмеялась.
– Пошутила! Голова не кружилась! Просто проверила, умеете ли вы обнимать женщину. Пойдемте.
Когда дошли до открытой двери в ярко освещенный салон, остановились.
Настенька Кокшарова, аккомпонируя себе на рояле, читала стихи Муравьева:
- Рубили старый сад, и падали со стоном
- Стволы вишневые, и сыпались цветы.
- Стучали топоры и эхо гулким звоном
- Будило по утрам уснувшие кусты.
- Уснул наш уголок, печален и безлюден,
- Пустели старые знакомые места.
- Ушли от нас Лаврецкий, Райский, Рудин,
- И эти девушки «Дворянского гнезда»…
Над Иртышом плыла темнота теплой, безветренной ночи.
Над сибирской рекой россыпь летних звезд и искры в дыму из трубы парохода, бегущего в Омск…
Глава пятая
1
В Омске на обрывистом берегу Иртыша березовая роща с трех сторон обступала приземистый двухэтажный каменный дом, принадлежавший мукомолу и пароходчику Родиону Федосеичу Кошечкину.
Дом в городе считался старинным. По преданию, был сложен в 1718 году, то есть через два года после основания города по указу Петра Первого.
Кладку дома вели под приглядом флотского капитана Егора Кошечкина, присланного царем в сибирскую сторону. В молодые годы Егор Кошечкин вместе с царем побывал в Голландии и стал мастером кораблестроения.
Отсылая Егора Кошечкина в сибирский край, царь напутствовал его строго и кратко, хотя с лукавой улыбкой при суровом взгляде.
За два прошедших столетия в роду Кошечкиных царские слова напутствия, вышитые на шелку в золоченой раме, до сих пор висят в парадном зале второго этажа и гласят следующее: «Поучай Иртыш пребывать по трудолюбию всем Российским рекам подстать».
Егор Кошечкин, выполняя наказ царя, со всеми горожанами обживал реку не без напастей, детей своих научил шагать по ее берегам поступью без страха, но все же для покоя осеняя себя крестным знамением.
Нынешний хозяин дома, потомок рода Кошечкиных, Родион, был, по свидетельству омичей, обликом точно срисованным со своего родителя, Федоса, и только, пожалуй, бородой был чуть-чуть богаче отца, и отливали волосы в ней в половине седьмого десятка старинным серебром.
Родион Кошечкин богат. Владел в городе доходными домами. По сибирским городам стояли его пароходы и водяные мельницы. Держал в своих руках вожжи торговли сибирским хлебом, а воды Иртыша во всех направлениях вспенивали колеса его буксирных пароходов, чаливших за собой баржи с ценными грузами.
В городе Родион был личностью уважаемой, хотя от всего политического старался быть в стороне, ссылаясь на занятость торговыми делами.
Революция и Гражданская война кровно задели Кошечкина. После Октября семнадцатого года пароходы и мельницы были конфискованы советской властью. После чешского мятежа и освобождения Сибири от большевиков мельницы и часть пароходов опять были в его руках, а пароходы, взятые войсками Колчака, были военизированы и хранили власть сибирского правительства на Иртыше.
Не изменяя своей привычке, Кошечкин и при колчаковской власти был в стороне от политики, хотя щедро жертвовал деньги на нужды правительства, понимая, что власть Колчака охраняла его от полного лишения своего достояния.
У отца Родион был единственным сыном. Женатый на дочери купца, рыбника, народившей ему пятерых дочерей и одного сына.
Детям Родион дал хорошее образование. Трех дочерей повыдавал замуж в сибирские города Новониколаевск, Красноярск и Иркутск, а две младшие были пока дома. Сын Никанор помогал отцу во всех делах.
По наказу мужа жена Клавдия Степановна, женщина воскового характера и богомольная, в оба глаза глядела, чтобы возле младших дочерей на правах женихов не крутились в доме офицеры, ибо к ним и в царское время Родион уважения не испытывал.
Жизнь в доме Кошечкиных шла хлебосольно, мирно и пристойно. Но совсем недавно в доме появились новые люди. Семья адмирала Кокшарова, прибывшая в Омск на «Товарпаре».
Все произошло случайно, и, не окажись этой случайности, кто знает, как бы устроилась жизнь адмирала в Омске, до отказа переполненного беженцами.
А случилось вот что. В момент прибытия «Товарпара» к омской пристани Никанор Кошечкин оказался на пристани. Он узнал среди пассажиров адмирала Кокшарова, ибо, отбывая воинскую повинность, служил матросом на Балтийском флоте на миноносце под командой капитана первого ранга Кокшарова.
Произошла их трогательная встреча, и адмирал с дочерью и мичманом Суриковым оказались в гостеприимной семье.
Сведя знакомство с Родионом Федосеевичем, Кокшаров быстро с ним сдружился и от него постепенно узнал о становлении в Сибири с помощью чехов и белых власти адмирала Колчака.
Родион Кошечкин рассказчиком был хорошим. В его памяти хранились мелочи всего происшедшего в Омске после революции семнадцатого года.
Кокшаров узнал подробности переезда в Омск Уфимской директории во главе с Авксентьевым. Назначение адмирала Колчака военным и морским министром директории. Через две недели пребывания ее в Омске ее заправилы были арестованы, а горожане удостоились прочтения правительственных афиш, расклеенных по городу, что всю полноту власти после директории на территории Сибири принял на себя адмирал Александр Колчак.
В доме Кошечкиных Кокшаров ежедневно знал все городские новости, а сам имел возможность наблюдать хаотично-безалаберную жизнь Омска.
Улицы города кишели военными, особенно офицерами в разных чинах, перемешиваясь с обывателями и беженцами, с солдатами чешского легиона, чинами французской, английской, американской и японской миссий.
Город, население которого до революции не превышало ста тысяч, теперь был настолько переполнен, что численность его населения уже превышала полумиллион.
Казалось, Омск, став столицей колчаковской Сибири, расположенный на судоходной реке, узел Великого сибирского железнодорожного пути в крае, благополучном по сытости, должен был собравшихся в нем беженцев располагать к желанию отыскать оседлый покой их тревожной жизни, но в городе этого не было. Бросалась в глаза резкая неприязнь старожил к пришельцам, а среди беженцев недоброжелательность их состоятельной части к тем, кто был крайне стеснен в средствах. Все вновь жили во власти подозрительности. Всех пугала разнобойность мечтаний о будущей судьбе России. Очень мало кто искренне верил, что на фронтах произойдет перелом в военных успехах и войска Колчака обретут вновь способность наступать, отвоевывая у большевиков отданные им города.
Свивали гнезда всевозможные землячества, враждовавшие друг с другом. Разумы охватывал мистицизм, выливавшийся в увлечение спиритическими сеансами, а среди офицерства и обеспеченной молодежи росла тяга к кокаину и другим наркотикам.
Омск снова, как и Екатеринбург в последний период, жил настоящим днем. Люди переставали верить в имена своих недавних военных и политических кумиров.
О России открыто говорили как о потерянной для них стране, в которой для них скоро не будет места. Где и в какой стране они смогут отыскать для себя место для жизни, никто не знал, не мог знать, понимая, что нигде не будет так хорошо, как в своем Отечестве, которого они лишатся благодаря непониманию происходящих в нем перемен в жизни народа, в жизни простого народа: рабочих, мастеровых, крестьян, о которых сбежавшиеся в Омск беженцы раньше мало думали и добрыми словами вспоминали только тогда, когда этот народ необходимо было наряжать в солдатские шинели, совать в руки винтовки и гнать на фронт для защиты страны во имя Веры, царя и Отечества, для благополучия дворянства и купечества, награждая выживавших медалями и крестами, а павших смертью героев земляными холмиками, которые вешние воды выравнивали на земле.
Кокшаров видел в Омске коренных сибиряков. Во всех взглядах, с которыми встречались его глаза, он не находил сочувствия ко всем, кто без приглашения переполнил город. Сибирякам было безразлично чужое горе бездомных бродяг. С появлением чужаков сибиряки осознавали, что подобная участь может постигнуть и их, а все сытое сибирское благополучие для них может также рухнуть и им придется покинуть родные места.
Уже знакомый Кокшарову страх ютился в сознании каждого, кто читал омские газеты, ожидая несбыточных побед колчаковского воинства. Но вычитывал туманные объяснения причин отступления по стратегическим соображениям. Читая, не находил для себя в этих объяснениях утешения, а потому старался заглушить в себе отчаяние, если позволяли средства, водкой, а если таковых не было, то молитвами.
Церкви города, в которых служили беженцы – архиереи, были всегда переполнены молящимися всех возрастов. Все ждали полного утешения в молитвах. Все, обливаясь слезами, молили своих угодников о спасении. Слушали проповеди священников о скором свершении желанного чуда гибели большевиков. Все всенародно пели в церквах знакомые молитвы, воскрешая мистическую историю православия.
Все ждали чуда повторения в Сибири знамения дивного града Китежа, но знамение не осуществлялось, но зато город наводняли мрачные слухи, что Колчак скоро скроется, что его место займут генералы, что формируемые профессором Болдыревым крестоносцы принесут на фронт ожидаемую победу.
С каждым днем увеличивалась в городе ненависть к иностранцам, втянутым в Гражданскую войну. Ненавидели чехов за то, что они не хотели больше воевать плечом к плечу с армиями Колчака. Ненавидели всех союзников, приславших свои воинские подразделения для самозащиты от тех, кому должны были помогать. Высмеивали особенно едко англичан, приславших свое обмундирование для белых армий, благодаря чему даже конвой Колчака щеголял в мундирах, на пуговицах которых были британские львы, а не привычные для русских двуглавые орлы.
Кокшаров вскоре после появления в Омске несколько раз пытался добиться свидания с Колчаком, но безрезультатно, хотя дважды передавал на его имя письма. И в конце концов понял, почему его постигала неудача, когда узнал, что генерал Случевский, попутчик по «Товарпару», получил в Омске видную должность в Осведверхе при штабе Колчака.
Поражала Кокшарова малочисленность в Омске морских офицеров, а среди беженцев редко приходилось встречать петроградцев, ибо, видимо, большинство из них оказались на юге России или перебрались во Францию и Сербию.
Родион Кошечкин старательно посвящал Кокшарова во всю трясину политических дрязг. В Омске плели интриги с иностранцами и казачеством эсеры, монархисты и просто политические махинаторы без всяких идей, но ловко греющие руки возле тех или иных политических группировок.
Кокшаров уже знал о непопулярности Колчака среди коренного населения Сибири. Эту непопулярность создавали ему особенно усердно братья Пепеляевы, не желавшие расстаться с заветной мечтой стать законными хозяевами Сибири.
Кокшаров, бывая в городе, читал на тумбах и заборах среди театральных и цирковых афиш агитационные плакаты против советской власти, особенно едко высмеивающие главковерха Троцкого, и часто слышал от знакомых сплетни политические и обывательские, связанные с именем Колчака.
Особенно популярна была сплетня о купце Жернакове, в доме которого была личная резиденция Верховного правителя Сибири.
Рассказывали, что купец, продавший дом правительству, не переставал уверять, что расстаться с домом его заставило божественное видение. Будто бы явилась ему во сне Богородица и, благословив его на долгую жизнь, повелела верить, что именно в его жилье и явится исстрадавшемуся под игом большевиков русскому народу чудо спасения России от безбожной антихристовой власти.
Молва о небесном знамении купцу бродила по городу, все время приукрашаясь подробностями беседы купца с Богородицей. Молва лезла в уши, застревая в разных по развитию людских рассудках, но все чаще и чаще вызывала пересуды о том, что у купца просто не все дома, что он просто церковная кликуша, а главное, рождала насмешки в адрес Колчака, что в благословленном доме адмирал обитает почти год, а чуда спасения России явить не может.
2
В березовой роще Кошечкиных беседка-ротонда стояла на маковке холма. Вели к ней выложенные из кирпича пятьдесят ступенек. Подошву холма окружали березы, а несколько особо плакучих укрывали своими кронами беседку.
Стоял август.
В беседке в лучах заходящего солнца в плетеном кресле сидел адмирал Кокшаров и любовался игрой солнечных бликов в водах Иртыша.
На город с заречной стороны наплывали низко висящие густые облака, похожие по цвету на дым, а потому казалось, что заречная степная даль горела.
Внимание Кокшарова привлек донесшийся кашель. Он встал, увидев шедшего к беседке Родиона Кошечкина.
Старик шел босой. На нем была холщовая рубаха, расшитая по вороту, подолу и обшлагам рукавов замысловатым рисунком из двух шелковых ниток, синих и черных.
Поднявшись в беседку и увидев адмирала, старик довольно заулыбался и сел в кресло.
– Вот ведь как ноне. Не поверишь, задохся сейчас на лесенке, а еще по весне одолевал ее без одышки. Выходит, сдал за лето. Прости, что пришел босой. На обеих ногах мозоли огнем горят.
Внимательно осмотрев Кокшарова, Кошечкин, сокрушенно покачав головой, причмокивая, заговорил:
– Ты, ваше превосходительство, седни на лик хмуроват. А ведь я к тебе спешил с новостью.
– Сказывайте.
Кокшаров всегда с удовольствием созерцал могучее тело старика. Весь Кошечкин походил на скульптуру, грубо вытесанную из гранита. Скульптор, выявляя характер своего произведения, не старался в оттачивании ее деталей, но на лице чеканность линий была отшлифована до предела. Крупное лицо с широким лбом. Мясистый нос с крутой горбинкой, а потому лицо в профиль походило на свирепого барана. Упрямый квадратный подбородок под нижней губой чисто выбрит, и его с шеи охватывала борода, вытягиваясь клином до половины груди.
– Новость ноне у меня, Владимир Петрович, для нестойкого по нервной части человека, прямо скажу, потогонная. Для нашего правителя эсеришками, а может, какой другой сволочью опять политическая закавыка излажена.
– Именно?
– Ты меня, сделай милость, не торопи. Поэтому должен поставить тебя в известность с точностью, кою мне подсказал мой разум. Ведь у меня какой в жизни на этот счет порядок укоренился. Услышу какую новость либо сплетку и, сохранив в памяти, полегоньку на свой манер ее обдумываю.
Услышал я седни на пристани от пароходчика Ивана Корнилова следующее. Будто в забайкальской Чите объявился новоявленный атаман Семенов. По чину будто только есаулишко, но с превеликой амбицией. Собрал возле себя подстать офицерскую бражку, заручился поддержкой япошек и объявил себя главой всего Забайкалья с заявлением, что не признает над собой власти сибирского правительства Колчака.
– Не может быть!
– Ноне все может! Новость эту Корнилов узнал от министра Михайлова.
– Это ужасно. Особенно когда на фронте неудача за неудачей.
– Да и без фронтовых неудач это нехорошо. Урон единству власти. Но подумав на свой манер, Владимир Петрович, Кошечкин Родион не шибко огорчился. А почему не огорчился? Сейчас все опять без спешки растолкую, а после спрошу тебя, так это али не так.
Этот атаман Семенов, видать, мужик с царьком в голове. Знает он, что у Колчака золота избыток и за свое непризнание его власти можно кое-что выторговать. Одним словом, по-моему, так рассуждает. Все возле русского золота руки греют, так почему его казачьим ручкам оставаться не согретыми. Как думаете, Владимир Петрович, есть резонный смысл в моей догадке?
– Но это же подлость?
– На вот тебе. Да все, милок, в наши дни в Омске и в Сибири на подлости зиждется. Ты думаешь, Родион Кошечкин не подличает? Подличаю. И знаешь на чем?
– Да будет вам.
– Нет, ты послушай – и тогда согласишься, что подличаю я, беря пример с окружающих. В чем моя подлость? В том, что на наши омские колчаковские денежки, именуемые в народе «коровьими языками», да и на золотишко скупаю у беженцев брильянты. А почему? Потому золото тяжелое, когда его много, а брильянты прятать легче. Зачем, думаешь, сына Никанора в Харбин услал? Повез он туда камешки да в надежные заграничные банки положит на сохранение, чтобы моей старухе и девкам с голоду не помереть, когда из родимого Омска придется пятками сверкать. Я, Владимир Петрович, в святоши не выряжаюсь. Во мне все купеческое накрепко угнездилось. Правда, скупая у людей камешки, в цене их не обижаю. Плачу честно. Но все одно грешу перед Господом, пользуясь людским несчастьем. Но на этот счет у меня с Николой Угодником рука. Освещаю его лики на иконах в церквах не копеечными восковыми свечками. Кажись, об этом понятно сказал?
Теперь сызнова возьмусь за подлость атамана Семенова. Хотя он, не признавая Колчака за власть, подлостью это не считает. И правильно рассуждает: об захвате власти в Чите. Потому знает, что братишки славянские чехи в чужой стране захватывали власть. Захватывали. Ихний вояка одноглазый Ян Сыровой был главой Уфы? Был. Гайда генерал аж до русской службы добрался. Директория была? Эсер Чернов рычал на Урале свои заповеди. Колчак воцарился. Так почему ему, есаулу Семенову, не потянуть ручку к власти возле золота? А ведь его, ваше превосходительство, не пуды какие, а десятки товарных вагонов. Я это золото удостоился повидать. Золотой запас всей бывшей Российской империи. Сколько же его, Господи.
– Надеюсь, Верховный может легко подавить семеновское самоуправство в Чите?
– Может, но сдается мне, не захочет. Во-первых, зачем ему в своем и без того неспокойном тылу недовольство забайкальского казачества? Во-вторых, какой ему смысл портить отношения с японцами? А вдруг придется… Сохрани Господи от такой напасти. Поняли, о чем подумал сейчас? Ведь случись что, все мое достояние, нажитое родом с благословения царем Петром, большевикам достанется. Они обращаться с купеческим добром умеют. Ихнюю грамотность в сем деле я уже испытал. Хотя тогда обходились со мной по-хорошему. Но теперь все будет по-иному, потому дознаются, да уже поди и знают, как я белую армию хлебушком подкармливаю.
Так и сужу о Семенове, что выманит он за свое самоуправство золотишко, ибо мое предчувствие подтверждает своими делами сам адмирал Колчак.
– Какими делами?
– Отдал Колчак вчерась приказ произвести Семенова в генералы.
– Ерунда.
– И вовсе не ерунда. Понимаю! Считаете такое возведение в высокий чин незаконным?
– Безусловно.
– Адмирал Колчак взял власть от директории, будучи в чине вице-адмирала. А его же правительство сразу произвело его в полные адмиралы при трех черных орлах на погонах.
Неправильно! Незаконно! Но времена-то какие? Посему такие и порядки.
Атаман Семенов, став генералом, начнет водить с Омском дружбу, а там, глядишь, с помощью Ваньки Михайлова позолотит себе ручку, да и все, кто возле него, не останутся в накладе.
– Чем больше слышу о министре финансов Михайлове, тем все больше убеждаюсь, что это чрезвычайно черная лошадка.
– Личность крапленая. Народ прозвища у нас в Сибири дает меткие. У него оно Ванька-Каин. Но если поглядишь на него, то прямо симпатией к нему проникнешься. Уж больно по обличию приятный из себя господинчик. Держит себя скромно. Но скромность его до ужасти обманчива. В его скромности и таится та сила, коей свои министерствие дела в правительстве проворачивает, умея всем и вся угождать. Самородок, но со стезей жулика.
Итак, участь Семенова перед тобой, Владимир Петрович, Кошечкин определил. Станем ждать, как на самом деле все обернется. А теперь о другом речь.
Накажи дочке да и сам приглядывай, чтобы мичман Суриков в ночное время по набережной Иртыша возле рощи не прогуливался.
– Разве он гуляет?
– Обязательно гуляет. Разве можно, да еще слепому, в такое тугое время. Почему речь про это завел? Пошаливают в городе плохие людишки. Убийствами офицеров балуются, то ли большевички в отместку за недавние расстрелы рабочих, то ли просто варнаки, у которых за душой ничего святого.
– Спасибо, Родион Федосеевич. Неужели Настенька знает о прогулках жениха и позволяет ему это?
– А может, и не знает. Только упреждение мое сурьезно…
3
По четвергам в доме Кошечкиных принимали гостей. Очередной прием был особенно многолюдным.
Хозяйкой на приемах была дочь Калерия, окончившая Московскую консерваторию по классу рояля за год до революции.
Причиной, вызвавшей наплыв гостей, послужила певица Мария Каринская, а главным образом – обещание княжны Ирины Певцовой читать новую поэму Александра Блока. Поэма в рукописных списках появилась в Омске недавно, найденная на фронте каппелевским офицером, приехавшим в город лечиться от ранения.
В этот четверг среди гостей, состоявших из представителей купечества, промышленников и интеллигенции, были учащиеся. Младшая дочь хозяев Руфина – гимназистка восьмого класса. Зная, что княжна будет читать поэму Блока, она позвала подруг. В Омске о поэме ходило много разноречивых споров. Монархические круги и духовенство настаивали на объявлении поэмы не подлежащей гласности…
Парадный зал в доме Кошечкина был обставлен мебелью николаевских лет и благодаря обилию на ней позолоты поражал крикливой роскошью.
Белый рояль стоял на шкуре белого медведя, а над ним, на стене, над камином в тяжелой позолоченной раме висел портрет Петра Первого.
Зал пока пуст. Из него по обе его стороны было шесть дверей в другие покои, которые после возвращения в родительский дом из Москвы Калерии назывались гостиными по цвету в них обоев.
Сегодня в красной гостиной собралось многолюдное дамское общество. Гостьи, хвастаясь друг перед другом нарядами, были одеты со вкусом, а потому среди них хозяйка дома, все еще миловидная старуха, Клавдия Степановна, одетая в черное муарового шелка платье, походила на монахиню. На ее указательном пальце левой руки искрился в кольце большой брильянт, вызывавший всегда и у всех завистливое восхищение.
Седая дама, в платье с брюссельскими голубыми кружевами, Глафира Топоркова, жена казачьего полковника и сестра атамана Анненкова, полушепотом передавала свежий скандальный слушок об известной певице Каринской. Рассказывала она с удовольствием, а слушательницы, удивляясь, издавали привычные в таких случаях восклицания.
Наконец госпожа Кромкина, молодая брюнетка с красивыми линиями рта, категорично произнесла:
– Это просто немыслимо. Просто плохая и злая сплетня завистниц Каринской.
– А если сущая правда? – с удивлением на грани возмущения спросила Топоркова.
– Наш адмирал слишком предан госпоже Тимиревой.
– Но, голубушка, все же не забывайте, что он мужчина. У Каринской есть чем остановить на себе внимание.
– Что в ней особенного?
Топоркова, только что передавшая сплетню о якобы интимных отношениях Каринской с Колчаком, не спуская с Кромкиной холодного взгляда, тотчас ответила на вопрос:
– Если хотите, Каринская прелестна своей женственностью. В ней есть та изюминка, которая способна остановить на себе любое мужское внимание.
– Может быть, не слишком требовательное мужское внимание?
– Вы не правы, голубушка. – Топоркова с удовольствием бы сказала Кромкиной что-нибудь для нее обидное, но, к сожалению, была безоружна: собеседница – обворожительная и изящная женщина.
– Ну а что дальше? – задала вопрос Топорковой слушательница, по-купечески крикливо одетая.
– Говорят, – ответила Топоркова, обводя пытливых дам прищуренным взглядом, и, перейдя на шепот, продолжила: – Говорят также, что вот-вот по министерству, в котором служит супруг Каринской, будет отдан приказ о производстве его в генералы.
– И только-то?
– Вам этого мало?
– Я ожидала, госпожа Топоркова, узнать от вас подробности необычного романа.
– Господь с вами! – делано ужаснулась Топоркова. – Кто же осмелится?
– Но кто-то все же осмелился пустить эту грязную сплетню. А что, если она дойдет, – спросила Кромкина, почувствовав, что интерес дам переходит на ее сторону.
– Дойдет до адмирала? – уже по-настоящему испуганно спросила Топоркова.
– Нет, хотя бы до Анны Васильевны Тимиревой. Бедняжка. Из-за нашей бабьей зависти один Бог знает, что она переносит в Омске.
– Что именно переносит?
– Оскорбления.
– Но она же на самом деле всего-навсего адмиральская любовница, и не больше. Ведь у нашего адмирала есть законная жена и сын. Их разлучила революция. Семья Колчака в Совдепии.
– Не находите ли вы, госпожа Топоркова, что из-за сплетен в Омске становится страшно жить?
– Вы правы, – согласилась Топоркова. – Нынче такие времена, когда любая красивая женщина может стать мишенью для сплетен.
– Неужели вы, госпожа Топоркова, действительно верите в возможность подобного?
– А почему бы нет? Повторяю, наш адмирал – мужчина, а они все в любом положении, в любых званиях остаются мужчинами, способными на интрижки. А главное, я знаю Каринскую. Она, несомненно, хорошая певица, но и карьеристка.
Кромкина порывисто встала, прошлась по гостиной, достала из редикюля зеленый флакончик и, открыв его, понюхала душистую соль.
– Даже голова сразу заболела.
– Но надеюсь, голубушка, вы, рассказывая, не будете никому говорить, что слышали новость именно от меня, – попросила Топоркова.
Кромкина повернулась к сплетнице, но не успела ничего сказать, так как в дверях появились хозяйская дочь Калерия и певица Каринская.
Улыбаясь, Каринская оглядела дам, заметив растерянное выражение на их лицах, и, засмеявшись, обратилась к спутнице:
– Каля, мы, кажется, помешали интересной беседе.
– Вы правы, – поспешно произнесла Топоркова. – Мы только что о вас говорили.
– Надеюсь, не ругали?
– Мария Александровна, голубушка наша драгоценная, да за что же ругать вас? Вы всем нам доставляете своим пением такое удовольствие.
Каринская, не слушая Топоркову, расцеловалась с Клавдией Степановной.
– Рада, дорогая хозяюшка, что вижу вас во здравии. Надеюсь, ни на что не жалуетесь?
– Да жалуйся не жалуйся, Мария Александровна, все равно старческие немочи не оставят в покое. Давненько у нас не были. Не скрою, даже соскучилась по вашему пению. Сегодня, надеюсь, побалуете?
– Обязательно. Спою романс Корнилова «Спи моя девочка».
Каринская, лукаво поглядывая на дам, спросила:
– А все-таки что говорили обо мне? Лица у вас у всех были, как у заговорщиков. Неужели уже слышали про меня новую сплетню?
– Какую? – спросили хором дамы.
– Какая-то дрянь нашего пола пустила слушок, что я привлекла к себе внимание.
Топоркова горячо перебила Каринскую:
– Голубушка, умоляю, не продолжайте! Мы не поклонницы сплетен, особенно о вас. Кто поверит какой угодно сплетне?
– Хорошо. Пусть будет по-вашему. Но если услышите, все же знайте, что это клевета на человека, которого я боготворю.
Каринская села в кресло, откинувшись к спинке. Певица в темно-синем платье, сильно декольтированном. Ее красивая шея обвита широкой бархоткой с бликом броши из сапфиров.
– Каля, поэт Муравьев будет?
– Трудно сказать, Мария Александровна. Я просила Настеньку Кокшарову пригласить его. Кажется, обещал. Но, как все поэты, он непостоянен, а теперь особенно, ибо буквально купается в славе.
– На днях слышала, как он читал стихи в офицерском собрании, и буквально была очарована им.
– Но сегодня у нас обязательно будет княжна Певцова.
– Тогда мы пропали. Княжна заставит мужчин забыть о нас, многогрешных. Всегда ею любуюсь. Вся женская греховность воплощена в ее облике.
– Находите княжну такой красивой? – спросила с усмешкой Топоркова.
– Простите. Считайте, что мы не слышали вашего кощунственного вопроса.
– Ей-богу, Мария Александровна, спросила вас без тайной мысли, ибо не поклонница греховности в женщине.
– Глафира, перестаньте оригинальничать. Ну кто вам поверит, что живете без мыслей о своей греховности. Все мы, женщины, лишь этим и живем, только, к сожалению, не все из нас умеют сохранять в наших телесах эту желанную бабью греховность.
Смотрите на меня. Разве я не сама виновата, что позволила себе потерять греховность, обзаведясь в неположенных местах жирком. А княжна Ирина – прелесть. Сама женщина, а глядя на нее, холодею от удовольствия, когда представляю…
Каринская, махнув рукой, засмеявшись, замолчала.
– Что представляете, Мария Александровна?
– Будто не знаете, Глафира, о чем я сейчас думала.
– О чем, Мария Александровна?
– Хотя бы о том, как княжна танцует танец Соломеи.
– Вы видели?
– Да. Ишь, как у вас у всех глазки грешком заблестели. У вас, Глафира, особенно, хотя и считаете себя женщиной без греховности.
– Это что же за танец такой? – спросила Клавдия Степановна.
– О нем трудно рассказать. Его надо видеть.
– А он пристойный?
– Грешный, Клавдия Степановна. У вас в зеленой гостиной висит копия с картины Семирадского «Танец невольницы».
– Так на картине она совсем нагишом. Неужели княжна?
– Представьте, Клавдия Степановна.
– Господи! Да что же ноне даже с такими знатными девицами приключается. Калерия, сходи узнай, как обстоят дела на кухне.
– Дочь ваша, Клавдия Степановна, вместе со мной видела танец княжны.
От удивления старуха Кошечкина перекрестилась.
– Да разве дозволительно девушке на такое глядеть?
– Даже обязательно. Дочь ваша – артистка.
– Да музыкантша она.
– Артистка. А потому должна смотреть на любую красоту, даже в облике обнаженной женщины.
– Ох, Мария Александровна, простите меня, старуху, за правду, кою сейчас вам выскажу. Певица вы просто сверхзамечательная, но женщина, по греховным рассуждениям, просто несусветная охальница.
– Ничего не поделаешь, если себя такой воспитала, отбившись от материнских рук. Со мной судьба не больно цацкалась, на подзатыльники не скупилась, вот и стала Каринская грех со святостью путать.
– Да будет вам на себя напраслину наговаривать. Может, и впрямь надо на все глядеть, а запоминать только нужное…
– Вот ваша Калерия так и делает. С моей помощью на все смотрит, а запоминает только нужное. Но танец княжны нельзя не запомнить.
– Где же она его танцует? – спросила Топоркова.
– А этого ни от меня, ни от Калерии не узнаете даже под пытками. Давайте лучше попросим Калю «угостить» нас музыкой Чайковского.
– Именно Чайковского?
– Да, да, Каля. Его «Временами года», потому что в вашем исполнении это шедеврально.
– Воля гостей – закон. Пойдемте в зал…
В «табашной» гостиной со стенами вишневых обоев с золотыми брызгами удобные мягкие кресла из синего сафьяна, в которых приятно утонуть тяжестью своего тела. Расставлены они полукругом около камина, на котором стоит бронзовый бюст Петра Первого, отлитый по заказу хозяина со скульптуры Антокольского.
Окна гостиной в красочных витражах на библейские темы. Привезла их Калерия из Италии, купив в католическом монастыре.
В комнате собрались адмирал Кокшаров, композитор и пароходчик Иван Корнилов. Он автор модных романсов, распеваемых в России. Во время войны особенно большим успехом пользовался его романс «Спите, орлы боевые», а теперь колчаковская Сибирь распевает недавно написанный им романс «Спи, моя девочка».
В кресле особенно вольготно расположился золотопромышленник Вишневецкий. У камина стоял полковник Звездич. Хозяин Родион Кошечкин в вишневой поддевке поверх синей шелковой рубахи, заложив руки за спину, ходил по комнате. В кресле сидел инженер-путеец Турнавин, начальник движения омского железнодорожного узла.
Беседой руководил Вишневецкий и говорил, как обычно, с присущим ему непререкаемым апломбом.
– Смею заверить вас, господа, что у большевиков среди военного командования идет такая же, как у нас, чехарда и грызня. У них ведь тоже водятся бывшие царские генералы, которые не в ладах с господином Львом Троцким. Вот недавно перед оставлением нами Екатеринбурга Троцкий сместил Каменева, но ему по лапе стукнул Ленин. Ибо в Советах он вождь и непререкаемый авторитет. Какого у нас, к сожалению, в обиходе не имеется. А жаль. Трудно без авторитета. Когда любой наш генерал считает себя, по меньшей мере, если не Суворовым, то Кутузовым непременно.
– Я вас не совсем понимаю, господин Вишневецкий.
Растягивая слова, Звездич спросил:
– Разве авторитет адмирала Колчака у нас пререкаем?
– Конечно.
– Кем?
– Всеми, кому не лень рассуждать о политике. Даже вы сейчас, говоря об адмирале…
– Не понимаю вас.
– Вы же считаете…
– Но это мое, и при этом сугубо личное, мнение.
– Разве оно возможно у офицера колчаковской армии?
– Я высказал свое мнение о том, что не верю в способности генерала Лебедева занимать пост начальника штаба Верховного правителя и главнокомандующего. Говорю об этом на основании фактов. Мне пришлось быть на фронте свидетелем военных операций, стоивших нам большой крови и разработанных в штабе под руководством Лебедева. В Омске не у дел генерал Андогский.
– Давайте спросим у его превосходительства, почему Колчак не взял к себе в начальники штаба морского офицера?
– Видимо, только потому, что в Омске нет морских офицеров, годных для такого поста, – ответил Кокшаров и, подумав, продолжал: – А также допускаю возможность, что адмиралу Колчаку пришлось посчитаться с желанием правительства при выборе себе начальника штаба.
– Но, ваше превосходительство, адмирал Колчак Верховный правитель Сибири. Нужно ли ему в военное время считаться с мнениями штатских министров, подбор которых не совсем удачен, а главное, кое-кто из них все еще пляшет под дудку эсеров.
– Не смотрите, полковник Звездич, на меня так испуганно. В омской контрразведке меня уже спрашивали, почему я так фривольно сужу об омском правительстве. Донес на меня один екатеринбургский земляк-протоиерей. Я начальникам разведки на все вопросы ответил вразумительно, просил меня не пугать, не следить за мной и предупредил, что сам неплохо стреляю и в Омске не расстаюсь с браунингом ни днем ни ночью. Конечно, блюстители порядка меня просили держать язык за зубами, но язык мой, как видите, продолжает зубы разжимать, когда это мне надобится.
Кстати, полковник, правда, что вы учились вместе с Тухачевским в Александровском училище?
– Да, я с ним одного выпуска в 1914 году.
– И каково о нем ваше мнение?
– Разрешите на этот вопрос не отвечать.
– Очень жаль. Потому, насколько я понимаю, этот самый командарм пятой армии из молодых, да ранних.
– Надо признать, что в Красной армии смелость молодых приветствуется.
– А у нас?
– У нас предпочтение старичкам вроде Сахарова и Дитерихса.
– Слышал, господа, что у Дитерихса молодые офицеры легко продвигаются в чинах, если вовремя, учитывая настроение генерала, набожно целуют на груди у него офицерский Георгий.
– Вы, господин Вишневецкий, всем интересуетесь и не боитесь многое запоминать.
– А как же. Мне ведь тоже хочется возле омской упряжки не без прибыли бежать. От неудач на фронте я после потери остался почти в подштанниках. Кроме того, знаю, трусить теперь опасно. Время теперь революционное. В Омске осиное гнездо всякой эсеровской нечисти, она к нам, монархистам, не ласкова.
– В этом вы правы, господин Вишневецкий. Уверен, что именно эсеровская отупелость особенно мешает нашему адмиралу.
– Признаться, господин Турнавин, политические эсеровские тонкости – для меня орешки не по зубам. Но в моем понятии партия эсеров – самое большое зло в русской революции, хотя они и носят славу бомбометателей. Уж больно у них вязкие идеи, как дурно пахнущий столярный клей. Но, видимо, и без них нам нельзя бороться против большевизма. Эх, революция, революция… Началась в России в девятьсот пятом баррикадами и запрещенными песенками, а обернулась сейчас какими кровавыми реками.
– Уже во многих городах страны революция оставила для истории свои вечные следы. В Петрограде выстрелы «Авроры» начали эру социалистической революции. Москва благодаря революции в Октябре вновь обрела титул столицы. В уральском Екатеринбурге закончилась жизнь последнего из династии Романовых. В нашем Омске…
– Почему замолчал, Турнавин?
– Потому что пока рано говорить о следе, который останется от революции в Омске.
– Но лошадок, пока суть да дело, надо закупать, – задумчиво и для всех неожиданно произнес Иван Корнилов.
– Ты о чем, музыкант? – особенно удивленно спросил Кошечкин.
– Говорю, что пора подходит закупать лошадок, и как можно больше, ибо именно на них можно будет неплохо заработать. Сами говорите, что революционное время неустойчивое. Вспомните, где летом были наши белые армии, а теперь куда спятились? Вот и пора нам думать о лошадках. Лично я от слов уже перешел к делу. У нас с тобой, Родион, капиталы в пароходиках. Их от большевичков под мышкой не унесешь. Генералы, коих мы сибирским хлебушком кормим досыта, воюют хреново, и от них нам плохая защита, не при полковнике Звездиче будь сказано. Иван Корнилов нищим жить с детства не обучен.
– Господа, Корнилов о лошадках дельное говорит. Вот додумался дошлый мужик. Музыкальные романсы сочиняет для слезливых бабенок, а сам про лошадок мечту в разуме лелеет. Лошадок в Сибири много, и у китаев в Маньчжурии они водятся. Лошадки при случае всем понадобятся. Дельные мысли у Корнилова.
– Да только беда, Родион Федосеич. Ведомый нам дорогуша Турнавин, коего мы всячески ублажаем, вагонами оскудев, жмется.
– А моя в том вина? – вспылив, спросил Турнавин. – Побывайте на узле и полюбуйтсь, как мне приходится работать. Товарных вагонов у меня действительно в обрез, потому что самые лучшие из них заграбастаны чехами и поляками. Этими иржиками, прости меня господи, все запасные пути и тупики забиты. Кроме того, водятся еще всякие иностранные миссии, кои желают жить в вагонах. Все чего-то от нас, железнодорожников, хотят. Комендант перед иностранцами на задних лапках, да еще и на цыпочках. Министр наш Устругов после всякой нахлобучки Верховным издает свирепые приказы, требуя от чехов освободить Омск от своих эшелонов, а они и в ус не дуют.
– Почему не отнимете у чехов вагоны силой?
– То есть как отнять у них вагоны?
– Да просто вытряхнуть их из них. Не хотят с нами воевать, заодно пусть пешочком на Дальний Восток топают.
– Да вагоны, в которых чехи живут, отвоеваны ими у красных, вот и есть у них право пользоваться ими по своему усмотрению.
– Дожили, слава богу. У всех есть право на все, кому что выгодно, только мы, русские, у себя дома лишены самых элементарных прав ради благополучия иностранцев.
– А чего вы удивляетесь, господин Вишневецкий? – спросил, закурив папиросу, Кошечкин.
– Удивляюсь, что лебезим перед иностранцами.
– А мы всегда этим занимались. У русских в крови восхищение перед всем чужестранным. Есть у нас все свое отечественное, но мы все одно эмалированную немецкую кастрюлю хвалим больше своей.
Шибко легко расстаемся со своей национальной гордостью.
Из зала донеслись звуки рояля. Корнилов расстался с креслом. Огладев себя в зеркало, приоткрыв дверь, посмотрел в зал.
– Дочка твоя, Родион, очаровательная Калерия, сейчас всем нам вернет нашу русскую гордость от сознания, что у нас есть Чайковский.
Корнилов, скрестив руки на груди, слушая музыку, ходил по гостиной.
Мелодии Чайковского в разуме каждого из бывших в «табашной» комнате пробуждали свои мысли.
– Подумать страшно, господа, что происходит в нашем отечестве, – заговорил Кокшаров. – Русский народ, этот трудолюбивый народ с такой исторической и трагической судьбой, сейчас со звериной ненавистью истребляет себя в Гражданской войне.
Но ведь это у русского народа рождались и будут рождаться, несмотря ни на что, светлые гении его величественной по своей необъятности души.
Неужели же действительно ради классовой ненависти русских друг к другу и ради чьих-то чужих интересов нужно лить потоки своей крови и разорять страну? Теперь же почти ясно, что никакие потоки крови не способны смыть с сознания простого русского народа классовую ненависть. Значит, кровь наша льется совершенно напрасно.
А из зала все неслись звуки музыки Петра Ильича Чайковского.
Пальцы холеных рук Калерии Кошечкиной, перебегая по клавишам рояля, наполняли зал каскадами чарующих звуков.
Вот уже ожила мелодия лирической и задушевной «Баркароллы».
Тишину неожиданно разбудили звонкие голоса учащихся, а с ними в зале появилась княжна Ирина Певцова.
Калерия недовольно обернулась, а увидев гостью, прекратила игру и пошла ей навстречу.
Певцова, виновато прижав руки к груди, раскланивалась с присутствовавшими в зале дамами. Затем расцеловалась с Калерией.
– Ради бога, простите. Но вы же знаете, что я всегда появляюсь не вовремя и вношу только беспорядок.
– Мы вас ждали, княжна.
Певцова, увидев среди дам Клавдию Степановну, подойдя к ней, поцеловала ее в щеку.
– Здоровы ли вы?
– Да дышу пока без страха задохнуться. Сами-то как, ваше сиятельство?
– Вот видите, прыгаю.
– Ну и прыгайте, потому что молодость – недолгая гостья в женской доле. Хоть и редко к нам наведываетесь, но старуха все одно от людей о вашей жизни все знает.
– Редкую гостью, Клавдия Степановна, ласковей приветят.
– Тоже верно. Но вам всегда рады.
Певцова в малиновом платье с высоким воротником до самого подбородка. На грудь свисает нитка жемчуга. Увидев среди дам Каринскую, княжна помахала ей рукой, хотела подойти к ней, но гимназистки, окружив ее, подняли крик:
– Княжна, прочитайте поэму. Вы обещали.
– Хорошо. Спросим у хозяйки, в какую гостиную мы можем пойти.
– А зачем вам уходить из зала? – спросила Клавдия Степановна. – Мы тоже хотим сию поэму послушать, потому как всяких разговоров о ней наслышаны.
– Право, не знаю.
– Конечно, читайте здесь, ваше сиятельство, – попросила Каринская.
– А что со мной будет, если дамы неправильно поймут смысл прочитанного? Ведь поэма, сказать по правде, уже запрещена для чтения в Омске. Она слишком смелая для тех, кто…
– Ваше сиятельство, прошу вас, читайте. От имени всех прошу, – настаивала Каринская.
– Хорошо!
Певцова села к роялю. Взяла несколько бравурных аккордов, и когда в зале наступила тишина, она, откинув назад голову, начала читать:
- Черный вечер.
- Белый снег.
- Ветер, ветер!
- На ногах не стоит человек.
- Ветер, ветер –
- На всем божьем свете…
В полумраке «карточной» гостиной стояла специфическая тишина, нарушаемая только возгласами игроков и их покашливанием.
За шестью столами шла игра в преферанс по крупным ставкам. За одним столом в компании купцов играл беженец – уфимский архиерей Андрей, в миру князь Ухтомский.
В красном углу комнаты в золоченом окладе большой образ Нерукотворного Спаса, и перед ним шевелились лепестки огоньков в трех лампадах с разноцветными стаканчиками для масла.
Около стола, за которым играл епископ Андрей, стоял изящный круглый столик на изогнутых ножках, а на нем на белоснежной салфетке лежала снятая монахом позолоченная панагия, усыпанная самоцветами.
Игра у епископа Андрея спорилась, и они с партнером были в солидном выигрыше. Как говорится, карта шла легко. Довольный таким обстоятельством, сделав очередной ход, епископ, мурлыча, подпевал мелодии, доносившейся из зала.
Когда музыка смолкла, епископ сделал неверный и просто опрометчивый ход. Увидев на лице партнера удивление и неудовольствие, нахмурившись, огорчился.
Из зала донеслись бравурные аккорды. Прислушавшись к ним, епископ с возмущением произнес:
– Кто это там дозволяет себе такую отсебятину? У Чайковского нет таких аккордов во «Временах года».
Один из партнеров за столом, пожав плечами, виновато высказался:
– Прошу простить, ваше преосвященство, но я лично в музыкальном понятии не больно силен.
Доносившаяся теперь из зала мелодия мешала епископу думать о картах. Он старался припомнить, в какой композиции и у какого композитора могли быть отрывки этой музыки.
Игра в карты продолжалась. Его партнер неожиданно сделал буквально непростительную ошибку, сходив не той картой. Это обстоятельство дало возможность епископу фыркнуть и бросить карты на стол.
– Давайте минутку передохнем, а то все дело прошляпим.
Священник встал из-за стола, подошел к двери в зал, приоткрыв ее, увидел в щель сидевшую за роялем княжну Певцову, читавшую стихи под собственный аккомпанемент. Услышанные слова его заинтересовали, и он приоткрыл дверь пошире.
- Кто там машет красным флагом?
- Приглядись-ка, эка тьма.
- Кто там ходит беглым шагом,
- Хоронясь за все дома?
В этот момент среди игроков за ближним к двери столом возник громкий спор, и епископ не расслышал дальнейших строк стихов.
Обернувшись к спорившим, он повелительно попросил:
– Тише, господа!
– Простите, ваше преосвященство, но понимаете…
– Понимаю. Спорьте вполголоса. Мешаете слушать. Княжна Певцова читает.
– Извините, ваше преосвященство, будем молчать.
Епископ вновь слышал строки стихов.
- Трах-тах-тах!
- Трах-тах-тах…
- …Так идут державным шагом,
- Позади голодный пес,
- Впереди – с кровавым флагом,
- И за вьюгой невидим,
- И от пули невредим,
- Нежной поступью надвьюжной,
- Снежной россыпью жемчужной,
- В белом венчике из роз –
- Впереди – Исус Христос.
Епископ Андрей, распахнув дверь, вошел в зал, произведя своим появлением среди слушательниц замешательство. В группе учащихся раздались нестройные хлопки, но тотчас смолкли.
Монах подошел к княжне, сидевшей у рояля с низко склоненной головой. Увидев перед собой епископа, княжна встала, приняла благословение, коснувшись губами холеной руки монаха.
– Ваша светлость, впереди кого идет Сын Человеческий?
– Не спрашивайте, ваше преосвященство. Узнав, упадете в обморок.
– Чье произведение изволили читать?
– Поэму Александра Блока «Двенадцать»…
Глава шестая
1
Дождь шел весь день, совсем не по-летнему напористый и затяжной. Отмытая от пыли зелень на кустарниках и деревьях лоснилась, будто лакированная, лаская взгляд густым наливом зеленого цвета.
Благовестили ко всенощной.
Поручик Вадим Муравьев шел в собор. Сегодня, в день рождения матери, он еще утром решил зайти в церковь и поставить свечу.
Идя по городу среди грибов мужских и женских зонтов, он, прислушиваясь к колокольному звону, находил, что в ненастье, от близости могучего Иртыша, симфония меди звучала более торжественно, приглушая привычный и назойливый городской шум от цоканья конских копыт, тарахтения окованных железными ободьями колес у ломовых телег.
На площади перед собором шло обучение воинской премудрости дружин крестоносцев и топот солдатских ног прерывали распевные выкрики подаваемых команд.
В полумраке огромного собора мерцание лампад и свечей. Муравьев, купив у конторки старосты свечу, начал пробираться в толпе молящихся к иконе Казанской Богоматери.
Под сводами звучало стройное пение хора. Слова молитвы «Свете тихий», заученные Муравьевым с детства, воскресали в памяти. Он хорошо знал простой народный напев молитвы, но сейчас, вслушиваясь в незнакомую музыкальную напевность, поражался стройности мелодии, благодаря которой слова молитвы звучали успокаивающе и проникновенно.
Дойдя до иконы, Муравьев, поставив зажженную свечу в залитый натеками воска подсвечник, опустился на колени и внезапно совсем рядом увидел на коленях молившуюся девушку с прижатыми к лицу руками. Он узнал в ней Настеньку Кокшарову.
Видимо, почувствовав чужое дыхание, Настенька отняла руки от лица, пораженная встречей, и посмотрела на Муравьева почти с испугом, прошептав:
– Здравствуйте!
Одновременно оба встали с колен, глядя друг на друга. Встретились взглядами и не могли их отвести. Оба чувствовали, насколько приятна встреча, а особенно теплота взглядов, в которых выражены вопросы, которые они должны задать друг другу.
Муравьев заметил, как Настенька прищурила глаза, и понял, вернее, заставил себя понять, что это был ее знак, чтобы выйти из храма.
Выходя, Муравьев не сомневался, что Настенька идет за ним следом. И когда на паперти он обернулся, она стояла перед ним с обворожительной, знакомой Муравьеву улыбкой.
– Как же я рада встрече, Вадим Сергеевич!
– Взаимно, и мне радостно.
– Так давно с вами не виделись.
– Чуть больше двух недель.
– Это, по-вашему, малый срок для старых друзей? Я сержусь на вас, что пообещали, а не пришли к Кошечкиным.
– Не обманул. А не смог. Служба. Я же теперь в комендантском управлении.
– Кем?
– В особом отряде офицеров для поручений.
Настенька раскрыла зонтик.
– Позвольте полюбоваться вами, поручик Муравьев. Слава богу, рука не на повязке. Не болит?
– Иногда все же ноет. И все еще у меня страх пользоваться ею.
– Вот и синева в шрамах на лбу стала меньше. Все как будто прекрасно. Наслышана о ваших успехах с чтением стихов.
– Уже запретили.
– Кто? Почему?
– Комендант, генерал Захаров. Категорически запретил мне лично читать публично свои стихи. Так прямо и сказал: «Офицер должен быть только офицером. А вы, поручик Муравьев, будьте довольны, что стишки ваши печатают в газетах и на вечерах читают все кому не лень». Теперь сказывайте о себе, о родителе и о Сурикове. Одним словом, выкладывайте все горести и радости.
– Горестей пока нет. Устроились у Кошечкиных, как у себя дома. Но есть одна новость. Мой Миша работает тапером в кинематографе. Доволен. Каждый вечер его встречаю.
– Может быть, это действительно хорошо для него, ибо меньше пребывает во власти своих мрачных мыслей. Что рассказывает адмирал после встречи с Колчаком?
– Папа еще не виделся с ним.
– Черт знает что творится. Сегодня обязательно скажу своему генералу, он знает адмирала по Петрограду.
– Папа уже смирился. Он был дружен с Колчаком. Вначале переживал, не понимая, в чем дело. Но теперь, будучи в курсе всех омских правительственных и военных сложностей, считает, что другими взаимоотношения людей быть не могут.
– Сами чем заняты?
– Служу одной из секретарш в Осведверхе у генерала Кларже. Кроме того, на мне заботы о папе и о Михаиле. Вы сейчас куда направляетесь, Вадим Сергеевич?
– Надеюсь, разрешите проводить вас?
– Значит, зайдете к нам?
– Если пригласите.
– Вас рада видеть в любое время.
– Когда свадьба, Анастасия Владимировна?
– В сентябре.
Ответив, Настенька долго шла, молча склонив голову. Муравьев мысленно выругал себя, что спросил о свадьбе совсем не вовремя. Но вот Настенька, взглянув на спутника, спросила:
– Княжну Певцову видите?
– Да, она с Каринской была на моем поэтическом вечере в офицерском собрании. Но я с ней не заговаривал. Она, как всегда, в тесном кольце поклонников.
– Она убеждена, что вы ее избегаете.
– У меня для этого нет причин.
– И, между прочим, она этим огорчена…
– Да есть ли у нее время для огорчения чем-нибудь?
– Нехорошо говорите. О княжне в городе плетут массу пакостных небылиц. Приписывают ей то, к чему она не имеет никакого отношения. Вы-то ведь не обыватель.
Помолчав, Настенька задержала взгляд на Муравьеве и спросила с улыбкой:
– Что же делаете в особом офицерском отряде?
– Все, что прикажет высшее командование.
– Папа говорит, что в Омске оно чаще всего отдает приказы, первоначально не подумав об их пользе.
– Всяко бывает. Но дисциплина есть дисциплина. Чаще всего мне приходится встречать пассажирские поезда с Востока и осматривать вещи пассажиров.
– Зачем? Или это секрет?
– Вам скажу. Надеюсь, слышали, что в Омске и других городах Сибири повальное увлечение наркотиками. Особенно это видно среди офицерства, и притом младшего, то есть среди молодежи. Увлекаются кокаином также и дамы с девушками. Кокаин привозят из Харбина и Владивостока. И занимаются этим, как ни ужасно, наши генералы и их женушки, чиновники разных министерств. Причастны к этому и союзники, особенно французы. Вот мы и осматриваем вещи у подозрительных. А когда это приходится делать у больших особ, то имеем право пользоваться именем Верховного правителя. И тогда, как бы ни высок был чин подозреваемого, ему приходится подчиняться.