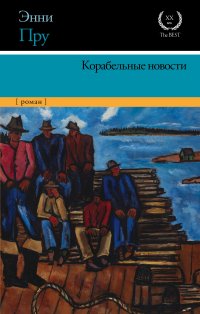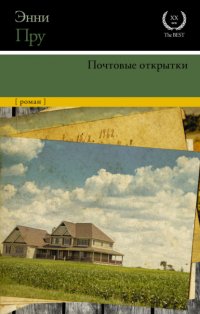
Читать онлайн Почтовые открытки бесплатно
- Все книги автора: Энни Пру
Annie Proulx
POSTCARDS
© Annie Proulx, 1992
© Перевод. И. Доронина, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Часть I
1
Блад
Еще не поднявшись, он знал, что уже в пути. Даже содрогаясь от непроизвольного оргазма, он знал. Знал, что она мертва, знал, что он в пути. Даже стоя на дрожащих ногах и пытаясь проталкивать медные пуговицы в тесные петли, он знал: все, что он сделал или о чем думал в этой жизни, придется начинать сначала. Даже если удастся замести следы.
Ему не хватало воздуха, стоя на подкашивающихся ногах, он хватал его ртом, задыхаясь и хрипя. Ошеломленный. Как будто получил удар под дых. Кровь молотом стучала у него в горле. Все вокруг, кроме этого судорожного дыхания и неестественно обострившегося зрения, словно бы перестало существовать. Ряды можжевеловых зарослей текли через поле словно водяные струи; серебристые клены обступали змеившуюся между ними каменную ограду.
Он подумал, что позади Билли стена поднимается вверх по склону, подумал просто так, вспомнив, что иногда чинил ее, укладывая обратно камни, вывалившиеся из-за морозов и разрастающихся корней. Теперь он видел все, как картинку, нарисованную резкими чернильными штрихами: скалы, прошитые сморщенными нитями кварца; покрытые мхом бугры, похожие на приподнятые в удивлении плечи; почерневшую древесину под сгнившей корой; алюминиевый блеск сухостоя.
В стене зияла дыра от вывалившегося камня, размером и формой напоминавшего заднее сиденье автомобиля, под ним – ком земли, обозначающий вход в покинутую лисью нору. О боже, это не его вина, но ведь скажут, что его. Он схватил Билли за щиколотки и оттащил к стене. Не в силах взглянуть на ее лицо, закатил под камень. Ее тело уже приобретало восковую бледность. Текстура ее спустившихся чулок, контуры ногтей светились тем люминесцентным холодом, который свойствен недавно преставившемуся в последний момент перед тем, как его пожрет пламя или вода засосет на дно. Под камнем имелось пустое пространство. У нее откинулась в сторону рука, вялая, со сжатыми пальцами, как будто она держала в ней ручное зеркало или флаг в честь Четвертого июля[2].
Испепеляющий шок инстинктивно нашел разрядку в физическом усилии, это был ответ психики на нежелание сознавать содеянное, на неутихающую зубную боль, на суровую погоду, на чувство одиночества. Он восстановил над ней стену, неосознанно имитируя естественное беспорядочное скопление камней – сработал защитный рефлекс. Когда тело оказалось полностью погребено под камнями, он набросал сверху опавших листьев, веток и сучьев, разровнял ногами и замел веткой след волочения.
Теперь обратно – по полю, держась поближе к забору, но иногда все же невольно оступаясь в сторону. Он не чувствовал собственных ног. Солнце начинало садиться, октябрьский день клонился к вечеру. Столбы забора, обозначавшего границу между полями, мерцали, как отполированные штыри, хмурый свет покрыл его лицо медно-красной маской.
Трава вилась вокруг его ног, лиловатые ости распахивались, выстреливая градом семян. Далеко внизу, напротив тополиной рощи, он видел дом, отлакированный оранжевым светом, – ни дать ни взять картинка, выгравированная на металлической пластине. Провисшая крыша отбрасывала нежную, как цветение плесени, изогнутую тень, от которой листва деревьев казалась гуще.
Добравшись до сада, он опустился на колени и долго-долго вытирал руки о жесткую траву. Плодовые деревья полуодичали от ливней и забившего сад сухостоя. В нос бил запах гниющих фруктов. «Если удастся замести следы», – повторил он, с трудом втягивая воздух через сведенное судорогой горло и видя перед собой не то, что случилось там, у стены, а своего деда, опрыскивающего дерево бордоской жидкостью: длинная струя шипит в листве, облачка отравленной яблонной плодожорки взметаются в воздух, как языки пламени; женщины и дети, в том числе он сам, стоя на лестницах, снимают яблоки; лямка от корзины врезается в плечо; пустые корзины из расщепленной дубовой коры стоят под яблонями; когда они заполняются до краев, мужчины грузят их на тележки и везут в холодное хранилище; старик Роузбой, с голой покатой шеей, в грязной остроконечной шляпе, похожей на снабженный полями допотопный фильтр для патоки, постукивая по днищу бочки, серьезно повторяет снова и снова: «Не надо торопиться, одно гнилое яблоко портит всю чертову бочку».
Вечерняя мгла поднималась от заросших лиственным лесом склонов и обесцвечивала небо, придавая ему вид грязной шелковой юбки. Он видел и слышал все с суровой четкостью; а вот то, что произошло наверху, под стеной, казалось смутным. Койоты, вытянувшись цепочкой вдоль утиного болота, перекликались жуткими завываниями. Перебирая влажной ладонью голые жерди – подпорки для фасоли, он прошел через увядший огород. Мошкара, словно облачка бледной пыли, клубилась вслед за ним.
Возле угла дома он остановился и помочился на почерневшие стебли кентерберийских колокольчиков Джуэл. Семенные коробочки затрещали, как погремушки, и легкий пар дрожащей тенью поднялся у его ног. Одежда не грела. Серые рабочие штаны были испачканы землей на коленях, утыканы застрявшими в ткани семенами травы и шипами ежевики, куртка обсыпана шелухой древесной коры. Расцарапанная ее ногтями шея саднила. Мерцающий образ ее ногтей сверлил ему мозг, он старался прогнать его. Свиристели шуршали в жесткой листве, словно кто-то разворачивал там папиросную бумагу. Из кухни до него доносился голос Минка, похожий на звук шлепающихся пластов распахиваемой земли, ему отвечал приглушенный ровный голос Джуэл, его матери. Казалось, все было как прежде. Билли лежала там, под стеной, но было ощущение, что ничего не изменилось, если не считать его сверхобострившегося зрения и спазма, который он ощущал где-то за грудиной. С провисшего шпагата, натянутого между двумя столбами крыльца, свисали бобовые плети, и он видел каждую прожилку, рассекающую листья, и прячущиеся в тени лиственных складок выпуклости стручков. Трещина на расколовшейся тыкве с измазанной землею «попкой» походила на раззявленный рот. Открывая сетчатую дверь, он раздавил ногой листок.
В углу у входной двери стояла проволочная корзинка для яиц. Из-под корзинки, наполовину заполненной бледными яйцами, сочилась и затекала под рабочие ботинки Минка вода. С гвоздей свисала вонючая рабочая одежда, куртка Даба и его собственная джинсовая куртка с оторванным карманом, напоминавшим разверстую рану. Он вытер ноги о кусок мешковины и вошел.
– Почти вовремя. Вы с Дабом, Лоял, никогда не поспеваете к столу вовремя, всегда вас ждать приходится. Твержу тебе это с тех пор, когда тебе было четыре года. – Джуэл пододвинула ему миску с луком. Ее ореховые глаза терялись за бликующими стеклами очков. Валик мышц, подпиравший ее нижнюю губу, был твердым, как дерево.
На кухонном столе по кругу были расставлены белые тарелки, таким же кругом рот Минка обрамлял жир. Лицо его заросло щетиной, красивой формы губы чуть провалились из-за недостающих зубов. На клеенке цвета яичного желтка лежали тусклые столовые приборы. Зажав в ладони разделочный нож, Минк приготовился резать окорок. Окорок пах кровью. По полу тянуло холодом, где-то в стене сновал хорек. На холме в нескольких милях вдали чердачное окно поймало последний луч света, заполыхало на несколько минут и померкло.
– Передавай тарелки. – Голос у Минка стал глухим после случившейся за несколько лет до того аварии на тракторе, судя по всему, что-то защемилось тогда у него в глотке. Изрезанная вдоль и поперек белыми линиями шея Минка напряглась, он приступил к нарезанию окорока. Надпись на верхней части его фартука гласила: КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. Красные ломти шлепались с ножа на тарелки, от жара трещинки на глазури разбегались, как вставшие дыбом волосы. Стальное лезвие ножа было узким от многочисленных заточек. Добравшись до кости, Минк стал действовать осторожно: истончившееся лезвие легко могло сломаться. Взглядом бледно-голубых, как разбавленное молоко, глаз он окинул стол.
– Где Даб? Шалопай чертов.
– Не знаю, – ответила Джуэл. Выпрямившись на стуле, она жесткими, огрубевшими руками, похожими на пучки морковок, вытрясала перец из стеклянной перечницы в форме собачки. – Но вот что я тебе скажу. Кто опаздывает к ужину, рискует остаться без него. Я готовлю еду для того, чтобы ее съедали горячей. А никто даже и не думает утруждаться, чтобы сесть за стол, пока она не остыла. Это всех касается: не пришел вовремя – об ужине забудь. Будь ты хоть самим святым Петром. Мне начхать, если Даб снова сбежал. Он думает, что может приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Ему плевать на труды, затраченные другими. А мне плевать, даже если Уинстон Черчилль со своей поганой толстой сигарой захочет с нами поужинать, мы никого ждать не будем. Если что-нибудь останется, значит, ему перепадет, но я не думаю, что что-нибудь останется.
– И я не думаю, – прищурившись, сказала Мернель. Ее косички, сложенные вдвое петельками, были закреплены резинками для волос, перед сном снимать их было больно, у девочки были слишком крупные для ее лица зубы и фамильные руки с кривыми пальцами и плоскими ногтями, и еще она неуклюже сутулилась, как Минк.
– А вас, мисс, никто не спрашивает. Заработала чуток денег на чечевичных стручках – и считаешь, что можешь в каждый разговор встревать? Вот как деньги портят человека. Хорошо, что меня нечем портить – у меня их нет.
– Я занимаюсь и другими хорошими делами, не только чечевичными стручками, – высокомерно сказала Мернель. – На этой неделе у меня три важных дела. За чечевицу я получила шесть долларов, мне прислал письмо сержант Фредерик Хейл Боттум из Новой Гвинеи, потому что нашел мою записку с пачкой сигарет в посылке, которые мы собирали в воскресной школе, и еще наш класс едет в Бартон на детективный фильм. В пятницу.
– И сколько чечевичных стручков ты собрала за эти шесть долларов? – Минк снял свою рабочую кепку и повесил на ушко́ в спинке стула. Копна волос высвободилась, и ему приходилось постоянно дергать головой влево, чтобы волосы не падали на глаза.
– Сотни. Тысячи. Тридцать мешков. А вот угадай, папочка, что еще! Некоторые ребята сдавали зеленые стручки, и им за них платили по десять центов за мешок. А у меня все были правильные, сначала высушенные на сеновале. Единственный, кто собрал больше меня, это старик из Топандера. Семьдесят два мешка. Но ему же не надо ходить в школу. Он может целый день валять дурака и собирать чечевицу.
– А я-то все гадаю: какого черта там, наверху, везде разбросаны чечевичные стручки. Сначала решил, что это Лоял придумал дешевый корм для коров. Потом, что это что-то для украшения.
– Пап, из чечевицы не делают украшения.
– Нет, конечно, черт возьми. Стручки, шишки, кукурузные зерна, яблоки только добавляют для красочности. Я видел женщин и девочек, которые обычные сенные грабли превращали в украшения с помощью гофрированной бумаги и плюща.
На несколько дюймов приоткрылась дверь, и в кухню просунулось раскрасневшееся толстощекое лицо. В гуще курчавых волос светилась проплешина – как полянка в лесу. Мальчик притворялся виноватым. Встретившись взглядом с Джуэл, он наигранно изобразил страх, бочком протиснувшись в комнату и защищая лицо согнутой рукой, – как будто ожидал удара. У него были мощные бедра и стригущая походка низкорослого мужчины. Он отлично сознавал свою роль домашнего клоуна.
– Мамочка, не бей, я никогда больше не буду опаздывать. В этот раз ну никак не получилось. Правда. Я разговорился с одним парнем, он сказал, что его жена была с теми, кто находился на горе Верблюжий Горб, когда упал тот бомбардировщик, они искали – может, кто выжил.
– Дай-то бог! – вставила Джуэл.
Даб развернул стул и оседлал его, положив единственную руку на спинку, пустой левый рукав, обычно заткнутый в карман куртки, сейчас болтался свободно. За правым ухом была заложена сигарета «Кэмел». На миг Джуэл вспомнила, какими красивыми были его предплечья: упругие мышцы, крупные мужские вены, похожие на прочные изящные ветви. Минк нарéзал ломоть окорока на кусочки и свалил их на тарелку Даба.
Лоялу казалось, что кухня сужается в перспективе, как на картине, где изображены волокнистый окорок, плющ двух оттенков зеленого на обоях, связка кукурузных початков, скрепленная проволокой и свисавшая над плитой, слово «Комфорт» на дверце плиты; на гвозде, вбитом в стену, – старая сумка Джуэл, в которой хранились счета и письма, на другом гвозде – огрызки карандашей в банке из-под пряностей, подвешенной на шнурке; нарисованный Мернель флаг, прикрепленный к двери кладовки; стеклянная дверная ручка-набалдашник; медный крючок и глазок; грязная кретоновая занавеска на провисшем шнурке, закрывающая нишу под раковиной; мокрые следы на линолеуме – все плоское и детальное, но удаляющееся от него, как опавшие листья по течению реки. Ему показалось, что он никогда раньше не видел черных ирландских волос Минка, таких тонких, что он не мог разглядеть отдельных волосинок, цветастого рисунка на мамином фартуке, того, как грузно она наклоняется вперед, ее крючковатого носа и круглых ушей – у них у всех такие же круглые уши, у всех до единого, подумал он, стараясь гнать от себя мысли о том, что́ лежало там, под стеной.
Даб наложил себе в тарелку картофельного пюре, полил его желтой подливкой и, орудуя вилкой, стал есть. Вынутую изо рта жвачку он приклеил к краю тарелки.
– Тот самолет летел над горой. Одно крыло зацепилось за льва, а потом он вдруг перекувыркнулся, крылья у него отломились, потом хвост, а кабину мотало так и сяк, пока она летела полмили до земли. Знаете, что я вам скажу? Это просто чудо, что тот парень выжил, парень был из Флориды, он лежал на снегу, вокруг него – кишки, руки, ноги от девяти мертвецов, а на нем – только несколько царапин и ссадин, он даже ничего себе не сломал. Этот парень раньше никогда не видел снега.
– За какого еще такого льва он зацепился? – спросила Мернель, представляя себе настоящего зверя, живущего в снежных горах.
– Ну, за верхушку горы, она похожа на льва, который приготовился прыгнуть, правда, некоторые считают, что она больше похожа на часть верблюда. Те, кто за льва, хотели назвать ее Крадущимся Львом, а те, кто за верблюда, – Верблюжьим Горбом. Это просто скала там, наверху, из гранита типа А. Выглядит как куча камней. На самом деле не похожа ни на верблюда, ни на льва, ни на дикобраза. Тебя что, ничему не учат в школе?
– Последний год или около того был кошмарным, столько всего страшного случилось. Война. Дочка Чоудеров ткнула себя иголкой в глаз. Это было ужасно. А та бедная женщина в ванне в гостинице! – Джуэл издала свой фирменный жуткий вздох и уставилась куда-то, где произошли эти печальные события, которые она с виноватым видом смаковала. Глаза у нее были полузакрыты, тяжелые запястья покоились на краю стола, вилка лежала на тарелке.
– А как насчет всего глупого, что случилось? – сказал Минк, слова мешались у него во рту с картошкой и окороком, впалые щеки выпячивались, когда он жевал. – Помнишь того дурака, который принес в кухню банку с порохом и поднес к ней спичку, чтобы посмотреть, загорится ли порох? Одна такая глупость – и полгорода в огне, а его брат и вся семья разорваны на куски.
– Черт, это что? – сказал Даб, выуживая что-то из картофельного пюре у себя в тарелке. – Что это такое, черт возьми? – Он продемонстрировал всем окровавленный кусочек пластыря.
– О господи, – воскликнула Джуэл, – выкинь все с тарелки, положи себе другого пюре. Я порезала палец, когда чистила картошку, а потом, когда накрывала на стол, заметила, что пластыря на пальце нет. Должно быть, соскользнул, когда я мяла пюре. Дай сюда, – сказала она, вставая и вываливая пюре из тарелки Даба в свиное ведро для объедков. Она двигалась быстро, ее маленькие пятки при каждом шаге выглядывали из мужских ботинок на шнурках, с наборными каблуками.
– А я уж представил себе на минуту, – сказал Даб, – что картофелины были с тряпичной кожурой.
– Даб! – одернула его Джуэл.
– Нет, я не понимаю, – сказала Мернель. – Не понимаю, что́ бомбардировщик делал возле Верблюжьего Горба. Там, на Верблюжьем Горбе, немцы, что ли?
Даб расхохотался своим дурацким смехом, широко открыв рот. Мернель увидела отросточек у него в глотке, черные гнилые пятна на зубах и голые десны слева, там, где «умельцы» выбили ему зубы.
– Не волнуйся насчет немцев. Даже если бы они переплыли океан, какого ляда им делать на Верблюжьем Горбу? «Ах, Ханс, я ищу эту проклятую ферму и эту опасную Мернель, которая собирает чечевичные стручки». – Ухмылка повисла на лице Даба, как кончик мокрой веревки.
Еда лежала на тарелке Лояла нетронутой, так, как ее шлепнул на нее Минк: кусок окорока немного свешивался за край, пюре возвышалось горкой, словно одинокий айсберг среди замерзшего моря.
Лоял встал, свет керосиновой лампы освещал его по грудь, лицо оставалось в тени. Его испачканные травой сомкнутые пальцы были прижаты к столу.
– Я должен кое-что сказать. Нам с Билли острочертело это место. Сегодня вечером мы уезжаем. Она меня уже ждет. Мы отчаливаем и направляемся на Запад, где-нибудь там купим ферму, начнем все по новой. У нее правильная идея. Она говорит: «Я даже не буду пытаться встретиться со своими. Буду счастлива никогда больше никого из них не увидеть». Она просто уезжает. Хочу расставить все по своим местам, чтобы вы знали. Я пришел на этот чертов ужин не затем, чтобы слушать все это дерьмо про немцев и картошку. Я пришел, чтобы забрать свои деньги и свою машину. И сказать ее родне, что она уехала и не желает с ними даже попрощаться.
Произнеся это вслух, он понял, что именно так им и следовало поступить. Сейчас это казалось настолько просто, что он не понимал, почему раньше так артачился.
Воцарилась тишина. Вокруг стола словно бы повис диссонирующий звук, как будто кто-то вслепую ударил по клавишам пианино отрезком трубы.
Минк привстал, волосы упали ему на глаза.
– Что ты несешь, черт возьми? Это у тебя шуточки такие? Единственное, что я слышу от тебя десять последних лет, это что́ ты думаешь по поводу того, как нужно управлять этой фермой, а теперь ты говоришь, что бросаешь ее, так, будто речь идет о том, чтобы сменить рубашку. За эти десять лет ты мне плешь проел разговорами о том, что́ бы ты хотел сделать с этим местом, как ты мечтаешь заменить джерсейскую породу коров на голштинскую, «купить доильный аппарат, как только нам проведут электричество после войны, и специализироваться на молочных продуктах», приобрести отгонные пастбища и люцерновые луга под покос, построить силосную башню, выращивать больше зерна, сосредоточиться на коммерческом молочном производстве. Это, мол, будет приносить доход. Надо вкладывать время и средства в молочное хозяйство, отказаться от большого сада, от свиней и индюшек, покупать еду – быстрее и экономичней. Не могу поверить, что теперь ты говоришь совершенно другое. Ты же мне все уши прожужжал. А теперь – вот это? И ты думаешь, что я это проглочу, как кусок сладкого пирога?
Эй, мистер, я тебе напомню, что́ еще ты мне твердил. Ты постоянно ныл, что можжевельник захватывает поля, часами талдычил про сад, про то, что разросшиеся корневища, сухостой, дикие елки забивают поросль в сосновом углу, что западные луга три года не кошены, завалены древесным мусором. Вот что ты говорил. Жалел, что в сутках не сорок светлых часов, чтобы успеть побольше сделать.
Лоял его почти не слышал, но отчетливо видел мягкие складки, бегущие от крыльев его ноздрей к уголкам рта, натянутые шнуры сосудов на его шее, думал о блестящих алых струях прямо под кожей, о набухших кровью артериях толщиной с палец, о хрусте ребер – когда он врезал ногой по лисьей груди.
– Ты не можешь бросить нас один на один с этой фермой, – сказал Минк глухим голосом, в котором наряду с гневом послышалась жалость к себе. – Господи Иисусе, у твоего брата только одна рука, у меня не осталось здоровья, после того как меня переехал трактор. Будь я здоров, я бы выбил из тебя эту дурь. У тебя совсем крыша съехала? Скажи на милость, как мы с Дабом одни сможем, черт возьми, доить вручную девятнадцать коров, в том числе двух твоих проклятых голштинок и ту, что лягается? Господи, ненавижу, как она смотрит. Сукин ты сын, мы же просто не справимся.
Черт побери! Ладно, голштинки – хорошие коровы, лучше, чем эти недомерки-джерси. Они дают почти вдвое больше молока, чем джерсейские. – Он с облегчением ударился в старый спор. – Но ты посмотри, сколько они жрут. И молочного жира у них вполовину меньше, чем у джерсейских. Джерси созданы для здешних мест. Наших скудных пастбищ им достаточно, чтобы дела на ферме шли хорошо. Они выносливые. И вот что еще я тебе скажу: не успеешь ты и шагу ступить с фермы, как тебя прихватят за задницу и наденут на тебя мундир. Идет война, если ты не забыл. Работа на фермах сейчас очень важна. Забудь о Западе. Ты что, газет не читаешь? И радио не слушаешь? Пыльный котел[3] высушил и сдул все фермы на Западе. Никуда ты не поедешь!
Даб ловко чиркнул спичкой о ноготь большого пальца и закурил сигарету.
– Мне пора, – сказал Лоял. – Я должен ехать. В Орегон или в Монтану – куда-нибудь.
– «Заведи свою пластинку снова, Чарли, всем нам нравится под нее танцевать», – пропел Даб, выпуская дым из ноздрей.
Джуэл обхватила лицо ладонями и провела ими вниз по щекам, от чего лицо ее вытянулось, и за стеклами очков стала видна красная изнанка нижних век.
– Не знаю… – сказала она. – А как же армейский ужин, который мы устраиваем в субботу вечером? Большой ужин с тушеной говядиной, на армейский лад, с самообслуживанием. И я надеялась, что в воскресенье утром ты меня отвезешь в церковь. Может, останешься? И Билли всегда работает там за повара и раздает еду. Ради этого она должна остаться.
– Именно Билли настояла, чтобы мы уехали сегодня. На то имеется причина. Уговаривать нас бесполезно. – Лоял резко наклонился над столом, в просвете между разошедшимися бортами рубашки показались курчавые черные волосы на бледной синеватой коже.
– Боже милостивый, я все понял! Ты ее обрюхатил. И она хочет сбежать отсюда, чтобы никто не узнал. Для таких, как ты, парней, которые, едучи по глубокой колее, загоняют себя в тупик и потом не могут развернуться обратно, существует название, но я не стану повторять его в присутствии твоих матери и сестры.
– Эй, Лоял, – вставил Даб, – если ты уедешь, ферме хана.
– Да, я знал, что будет тяжело – все равно что вариться в кипящем говне, но не знал, что будет настолько плохо. Неужели вы ничего не понимаете? Я уезжаю!
Он взбежал по лестнице в комнату со скошенным потолком, которую делил с Дабом, оставив позади нетронутый окорок на своей тарелке, перевернутый стул, отлетевший от стола, когда он вскакивал, лицо Мернель, отражавшееся в засиженном мухами зеркале. Схватив старый чемодан, он открыл его и швырнул на кровать. Потом, сжимая в руках скомканные рубашки, с минуту стоял над чемоданом, распахнувшим свой зев, словно в крике. Внизу все больше распалялся Минк, теперь его голос ревел, что-то хлопало и гремело – то ли дверь, то ли что-то в кладовке. Лоял бросил рубашки в чемодан и в этот момент понял, что все сместилось, дорога его жизни отклонилась от основного пути; не в тот миг, когда Билли с глухим стуком рухнула на землю под необузданным слепым порывом его похоти, а сейчас, когда рубашки вялой кучей хлопка упали в чемодан.
В шкафу он нашел спрятанную в ботинок бутылку Даба, покрепче завинтил на ней пробку и тоже швырнул в чемодан; перекинув жесткий ремень через замо́к и застегнув его, он зашагал вниз через две ступеньки; внизу слышался стук молотка, это Минк, сукин сын, заколачивал гвоздями входную дверь, чтобы он не мог выйти.
Несколько секунд – и Лоял оказался на другом конце комнаты, ногой вышиб окно, переступил через осколки стекла и вышел, оставив позади все: свои капканы, выносливых маленьких джерси, двух голштинок с тяжелыми телесного цвета выменами, промасленные тряпки Даба, запах старого железа в глубине сарая и стену там, наверху, перед лесом. Эта часть жизни закончилась. Закончилась в спешке.
* * *
По дороге в город он думал, какой горькой шуткой все обернулось. Билли, вечно зудевшая о том, чтобы уехать, вырваться, начать все сначала, оставалась на ферме. А он, никогда не представлявший себе жизни за пределами фермы, никогда ни о чем другом не мечтавший, покидает ее, вцепившись в руль автомобиля.
Что-то вреза́лось ему в ягодицу, он ощупал сиденье и нашел новую забаву Мернель – закрученную бакелитовую свистульку, покрытую многочисленными сколами от того, что ее долго пинали ногами по полу. Наклейки по ее бокам изображали осликов, несущих корзины с кактусами. Он начал крутить ручку, чтобы открыть окно, но стекло снова перекосило, и открылась только небольшая щель, поэтому он швырнул свистульку на заднее сиденье.
Уже смеркалось, но в низине, где луга оттесняли деревья в стороны, он притормозил, чтобы бросить на них последний взгляд, стараясь заглушить непроизвольные вспышки воспоминаний о том, что случилось. Случилось и стало бесповоротным.
Место выглядело как застывший на открытке пейзаж: дом и хлев, похожие на черных овец в океане полей, небо – как мембрана, поддерживающая последний свет дня; размытые окна кухни, а за строениями – поле, обширное, акров в двадцать, простирающееся к югу, распахнутое на две стороны и пересеченное почти точно посередине водной артерией, словно открытая Библия со страницами площадью по десять акров. Он выудил из чемодана бутылку Даба и глотнул холодного виски. Красивое пастбище, четыре или пять лет ушло у него на то, чтобы довести его до ума, Минк не вложил в него ни капли своего труда, все сделал он сам: осушил болото, обработал землю золой, засеял клевером, три года перепахивал, чтобы восстановить плодородие почвы, раскислить ее, потом посеял люцерну, ухаживал за ней, любовался тем, как растет этот питательный вкусный корм. Вот почему повысилась жирность молока у коров. Минк для этого не сделал ничего, только он, Лоял. Лучшее пастбище в окру́ге. Именно поэтому он и захотел подняться выше можжевеловых зарослей – не затем, чтобы сделать то, чего он, по ее мнению, хотел, а чтобы взглянуть на свои угодья сверху, пусть Билли и было плевать на пастбище, и она не могла отличить хорошее пастбище от плохого.
– Все это я сто раз слышала, – сказала она. – По мне, так оно ничем не отличается от любого другого дурацкого пастбища. – Она покачала головой. – Не знаю, Лоял, получится ли у меня с тобой что-нибудь.
В тускнеющем свете поле выглядело как темно-зеленый мех.
– Ты видишь его в последний раз, – сказал он себе, сунул бутылку Даба в бардачок и тронул машину на первой скорости. Краем глаза он уловил белую точку посреди поля. Слишком большую для лисы и не похожую абрисом на оленя. Ни одного пня в поле тоже не было.
Он был уже в четырнадцати милях от дома, на середине моста, когда пришлось нажать на тормоза, чтобы не наехать на какое-то покрытое шерстью бездомное существо, и тут он вспомнил: пес. Пес наверняка сидел в поле, точно в том месте, где он велел ему сидеть. Он по-прежнему ждал его. Господи Иисусе!
2
Месть Минка
Топая от неутоленного гнева, прихрамывая, Минк метался по дому, расшвыривая вещи Лояла: модель аэроплана, висевшую на гвозде в передней, школьную фотографию в покоробившемся паспарту с позолоченным обрезом – Лоял, единственный в классе мальчик с курчавыми волосами, красивый, – стоявшую среди других рамок и шкатулок для пуговиц на черешневом столике с бортиком в парадной комнате. Ленточки 4H[4] за телят – красные, белые, синие, пришпиленные к куску прислоненного к стенке картона; аттестат об окончании старшей школы, с надписью, сделанной черными готическими буквами и свидетельствующей о том, что Лоял прошел полный курс обучения по ведению сельского хозяйства, агрономии и труду; тяжелый синий учебник по молочному производству, оставшийся от единственного года, который он проучился в сельскохозяйственном училище; сертификат о проведенной культивации пастбища, газетная вырезка с фотографией, на которой мистер Фуллер, окружной агент[5], вручает Лоялу этот сертификат, – все это Минк смел на пол.
Рабочую куртку Лояла он запихнул в кухонную плиту, его оставшуюся нетронутой еду свалил в помойное ведро. Дым просачивался сквозь сотни трещин в плите и, клубясь, стелился под потолком, пока, подхваченный потоком теплого воздуха, не вылетал в разбитое окно. Даб шарил за закрытой дверью кладовки в поисках куска картона, чтобы закрыть оконную брешь, а Джуэл, с красным лицом, сощурив глаза до узких щелочек, колдовала с заслонкой. Печная труба взревела, когда вспыхнул впитавшийся в куртку вонючий креозот, раскалив металл докрасна.
– Господи, ма, ты же раздуваешь огонь в дымоходе, опусти заслонку! – завопил Даб.
В этот момент Минк, внешне уже спокойный, но с горящими злобой глазами, спустился по лестнице с винчестером Лояла калибра.30-.30 в руке, хромая, прошел через кухню и открыл дверь. Даб предположил, что он собирается выбросить ружье в пруд, и решил позднее пошарить по дну картофельными вилами – авось повезет. Наверное, целый день уйдет на то, чтобы вычистить и смазать его, снова привести в рабочее состояние, но оно того стоит, ружье-то хорошее. Если опереть его о подоконник на сеновале, он сможет стрелять и добудет собственного оленя, как все другие. Он развернул картонную коробку, разорвал ее по сгибам, приставил лист к оконной раме и, придерживая левым коленом, стал прибивать гвоздями.
– Завтра я вырежу стекло и вставлю, если кто-нибудь поможет мне его разметить, – бодро сказал он, но лицо его оставалось бледным.
Джуэл, грузно согнувшись, сметала осколки, вывалившиеся куски замазки и пыль, ее цветастое платье задралось, стали видны сморщившиеся хлопчатобумажные чулки телесного цвета, выуженные из развала в «Монтгомери Уорд»[6].
– Ма, стекло попало в еду, им весь стол засыпан, – сказала Мернель. – И на крыльце большие осколки валяются.
– Прежде чем мыть тарелки, сгреби с них все, только не в свиное ведро. Придется отнести и вывалить где-нибудь подальше. Не знаю, могут ли куры клевать стекло, но боюсь, что да. Отнеси за огород.
Из хлева послышался громкий хлопок выстрела, потом еще один и после длинного интервала третий. Коровы подняли рев, как аллигаторы, – непрекращающееся мычание, топот, удары о столбцы стойл. И весь этот шум перекрывал рык «отца Авраама».
– Это черт знает что, – сказал Даб.
– Как можно такое сотворить! – дрожа и прижимая ладони к губам, прошептала Джуэл, наблюдая, как Даб идет к входной двери, сдергивает с гвоздя куртку, потом пересекает кухню обратно и направляется к дровяному сараю.
– Будь осторожен, – бросила она ему вслед, надеясь, что он знает, чего опасаться.
Мернель захныкала, не потому, что ей было жалко коров, а потому, что гнев всегда вырывался из Минка, как мощная струя воды из раскручивающегося шланга. В таком состоянии он мог всех их порубить топором.
– Возьми себя в руки и поднимайся наверх, спать, – сказала ей Джуэл, убирая тарелки со стола. – Быстрее, и без твоего нытья тут забот хватает.
Когда вошел Минк, Джуэл сидела за столом. Она заметила полоску седой щетины у него на щеке, которой еще утром не было. Не глядя, он зашвырнул ружье на крышу посудного шкафа, даже не почистив его, и сел напротив, спокойно положив руки на стол. Растрепанные волосы выбивались у него из-под кепки. Козырек торчал над глазами, как зловещий рог.
– Слава богу, доить придется теперь на две меньше.
На груди поверх рабочей куртки у него тянулась цепочка мелких капель крови.
* * *
Туман поднимался от речки, как театральный занавес. К середине утра деревья все еще стояли склоненными под тяжестью влаги и неподвижными. Все вокруг было покрыто бисерными капельками, от чего кора и листва, земля и вообще все краски природы казались бледными. От того, что Даб и Минк все время ходили туда-сюда, на крыльце образовалась темная дорожка, продолжавшаяся в жесткой траве, где на кончике каждой травинки висели мелкие жемчужинки росы. Крыша хлева растворялась в тумане, свиньи месили ногами кучу навоза, от чего на поверхность черной жижи поднимались воздушные пузырьки.
Минк еще до рассвета был на ногах. Джуэл с трудом продрала глаза, услышав рокот трактора, тащившего туши голштинок к болоту, где им предстояло стать добычей собак, лис и ворон. Тарахтенье мотора эхом отдавалось в тумане, обозначая путь трактора.
«Можно было хотя бы мясо себе оставить», – подумала она, гнев Минка представлялся ей таким расточительным, что она готова была пожелать ему сгореть в его собственном адском пламени, багровом, как окрестный пейзаж, увиденный сквозь красную целлофановую ленточку с сигаретной пачки. Мысль была не нова.
Сколько было в их жизни подобных случаев! Она помнила их все. Сбивающие с ног оплеухи, порки, которые он устраивал мальчикам, такие же, какие сам получал в детстве. Лоялу было, наверное, года три, он ковылял через грязный скотный двор в маленьких красных сапожках, жалобно мыча, как потерявшийся теленок, и цепляясь за подойник. Потом оступился в жидкий навоз, молоко расплескалось. Минк влепил ему затрещину прямо посреди скотного двора. «Я научу тебя смотреть под ноги, поганец! Я научу тебя не расплескивать молоко!» К тому времени, когда Лоял добрался до крыльца, его сломанный носик распух до размеров куриного яйца; две недели малыш ходил крадучись, чтобы не встретиться с Минком, и был похож на енота с черными кругами вокруг глаз. Когда Джуэл, придя в ярость, прибежала в коровник, Минк удивился: «Послушай, их надо учить смолоду. Приходится. Это же ради его собственной пользы. Я сам через это прошел. И голову даю на отсечение, что больше он никогда молоко не расплещет». Так и было.
А Даб! Сколько ему тогда было? Пять? Шесть? Вздумалось ему поесть под столом вместе с собакой, так Минк вытащил его оттуда за волосы, поднял в воздух и, встряхивая, зарычал: «Ты будешь есть нормально из тарелки или нет? Будешь?!»
Но она не могла долго держать на него зла, потому что он остывал так же быстро, как распалялся. Бладовский характер. У Лояла был такой же, взрывной. Только вскипел – и тут же мягкий, как масло.
Минк с Дабом задерживались в коровнике. Кухонные часы показывали девять, когда пришел Даб, с удовольствием, наслаждаясь вкусом горячего цикория, выпил чашку кофе из рябого кофейника, стоявшего в дальней части плиты, другую, со сколами, налил для Минка. Смена настроений в их семье происходила стремительно – словно летали туда-сюда костяшки на счетах. Злоба и напряжение быстро смягчались. Минк старался подавлять свое недовольство привычкой сына вечно где-то шляться и его непобедимым пристрастием к негритянской музыке и тем пластинкам «Роу-бой Хэрри», которые он тайком откуда-то приносил. Еще он ездил в Рутленд, в ресторан «Конг Чау», где в один присест съедал на три доллара овощей под каким-то крысино-коричневым соусом, а по воскресеньям напивался в придорожном баре «Комета» и лапал женщин своей единственной грязной рукой.
Даб, в свою очередь, глотал навязшие в зубах сентенции Минка по поводу невозможности вырваться из тисков тяжкого труда, которые тот вечно бормотал себе под нос, и мирился со святой верой отца в то, что скотоводческий аукцион – самое лучшее развлечение, о каком только можно мечтать. Даб сумел проглотить даже убийство голштинок.
В тусклом свете лампы их заскорузлые ладони соприкасались, как два куска дерева, когда Даб протягивал руку к полному ведру молока и передавал Минку пустое, после чего продвигался вперед, протирал бока и вымя следующей коровы и успокаивал Мирну Лой, которая вскидывала голову, все еще продолжая нервничать. Делая дело, они становились партнерами. Дополнительный груз работы, свалившийся на них без Лояла, сплачивал их. Даб шевелился быстрее; Минк доил и доил без перерыва: четырнадцать коров, семнадцать… руки у него болели, спина разламывалась, и Даб видел, чего ему стоил этот тяжкий труд. Впервые в жизни, глядя на Минка, он пожалел, что у него только одна рука.
Теперь, когда Лоял уехал, в нем поднялось что-то вроде тоски по отцовской привязанности, тоски, о существовании которой в себе он даже не подозревал, которая тихо и мирно дремала где-то глубоко под его кривляньями и отлучками и которая до этого момента никогда не искала удовлетворения. Хотя она и не вытеснила застарелой ненависти и того, что он твердил про себя как заклинание: «Я никогда не стану таким, как он».
Они работали молча, слушая про цены на яйца, вести с ферм, новости с войны, о которых вещал трескучий, засыпанный соломенной шелухой радиоприемник, работавший от большого хозяйственного аккумулятора и стоявший на полке за дверью доильного помещения. Пока работали, пока молоко струями било в ведро, они на время переставали быть отцом и младшим сыном и делались равными по отношению к этому нескончаемому труду. «Мы все наладим, все будет хорошо», – сказал Минк, не отвлекаясь от дойки, мышцы на его руках попеременно напрягались и опадали.
– Три с половиной часа дойки. Я доил, Даб таскал проклятое молоко. Только на молочное производство уходит до семи часов, плюс косьба и молотьба, чистка коровника, навоз нужно по полю разбросать, пока снег не выпал, завтра к семи часам надо отвезти сливки к шоссе, плюс остальные мелочи жизни, такие как копание картошки и заготовка дров. На этой неделе еще предстоит забой скота, придется этим заниматься всю ночь. Если бы я захотел составить список только тех дел, которые надо сделать срочно, в доме бумаги бы не хватило. Да и не знаю, сумел ли бы я карандаш в руке удержать, кажется, мои пальцы уже ничего, кроме коровьих сосков, держать не могут. Вам с Мернель придется заняться курами и снять сколько сможете яблок, еще картошку выкопать. Мернель придется школу пропускать – неделю или больше, пока со всем не управимся. Не вижу другого способа все это провернуть, кроме как перестать спать.
То, что говорил Минк, было правдой. Но от того, как яростно кривился рот Минка, Джуэл разозлилась.
– Если мы будем работать вне дома, придется тебе ужинать чем попало. Я не могу сворачивать шеи курам, ощипывать их, копать картошку, собирать яблоки, а потом идти в дом и готовить большой ужин. Ты не можешь позвать на помощь одного из сыновей твоего брата – Эрнеста или Норманна? – Она знала, что не может.
– Ну, тогда уж извини, если я не смогу заниматься молоком, потому что придется дрова заготавливать. Черт подери, мне нужен плотный ужин, и ты должна мне его готовить. – Он уже орал во всю глотку. – И – нет, я не могу позвать на помощь мальчишек Отта. Во-первых, Норманну всего одиннадцать лет, и силенок у него не больше, чем у мокрой соломины. А Эрни уже помогает Отту, но Отт говорит, что делает он это с такой же охотой, с какой принял бы яд.
В этот момент ей хотелось, чтобы он сам принял яд, и он знал это.
На дорожке, ведущей к дому, послышалось тарахтенье приближающейся машины. Джуэл выглянула в окно.
– Кто б сомневался, что они явятся. Это старуха миссис Ниппл и Ронни.
– Я – в коровник, – сказал Минк, хватая рабочую куртку.
От ссоры он раскраснелся, и Джуэл на миг увидела его молодым: молочная кожа под распахнутой рубашкой, сверкающие голубые глаза и прекрасные волосы. Сила, бурлившая в нем, самодовольный вид, с каким он расхаживал и одергивал комбинезон, чтобы освободить интимные части тела от натирающей ткани…
Они с Дабом дружной командой отправились через заднюю дверь в дровяной сарай. Скрипнула входная дверь. Толстые пальцы миссис Ниппл ухватились за ее край.
– Не стойте там, миссис Ниппл, входите, и Ронни тоже, – крикнула Джуэл, наливая воду в чайник. Когда-то в детстве старушка обожгла губы горячим кофе и с тех пор не прикасалась к нему, а когда пила чай, дожидалась, пока он совсем остынет. – Я так и думала, что мы вас скоро снова увидим.
Миссис Ниппл инстинктивно угадывала чужие невзгоды, как дикие гуси по сокращающейся долготе дня угадывают, что пора улетать. Она за много миль чуяла малейшие признаки раздора.
* * *
– После того, через что ей пришлось пройти, – как-то мрачным тоном сказала Джуэл дочери, – она, наверное, способна почуять, даже если на Кубе что-то будет не так.
– А через что ей пришлось пройти? – спросила Мернель.
– Это я тебе расскажу, когда ты вырастешь. Сейчас не поймешь.
– Скажи, – заныла Мернель, – я пойму.
– Не думаю, – ответила Джуэл.
* * *
– Ронни пошел в коровник поговорить с Лоялом и остальными, – сказала миссис Ниппл, бочком протискиваясь в дверь и мгновенно охватывая взглядом разбитое окно, кучу картофельных очистков в раковине, полуоткрытую дверь дровяного сарая, кривую улыбку Джуэл. Она нюхом учуяла запах ярости, дымок чьего-то отъезда. Сев на стул Минка, она даже сквозь толстую коричневую юбку ощутила тепло сиденья. Не было никакой нужды сообщать ей о том, что случилось. Она знала: Минк убежал в сарай, увидев, что она приехала.
Всем своим видом – от белых колечек перманента, сделанного в «Домашней парикмахерской Коринны Клонч», до блестящих слезящихся глаз, пышной груди, выпирающей задней части, которую не мог сдержать ни один корсет, и кривых ног, дугами расходящихся так далеко от таза, что ее походка напоминала раскачивающееся кресло-качалку, – она напоминала курицу, отложившую тысячу яиц. Даб как-то, хихикая, сказал Лоялу, что расстояние между ее бедрами, должно быть, не меньше трех ладоней и что она могла бы сесть на клайдсдейла[7], как прищепка с выемкой посередине на веревку.
Миссис Ниппл вздохнула, потрогала узкий осколок стекла на клеенке и произнесла, готовя почву для того, что должна была сообщить ей Джуэл:
– Похоже, кругом одни неприятности. Мало того, что приходится развозить собственные бумажные мешки по магазинам, так в прошлом месяце Ронни получил письмо от владельца молоковозов, в котором сообщалось, что они упрощают маршрут. Теперь они не будут подъезжать к каждой ферме. Если мы хотим продавать им сливки, мы должны сами доставлять их к шоссе. Ронни, конечно, это делает, но уж больно утомительная это работа и отнимает кучу времени. Думаю, он на этом много потеряет. Не знаю, как, по их представлениям, мы должны с этим справляться. Или вот еще золовка моей племянницы Иды, ну, вы помните Иду, она проводила у нас каникулы, когда Тут еще была жива, однажды все лето помогала мне по саду, собирала ягоды, яблоки и все такое прочее, и Ронни помогала с сеном. Ну, та самая, которую искусали шершни, свившие гнездо под тыквой. Теперь она живет в Шореме и написала мне, что ее золовку, миссис Чарлз Ренфрю, которая заведует в Бартоне столовой Ю-авто[8] – я там никогда не ела и, думаю, не доведется – и чей муж на фронте, служит в военно-воздушных силах, арестовали. Она застрелила парня, Джима-как-там-его, который работал электриком, из его собственного ружья. Кажется, он шастал, вынюхивал, заглядывал в окна, чтобы увидеть, что она делает, и много чего увидел. Она взяла повара себе в помощники, чтобы он подсоблял ей управляться со столовой, цветного парня из Южной Америки, она не говорила, как его зовут, но этот парень из электрической компании увидел, как миссис Чарлз Ренфрю целуется с поваром, и ворвался к ним с ружьем. Видите ли, он сам к ней неровно дышал. Говорят, она довольно хорошенькая. Так вот, она вырвала у него ружье и застрелила его. Насмерть. Когда ее арестовали, она все признала, но сказала, что это был несчастный случай. У нее шестеро детей, младшему всего четыре года. Бедные детишки. Об этом писали в газетах. Ужасно, правда? – Миссис Ниппл сделала паузу, чтобы дать возможность Джуэл вступить в разговор. Что могло быть хуже многочисленных преступлений миссис Чарлз Ренфрю, выставленных на всеобщее обозрение, и миссис Ниппл рассказала Джуэл эту историю, чтобы дать ей понять: какими бы ни были ее неприятности, бывает и гораздо хуже. Она подалась вперед. Джуэл подвинула ей чашку чая, при этом струйка перелилась через край.
– А у нас тут вчера вечером случился сюрприз, – сказала она. – Лоял встал посреди ужина из-за стола и объявил, что они с Билли уезжают на Запад. Вчера они и уехали. В некотором смысле застали нас врасплох. Но таковы уж нынешние дети.
– Вы совершенно правы, – подхватила миссис Ниппл. – У меня прямо дыхание перехватило. Ронни будет расстроен. Они с Лоялом были не разлей вода. – Она подумала, что было неправильно со стороны Джуэл выложить все вот так прямо и коротко, без подробностей о том, кто что при этом говорил, и заподозрила, что все гораздо глубже. Минк наверняка взбесился. То, как поведала об этом Джуэл, давало основания предположить, что эта история не из тех, что постепенно отступают, скукоживаются и вызывают все меньше разговоров, а через год о них и вовсе все забывают. Эта – из тех, что вызревают со временем. Таких историй куча. Она без труда могла вспомнить одну-две прямо сейчас. Тут дело серьезное. Она никогда не понимала, почему Ронни нравился Лоял, он ничем не выделялся даже среди Бладов, гораздых все делать не так, разве что физической силой да каким-то бешеным трудолюбием. Теперь одному Минку эту ферму снова не поднять, слишком многое против. Достаточно посмотреть, как она обветшала с дедовских времен, когда ее окружал крепкий забор для заботы о рысаках и тонкорунных мериносах, тогда тут держали только трех коров для семейных потребностей в масле и сыре. Миссис Ниппл нравилась Джуэл, но та не следила за чистотой в доме, позволяя мужчинам входить в рабочей одежде и обуви, не обращая внимания на пыль и паутину и слишком гордясь своим молочным хозяйством.
– Ну, Билли-то прямо бредила тем, чтобы убраться отсюда, и не могу сказать, что я ее осуждаю. Но то, что Лоял захотел уехать, удивительно. Он-то парень деревенский до мозга костей. Она еще увидит: можно вырвать парня из деревни, но нельзя вырвать деревню из него. Минку и Дабу одним трудно будет доить всех этих коров. А Даб-то еще здесь или снова куда-нибудь умотал? – Теперь ее голос лился, словно теплый бульон, способный залечить больное горло.
– С тех пор как это случилось, сидит тут как пришпиленный. Но вы же знаете, какой он. Вдвоем им всю работу переделать не под силу. Не смогут они вдвоем обслуживать ферму. Придется кого-нибудь нанимать, наверное.
– Вы никого не найдете. Ронни всю прошлую зиму, всю весну и лето пытался, думаю, он знает всех на двадцать миль в окру́ге, кто может держать вилы в руках, и лучшее, что он смог найти – это школьники и столетние старики на деревянных ногах и с клюкой. Кое-кто пристраивает к работе девочек. Как насчет Мернель? Может, она сумеет доить? Сколько ей – двенадцать, тринадцать? Ее это проклятие еще не настигло? Я, помню, доила с восьми лет. Или вы можете доить, пока она делает работу по дому. Говорят, что коровы нервничают, когда их доит женщина. Лично я никогда такого не замечала. – Старая дама шумно отпила чаю.
– Нет, мэм, я в коровнике не работаю, и дочка моя не работает. Коровник – мужское дело. Если они не справятся, могут кого-нибудь нанять. Я отдала коровнику двух сыновей, этого достаточно. Минк уже пристроил меня и Мернель к тому, что считает своими побочными занятиями.
– Я заметила, что теперь, когда так трудно найти помощника и когда молодые люди на войне, довольно много ферм выставляют на продажу. А уж как цены на сливки скачут! Конечно, пока идет война, это неплохо, но они ведь снова могут упасть. Я слышала, что Дартер продал ферму. Трое мальчиков – на военной службе, четвертый работает на судоремонтной верфи, девочка пошла на курсы медсестер, и Клайд сказал: «Не понимаю, зачем нам торчать здесь, когда мы можем в другом месте зарабатывать хорошие деньги, не загоняя себя до смерти». Говорят, он уехал в Бат, что в Мэне, к сыну, там освоил сварку, и теперь у него хорошо оплачиваемая работа. Жена его, по слухам, тоже нашла неплохую работу, и с учетом того, что они получают и что выручили от фермы, которую продали одному учителю из Пенсильвании, который приезжает только на лето, они неплохо обеспечены. Удивительно, что Лоял и Билли сорвались так внезапно. Он даже ничего не сказал Ронни, а ведь они на этой неделе собирались поохотиться на гусей. Мы главным образом поэтому и приехали – Ронни хотел договориться с Лоялом о времени. Я сказала, чтобы они отстрелили ястребов, которые у меня кур таскают, а теперь вот еще и индюшка пропала. Не знаю, может ли ястреб поднять индюшку, но думаю, они ее оттащили недалеко и съели. Как теперь Ронни будет без Лояла? Они были так близки. А уж как вам без Лояла трудно будет! Уж он-то был работником!
– Что-нибудь придумаем. Но что – не знаю. Знаю одно: ни я, ни Мернель ни в какой коровник не пойдем.
3
В пути
Направившись на север, он быстро доехал до дальнего конца озера. У него был небольшой рулончик денег, деревенских денег, долларовых бумажек, засаленных, измятых, прошедших через десятки рук механиков, батраков, лесорубов. Имелось у него и достаточное количество талонов на бензин, чтобы куда-нибудь доехать. Похоже, никто за ним не гнался, и он не опасался, что когда-нибудь его станут искать. Та стена построена на совесть, думал он, устоит. Если лисы не сделают подкоп. И если никто туда не пойдет. А кому, черт побери, нужно туда ходить? Никому.
На осеннем холоде дороги затвердели и были почти свободны – лишь время от времени встречалось несколько машин. Отличная погода для охоты. Лесовоз, выехавший из чащи, оставил на асфальте рельефную двойную дугу грязи от глубоких протекторов на повороте – видимо, увяз где-то на лесной дороге в мягкой почве. У него было сорок семь долларов, достаточно, чтобы куда-нибудь добраться. Если машина выдержит. Его «Шевроле»-фургон 1936 года находился во вполне хорошем состоянии, если не считать сломанной спинки сиденья, которую приходилось подпирать сзади деревянной крестовиной. Обогреватель испускал струйку воздуха не теплее дыхания летучей мыши, но стеклообогреватель работал исправно. Аккумулятор, правда, был старый, и завести его холодным утром становилось не легче, чем выдоить портвейн из заднего левого соска коровы. Зато протекторы на покрышках еще не стерлись. Колеса он берег. Если машина сломается, он найдет работу. Зайдет на первую попавшуюся ферму и наймется. Что его беспокоило, так это талоны на бензин. У него их хватало на двадцать галлонов – только чтобы пересечь штат Нью-Йорк. И это ему нужно было сделать – кровь из носу.
Он не думал о том, куда едет, – лишь бы подальше. Ему казалось, что направление выбирать не обязательно – нужно просто удаляться от фермы. Идея состояла не в том, что он может направиться куда захочет, а в том, что ему нужно куда-нибудь приехать, куда – не важно. В его голове никогда даже искоркой не вспыхивало желание изучать пауков или камни, работу часовых механизмов или трепет бумажных рулонов, выходящих из-под черных типографских прессов, нанесение на карту высоких арктических широт или пение тенором. Ферма давала ему ответы на все вопросы, впрочем, у него и вопросов-то никогда не возникало.
Запад – таково общее направление. Именно там, как считала Билли, что-то было. Не другая ферма. Она мечтала о каком-нибудь сумасшедшем месте, о работе, связанной с войной, о том, чтобы зарабатывать хорошие деньги где-нибудь на фабрике, если удастся найти такую, на которой ногти не будут ломаться, о том, чтобы скопить немного для начала, ходить куда-нибудь по воскресеньям, делать прически – завитые локоны, разделенные прямым пробором и закрепленные на затылке двумя красными заколками с искусственными бриллиантами. Она хотела петь и неплохо пела, когда выдавался случай. Ходила в «Клуб-52», набитый парнями с базы. Классная, элегантная, как Анита О’Дей[9], она стояла перед микрофоном, держась за него одной рукой, с красным шифоновым шарфом, ниспадающим с плеча, и голос ее лился из конца в конец зала, как вода, перекатывающаяся через камни, – чистый, но немного насмешливый.
Предполагалось, что он найдет там работу. Деньги, по ее словам, хорошие – от доллара в час и выше. На авиационных заводах ребята зарабатывали по пятьдесят, шестьдесят долларов в неделю. Вот они и поедут на запад, но будут придерживаться границы. Она называла города – Саут-Бенд, Детройт, Гэри, Чикаго – вот это места! Чего бы ни хотелось Билли, он старался выкинуть из головы все, что случилось на самом деле. Бензин будет проблемой.
Дорога тянулась вдоль озера параллельно железнодорожному полотну. Вот еще одна возможность – поехать на поезде. Он никогда еще этого не делал, но многие ездили. Даб, например – даже тупица Даб, когда у него срывало крышу, болтался повсюду в товарных вагонах – садился и ехал куда глаза глядят. Возвращался в полном раздрае, вонючий, притаскивал старый мешок, набитый всякой дрянью, волосы от грязи стояли у него дыбом.
«Подарки! Я привез тебе подарок, ма», – говорил он, бывало, вытаскивая какое-нибудь барахло. Один раз приволок тридцать форм для выпечки, к краям которых прилипли остатки яблок, запеченных в вишневом сиропе. Как-то – пять маленьких тюков хлопка высотой дюймов в шесть, с бирками, на которых было написано: «Подарок из Нового Орлеана, хлопковой столицы мира». А однажды – половину дорожного рекламного щита «Бурма шейв»[10] – на ней было только слово «Бурма» – и пытался им втемяшить, что эта вещь прямиком из Бирмы[11]. Еще однажды притаранил пятьдесят фунтов красной глины откуда-то с юга, он и сам не знал, откуда именно.
«Там все вокруг такое, кругом красная грязь. Красная, как кровь. Дороги красные, ветер дует красный, основания домов красные, сады, фермы – все красное. А вот картохи и репы – такого же цвета, как у нас. Никак понять не могу: везде же существует красная картошка, а в краях, где земля красная, ее нет». Он высыпал красную землю на одну из Джуэловых клумб, где мог время от времени смотреть на нее и предаваться воспоминаниям о месте, откуда ее привез.
В темноте позади свет то загорался, то гас, постепенно увеличиваясь в зеркале заднего вида. Лоял услышал свисток, как он думал, где-то у себя за спиной, у переезда, но когда он вывернул из-за плавного поворота к мосту, поезд оказался прямо перед ним, гоня перед собой сигнальный свет по рельсам, которые, содрогаясь, лязгали в нескольких футах от него.
Однако самым худшим был тот случай, когда Даб вернулся с содранной до костей спиной, лицом, покрытым струпьями, похожими на черные островки, и ампутированной левой рукой, от которой остался только обрубок, напоминавший тюлений плавник. Минк и Джуэл, застывшие, в лучшей своей одежде поехали тогда за ним, это был первый раз, когда Минк покидал пределы штата. Даб называл свою культю «мой плавник», старался шутить, но явно был не в себе и подавлен. «Могло быть и хуже», – сказал он, с каким-то безумным выражением лица подмигнув Лоялу. С тех пор он уезжал только один раз, не дальше Провиденса в Род-Айленде, и только автостопом, зайцем на товарняках больше не ездил никогда. В Род-Айленде, говорил он, есть что-то вроде школы, где учат разным трюкам – как управляться без половины частей тела. Там могут человека починить с помощью искусственных кистей, рук и ног, сделанных из разных ремней и алюминия. А еще делают из новой пластмассы пальцы, которые работают так хорошо, что однорукий может играть, как человек-оркестр. Однако вернулся он оттуда таким же, как был, и даже не захотел ничего объяснить. Оказалось, это подразделение Администрации по делам ветеранов, предназначенное для военнослужащих, фермерам же оставалось обходиться своими силами. В любом случае требовалось доказать, как далеко ты продвинулся в той или иной области, до того как стал калекой. А ведь многие покалечились еще в детстве. Взять хоть Минка, вилы проткнули ему бедро, когда мальчишке было всего пять лет, потом две автомобильные аварии, потом он перевернулся на тракторе, потом племенная свиноматка повалила его и наполовину откусила ухо, но вот он тут как тут, хромает, но силен и надежен в работе, как трелевочная цепь. Крепкий орешек. Старый сукин сын.
Углубившись в штат Нью-Йорк на много миль, Лоял съехал на поле, отгороженное от дороги шеренгой деревьев виргинской черемухи. Вот и сломанная спинка сиденья придется кстати, подумал он, вынимая подпорку и откидывая спинку назад – водительское кресло превратилось в узкую кровать. Но когда он скрючился, чтобы лечь, грудь снова стеснило, словно в горло ему забили тупой кол, он стал задыхаться и просидел остаток ночи, уставившись на звезды.
Ни одна из радиостанций, даже французская болтовня и звуки аккордеонов, не ловилась без помех на всем пути вдоль кромки андирондакских[12] хвойных лесов, состоявших из елей и скелетоподобных лиственниц, неподвижно восстававших из серой земли; иногда впереди на дороге возникала мешанина из оленьих ног и фосфоресцирующих глаз, он замечал их с достаточно далекого расстояния, чтобы успеть ударить по тормозам и одновременно нажать на клаксон, наблюдая, как олени уходят, и тревожась о тормозных шлангах и сношенных тормозных колодках. Мимо проплывали домики величиной не больше сарая для инструментов, над их сложенными из камней печными трубами вились струйки дыма; заколоченные деревянные дома; дорожные щиты с надписями: «Воронье гнездо», «Лагерь «Час отдыха», «Убежище», «Ущелье москитов», «Прогулка в сумерках»; мосты, под которыми стремительно неслась вода; гравийные дороги, изрытые выбоинами – не более чем борозды, проложенные через гущу деревьев, извилистые, петляющие, бегущие от реки Святого Лаврентия, находящейся в тридцати милях к северу. Непривычный вид этих мест, их пустынность придавали спокойствие его дыханию. Ничто здесь не имело к нему никакого отношения, ни минувшие события, ни чувство долга, ни семья не давили на него. Угрюмая земля, влажная, как внутренняя поверхность бадьи во время дождя. Стрелка уровня топлива клонилась вниз, и он начал высматривать заправочную станцию. Чем больше он удалялся от дома, тем, казалось, свободней ему дышалось.
Поздним утром он подъехал к «ловушке для туристов»[13] «Большая сосна», расположившейся в ожидании посетителей за длинным изгибом дороги. Он умирал от голода. Четыре или пять старых легковушек и грузовиков стояли здесь, видимо, так давно, что у них спустили шины. Длинный ряд павильонов венчали вывески: «Мокасины маленького индейца», «Арахисовая невеста», «Целебные подушки», «Изделия из кожи», «Продовольственные товары», «Сувениры», «Вы отдыхаете – мы меняем вам колеса», «Закусочная», «Бездонная чашка кофе за 5 центов», «Туалет», «Подарки и новинки», «Ремонт автомобилей», «Червяк и блесна», «Туристский домик». Обзор места был наполовину закрыт, но круглая верхушка бензоколонки отражала свет, пробивавшийся сквозь красный рекламный знак нефтегазовой компании «Тидол». Парковочная площадка была бугристой, как булыжная мостовая, изрытой заполненными грязью ямами и иссеченной колеями так, что напоминала стиральную доску. Имелся тут гаражный бокс с дверью, висевшей на перекошенных петлях и процарапавшей полукруг в гравии. Возле главного здания кто-то сложил штабель пиломатериалов.
Лоял вошел. Деревянная стойка, несколько табуретов, вручную обитых красной клеенкой, три кабинки, выкрашенные в цвет апельсинной кожуры. В воздухе стоял запах сигаретного дыма. Где-то играло радио: «Стрелой пронзило сердце мне, когда расстались мы». Позади прилавка были выставлены образцы мокасин, игольниц, разноцветных перьевых метелок для пыли с ручками, вырезанными в форме елки, брезентовые чехлы для защиты автомобильных радиаторов, фетровые вымпелы, деревянные дощечки с выжженными на них шутливыми высказываниями и девизами, зеленые наклейки на бампер с надписью «Эта машина побывала в Адирондаке», на стене висели головы животных и чучела окуня, щуки и восьмифунтовой форели с квадратными хвостовыми плавниками, на березовых колодах стояли чучела медведя, лося, оленя и дикобраза, размерами превосходящего любую из представленных тут же рысей с выгнутыми спинами, над дверной притолокой грузно ползла королевская змея, и повсюду были развешаны засиженные мухами фотографии мужчин в высоких, по колено, сапогах, со своими охотничьими трофеями.
– Чем могу? – раздраженно произнес женский голос. Его обладательница – толстая женщина со светлыми волосами, разделенными на косой пробор и закрепленными на затылке черным шелковым бантом – сидела в одной из кабинок, вальяжно развалившись в пространстве, предназначенном для троих. На ней поверх домашнего платья с рисунком из морских коньков был надет серый мужской свитер. Перед ней на тарелке лежал квадратный, разрезанный по диагонали на два треугольника сэндвич с куриным салатом, с краев тарелки свешивались полоски бекона, рядом стояли кофейник и сувенирная кружка и лежал открытый журнал. Лоял разглядел заголовок: «Телеграмма пришла тогда, когда у меня были отношения одновременно с двумя».
– Я бы хотел чашку кофе и сэндвич, если у вас найдется такой же, – он указал на ее тарелку большим пальцем.
– Эт-можно, – она поднялась на ноги, он увидел выглядывавшие из-под платья мятые штанины рабочих брюк и измазанные маслянистой грязью рабочие сапоги.
– А «Большая сосна» это вы и есть?
– Почти. Довольно большая, как видите. Миссис Большая сосна. Мистер Большая сосна[14] в Тихом океане, а я здесь, отгоняю медведей от закусочной и чиню машины – насколько это возможно без запасных частей и покрышек. Хлеб поджарить?
– Хорошо бы.
Она вынула открытую миску куриного салата из большого «Сервела»[15], дверца которого вокруг ручки была обесцвечена машинным маслом, шлепнула на гриль три ломтика бекона и положила поджаривать три куска белого хлеба, потом лопаткой прижала бекон к решетке, чтобы из него вытопилось сало. Снова открыла «Сервел», захватила головку латука, как шар для боулинга, оторвала несколько листков и бросила их на разделочную доску. Перевернула бекон, перевернула хлеб, прижала лопаткой. Принесла из кабинки кофейник, налила кофе в чашку с принтом «Сувенир из андирондакской «Большой сосны». Поддела лопаткой ломтик хлеба, зажаренный до узкой черной кромки по краю корки, сбросила его на тарелку, смазала острым майонезом, положила сверху половину латука, шлепнула на него прямо посередине ковшик куриного салата, прикрыла другим тостом, уложив его точно на место, как каменщик укладывает кирпич, снова шлепнула ложку майонеза, потом остаток латука и горячий бекон. Когда последний тост оказался на своем месте, она взяла нож и взглянула на Лояла.
– Наискосок или целиком?
– Целиком.
Она коротко кивнула, приложила нож параллельно краю сэндвича и обрезала подгоревшие корки, после чего достала из холодильника двухдюймовую бутылочку сливок и со стуком выставила все на стойку перед ним.
– Прошу. Не доверяю парням, которые любят наискосок, – это по-городскому. С вас пятьдесят пять.
Он выудил мелочь из кармана, потом сел и принялся за еду, стараясь не слишком набивать рот. Она вернулась к своему журналу, он услышал, как чиркнула спичка, потом долгий выдох, потом почувствовал запах дыма. Женщина была большая, но недурная.
– Чертовски хороший сэндвич, – сказал он. – А можно еще чашечку кофе?
– Угощайтесь, – ответила она, стукнув кофейником по своему столу в кабинке. Он подошел с чашкой, и она, придерживая руку, в которой он ее держал, налила ему еще кофе. Ее пальцы коснулись его пальцев.
Господи! Он же не мылся с… Он отступил было назад, но вспомнил про бензин. Набрав полный рот кофе, попытался расслабиться. Сел за стол напротив нее и чуть склонил голову набок.
– Жалко расставаться с хорошей компанией, – сказал он, – но нужно ехать.
– Куда вы направляетесь?
– На Запад. Решил сбежать с фермы, поступить на какой-нибудь военный завод и немного заработать.
– Я бы тоже хотела. Там хорошо зарабатывают. Даже женщины, им на сборочных линиях платят столько же, сколько мужчинам. Клепальщица Роузи[16]. Но я должна торчать здесь, пока Пайни не вернется, а тут и пяти машин за день не набирается. Уж поверьте, я бы с радостью зайцем запрыгнула к вам на заднее сиденье.
– Боюсь даже подумать, что бы сделал в этом случае мистер Большая сосна. Думаю, моя голова красовалась бы вон там, на стене, рядом с чучелом скунса. – Он почувствовал, как от нее пахнуло холодной кислинкой, словно от дерна из-под камней, и она рассмеялась, одарив его взглядом, но он вынырнул из-под него, подмигнув.
– Миссис Дорогая Сосна, – произнес он задушевно-мягко, – не продадите ли вы мне случаем немного бензина? У меня почти не осталось талонов.
– Что ж, вы остановились в правильном месте, но обойдется это вам в две цены. – Ее голос, напротив, стал тверже, в нем зазвенел металл. Они вышли вместе и склонились над его машиной, пока она наполняла бак бензином. Здесь, на свету, он увидел, что в ней нет ничего особенного, – просто еще одна загнанная женщина, не знающая, как вырваться из сложившихся обстоятельств, умеющая подстраиваться и проявлять твердость одновременно, но готовая поделиться собой с каждым, кто окажется рядом.
– Теперь продéржитесь. – Поддев ногой тершегося вокруг ее ног рыжего кота, она подбросила его в воздух на несколько дюймов. – Отвали, котяра. – Последнее, разумеется, предназначалось ему.
Похоже, она сама не знает, насколько у нее все в порядке. Она может жить здесь в удобстве, вести свое дело, есть большие сэндвичи, у нее сколько угодно бензина, она может с ним химичить, назначать цены, как на черном рынке, обманывать мужа, воюющего на Тихом океане, касаться моей руки, не зная, что́ я, черт возьми, за фрукт, а бедная Билли… господи, где она? Несчастная женщина понятия не имела, как близко она подошла к краю.
– Как насчет небольшого бонуса за бензин? – Она сложила губы бантиком.
– Может, для вручения бонуса лучше вернемся в дом? – ответил он, улыбаясь так, словно зажимал губами гвозди, и действительно ощутил в горле металлический привкус; он едва дождался, пока дверь за ними захлопнется и защелкнется на замок.
* * *
Его руки обвились вокруг стенда с почтовыми открытками – для устойчивости ему не хватало дыхания. Он не совсем отдавал себе отчет в том, что происходит, но внезапно, пытаясь протолкнуть воздух в сдавленные легкие, почувствовал себя так, будто в самый жаркий день копал глубокую яму. Спущенные брюки комком лежали вокруг его ботинок. Он увидел свое грязное белье, и ему захотелось подтянуть их, но он не мог ни наклониться, ни вздохнуть.
– Хорошо смотришься, – сказала она с другого конца комнаты, наблюдая, как он давится, хватая ртом воздух. Она чуть приблизилась. – Говорю: смотришься хорошо, грязный хрипун. Ублюдок. – Она запустила в него тарелкой с остатками сэндвича, которая ударилась в стойку с открытками и упала в его брюки. Он видел ее, грязно-белую, между своих щиколоток, видел застывший на ней жир и красную ленточку бекона. И как его угораздило вляпаться в это? Как же его угораздило? Ведь он ее даже не хотел, ему от нее не было нужно ничего, кроме бензина.
Он с трудом втянул в себя воздух, ногой отшвырнул тарелку, подтянул брюки и со свистом снова вдохнул. Черт, что-то с ним не так. Сердечный приступ или еще что. Он доковылял до двери, в руках было полно открыток. Снаружи дул ветер, воздух был холодным; если ему суждено умереть, то он хотел умереть там, на улице, а не здесь.
– Давай, проваливай, – сказала она. – Считай, что тебе повезло. Повезло, что я не схватила мужнино ружье. Если тебе хватит ума, ты сейчас же уберешься вон и через минуту будешь мчаться по дороге, иначе я возьмусь за ружье. – Она надвигалась на него. Он повернул рычажок на замкé и распахнул дверь.
Парковочная площадка сжималась подступавшими с обеих сторон черными елями, становясь все меньше и меньше, как листок бумаги, который складывают и складывают. Его машина бледным пятном выделялась на фоне деревьев; схватившись за серебристую ручку водительской дверцы, он словно бы ощутил свою связь с распахнувшимся впереди простором. С хрипом и свистом втягивая в себя воздух, он втиснулся в машину, она завелась с ходу, мотор заурчал ровно и плавно, словно льющийся сироп, он дал задний ход, развернулся и выехал на стелившуюся за елями и пихтами пустынную дорогу, от которой в темноту ответвлялись простегивавшиеся москитами просеки, ведущие к лесным лагерям.
Когда он выезжал на дорогу, что-то шевельнулось на поленнице. Он подумал было, что чурбан падает, но оказалось – это рыжий кот, окрасом сливавшийся с древесиной. У них тоже когда-то был кот, такого же цвета – цвета ириски. Лоял помнил, как тот обожал его мать, сидел, бывало, на крыльце и, задрав голову, неотрывно смотрел на нее. Она называла его Спотти и кормила сливками. Не стоило ему тогда тереться о ногу Минка: тот очищал водосток от навоза, был на взводе и сломал ему лопатой хребет.
Через час дышать стало легче. Переднее пассажирское сиденье было сплошь завалено почтовыми открытками, их было семь или восемь десятков, и на всех – один и тот же толстый медведь, высовывающий бурую морду из-за черных деревьев. «Должно быть, цена им долларов восемь», – произнес вслух Лоял и на какой-то миг испытал холодное злорадство.
4
Что я вижу
После того как он выехал из лесистой местности, потянулась ровная земля – раскинувшиеся на многие мили вокруг виноградники с изогнутыми лозами, распятыми на проволоке. Автобусы «Коуч» дребезжали по дороге, покрытой гудроновыми заплатками, с раскрошившимся по краям, смешанным с гравием асфальтом, сквозь который прорастали сорняки; вдоль дороги, клонясь к ней, выстроились пропитанные креозотом столбцы, мерцающие светоотражающей краской. Местность была однообразной, как газон, он ехал мимо туристских домиков с крохотными террасками, на которых стояли металлические стулья, мимо бензоколонок и ветряков, мимо металлических рекламных щитов «Нехи»[17].
Разрастающееся небо. Желтые грунтовые дороги, ответвляющиеся на север и на юг. Гипсовые утки посреди пожухлых лужаек, флаги, плещущие на ветру. Собака, на протяжении сотни футов бегущая рядом с машиной.
В душном тепле кафе «Олимпия» он ест толстые блины с сиропом «Каро». В кофе слишком много цикория. Упершись локтями в стойку, наблюдает за поваром. Какой-то мальчишка паркует возле кафе свой мотоцикл «Индиан» и входит. Сдвигает на макушку защитные очки, под ними – круги белой кожи.
– Чертовы собаки, – говорит он повару. – Я когда-нибудь гикнусь из-за них. Сбил тут одного сукина сына: выскочил неизвестно откуда и хотел цапнуть меня за ногу.
– Так ему и надо, – отвечает повар, продолжая мять лопаткой картошку. – Хорошо бы это был не мой ирландский сеттер. Рыжий. Я живу тут неподалеку, у дороги.
– Может, и он, – говорит мальчишка. – Да нет, шучу. Этот был черный, и случилось это в пяти милях отсюда. Здоровенный такой сукин сын. Размером с корову, не меньше, черт бы его побрал. Уж точно не ирландский сеттер.
В Пенсильвании виноградники более обширные. Лозы уже увядают, кукурузные поля набухают. Плоскость пейзажа своей простотой вызывает у него тревогу. Дорога представляет собой нескончаемый плоский горбыль, прошитый асфальтовыми рубцами, на которых подскакивают стертые колеса, сотрясаются руки и плечи, раз за разом, без конца. Впереди идущие машины время от времени сворачивают с главной дороги на проселки и едут по ним, поднимая столбы пыли. Из радиоприемника доносится лишь треск статического электричества, сквозь который иногда прорываются обрывки фраз. «Джимми Роджерс…[18] молю Господа… с днем рождения… на европейском театре военных действий… прощайте, друзья… «Пиллсбери»… орган меж… Дуз… история… о!.. привет, друзья… Иисус сказал… слушатели пишут нам о…»
Он проезжает мимо старых грузовиков на лысой резине. Беспокоится по поводу собственных покрышек. Сворачивает на боковую дорогу, но из-под колес начинает лететь гравий, и душит пыль. Скрипит на зубах. Когда он трет подушечки пальцев о большой палец, чувствуется твердый песок. Он возвращается на бетонку.
На много миль тянется снегозащитное ограждение. Сапсан сидит на забытом в поле тюке сена. Равнина меняется, меняется цвет земли, темнее, темнее. Молитвы и долгие паузы чередуются в пыльном радиоприемнике. Сквозь осенний дождь дома кажутся трейлерами среди деревьев. Дубы надвигаются на него, проносятся мимо, скапливаясь позади в лесные заросли. Кафе H&C, столовые, заправки «Амоко», GAS 3 MI. ВПЕРЕД. Туман. Легкий ночной туман. В Индиане земля густого коричнево-черного цвета. В темноте исчезает стадо. Улетающие на юг гуси вспархивают из болот, с прудов, над головой – клин, состоящий из сотен птиц. Вода испещерена штрихами их худых шей, перечеркиваемых ныряющими головами и клювами.
В закусочной, склонившись над чашкой кофе, он задается вопросом: как далеко он едет?
5
Мгновенный удар
Этот медведь, как многие другие, прожил короткую и бурную жизнь. Рожденный в конце зимы 1918 года в логове под пнем, он был старшим из двух детенышей – по характеру сварливым и очень упрямым. Однажды он съел останки отравившегося орла и чуть не умер. Во вторую свою осень он с вершины утеса увидел своих мать и сестру, загнанных в углубление скалы охотничьими собаками-медвежатниками. Медведицы визжали от страха и безысходности, но ответом им был лишь сухой треск охотничьих ружей. В том же году охотились на него самого, но ему удавалось спасаться от гибели и даже повреждений до 1922 года, когда пуля, начиненная выметенными из дома гробовщика обломками шурупов, снесла ему левые клыки, сделала психически неуравновешенным и страдающим хроническими гнойниками.
Следующим летом в восточной части его «владений» появился «Охотничий домик» Маккерди – массивный сруб из соединенных «ласточкиными хвостами» еловых бревен и резных кедровых столбов. Нюх медведя был обострен голодом. Однажды он подошел к мусорной свалке, изобиловавшей экзотическими персиковыми очистками, корочками хлеба с остатками масла и обрезками говяжьего жира, который таял у него в горле. С тех пор он начал нетерпеливо рыскать после полудня между деревьями, ожидая помощника повара с бадьей на колесах, заполненной оранжевыми шкурками, подгнившей картошкой, обрезками сельдерея и куриными косточками, залитыми маслом из-под сардин.
Помощником был повар из поселка лесозаготовителей, который учился здесь тонкостям кухни для богатых. Увидев в сумерках медведя, он с громкими криками помчался в дом. Хозяин Маккерди, который в кухне обсуждал с поваром лесной турнедо,[19] лично вышел посмотреть на медведя. Он увидел некое неуклюжее существо с массивными плечами и собачьей мордой и велел своим плотникам построить скамейки на склоне над свалкой. Те оборудовали зону с оградой из очищенных от коры молодых деревцев, определявшей границу безопасности. Гости из тех, кто посмелее, болтая между собой, проходили через березовую рощицу, чтобы посмотреть на медведя. Они хватали друг друга за плечи и в страхе вскидывали руки к горлу, сдавленно смеясь. Медведь никогда не смотрел вверх.
Все лето постояльцы наблюдали, как медведь когтями разгребает мягкий, облепленный мухами мусор. На мужчинах были прогулочные костюмы или фланелевые брюки и свитера с ромбовидным узором, на женщинах – мятые льняные брюки-трубочки и блузы с матросскими воротниками. Они вскидывали свои «Кодаки», замирая при виде блестящего медвежьего меха и отполированных когтей. Оскар Антерганс, смотритель лесных участков, продававший сотни своих фотопейзажей изготовителям открыток, в летнее время снимал медведя возле свалки. Антерганс постоянно ходил по тропе за помощником повара и подбирал упавшие с его подпрыгивающей на кочках бадьи вонючие очистки и яичную скорлупу – то, чего так ждал медведь. Повар сваливал помои остроносой лопатой, швыряя в медведя гнилыми помидорами и половинками грейпфрутов, напоминавшими желтые скальпы.
На второе или на третье лето после того, как Антерганс начал делать снимки медведя, к «Домику» подвели электричество. Однажды вечером медведь не появился возле свалки, не видели его и в последовавшие недели и годы. «Домик» сгорел в новогодний сочельник 1934 года. Дождливым майским вечером 1938-го Оскар Антерганс упал в ванной своей отдельно от него жившей жены и мгновенно умер от удара – кровоизлияния в мозг. Почтовые открытки его пережили.
6
Фиолетовая туфля в снегу
Утопая в снегу, Мернель брела вниз по крутой дороге, снег набился ей в ботинки. Пес бежал по ее следам, то ныряя, то выныривая из-под снега, как будто катался на американских горках.
– Напрасно ты себя умучиваешь, – сказала Мернель. – Тебе никто ни писем, ни открыток не посылает. У безмозглых собак не бывает друзей по переписке. Представляю себе, что бы ты написал, если б мог. «Дорогой друг, пришли мне кота. Гав-гав, Пес».
Позднее Минк стал пользоваться снегоуплотнителем, который город продал ему задешево, когда администрация заменила его снегоочистителем на тракторной тяге. Уплотнитель представлял собой реечный крутящийся барабан, который гладко утрамбовывал снег, после чего грузовик, даже с цепями на колесах, не мог ездить по дороге ни вверх, ни вниз. С ноября, перед большими снегопадами, Минк оставлял грузовик у подножия дороги и каждое утро на тракторе перетаскивал к нему сорокалитровые бидоны со сливками.
– Оставь грузовик тут, наверху, мы же рискуем оказаться в западне на всю зиму. А так у нас будет хоть какой-то шанс, если дом загорится или кто-то сильно поранится. Мы сможем добраться до дороги, – увещевала Минка Джуэл. Джуэл больше всего боялась несчастных случаев и пожара, потому что когда-то видела, как горели отцовские конюшня и коровник вместе с лошадьми и коровами. И еще она видела, как умирал ее старший брат, после того как его вытащили из колодца, сгнившая крышка которого много лет пролежала незамеченной под разросшейся травой. Рассказ об этом событии всегда сопровождался определенным ритуалом: откашлявшись, Джуэл некоторое время скорбно молчала, сплетя пальцы и уложив запястья на колышущуюся грудь, когда она начинала говорить, руки двигались в такт речи.
– Он страшно разбился. Все косточки были переломаны. У того колодца и так глубина была сорок футов, так мало того – сверху брата еще и камни прибили, которые вывалились из кладки, когда он падал. Чтоб достать его, пришлось сначала убрать восемнадцать огромных камней, некоторые весили больше пятидесяти фунтов. Их доставали один за другим очень осторожно, чтобы еще и новые не потревожить. Слышно было, как там, внизу, не умолкая, стонал Марвин: «А-а-а, а-а-а…» А потом Стивер Батвайн спустился вниз, чтобы вытащить его. Это было жуть как опасно. Стенки колодца могли в любой момент обрушиться. Стиверу Марвин нравился. Он тем летом делал для него кое-что по хозяйству, помогал сено заготавливать, и Стивер говорил, что он был хорошим работником. Марвин и впрямь был хорошим работником, всего двенадцать лет, а уже сильный, как взрослый мужчина. Камни, которые вытаскивали из колодца, могли сорваться с петли и дать Стиверу по башке.
Даб всегда смеялся, когда она говорила «дать по башке», а она укоряла его: «Тебя назвали в честь Марвина – Марвина Севинса, так что нечего смеяться».
– Потом в колодец спустили что-то вроде маленького столика с отломанными ножками – обмотали стропами и стали спускать, только меньше чем на полпути он застрял, пришлось поднимать его снова и отпиливать край, чтобы столик прошел в колодец. А Стивер все ждал там, внизу, каждую минуту рискуя схлопотать булыжник себе на голову. Потом он поднял Марвина и уложил его на «столик». Марвин страшно закричал, когда Стивер поднимал его, чтобы уложить на доску, потом опять только стонал. Стивер сказал: единственное, что не давало Марвину развалиться на части, была кожа, а внутри нее – будто охапка хвороста. Когда Марвин, лежавший на доске, показался из колодца, весь черно-синий, покрытый кровью и грязью, с ногами, изломанными, как кукурузные стебли, моя мать потеряла сознание и прямо на месте упала на землю. Куры сбежались и стали топтаться вокруг нее, а одна – я ее потом всегда ненавидела – встала ей прямо на волосы и заглядывала в лицо, как будто хотела глаз выклевать. Мне было всего лет пять, но я поняла, что это злобная курица, схватила палочку и прогнала ее. Марвина принесли в комнату родителей, и один работник – это был молодой парень с фермы Мейсонов – начал смывать с него кровь. Он делал это очень осторожно, но все равно услышал хруст, как будто шуршание бумаги, когда вытирал ему лоб, и понял, что все это бесполезно, поэтому тихо положил окровавленную тряпку в миску с водой и ушел. Марвин умирал всю ночь, но ни разу не открыл глаза. Он был без сознания. А моя мать ни разу не зашла в комнату. Только стояла в коридоре и попеременно то плакала, то падала в обморок. Я много лет не могла ей этого простить.
Последние слова Джуэл словно бы выписывала огромными буквами на щите как инвективу эгоистической черствости своей матери, бабушки Севинс – чтобы все прочувствовали и содрогнулись.
Добравшись до подножия дороги, Мернель вспотела под своим шерстяным зимним комбинезоном. Ведущая в город дорога была пуста и изрыта гофрированными узорами обмотанных цепями автомобильных покрышек. На снегу отчетливо виднелись следы почтового грузовика, а на самом деле старого «Форда»-седана, у которого спилили багажник и приделали вместо него дощатую грузовую платформу на реечных полозьях. Приближение этого транспорта, лязгавшего ослабевшими звеньями цепей, всегда было слышно издалека. Мернель даже по виду следов могла с разочарованием определить, когда почтовая платформа была пуста, – шины неглубоко вдавливались в снежный наст.
Обычно она всю дорогу что-нибудь предвкушала, например, таинственный коричневато-желтый конверт, адресованный ее отцу; когда он вскроет его своим старым заскорузлым перочинным ножом, на стол выскользнет зеленый чек на миллион долларов.
Кое-какая корреспонденция для нее все же имелась. «Фермерский журнал» Лояла, который продолжали доставлять и после его отъезда, рекламная листовка скотоводческого аукциона, открытка для ее матери от Уоткинса с известием о том, что он приедет на первой неделе февраля. Внизу он приписал «если позволите». Еще одна открытка для Джуэл, с изображением медведя, написанная рукой Лояла так мелко, что читать ее не хотелось. Была открытка и для нее, третья в ее жизни адресованная лично ей корреспонденция. Она их считала. Поздравительная открытка ко дню рождения от мисс Спаркс, когда они с Лоялом были в отъезде. Письмо от сержанта Фредерика Хейла Боттума. И теперь эта.
Она не сказала матери, что сержант Фредерик Хейл Боттум попросил ее прислать ему снимок, ее фотку, как он написал, «в раздельном купальнике, если он у нее есть, но и в цельном сойдет. Я знаю, что ты миленькая, по твоему миленькому имени. Напиши мне». Она послала ему фотографию своей кузины Тельмы в купальном костюме, выуженную из жестяной коробки с письмами и фотографиями, хранившейся в кладовке. На снимке Тельме было четырнадцать, ноги и руки у нее выглядели как жерди. Она смотрела в камеру, прищурившись, от чего была похожа на монголку. Атлантический океан у нее за спиной был плоским. Купальный костюм – рыжевато-коричневый, самодельный, сшитый тетей Роузи. Когда намокал, он обвисал, как дряхлая кожа. На снимке он был мокрым и облепленным песком.
На открытке было изображено здание с белыми колоннами, просвечивавшее сквозь шеренгу деревьев, обросших мрачным зеленым мхом. Подпись гласила: «Усадьба на Старом Юге».
Мернель Блад, Сельский округ Крим-Хилл, Вермонт.
Дорогая Мернель, я увидела твое имя и адрес в письме друга по переписке и решила тебе написать. Я девочка, мне 13, у меня рыжие волосы и голубые глаза, рост 5 футов 3 дюйма, вешу 105 фунтов. Мои хобби – коллекционирование почтовых открыток с разными интересными местами и писание стихов. Если мы будем посылать друг другу открытки, можем собрать хорошие коллекции. Я постараюсь доставать симпатичные, не с отелями или – ха-ха – лысыми мужчинами, увивающимися за толстыми тетками.
Твоя подруга по переписке (будущая),Джуниата Каллиота, Хома, Алабама.
* * *
Пес, увязая когтями, бегал по изрытому снегу туда-сюда: до поворота, там, поднимая фонтан снега, резкий разворот – и галопом обратно к Мернель. Его радость была сравнима с радостью Мернель от получения открытки. На фоне снега собачья шерсть казалась ярко-желтой. Снегоуборщик широко расчистил обочины и сгреб снег в два вала вдоль дороги в преддверии февральских и мартовских метелей. Его ковш сгреб и вывернул на поверхность тысячи веток и опавших листьев, напоминавших кусочки крыльев летучих мышей. Пес снова помчался вперед и на сей раз забежал за поворот.
– А ну назад! Я возвращаюсь домой. Тебя там переедет молочный фургон, – крикнула Мернель, но и сама дошла до поворота ради удовольствия почувствовать под ногами твердую дорогу после полутора миль барахтания в снегу. «Джуниата-Каллиота-Хома-Алабама», – напевала она. Пес катался в свежевывороченных листьях, сметая их беспрестанно виляющим хвостом. Он посмотрел на нее.
– Ко мне, – сказала она, похлопав себя по бедру. – Идем.
Однако пес своенравно побежал прочь от нее, в направлении деревни, она повернулась к нему спиной и зашагала домой одна, корреспонденция лежала в кармане ее куртки. Она почти дошла до мостика, под которым лежал замерзший ручей, когда пес снова догнал ее. Он что-то держал в зубах, но не хотел ей отдавать – как ребенок, принесший подарок приятелю на день рождения. В упорной борьбе она все же вырвала предмет из его мокрой пасти. Это оказалась женская туфля с перепонкой, бледно-фиолетового цвета, испачканная и наполовину забитая листьями, кожа намокла в том месте, где собака держала туфлю зубами.
– Пес, пес, держи! – Мернель сделала обманное движение – замахнулась, как будто хотела бросить туфлю. Пес застыл, не сводя глаз с руки, сжимавшей его добычу. Мернель швырнула туфлю вперед, он заметил место, куда та упала, и рванул по снегу за призом. Так они играли всю дорогу до дома. Последний раз она забросила туфлю на крышу доильни и, напевая, вошла внутрь.
– И что он себе думает, когда забывает писать обратный адрес? – сказала Джуэл, вертя в руках открытку и хмурясь при виде изображенного на ней медведя. – Как, интересно, мы, по его мнению, можем ему отвечать и рассказывать о том, что у нас происходит? – спросила она, обращаясь к Минку. Не стоило ей задавать этот вопрос.
– Даже имени этого сукина сына не упоминай при мне. Ничего не желаю о нем слышать. – Минка передернуло. Плечи его ссутулились под плотной рабочей рубахой со стрелкой от утюга на рукавах. Его волосатые ладони, ритмично высовываясь из-под манжет, тянули коровьи соски́.
– Ты можешь послать ответ «до востребования» в то место, которое указано на штемпеле, – посоветовал Даб.
– В Чикаго? Даже мне ясно, что это слишком большое место, чтобы посылать туда что-то «до востребования».
– Вы весь день собираетесь трепаться или все же поработаем? – вставил Минк, продевая руки в рукава рабочей куртки и застегивая ее на пуговицы. – Я собираюсь устроить смотр коровам и решить, каких из них следует продать, чтобы сократить поголовье до размеров, с которыми мы в состоянии справиться. Если мы вообще в состоянии с чем-то справиться. Сейчас наших проклятых молочных чеков хватает разве что на пару обуви да бензин для трактора. – Кепка с засаленным козырьком нырнула под дверную притолоку.
Даб улыбнулся своей идиотской улыбкой, сунул ноги в рабочие ботинки с болтающимися шнурками и хвостиком последовал за Минком, как дворовая собака.
В хлеву – сладкое дыхание коров, заляпанный навозом пол, соломенная пыль, летящая с сеновала.
– За этих коров надо платить налог и противопожарную страховку. Твоей матери невдомек, но мы давно задолжали по выплатам кредита.
– Подумаешь – новость, – сказал Даб, проходя в темный угол и начиная откручивать ручку насоса. Когда хлынула вода, он стал наполнять ведра, со своим обычным дурацким юмором напевая старый гимн Ассоциации фермеров: «О, счастливая фермерская жизнь». Интересно, пел ли его кто-нибудь когда-нибудь по-другому?
7
Когда у тебя отрезана рука
Эту газетную вырезку Даб три года хранил в выдвижном ящике стола, набитом так, что он еле открывался.
«Марвин И. Блад из Вермонта получил тяжелую травму, спрыгнув с движущегося грузового состава на подъезде к Оуквилю, Коннектикут, и попав под товарный вагон. Он был доставлен в больницу Святой Марии, где ему ампутировали левую руку выше локтя. Начальник полиции Оуквиля Перси Следж заявил: «Люди, которые ездят зайцами в товарных вагонах, обречены на травмы. Этому молодому человеку следовало бы направить свою силу на военные нужды, а вместо этого он стал обузой для своей семьи и общества».
Минку и Джуэл пришлось ехать за ним в Коннектикут, в больницу. Минк посмотрел на пустой рукав вельветового пиджака из благотворительного фонда и сказал: «Ты только посмотри на себя, тебе двадцать четыре года, а выглядишь как развалина, Господи Иисусе. Оставался бы дома, а не шлялся черт знает где – не попал бы в такую передрягу».
Даб ухмыльнулся. Он и на похоронах будет ухмыляться, подумал Минк.
– Нужно, чтобы кто-нибудь зашил мне левый рукав на моих пижамах, – сказал Даб. Но это была не шутка. И когда Даб увидел в Хартфорде на улице винный магазин, он попросил Минка остановить машину возле него.
Трудно открывать бутылку виски одной рукой. Крышка была запотевшей и скользила. Он зажал бутылку между колен, поплевал на пальцы и старался открутить ее, пока пальцы не свело судорогой.
– Ма, – сказал он.
– Я никогда в жизни ни для кого не открывала бутылку с этой отравой и не собираюсь начинать теперь, – ответила та.
– Ма, мне нужно, чтобы ты это сделала. Если не сделаешь, я откушу горлышко этой проклятой бутылки зубами.
Джуэл неотрывно смотрела куда-то за горизонт, крепко сцепив руки. Они проехали еще милю. Машину заполнило тяжелое дыхание Даба.
– Ради бога! – заорал Минк, сворачивая на поросшую травой обочину. – Ради бога, дай мне эту чертову бутылку. – Он изо всех сил крутанул крышку, она издала трескучий звук, и бутылка откупорилась, Минк передал ее Дабу. Воздух наполнился запахом виски, тяжелым, как запах земли после лесного пожара. Джуэл приоткрыла окно; на протяжении последующих двухсот миль их продвижения на север Даб ни слова не сказал, хотя от врывавшегося в окно ледяного воздуха замерз до дрожи, и ему приходилось продолжать пить, чтобы не околеть от холода.
Еще с его младенчества они знали, что он дурачок, но теперь убедились, что он еще и пьяница. И калека.
Стало чуть легче, думал Даб, с тех пор как отбраковали четырех коров. Но они все еще плохо справлялись с вечерней дойкой, которая длилась до половины седьмого, а то и дольше. Он предпочитал пропустить ужин, но вымыться и избавиться от вони, которая пропитывала его в хлеву насквозь. Что он ни делал – принимал ли ванну, с головой ныряя в серую воду, скреб ли руки и шею хозяйственным мылом «Фельс-Напта», пока кожа не начинала гореть, густой запах навоза, молока и животных исходил от него, как жар, когда он танцевал с Миртл. Тем не менее субботними вечерами, покончив с дойкой, он мылся и отправлялся в придорожную забегаловку «Комета». И попробовал бы кто-нибудь его остановить.
Было холодно. Грузовик завелся только после того, как он полчаса держал горячий чайник на аккумуляторе. И вполне вероятно, что он не сможет завести его снова в полночь, когда «Комета» закроется, но сейчас ему было все равно, какое-то радостное нетерпение гнало его, заставляя игнорировать знак «стоп» на перекрестке и не тормозить на крутых поворотах, хоть машину и вело юзом на гравиевом покрытии. Он не видел, какой свет горит на светофорах. Он мчался к теплу «Кометы».
К тому времени как он приехал, вся парковочная полоса была забита. Над крышей закусочной светилась красная неоновая комета, и раскаленные буквы сияли в ледяной ночи. Грузовик Ронни Ниппла с дровами в кузове для лучшего сцепления колес с дорогой и устойчивости машины стоял в конце вереницы легковых машин и грузовиков. Снег заскрипел под колесами, когда Даб резко затормозил прямо за ним. Если что, вероятно, Ронни поможет ему завестись. Или Триммер, если он тут. Даб окинул взглядом ряд машин в поисках лесовоза Триммера, но не увидел его. Дыхание вырывалось, тут же превращаясь в кромку инея на лобовом стекле, там, куда не доставал теплый воздух из обогревателя. Он ругнулся по адресу дверцы, которая из-за разболтавшегося замка не желала защелкиваться и распахивалась снова, сколько бы он ни хлопал ею – мать твою, некогда с тобой возиться! – и побежал к входной двери с обледеневшим стеклом. Звякнул колокольчик, и на Даба во всю мощь обрушился шум, который был слышен даже из-за закрытой двери.
Душная, сизая от табачного дыма комната всосала его в себя. Люди теснились вокруг столов, барную стойку закрывал плотный ряд склонившихся над ней спин и плеч. Музыкальный автомат сиял разноцветными лампочками, ревел и булькал саксофонами. Даб ринулся навстречу вспыхивающим спичкам, мерцанию пивных бутылок, зловещим полуулыбкам опорожняемых стаканов. Остановившись у барного поручня, он поискал глазами Миртл или Триммера.
– Черт возьми, как тебе удается нагнать здесь такую жару? – крикнул он Ховарду, метавшемуся за стойкой туда-сюда. Бармен повернул к нему вытянутое желтое лицо. Обвисшая, обесцвеченная дымом кожа, казалось, скреплялась на нем металлической скобой черных бровей. Губы растянулись в гримасе узнавания, между ними сверкнули влажные зубы.
– Разгоряченные тела! – ответил он.
Какой-то мужчина за стойкой рассмеялся. Это был Джек Дидион. Одной рукой он обнимал сидевшую рядом женщину старше себя, в длинном мешковатом платье с рисунком в виде темно-синих шевронов. Она работала у Дидиона, доила коров и в будние дни носила только мужскую рабочую одежду. Дидион прошептал ей что-то на ухо, и она, откинувшись назад, громко захохотала.
– Разгоряченные тела! Это точно!
Ее поломанные ногти обрамляли черные дуги въевшейся грязи.
Разноцветные бутылки были составлены пирамидой. После смерти жены Ховард снял круглое зеркало с вытравленными по окружности синими птицами и яблоневыми цветками с ее туалетного столика и повесил его на стену позади бутылок, в результате чего количество их удваивалось, создавая впечатление изобилия и вызывая предвкушение.
Маленькая сцена в конце бара пустовала, но микрофоны и ударные инструменты были установлены. Картонный плакат на подставке, написанный буквами, осыпанными блестками, гласил: «Сахарные чечеточники». Пробираясь в мигающем свете между танцующими, Даб увидел Миртл за столиком у стены, она сидела, подавшись вперед, чтобы видеть входную дверь. Он подошел сзади и положил холодную руку ей на затылок.
– Господи! Так и умереть недолго! Ты почему опять задержался? Я уж заждалась.
Ее каштановые волосы были собраны в пучок, из которого выскользнули шпильки, и он съехал на затылок. Губы были обрисованы помадой в форме маленького ярко-красного поцелуя. На девушке был ее секретарский костюм с гофрированной блузкой. Маленькие ясные бирюзового цвета глаза обрамляли песочного цвета ресницы. Лицо с мелкими чертами и плоская грудь создавали образ слабости и уязвимости, и Дабу нравилась эта иллюзия. Он знал, что на самом деле она тверда, как дуб, – такой аккуратный крепкий дубок.
– А потому же, почему я всегда задерживаюсь: нужно закончить дойку, вымыться, завести машину, доехать сюда. Мы доили допоздна. Обычно меня это не волнует, но сегодня я чуть с ума не сошел, так не терпелось вырваться. Он, думаю, нарочно так медленно доил. Черт побери всю эту безнадегу.
– Ты ему сказал?
– Нет, не сказал. Он же озвереет. Прежде чем сказать, хочу удостовериться, что все его ружья под замком. Я видел, как он взбесился, когда Лоял уехал, а уж если я скажу, что мы собираемся пожениться и уехать, он вообще с катушек слетит.
– От того, что ты откладываешь разговор, легче не станет.
– Да дело ведь не только в разговоре. Я не могу смыться, пока не буду знать, что он сможет избавиться от проклятой фермы. Я-то считаю, что ее надо продать. Тогда и у меня появились бы какие-никакие деньги. Реальные деньги. Хорошо нам рассуждать: вот, мол, мы уедем, я пройду курс обучения для настройщиков пианино и все такое, но чтобы это случилось, нужны деньги, а у меня их нет.
– Всегда все сводится к деньгам. И все наши разговоры на этом заканчиваются. Никогда по-другому не бывает.
– Но это действительно большая проблема. Он особо не распространяется, но я-то, черт возьми, точно знаю, что он задолжал и по кредиту, и по налогам. Ему нужно ее продать, но он же такой упертый – ни в какую не желает. Стоит мне заикнуться, как он в ответ: «Я-родился-на-этой-ферме-на-ней-и-умру-ничего-другого-я-делать-не-умею». Черт, если я могу научиться настраивать пианино, то он тоже может чему-нибудь другому научиться. Работать на сверлильном станке или еще на чем-то. Хочешь пива? Газировки? Мартини? – произнес он с придыханием, ерничая.
– О, а еще я бы хотела джин и имбирный эль. – Она подтянула съехавший пучок и закрепила его шпилькой.
– Кого мне жалко, так это Мернель. Она запирается в своей комнате и плачет, потому что у нее нет приличной одежды. Она из всего выросла. На днях ей в школу пришлось надеть мамино старое платье. Она вернулась с ревом. Мне так ее жалко, но я ничего не могу сделать. Прекрасно понимаю, что́ она чувствует, когда ее дразнят в школе. Паршивцы малолетние.
– Бедный ребенок. Слушай, у меня есть несколько платьев, юбка, свитер, я могу ей отдать. Очень славный кашемировый зеленый свитер и коричневая вельветовая юбка.
– Милая, она на шесть дюймов выше тебя и фунтов на двадцать легче. В этом-то и проблема. За последние месяцы она так вымахала, что превратилась в длинную жердь. Если б мог, я бы приделал ей тормоза.
– Мы что-нибудь придумаем. Не может же она, бедняжка, ходить в школу в платьях Джуэл. Кстати, у меня для тебя сюрприз.
– Надеюсь, хороший.
– Мне кажется – да. – Красный отпечаток на ободке стакана повторял рисунок ее губ. – Доктор Уилли сегодня получил извещение из «Рейлуэй экспресс»[20]. Это оно!
– Что – оно?
– Сам знаешь. Ты понял, что я имею в виду. Ну, то, для чего тебя измеряли. – Ее лицо залилось краской. Она не могла произнести это слово и после двух лет работы секретарем-регистратором у врача и семи месяцев свиданий с Дабом в его кишащем москитами грузовике летом или зимой, когда ноги отнимались от холода даже при включенном двигателе, когда они целовались и сто раз строили планы на будущее, в которые никогда не входила ферма.
– Ах да, ты имеешь в виду чудо-руку. Протез. Это ты хочешь сказать?
– Да, – ответила она, отодвигая испачканный помадой стакан. Миртл не выносила, когда он так дышал.
– Или крюк, большой блестящий крюк из нержавеющей стали. Я и забыл. Знаю только, что моя подружка Миртл говорит: он, мол, мне нужен, но не может произнести это слово вслух.
– Марвин, не надо, – тихо сказала она.
– Не надо – что? Произносить слово «крюк»? Говорить «протез»? – Его голос разнесся по всей танцплощадке. Он заметил Триммера у барной стойки, увидел, как тот скосил глаза и провел ребром ладони по горлу. Ему сразу стало легче, он расхохотался, вынул из кармана пачку сигарет и вытряс одну.
– Не смущайся, милая. Я тоже ненавижу это слово – протез. Оно похоже на название ядовитой змеи. Его укусил протез. Поэтому-то я так долго ничего и не делал. Не мог произнести его вслух. Молодец, девочка, улыбнись-ка пошире дураку. Я тебе не рассказывал, но месяца через два, после того как это случилось, я почесал на Род-Айленд, в то место, где подбирают такие вещи – крюки, протезы, – только вот не смог заставить себя войти. Мне было жутко стыдно. Увидел девушку, сидевшую за столом, и не смог подойти к ней и сказать…
– Даб! Как дела? – Старина Триммер, мускулистый, кряжистый, теплое белье выглядывает из-под грязной рубашки в красную клетку. От него несло бензином и машинным маслом, лошадьми, по́том и самокрутками. Он подмигнул Миртл из-под тяжелых век и щелкнул языком так же, как щелкал своим запряженным в сани лошадям.
– Триммер! Как сам?
– Настолько хорошо, черт бы меня побрал, что самому невмоготу. Вот приехал поискать какую-нибудь печаль на свою голову, чтобы умерить радость и буйное веселье, окинул взглядом комнату – а тут, как по заказу, вы, голубки́, сидите, глаз друг с друга не сводите. Вот это, полагаю, и есть настоящая любовь, вопрос только в том, сколько времени пройдет, прежде чем она выгонит тебя взашей. Даб, если будет потом минутка, я хотел бы с тобой поговорить.
Два световых пятна появились по краям сцены, потом в центр ее хлынул луч прожектора, осветив грязные провода микрофона и голубые барабаны. На сцену вышел человек с редеющими волосами и острыми, как у дьявола, зубами, в зеленовато-голубом пиджаке, с помятым саксофоном. За ним бочком протиснулись еще два пожилых человека: хромой с перламутрово-красным аккордеоном и шаркающий толстяк с банджо, оба в засаленных зеленовато-голубых пиджаках. Они с отвращением посмотрели в направлении прихожей сбоку от сцены. Оттуда плыли клубы дыма. Минуту спустя подросток в широких коричневых брюках и желтой вискозной рубахе прыгнул за ударную установку, в уголке рта у него все еще дымилась сигарета. Он выдал дробь на малом барабане в знак приветствия, после чего в микрофоне послышался глухой голос саксофониста:
– Добрый вечер, дамы и господа, добро пожаловать в «Комету». Давайте повеселимся. «Сахарные чечеточники» – к вашим услугам, танцуйте, слушайте и наслаждайтесь. Мы начинаем с «Запоздалого прыжка».
– Вернусь через несколько минут, приятель. Сначала мы с мисс Миртл покажем деревенщине, как это делается, – сказал Даб.
Едва они вышли на танцевальную площадку, Дидион крикнул:
– Ну, берегитесь, сейчас искры посыплются!
Ховард подошел к концу стойки, чтобы посмотреть. Барабанщик начал с громкой сокрушительной дроби, за ним один за другим вступили музыканты в зелено-голубых пиджаках – саксофон начал глухо, постепенно переходя к пронзительно-визгливым руладам.
Сначала Миртл и Даб стояли друг против друга, склонившись навстречу, как цапли, двигалась только поднятая рука Даба, вздрагивая и трепеща, словно лоскут ткани на штормовом ветру. Потом он каким-то зулусским прыжком подскочил к Миртл и закружил ее под своей рукой, пока ее юбка не надулась темным колоколом, после чего начал то резко притягивать ее к себе, то отталкивать. Ее лакированные туфли взблескивали, как льдинки. Остальные танцоры стояли поодаль, освободив для них площадку. Даб взбрыкивал словно конь. По лицу его катились блестящие капли пота. Шпильки дождем сыпались из волос Миртл, которые бурным каскадом падали на плечи. Ноги громко отбивали ритм.
– Собирайте банки из-под арахисового масла![21] – завопил Триммер.
– Оленина! Оленина![22] – выкрикивал Дидион, поскольку более восторженного сравнения просто не знал.
К столу, за которым в клубах трубочного дыма сидел Триммер, Даб вернулся с двухквартовым стеклянным кувшином пива. Бока у парня тяжело вздымались, на щеках возле ушей блестели струйки пота, собиравшегося в капли на подбородке. Миртл отдыхала, откинувшись на спинку стула, тяжело дыша, высоко поддернув юбку, чтобы прохладный воздух обдувал разгоряченные ноги, и расстегнув блузку настолько, насколько позволяли приличия. Сначала Даб налил холодного пива ей в стакан, потом стал жадно пить прямо из кувшина. Поставив наконец кувшин в центр стола, он прикурил сигарету для Миртл, затем для себя. Триммер придвинул свой стул поближе к столу.
– Вот это был танец! Я бы так не смог, тренируйся я хоть миллион лет. – Он выбил недокуренный остаток табака из трубки в пепельницу. – Хотел спросить у тебя: вы собираетесь пользоваться старой системой капканов Лояла и не нужна ли вам помощь? Сейчас цены на мех хорошие. Особенно на куний. И лисий. Судя по тому, как ты танцуешь, ты способен догнать и вывернуть зверье наизнанку прямо на бегу.
– Это совсем другое дело. Когда теряешь руку, можно чувствовать себя хорошо и многое делать. Но присматривать за капканами Лояла… Ты ведь про это тоже мало что знаешь, правда?
– Я знаю, что он хорошо зарабатывал на этом. Знаю, что он добывал отличный мех и ему для этого не надо было ездить на Северный полюс. Лисы. В прошлом году он привез на весенний меховой аукцион замечательных лис. С густым, пушистым мехом. Я видел, как он выхвалялся перед всеми, вертя в руках рыжие шкурки с пышными хвостами. Было бы естественно, если бы ты продолжил его дело.
– Нет, Триммер, – ответил Даб, растягивая слова, – про капканы Лояла забудь. Я не смогу делать то, что делал он, сколько б ни старался. Я даже не знаю, где они хранятся.
– Черт, но их ведь не так трудно найти, правда? Где-нибудь на сеновале, на чердаке или в сарае. Я тебе помогу и найти их, и поставить. Тебе надо только в принципе знать – где ставить.
– Того, что умел делать с капканами Лоял, ни ты, ни я не умеем. Он не вывешивал их в сарае и не обкуривал, чтобы избавить от человеческого духа, как делают другие. Еще мальчишкой он научился всему у того бедолаги, который жил когда-то на болотах в лачуге из коры, пониже того места, где растут огромные папоротники.
– Страусники?
– Да, страусники. Лоял ошивался там часами при каждой возможности – по субботам после работы по дому, летними вечерами, после того как заканчивалась дойка. У старика Айриса Пенрина. У него-то он и перенял все его хитроумные способы охоты с капканами, но он был скрытный, никогда не выдавал секретов. Ты же знаешь Лояла – все делал тайно, чтобы никто не видел. Во-первых, он соорудил себе маленькую лачугу на берегу ручья, где держал все, что нужно для ухода за капканами, но не сами капканы. Вот ты послушай и поймешь, что я имею в виду.
Лоял действительно был мастером расставлять капканы, прямо-таки дьявольским гением – знал, как уложить ветки, расположить соломинку или согнуть стебель золотарника так, чтобы лиса, переступая через него, угодила прямо в капкан. Снежные ловушки? Он устраивал их рядом с пучками травы, торчащими из тонкого льда вдоль кромки ручья, куда лисы приходят поиграть на новом льду, или устанавливал в снегу так, что никто никогда не догадался бы, что тут кто-то прошел, или делал маленький сугроб у края леса, на естественном бугорке земли: когда снег замерзал, получалась хитрая ловушка, покрытая снежной коркой, у него таких уловок было еще с две дюжины. Для того чтобы этим заниматься, надо знать лисьи повадки, свою территорию и иметь охотничий инстинкт.
– Ну ладно, понимаю, что он был жуть как ловок в этом деле, но это не значит, что ты или я не можем тоже достаточно хорошо это делать и добывать немного меха.
– Не-а. И я скажу тебе почему. В конце сезона Лоял собирал все капканы и относил их в свою лачугу. Что он с ними там делал, я знаю лишь отчасти. Помню, он разводил костер во дворе, кипятил воду, отскабливал и вычищал все капканы, потом отмывал их в горячей воде щеткой, которой никогда ни для чего другого не пользовался, и всегда был в вощеных перчатках. Резиновые не годятся, даже если ты сможешь их раздобыть. Потом проволочным крюком доставал капканы из воды и клал в большой бак для кипячения белья, который опять же никогда ни для белья, ни для чего другого не использовался, и час кипятил в щелочной воде, после чего опять доставал крюком и бросал в ручей. Там они полоскались всю ночь.
Триммер хотел было что-то сказать, но Даб его остановил, подняв руку. Потом отпил пива из кувшина, глядя, как поморщилась при этом Миртл, и закрепил шпилькой ее снова растрепавшиеся волосы.
– На следующее утро старина Лоял продолжал, оглядываясь через плечо, не шпионит ли кто за ним. Я, конечно, шпионил при любой возможности, когда был маленьким. А он, бывало, идет в свою лачугу, разводит огонь в плитке, берет большое ведро, которое используется только для этой цели и ни для какой другой, набирает в него воды из ручья выше по течению от того места, где мокли ночью капканы, ставит его на плитку и опускает в него фунт чистого пчелиного воска, к которому никто никогда не прикасался рукой, – он лично доставал соты из ульев Ронни Ниппла, клал их в медогонку, не позволяя Ронни даже притронуться к воску, вываривал воск в холщовом мешочке и вымачивал в речной воде так же, как капканы. Когда воск расплавился и вспенился в ведре, он крюком достает из ручья капкан, погружает его на несколько минут в ведро с расплавленным в воде воском, снова достает крюком, несет к березе на опушке леса и вешает на ветку. И все это он проделывает с каждым чертовым капканом. Когда все капканы подсохнут и хорошо проветрятся, он укладывает их в том порядке, в каком собирается использовать на следующий сезон. Для полевых капканов – а при охоте на лис как раз полевыми и пользуются – он выстилает откуда-то принесенное полое бревно надерганной травой. Причем голыми руками ни к траве, ни к бревну никогда не прикасается, для этого у него есть другая пара особых вощеных перчаток, которые он хранит в непроницаемом для запахов холщовом мешочке, потом засовывает капканы в бревно, укладывает на траву, травой же прикрывает, и там они хранятся у него до следующего сезона. То же самое он проделывает с капканами, которые расставляет в лесу, только их он кипятит в отваре коры – коры строго определенного сорта деревьев – и хранит их под каким-нибудь уступом в лесу. И приманки с особыми запахами он делал сам, про них я вообще ничего не помню. Триммер, нам в этом деле ничего не светит, даже если бы я хотел им заняться, потому что я не знаю, где Лоял спрятал свои капканы. И у меня нет никакого желания рыскать по лесу, суя руку во все пустые дупла в поисках ловушек моего брата. Он умел охотиться с капканами, он это любил, ему нравилось осторожно и кропотливо их расставлять, а потом проверять. А я лучше научусь настраивать пианино: сделал работу – получи за нее деньги, и все.
– Матерь божья! – сказал Триммер. – Но я все равно думаю, что мы вполне могли бы зарабатывать на шкурках. Вот скажи мне, на чем еще ты здесь заработаешь, чтобы вы с Миртл могли сделать то, что задумали?
Даб допил остатки пива. Миртл смотрела на него взглядом, значение которого ему было хорошо известно. Без слов она спрашивала его о том же самом. У Даба был ответ для обоих.
– По мне так, если человек не умеет делать ничего другого, он должен делать то, что может. – Он взглянул на Миртл. – Готова снова выйти на танцпол?
Час спустя приехал Дана Суэтт, двоюродный брат Миртл. Разглядев ее сквозь клубы дыма, он растопырил пальцы и дважды поднял правую руку, давая понять, что у Миртл до отъезда десять минут – пока он пьет свой бокал пива. Она танцевала с Дабом последний, медленный танец под грустную прощальную мелодию военных лет, пока мальчик-ударник не начал ускорять темп, стараясь вовлечь престарелых музыкантов в еще один бурный каскад, но те остались равнодушны: устали, хотели поскорей закончить, хлебнуть из своих фляжек, выкурить по «Лаки страйк» и отправиться на боковую.
– Не засиживайся тут, – сказала Миртл напоследок. – Помни, что тебе утром доить. И приезжай в понедельник пораньше в офис. Я запишу тебя на прием, чтобы доктор знал заранее, что ты приедешь.
– Для тебя, о, мой Цветок душистых прерий[23], – все, чего пожелает твое сердечко. – Он отвесил глубокий поклон, в танце подвел ее к гардеробу и, прижав к пахнувшим шерстью пальто, поцеловал, ощутив на языке горечь табака и мускусный привкус джина.
Когда Даб вышел из «Кометы», воздух уже стал обжигающе холодным. Тяжелый снег скрипел под ногами. Даже будучи подшофе, Даб понимал, что грузовик окоченел. Дверца взвизгнула на примерзших петлях. Иней покрывал лобовое стекло и руль. Сиденье напоминало согнутый лист стылого металла. Он нажал педаль сцепления и перевел рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Это было все равно что ворочать ложку в глубокой кастрюле с густым пюре. Повернул ключ зажигания – стартер издал слабый короткий стон и смолк.
– Вот сука, даже одного оборота не сделал.
Ронни уехал часом раньше. Придется «прикуривать» от Триммера. Дабу ничего не оставалось, кроме как вернуться в бар; теперь сама мысль о табачном смраде внутри, вони от спиртного и музыке, обессиленно сочившейся из автомата, казалась ему ненавистной; он заметил, что красный цвет неоновой вывески стал размываться в розовом свечении неба. Неоновые трубки цвета водянистого спелого арбуза пульсировали над его головой. Сквозь эту красноватую пелену просвечивали звезды. Длинные зеленые столбы веером расходились по небесному куполу, холодный воздух колебался в вышине от разрядов электрической бури. Минк всегда утверждал, что слышит треск северного сияния или звук, напоминающий отдаленный ветер. Даб открыл дверь.
– Эй, там северное сияние дает представление.
– Закрой эту чертову дверь! Холодно! – заорал Ховард. Он начал пить часов в одиннадцать. Триммер лежал на трех составленных стульях, вытекшая из уголка рта струйка слюны блестела на щеке.
Даб захлопнул дверь, посмотрел на дрожащий воздух, снег на парковке окрасился в красный цвет, деревья и река сияли в пылающей ночи. Если бы Лоял появился сейчас здесь, на парковке, внезапно подумал Даб, он бы избил его до кровавой юшки, которая лилась бы у него из ушей и черными каплями падала в красный снег. Едва сдерживаемая ярость из-за того, что брат оставил его одного корячиться тут, стояла в горле, как едкая блевотина. Да какого черта! С тем же успехом он может отправиться домой пешком, заодно остынет и алкоголь выветрится. Два часа – и он дома.
8
Летучая мышь в мокрой траве
Лоял пересек границу Миннесоты возле Тейлорс-Фоллс, намереваясь проехать через этот фермерский штат насквозь и добраться до лесов. Он слышал, что в Национальном лесу Чиппева ведется вырубка. Деньги, возможно, и плевые, но ему было необходимо снова побыть на свежем воздухе. Он не мог заставить себя наняться на чужую ферму, но остро нуждался в работе под открытым небом. Продвигаться все дальше через страну, вероятно, доехать к осени до самой Аляски, поработать на рыбоконсервных заводах, да где угодно, только бы не снова в механических мастерских, мужчины срубают сейчас денег больше, чем когда бы то ни было в жизни, и их женщины тоже, но им все равно мало после всех лет депрессии, когда работы не было совсем. Например, этот хорек Тэгги Ледбеттер из Северной Каролины, который ходил так, словно пробирался по колено в снегу, при этом связка ключей, висевшая на поясе, подскакивала у него над пахом на каждом шагу, этот копил деньги по-всякому. Хитрил: незаметно притормаживал работу в течение дня, чтобы подавать заявки на сверхурочные. Подвозил в своей машине других работников на завод, получая с каждого в неделю доллар и талон на бензин, воровал инструменты и детали, скрепки, карандаши, ножницы для резки стали, кронциркули, сверла, рассовывал их по карманам своих зеленых рабочих штанов, затыкал за пояс или прятал в коробку для завтрака с выпуклой крышкой. Он заставлял жену и детей сохранять все, что могло пригодиться на продажу – залатанные велосипедные шины, фольгу, бумажные пакеты, гвозди, отработанное масло, металлолом, вскрытые конверты, старые покрышки. Понемногу приторговывал бензином с черного рынка, мясом свиней, которых держал у себя на заднем дворе. И никогда не хранил деньги в банке. Он покупал земельные участки под строительство домов. На том же заднем дворе у него была ремонтная мастерская, в которой он тоже немного подрабатывал в свободное время.
«Земля – деньги, – говаривал он. – Скоро много военнослужащих вернется с войны, они захотят строиться. Много денег будет переходить из рук в руки. И, разрази меня гром, я желаю получить свою долю во что бы то ни стало».
Лоял устал надевать по утрам вонючую нестираную одежду и вкалывать весь день и далеко затемно в смраде пережженного металла и прогорклого машинного масла; темп работы никогда не замедлялся, она крутилась в три смены, как лотерейный барабан, в котором деревянные бочонки с цифрами бешено вращаются до тех пор, пока барабан не сбавляет темп и из него не вываливается случайный счастливый номер.
В новогодний сочельник Лоял отправился в бар. Он пошел туда вместе с Элтоном и Футом, которые работали в соседней мастерской. Бар был битком набит желающими выпить рабочими оборонных предприятий, которым деньги жгли карманы, и женщинами в блестящих платьях из вискозы, со взбитыми волосами, поддерживаемыми невидимыми сеточками, с пудреницами, спрятанными между грудей, с губами, накрашенными темно-красной, разве что не черной помадой, оставлявшей отпечатки на краешках пивных стаканов, и благоухавшими сигаретным дымом и духами «Вечер в Париже» из крохотных синих флакончиков, купленных в дешевой галантерейной лавке. Когда входил с улицы очередной посетитель, широкая струя холодного воздуха словно палаш рассекала завесу дыма.
Прижатый к барной стойке вместе с Элтоном и Футом Лоял заказал пиво. Элтон, тощий деревенский парень со скрюченными руками и слабым мочевым пузырем, уже через полчаса был пьян в стельку. Фут, медленно потягивая виски, смотрел прямо перед собой. Лоял очутился между ним и женщиной в черном платье, подпоясанном красным лаковым поясом. На голове у нее возвышалась копна фиолетово-черных завитушек. Из декольте в форме верхушки рыцарского щита выпирала верхняя часть напудренной груди. Она курила сигареты «Кэмел» одну за другой, иногда отворачиваясь от Лояла и поглядывая на мужчину, сидевшего слева от нее. Спиной она упиралась в руку Лояла. Ее горячие упругие ягодицы постепенно придвигались и в конце концов прижались к его бедру. Он почувствовал, как твердеет его член, выпирая спереди под его выходными брюками. Так длилось довольно долго, и он начал медленно совершать маневр рукой, пока она не легла на ее тугой зад, тут же прижавшийся к его ладони и начавший ерзать так, чтобы его палец точно вошел в канавку между ее ягодицами. От глянцевой вискозы исходил жар. Он провел рукой вверх-вниз, и с внезапностью упавшего бревна его охватил удушающий спазм страшной силы. Он не мог вздохнуть и, метнувшись назад, в плотную толпу выпивающих, стал рвать на себе воротник рубашки, словно это была висельная петля, обвившая ему шею. Он учуял запах ткани, прожженной кончиком горящей сигареты, потолок из штампованной жести с каким-то грубым рисунком заколебался, потом рухнул и заглотал его.
Придя в себя, он обнаружил, что лежит на столе в окружении склонившихся и глазеющих на него лиц. Самый тощий из мужчин костлявыми пальцами держал Лояла за запястье. Волосы этого скелета, разделенные прямым пробором, были зализаны назад и напоминали металлическую каску. Зубы и глаза у него были словно в золотой оправе, и на пальцах блестели кольца: обручальное кольцо и перстень-печатка на мизинце правой руки. Лоял дрожал и чувствовал, как колотится его сердце.
– Повезло вам, что я оказался рядом, а то затолкали бы вас в угол вместе с другими пьяными. Тут бы вам и конец.
Лоял не мог говорить – у него клацали челюсти, дрожали руки, но теперь он по крайней мере дышал. Когда он сел, толпа, разочарованная тем, что он оказался жив, вернулась к своим стаканам.
– Это адреналин, от него вы дрожите. Я сделал вам укол адреналина. Через полчаса вы успокоитесь. Полагаю, у вас и прежде случались такие припадки?
– Не такие.
– Аллергическая реакция. Наверное, вы что-то съели или выпили. Вот что я вам скажу. Составьте список всего, что вы ели и пили в последний день, и приходите ко мне послезавтра.
Но Лоял знал: это не из-за того, что он съел. Это было из-за прикосновения. Прикосновения к женщине. Ею не должен был быть никто, кроме Билли. Такова цена спасения. Ни жены, ни семьи, ни детей, ни каких бы то ни было других обычных человеческих радостей не будет в его повседневной жизни, ему остается только неприкаянное метание из одного города в другой, только тесный загон одиноких мыслей, жалкое утешение мастурбации, кривобокие идеи и разговоры с самим собой, так легко переходящие в безумие. Там, рядом со стеной, что-то начало тогда разлагаться в грязной непроглядной канаве, которая шла от его гениталий к душе.
* * *
Ласковый день, достаточно теплый, чтобы опустить окно и вдохнуть запах деревни. Черные поля расстилались на много миль кругом, длинные борозды напоминали невысокие волны на в целом спокойном море. Он хотел было заехать на какую-нибудь ферму и спросить, не нужен ли им помощник, но подумал, что вряд ли сможет работать в чужом хозяйстве, не мог представить себя стоящим с обнаженной головой и просящим работы. Он миновал лесопилку, учуяв особый запах свежераспиленного дерева, смешанный с затхлым духом собранных в кучи старых опилок. Ощущал он и дух собственного тела, пропитавший одежду даже сквозь запах хозяйственного мыла и трудового дня, не противный, знакомый домашний запах скомканных простыней и своих сложенных синих рабочих рубах.
Полеводческие фермы простирались до са́мого горизонта, поля рассекались белыми, словно проложенными по линейке дорогами, под прямыми углами огибавшими фермы и создававшими гипнотизирующе упорядоченный вид; единственным отдохновением для глаза были сходящиеся к горизонту линии перспективы и зигзагообразные росчерки птичьих полетов. Многие и многие мили пахотной земли, стелющейся между коренастыми фермерскими домами. Вдали он увидел трактор, прокладывавший множественные четкие ряды параллельных черных извилистых борозд, как будто тракторист повторял изгибы реки, которые держал в голове.
Масштабы здешних ферм вызывали у Лояла странное беспокойство. Его домашние поля площадью в двадцать акров местным показались бы шуткой. По дороге он представлял себе место, которое смутно планировал найти и где хотел бы осесть, – не такое, как у него дома, с неровными, вспученными полями и кислой почвой, со вклинивающимися в них кустарниками и рощами, зато и не с таким однообразным пейзажем под бескрайним небом. Он и не предполагал, что Миннесота такая равнинная. Однако ландшафт не был спокойным. От постоянно то поднимающегося, то стихающего ветра казалось, что по земле пробегает дрожь.
Для собственной фермы ему хотелось иметь небольшой, акров на двести пятьдесят, пологий, как округлость бедра или груди, участок земли с хорошим пастбищем. Он воображал своих голштинок пасущимися в сочной траве, доходящей им до колен. Почва там будет рассыпчатой, без камней. По обоим берегам речки – ровная плодородная пойма для выращивания зерна и луговых трав, а на южном склоне – участок, скажем, акров в пятьдесят, леса, состоящего из прямых деревьев с твердой древесиной, сахарных кленов с низкими кронами и сладким соком. На вершине своего холма он видел рощицу вечнозеленых елей, в темной чаще которых бьет родник, берущий начало из чистых подземных вод. Нужно будет завести трактор, полезная машина. Она себя окупит. Его руки крепко сжимали рулевое колесо, в зеркале заднего вида он лицезрел собственный целеустремленный взгляд и копну черных курчавых волос. Сила распирала его изнутри, требуя выхода.
Через несколько миль после Райса он сбавил скорость, заметив силуэт голосовавшего на обочине человека в раздувавшихся на ветру расклешенных брюках и щегольской матросской шапочке. Солнце раскалило капот машины. Лоял радовался тому, что снова в дороге, что оставил позади грязную мастерскую, и был не прочь взять попутчика. Он притормозил машину. Звук сбавлявшего обороты двигателя приятным эхом отдавался у него в ушах. Матрос был крупным мужчиной с волосами песочного цвета, лицом, напоминавшим картофелину, и маленькими, с игольное ушко, глазами. То, что ему хочется поговорить, стало ясно прежде, чем он сел в машину.
– Не иначе, мне вас сам бог послал, – сказал мужчина. – Я стою тут, брожу вдоль обочины, снова стою уже дня два. Клянусь, черт побери, старина Харри своим видом пугает водителей. Чудесный сегодня весенний день, правда? Я проехал от Норфолка досюда за два дня на трех попутках, везде все с радостью подвозят военнослужащего. Но только не в Миннесоте! Нет, сэр, только не в моем родном, черт его дери, штате, где подозрительность – второе имя каждого. Варяги[24] проклятые. Один парень притормозил было, дал по тормозам так, что гравий из-под колес полетел, но не успел я взяться за ручку дверцы, он меня разглядел и рванул с такой скоростью, словно участвовал в гонках – кто первый доедет до Литтл-Фоллс – и страшно отставал.
– Вы направляетесь в Литтл-Фоллс? – поинтересовался Лоял.
– В конечном итоге, да, но в настоящий момент нет. Собираюсь нанести неожиданный визит своей лучшей половине, моей женушке, в Лиф-Ривер, это к северу от Вадены. Там живет четыре человека, когда я там, я – один из них: дою коров, кошу сено, сражаюсь с соседями. Когда меня там нет, я хочу знать, не занял ли кто мое место. Там, где был, я видел слишком много «дорогих Джонов»[25], полученных, как удар ножа в сердце, это заставляло меня думать о Кирстен; знаю я этих скандинавок, потому что сам женат на одной из них, вот и подумал: а как там Кирстен и Хьюго? Хьюго живет на соседней ферме, мы вместе работали, сено там, заборы, всякое такое – словом, выручали друг друга: у меня сломается борона, Хьюго одолжит свою, у него из сенных граблей зуб вывалится, я дам свои… Так вот, Кирстин написала мне, что у Хьюго где-то в конце марта умерла жена, славная, миловидная, приятная такая и достойная женщина, я ее очень уважал. Ее укусил скунс, когда она прибиралась в дровяном сарае, и она умерла от бешенства. Врач ничего не смог сделать. Ну, я и подумал: что делает Хьюго, если у него ломается топорище? Приходит и берет мое. Что делает Хьюго, если ему понадобятся четырехдюймовые гвозди? Приходит посмотреть, нет ли их у меня. А что сделает Хьюго после смерти жены? Может, придет и воспользуется моей, пока меня нет? Вот я и взял недельный отпуск, от которого у меня уже осталось всего три дня. – Прервав нескончаемый поток слов, он указал на фигуру, топтавшуюся на обочине. – Эй, подхвати-ка этого парня. Он нормальный, я вчера с ним говорил, его никто не подберет до второго пришествия, потому что он индеец, но он нормальный.
Лоял подумал: первый теплый день – и откуда ни возьмись полезли автостопщики. Он проехал тысячу миль и не встретил ни одного, а тут в пределах каких-то двух миль сразу два.
– Вы его знаете?
– Не-а. Он вчера днем проходил мимо меня, остановился, мы поболтали немного. Он только что демобилизовался. Немного другой, но живет неподалеку отсюда. С ним будет веселей. Вы ведь для этого берете попутчиков, правда? Развлечет, расскажет какие-нибудь истории, покажет вам, где они иногда делают татуировки. – Он подмигнул Лоялу, крохотный левый глаз спрятался под толстым веком со слипшимися ресницами.
Проехав мимо мужчины, Лоял сбросил скорость и посмотрел на него в зеркало заднего вида. Черные волосы, зачесанные под Кларка Гейбла, широкое лицо с натянутой на скулах кожей, твидовый пиджак, грязные джинсы и туфли из змеиной кожи.
– В этом пиджаке он, по-моему, больше похож на адвоката, чем на индейца, – сказал он.
– Спасибо. – Индеец скользнул на заднее сиденье и два или три раза кивнул. Щеки у него были гладкими, и пахло от него каким-то пикантным лосьоном после бритья. Но с его появлением в машине словно повис звериный дух. Черные глаза индейца обратились к матросу: – Еще раз здравствуйте, – сказал он.
– Вот вам лишнее подтверждение того, что никогда не знаешь, как обернутся события, Скайз, – ответил матрос. – Имя этого доброго самаритянина мне пока неизвестно.
– Лоял, – сказал тот. – Лоял Блад.
– Третий помощник Донни Уиннер, – представился моряк. – А он – Блу Скайз[26], без дураков, это его настоящее имя.
– Для краткости просто Скайз, – подхватил индеец. – И хватит об этом, пожалуйста.
Лоялу впервые пришло в голову, что эта парочка может быть в сговоре, больно уж они слажены, как два никеля в кармане, как пробка с бутылкой, как карандаш, заточенный с обеих сторон. Ему не нравилось, что индеец сидит у него за спиной, ему не нравилось то, как матрос Уиннер сидит, положив руку на спинку его кресла, вполоборота к нему, словно готов в любую минуту перехватить руль. Он выехал на трассу и направился на север, но с того момента, как индеец сел в машину, все очарование дня ушло.
Индеец сообщил, что едет в резервацию «Белая луна», в пятидесяти милях южнее озера Корк.
Уиннер сказал, что готов сесть за руль, если Лоял устал, но Лоял отказался, он сам будет вести свою машину. Чтобы охлаждать салон, нагревавшийся от жара, зримо поднимавшегося от асфальта, он держал окно открытым.
– Чертовски приятная сельская округа, – сказал он, оглядывая раскинувшуюся по обе стороны дороги плодороднейшую в мире землю, удобренную миллионами слоев травяного перегноя. Фермы располагались на ней гигантскими квадратами, каждый со своей древесной фалангой ветрозащитных полос, в тени которых прятались дома.
– Эти поля такие ровные, – сказал индеец, – что, стоя на подножке автомобиля, можно обозреть их от края до края. Но видели бы вы, что бывает, когда река выходит из берегов и случается наводнение. Это как мираж: дома, сараи торчат из воды, словно посреди океана, воде здесь некуда деться, кроме как разливаться вширь. А когда набегает ветерок, рябь расходится по ней на много миль.
– Должно быть, грязища потом образуется, – сказал Лоял.
– Я знал людей, которые, увязнув в ней, так и не смогли выбраться.
– Это точно, – подхватил Уиннер. – Тонули и задыхались в грязи, а осенью плуг выкапывал их на поверхность, как какое-нибудь старое бревно.
Уиннер шутил. Индеец сидел сзади молча, прикуривая одну сигарету от другой.
К концу утра они увидели, как позади них, на юго-востоке стали собираться грозовые облака. В районе полудня Лоял заехал на заправочную станцию «Тексако» в Литтл-Фоллс.
– Полный бак? – спросил служащий, протирая лобовое стекло мокрой тряпкой. У него были слишком короткие руки, чтобы дотянуться до середины стекла, рубаха вылезла из-за пояса, обнажив волосатый живот, пересеченный грязными складками.
– Да. И проверьте масло и воду.
Лоял дал ему пятерку, но прежде чем он успел сесть за руль, моряк попросил его задержаться на минутку, открыл дверцу и вышел.
– Слушайте, я сбегаю в кафе вон там, напротив, куплю какой-нибудь жратвы. Так мы сэкономим время, сжуем по сэндвичу с ветчиной и запьем пивом прямо на ходу. Сейчас принесу. Это будет мой вклад.
Он перебежал дорогу и заскочил в кафе, выходившее витриной на улицу. На вывеске значилось «Одинокий орел», а под буквами на стекле были нарисованы орел и аэроплан, летящие на закат.
Лоял с индейцем несколько минут ждали, стоя у колонки, но когда на заправку въехал грузовик, Лоял отогнал свою машину на улицу и припарковался так, чтобы Уиннер, выйдя из кафе, их увидел. Они сидели в молчании. Спустя какое-то время индеец открыл свой чемоданчик, достал блокнот и, быстро перелистав несколько страниц, стал что-то писать.
– Какого черта он там так долго возится? Он уже полчаса покупает эти несчастные сэндвичи, – пробормотал Лоял.
Индеец перевернул страницу.
– Он слинял. Я видел, что через минуту после того, как вошел в центральную дверь, он вышел из боковой. И нырнул в улицу.
– Вы хотите сказать, что мы тут сидим его ждем, а он сбежал? Господи Иисусе, почему же вы раньше ничего не сказали?
– Я думал, что вы его тоже видели, но у вас есть свои причины стоять здесь.
Лоял вышел из машины и пересек улицу. О том, что оставил ключ в замке зажигания, вспомнил только тогда, когда был уже внутри кафе. Он тут же выскочил обратно, но машина стояла на месте и индеец по-прежнему сидел в ней на заднем сиденье. Лоял вернулся в кафе. Худой мужчина с искривленными в презрительной ухмылке губами за стойкой резал пирог. Его густые волосы были разделены слева на косой пробор почти у самого уха, остальная копна высилась на макушке а-ля Помпадур. Большие стеклянные глаза были настолько бледно-голубыми, что казались бесцветными. Он держал в руке зубчатый нож с отломленным кончиком лезвия. Под стеклянным колпаком громоздилась пирамида завернутых в целлофан сэндвичей – красные полоски ветчины, что-то серое, наверное, тунец.
– Минут пятнадцать-двадцать назад сюда входил моряк? – спросил Лоял, оборачиваясь, чтобы проверить, на месте ли машина с индейцем. – Крупный такой, грузный парень. Зовут Уиннер.
– Какой-то моряк входил, имени я не знаю, на что оно мне. И сразу вышел через другую дверь. Люди часто срезают тут дорогу. Я повесил табличку «Выхода нет», но толку никакого. Они все равно шастают. Мне это уже осточертело. Как будто шоссе проходит прямо через мое кафе, только никто ничего не покупает. Сегодня же заколочу проклятую дверь.
Лоял посмотрел в окно. Индеец продолжал сидеть в машине. Лоял решил избавиться от него при первой же возможности.
– Вот так подвозишь человека, а он сваливает, не сказав ни слова. Какого черта? Дайте мне два сэндвича. Один с ветчиной, один с тунцом.
– С тунцом нет. Есть с куриным салатом.
– Ладно. Дайте один такой, один другой. И два куска пирога. «Доктор Пеппер» есть?
Он накормит индейца, а потом избавится от него. Тогда тот на него не обидится.
Тощий вытер руки о фартук и медленно положил бутерброды в белый пакет. Куски пирога завернул в вощеную бумагу. Потом звякнул своим старым разукрашенным кассовым аппаратом, который, как подумалось Лоялу, стоял там со времен Вудро Вильсона.
– За все доллар семьдесят.
Лоял сунул руку за деньгами в правый карман брюк и в этот момент понял, почему слинял матрос Уиннер.
– Сукин сын стибрил мои деньги. Ограбил меня, черт его подери!
Тощий вынул из пакета завернутые куски пирога, сэндвичи и, не глядя на Лояла, пожал плечами.
Индеец по-прежнему сидел на заднем сиденье, опустив голову, поглощенный чтением.
Выйдя на тротуар, Лоял несколько раз обшарил все карманы в поисках толстого рулона денег – более шестисот долларов, скопленных им за зиму, весь его запас для начала новой жизни, все его дорожные деньги. Но их не было. Он сел в машину и откинулся на спинку кресла. Индеец поднял голову.
– Знаете, что он сделал? Этот матрос. Обчистил мои карманы. Сбежал со всеми моими деньгами. Должно быть, вытащил их сразу после того, как я расплатился за бензин. За эти деньги я горбатился на вонючей фабрике всю зиму.
После минутной паузы индеец сказал:
– Никогда не держите в кармане больше пятерки. Никогда не храните все деньги в одном месте.
– Ну, не такой уж я дурак. Он не все забрал. У меня в ботинке есть еще сотня, но все остальное он украл. Я мог бы год прожить на то, что он унес. – Подняв голову, он посмотрел вдоль улицы в том направлении, куда, по словам индейца, свалил Уиннер. – Во всяком случае, я знаю, где его искать. Он сказал, что едет домой, в маленькое местечко рядом с Ваденой, Лиф-Фоллс. Там живет его жена.
– Вы имеете в виду Лиф-Ривер, – уточнил индеец. – Но он не оттуда. Разве вы не слышали, как он говорит? Он не местный. Мне он сказал, что едет повидаться со своей девушкой в Северную Дакоту. Якобы она ему написала, что тяжело больна, но он подозревает, что она просто залетела, и хочет проверить. Так он сказал мне.
– Вор и брехло, – ответил Лоял. – Готов поспорить на что угодно, он и во флоте-то никогда не служил. Наверное, украл у кого-нибудь морскую форму. Если я его найду, он никогда больше никому не соврет, потому что я вырву его поганый язык. И мозги вытащу через нос. – Он завел машину и стал медленно ездить по улицам Литтл-Фоллс, останавливаясь, забегая в магазины, в бар «Черная шляпа», продуктовые лавки и спрашивая у всех, не видел ли кто моряка. Индеец сидел на заднем сиденье, переложив указательным пальцем страницу в блокноте. Становилось все жарче. Тротуары постепенно пустели, люди прятались в спасительной тени, сидели на кухонных стульях или старых кушетках, застеленных вылинявшими покрывалами.
Улицы превратились в пустые проселки. В конце короткого переулка они увидели щит с надписью «Парк Линдберг». Лоял завел машину под деревья, выключил мотор, откинул голову назад и закрыл глаза. Ноги и руки у него отекли. По лицу из-под волос на висках струился пот. Ветер дул и дул. В осиновой рощице деревья раскачивались, шипя, словно морской прибой на прибрежной гальке. Индеец запел.
– Вам это кажется забавным? – заорал на него Лоял. – Вы считаете, что человек, которого ограбили и который пытается вернуть свои деньги, – это повод для песен?
– Я пою Дружескую песнь. В ней говорится: «Небо благоволит моей песне». Я хочу быть в ладу с небом. Посмотрите вон туда. – Он указал на юго-восток, где небо потемнело, как синяк, и было испещрено лиловыми пятнами, похожими на гниль в персике. Лоял вышел из машины. Спустя минуту индеец, продолжая тихо напевать, последовал за ним. С осин срывались зеленые мокрые шелковистые листья. Индеец поймал несколько на лету, мягких, как перчаточная кожа, и растер между пальцами.
Пока они стояли, глядя на небо, амплитуда порывов ветра все возрастала. Тучи сгустились, и их изнанку начали пробивать шарики цвета дынной мякоти. Им на головы вместе с градом посыпались мелкие ветки, а в мокрой траве под ногами что-то закопошилось с упорством обреченного. Оказалось – летучая мышь, видимо, раненая, она скрежетала своими игольчатыми зубами. Град сбил ее на землю, он жалил им руки, молотил по крыше машины, как гравий.
– Поглядите туда, – сказал индеец, указывая на самую темную тучу. Из нее свисал чудовищный хобот. Послышался оглушительный рев, и они задохнулись от мощного порыва желтого воздуха.
– Торнадо! Небо снизошло ко мне! – проорал индеец. «Хобот» вращался, как повисшая веревка, и приближался к ним из необозримой дали.
* * *
Заходящая луна, белая как снег, светила Лоялу прямо в глаза. Над ним нависала длиннющая вилка для поджаривания хлеба на костре. Он услышал крики улетающих на север гусей, подумал, что он на ферме, что его придавило рухнувшей каменной стеной, и протянул руку, чтобы попросить Билли помочь ему.
Когда рассвело, появились люди. Они подняли его и, уложив на одеяло, перенесли на матрас, расстеленный в кузове пикапа. Кто-то положил ему на грудь бумажный пакет. По дороге в больницу встречный ветер холодил его босые ноги, он попробовал пошевелить правой рукой и почувствовал боль. Спустя некоторое время до него дошло, что какая-то мясистая мокрая масса зажата у него в левой руке. Что-то твердое и гладкое, как тупой коровий рог. Но у него не было сил поднести предмет к глазам. Деревья мелькали над ним, как сполохи огня, свистулька-окарина выпала из его ладони.
– Странные вещи творит порой торнадо, – сказал врач. Он стоял, склонившись над Лоялом. Его плотно облегавшие голову волосы напоминали усеченный конус, а уши – сложенные лодочкой ладони. Уродливый сукин сын, хотя карие глаза под коровьими ресницами добрые. – Вы слыхали, как солому впечатало в ствол моховника[27] на шесть дюймов и как дома́ сдвинуло с места на два фута, притом что в них ни одна чашка не разбилась? В вашем случае, похоже, вихрь унес машину и аккуратненько стянул с вас туфли и носки. Вам еще повезло, что вас не было в машине. Вероятно, мы никогда не узнаем, что именно вас поранило, но, если можно так выразиться, вам снесло часть скальпа.
Индейца и след простыл.
9
Что я вижу
Лоял едет по дорогам, тени серебристых тополей колышутся на ветру, как шелковые ленточки; бледные кони бродят по полю, как носимые ветром листья; в окне виднеется женщина, надевающая фартук через голову, из выреза для шеи появляется сетка для волос, фартук линяло-голубой, ноги в растоптанных туфлях, без носков, фиолетовые от укусов москитов; мужчина во дворе прибивает к столбу табличку «Крольчатина»; доска, перекинутая через Картофельный ручей; сарай с прогнувшейся крышей, дверь закрыта на массивную цепь; белые кресты, ветряные мельницы, силосные ямы, свиньи, серебристые тополя на ветру, листья, струящиеся по обочине вслед за машиной. Забор. Еще забор. Много миль заборов из колючей проволоки. Три девушки на опушке леса с охапками красных триллиумов в руках, из-под которых свисают вырванные из земли корневые луковицы. Вывеска: «Террариум Сигурда. БОЛЕЕ 100 ЖИВЫХ ЗМЕЙ, ЯЩЕРИЦА-ЯДОЗУБ ДЛИНОЙ 7 фт., АНАКОНДА, ВОДЯНОЙ ЩИТОМОРДНИК, ПЛЕТЕВИДНЫЙ ПОЛОЗ, СОСНОВАЯ ЗМЕЯ, КРЫСИНАЯ ЗМЕЯ» – и сам старик Сигурд, в длинной-длинной робе и кожаном пальто, с сосновой змеей, обвившейся вокруг шеи, стоит рядом, зазывает, заманивает, сыплет обещаниями. Бостонский папоротник на подоконнике. Диван на веранде. На диване – газета. Человек, спящий под трактором, в полосатой тени. Почтовое отделение. «Купите домой деревенский зерновой хлеб». Бархатистый дуб, бахромчатый пекан, кария косматая, черный орех, черный клен, кентуккское кофейное дерево, высокорослая ежевика, клиновидная слива, каштан, мох, лисий виноград, ползучий можжевельник, белая сосна, погребальный холм в форме птицы, белый кедр, ели, пихты, тамариски, луговые тетерева. Семенной клевер. Корова, лежащая среди океана травы, как черный корабль викингов в море; покрытый белой скатертью стол под яблоней, за столом – мужчина без рубашки, с лицом цвета красного дерева и дряблой белой грудью.
В закусочной – крашеные деревянные столы, перед каждым посадочным местом – бумажная салфетка, на салфетке – пустой стакан для воды, вилка, слева от нее – ложка и нож. Простое меню придавлено солонкой и перечницей. Облака в форме языка муравьеда, ястребиного хвоста, катышек от ластика на бумаге, кучек свернувшейся блевотины. Луч фонаря в темноте. Мокрые валуны вдоль берега озера.
10
Потерянный младенец
Мернель почти добралась до черничного болота, до его первых кустов, вдохнула кисловатый запах этого места, который солнце вытягивало из кожистых листьев, голубых стрекоз и ее собственных следов в грязи, когда услышала зовущий ее голос Джуэл, доносившийся слишком слабо, чтобы разобрать слова, было похоже на что-то вроде «со-оло, со-оло», протяжное и скорбное.
– Что? – крикнула она и прислушалась. Ответом ей было лишь едва слышное глухое долгое «соо-лоо». Это не походило на ее имя. Если выкрикивать издали ее имя, слышится что-то вроде «не ве-ерь». Она вошла в заросли черничных кустов и сорвала несколько ягод. Они были еще фиолетовыми и кислыми. Прищурившись, она посмотрела на небо, вспомнив тускло-медный цвет, которым оно окрасилось во время затмения в прошлом месяце, и солнце оставалось видимым, хотя совершенно белым. Мернель была разочарована, она надеялась увидеть черное небо с огненной короной, прожигающей дыру во тьме, наступившей посреди утра. Но ничего подобного ей увидеть не довелось. Скорбный клич донесся снова, она сорвала пригоршню ягод вместе с листьями, сунула в рот, жевала всю дорогу обратно к дому, пока взбиралась на холм, и выплюнула уже у самого забора.
Джуэл стояла во дворе, под пенсильванской черемухой, и, приложив ладони ко рту ковшиком, звала, звала… Когда Мернель появилась в поле ее зрения, Джуэл замахала ей рукой: быстрее, быстрее.
– Война кончилась, президент Рузвельт сказал по радио, и ребенок потерялся. Ронни Ниппл только что приходил за помощью. Они просят нас помочь искать малыша. Это сын его сестры Дорис. А Минк с Дабом договариваются с Клончем насчет продажи еще нескольких коров. Убила б себя за то, что не умею водить машину. Вот она стоит, а мы должны пройти мимо и топать пешком. Дорис приехала на неделю, сегодня всего первый день – и вот тебе, пожалуйста. Видимо, они так уткнулись в радиоприемник, слушая про то, что японцы капитулировали и люди, спятив от радости, танцуют и вопят на улицах, что забыли о мальчике, он только ковылять научился, крошка Ролло – помнишь, они как-то приносили его к нам прошлым летом, он тогда еще не умел ходить – никто даже не заметил, как он вышел. Ронни, конечно, ругает всех на чем свет стоит, орет на сестру: «Ты почему за ним не смотрела?!» Они с ней никогда не ладили. В общем, я ему сказала, что мы отправимся на поиски, как только я тебя вытащу из черничных кустов, а он пообещал подобрать нас по дороге, если увидит, возвращаясь от Дэвиса. У Дэвиса есть телефон.
– Ура! Больше не нужно будет собирать жир, жестяные банки и относить в церковь старую одежду. А что, если стручки чечевицы тоже больше не понадобятся?
– Скорее всего. И карточки на бензин, говорят, очень скоро отменят.
– Когда ты меня звала, было совсем не похоже на мое имя. Что-то другое слышалось.
– Да я кричала: «Ролло, Ролло!» Думала, если он забрался далеко, то мог оказаться где-нибудь в тех кустах. Но, похоже, там его нет.
– Ма, от их дома досюда – две мили. – Видимо, события этого дня поглотили все остальное. Может, мальчик должен был потеряться, чтобы закончилась война?
Они шли пешком под августовским полуденным солнцем. Несколькими днями раньше городской трактор заново посы́пал дорогу гравием, и камешки больно впивались в ступни через тонкие подошвы туфель. В отдалении слышались громкие крики, завывание сирен, автомобильные гудки, колокола, с ферм у подножия гор – выстрелы в воздух, которые напоминали звук досок, падающих с высоты на штабель.
– Еще по радио сказали, что скоро в магазинах появятся швейные машинки, ведра и ножницы. Не могу дождаться. Надоело резать ножницами со сломанным лезвием, под ними все скручивается. – Пчелы жужжали в золотарнике, росшем вдоль заборов. Быстро перебирая и громко топая ногами, волоча за собой свою веревку, их догнал пес. – Вот паршивец, – сказала Джуэл, – я думала, что хорошо его привязала. – Над пыльными кустами золотарника витало ощущение, что уже слишком поздно. Монотонный скрежет цикад прошивал расстилавшееся поле. Травинки торчали, как копья.
– Он может помочь искать ребенка. Как бладхаунд. Поведу его за веревку. – Мернель представила себе Ролло заблудившимся в кустах золотарника, раздвигающим ветки слабыми детскими ручками, а воздух вокруг кишит пчелами; или мокрое от слез отчаяния детское личико в мрачной лесной чаще; потом она представила, как пес обнюхивает наст из опавших листьев и вдруг стремительно бросается вперед, как бывает, когда он учует запах кролика, тянет ее за собой, и они героически находят ребенка. Она несет его к матери сквозь снежную пургу, а пес бежит рядом, все время подпрыгивая и норовя лизнуть ножку малыша, и она говорит: «Повезло ему. Еще час – и он бы не выжил». Температура опускается ниже нуля. И вот уже Дорис рыдает благодарными слезами, а миссис Ниппл достает свою заначку и вручает Мернель десять долларов со словами: «Я бы за внука и миллиона не пожалела».
– Поверить не могу, что мы топаем по этим камням, в то время как у нас во дворе стоит машина с удобным сиденьем, которую я не умею водить. Господи, как жарко. Ты бы, Мернель, поскорей научилась водить машину, чтобы не застревать на этой ферме. Я давно хотела это сделать, но твой отец сказал – нет, и до сих пор не желает, чтобы его жена ездила куда захочет. Кроме того, у нас тогда был тот «Форд», который заводился снаружи рукояткой, и отец говорил, что можно руку сломать, запуская ею стартер.
Дорожка к дому Нипплов была гладкой и твердой, с узкой полоской травы посередине. Клены отбрасывали на нее неподвижные тени. Старый Тут Ниппл каждый год в марте надрезал деревья, но Ронни не делал сироп и вечно грозился со дня на день порубить все деревья на дрова. Зимой, когда гололед и снежные бури ломали огромные сучья и те падали на дорожку, он клялся, что обязательно сделает это в первый же погожий день. Но никогда не делал.
– Ма, скажи считалочку, ну как твой дедушка говорил.
– О, когда это было! Он так овец пересчитывал, это старая-старая считалка. Дай-ка попробую вспомнить. Ян. Таян. Тетера[28]. Метера. Пимп. Сеттера. Летера. Ховера. Довера. Дик. Ян-и-дик. Таян-и-дик. Тетера-дик. Метера-дик. Бамфит. Ян-и-бамфит. Таян-и-бамфит. Тетера-бамфит. Метера-бамфит. Гиггот. Вот! Дальше я никогда не знала. Только до двадцати.
– Бамфит! – повторила Мернель. – Бамфит! – Она начала смеяться, как всегда, когда слышала эту считалку. – Ой, бамфит! – верещала она сквозь смех.
– Постой, – сказала Джуэл, тоже смеясь, – постой. Овец после первой стрижки он называл «ярочками»! А мелких овец – «дружочками». Он говорил…
– Ярочки! Бамфит! – не умолкала Мернель.
– А бабушке, его жене – рот у нее был прямой, как гвоздь поперек лица, – один раз кто-то дал ящик грейпфрутов. Она понятия не имела, что это такое, никогда раньше грейпфрута не видела. И знаешь, что она с ними сделала?
– Отдала один бамфит ярочкам?
– Если будешь умничать, не скажу.
– Ма! Скажи! Что она с ними сделала?
– Она их сварила. Целый час кипятила, потом выложила на блюдо и сверху на каждый плюхнула кусок масла. И знаешь что? Они съели их за милую душу, горячими, с маслом. А дедушка сказал: «В хозяйстве ничего не должно пропадать».
Показался фруктовый сад, потом сарай с прогнувшейся и накренившейся передней стеной. Джуэл задыхалась, идя в горку. На незащищенном деревьями отрезке дорожная пыль, мелкая, как мука, вылетала из-под ног на каждом шагу. Она остановилась отдышаться, глядя на поля Нипплов. Кусты виргинской черемухи были белыми от пыли. Астры.
– Посмотри, как можжевельник наполз на пастбище, – сказала она. – Всего за каких-то два года. Когда я думаю о том, какого труда стоило Лоялу не давать ему разрастаться на наши поля, у меня дрожь по всему телу пробегает. Наверное, очень скоро можжевельник и наши поля захватит. Надеюсь, теперь, когда война закончилась, мы сможем найти какого-нибудь помощника. Хотя, скорее всего, ребята, которые вернутся с войны, не захотят работать на чужого дядю. Наверняка им осточертело подчиняться. Всем захочется быть самому себе хозяином. И Лоял, я думаю, не захочет батрачить на Западе. Вот увидишь, он скоро вернется. И поднимет ферму.
– Я почти не помню, как он выглядит. Высокий. Волосы смазаны бальзамом «Чарли» из диких трав. Курчавые. Когда я была маленькая, он возил меня на спине у поросенка. А помнишь, как он подарил мне на день рождения голубой кукольный сервиз?
– Они с Дабом вместе тебе его подарили.
Западная стена хлева Нипплов была испещрена тысячами мух, еще несколько тысяч их кружило над навозной кучей и копошилось в ней. Дом стоял в юго-восточном конце фермы, зимой там по утрам было много солнца, а летними днями его укрывала тень от хлева. Подойдя к крыльцу, они увидели через москитную сетку миссис Ниппл, стоявшую на веранде, раскачивавшуюся с пятки на носок и рыдавшую в кухонное полотенце. Вдоль всей веранды выстроились ее герани в банках из-под топленого сала и насквозь проржавевших эмалированных чайниках. За сброшенным на пол радиоприемником тянулся предательский провод.
– Мы пришли помочь в поисках, – сказала Джуэл, открывая сетчатую дверь. Навощенный линолеум блестел, как поверхность воды. – Мернель подумала, что собака может оказаться кстати. – Пес, вычесывавший блох, выглядел довольно глупо.
– Ронни поехал к Дэвису вызвать подмогу по телефону. Дорис снова ищет в хлеву. Там мы посмотрели в первую очередь, но она говорит, малыш так обожает коров, что именно там мог спрятаться. Он не мог уйти слишком далеко на своих маленьких ножках. Прошло всего несколько минут, как мы видели его – мы все стояли вокруг радиоприемника и слушали новости про конец войны и про то, что в Нью-Йорке все шумно веселятся на улицах, – как Дорис вдруг говорит: «А где Ролло?» (Миссис Ниппл не могла удержаться, чтобы не рассказать все в подробностях.) Ну, мы с ней стали его искать – наверху, внизу, в кладовке, в подвале, Ронни все еще слушал радио, а потом Дорис увидела, что дверь с веранды открыта, мы вышли и стали искать снаружи, потом в хлеву. Тут уж Дорис совсем обезумела и заставила Ронни поехать к вам и к Дэвису. С тех пор прошло уже больше часа, а о малыше ни слуху ни духу! Я сказала Ронни: «Мы теряем время, потому что у нас нет телефона. Я хочу, чтобы у нас был телефон».
Миссис Ниппл дала псу понюхать свитерок Ронни. Он взял его в зубы и стал трясти, как будто это была игра, пока Мернель не отобрала его и не вывела пса на улицу, приговаривая: «Ищи! Где он? Ищи малыша! Где он? Приведи малыша домой!» Пес, топая, забежал за угол дома и поднял ногу, окропив камни, которыми была обложена клумба миссис Ниппл.
– Ну, давай, ищи, – скомандовала Мернель, но пес сел на землю и уставился на нее глупым взглядом. – Найди ребенка, или я тебя убью, – зашипела она. Пес робко завилял хвостом и посмотрел ей в глаза. – Вот тупой придурок, – ругнулась Мернель и привязала пса к перилам крыльца. Пес засунул нос под ступеньки и стал обнюхивать землю под ними, словно она была надушена редкими духами. Мернель отправилась в хлев.
Дорис, взобравшись на сеновал, причитала: «Ролло, выйди к мамочке, солнышко», хотя Мернель не могла представить себе, как бы маленький ребенок вскарабкался наверх по скользким, стершимся перекладинам крутой лестницы. Она заглянула во все темные коровьи стойла и увидела, что Дорис уже переворошила там всю соломенную подстилку, потом поискала под столом в доильне, в старом помещении для упряжи и затянутых паутиной лошадиных стойлах, на столбцах которых были вырезаны имена: «Воск» и «Принц». Шаги Дорис над головой перемещались из угла в угол, потом – к настилу, по которому сено спускали вниз. Ее черное отчаяние заполняло собой весь хлев. Мернель вышла во двор и посмотрела на кучу навоза. Ролло мог упасть в эту жижу и утонуть в коровьем дерьме. Она про такое где-то слыхала. Джуэл рассказывала, что с кем-то это случилось. Девочка со страхом приготовилась увидеть посиневшую свесившуюся головку и измазанные ручки. Но в навозе копались только куры. От навозной кучи она видела, как ее мать и миссис Ниппл бродят по некошеной траве в саду, тяжелыми, печальными голосами выкрикивая: «Ролло! Ролло!»
Когда во двор въехала машина Ронни, набитая мужчинами в рабочей одежде, Дорис выбежала к ним со слезами, чтобы сообщить, что ребенка так и не нашли. Мужчины рассредоточились и стали прочесывать скошенный луг по направлению к подлеску, где протекал ручей шириной в десять футов, с песчаным дном и бурлящей ледяной водой, бившей из-под земли. Дорис, вдруг вспомнив о воде, помчалась за ними.
Джуэл и миссис Ниппл, выйдя из истоптанного сада, пошли в летнюю кухню с сетками на окнах и керосиновой плиткой, располагавшуюся за торцом веранды, Мернель последовала за ними. Руки у них были исцарапаны острой травой. Миссис Ниппл налила всем по стакану воды. Несколько капель упало в железную раковину, до блеска отполированную миссис Ниппл тряпкой, смоченной керосином.
– Не понимаю, – сказала она, глядя через окно на Дорис, бегущую вслед за мужчинами, спотыкаясь, приземляясь на колено, снова вставая и бросаясь вперед, и на Ронни, сердито оборачивавшегося к ней и кричавшего, чтобы она не ходила за ними. Как будто вероятная реальность могла оказаться страшней неизвестности. – Как он мог всего за несколько минут уйти так далеко?
Водяной насос издал тонкий жалобный звук.
– Иногда малыши удивляют нас, – ответила Джуэл. – Помню, Даб добрался аж до са́мой дороги, пока я собирала яйца, а ведь он тогда еще и ходить не умел. Всю дорогу, целую милю, прополз. С ним такое постоянно случалось.
Насос взвыл зловеще-пронзительно.
– Господи, что это? – воскликнула миссис Ниппл. Вода из ее накренившегося стакана капала на пол.
– Вроде, это ваш насос, что-то с ним не так.
– Насос никогда в жизни не издавал такого звука, – сказала миссис Ниппл. – Это мальчик, он где-то там, под летней кухней. Ролло! РОЛЛО! – завопила она в отверстие раковины. И в ответ они услышали какой-то булькающий вой. Джуэл послала Мернель сказать Дорис и мужчинам, что они слышат голос ребенка из-под пола летней кухни возле водяного насоса, но как до него добраться? Разбирать пол? Миссис Ниппл то, склонившись над раковиной, кричала в отверстие что-то ободряющее, то тыкала ножом в доски пола. Потом подошла к тому месту, где труба насоса выходила на поверхность и вокруг которого под задравшимся линолеумом доски были мягкими, как сыр. На изгибе тускло-красной ручки насоса виднелось клеймо «Маленький гигант».
Джуэл, наблюдавшая, как Мернель, с нечеловеческой энергией, свойственной только детям, мчится вверх по склону холма к ручью, услышала позади себя громкий звук чего-то ломающегося и обернулась. Одна нога миссис Ниппл по самое бедро ушла под сгнивший пол, другая согнулась, как у кузнечика, пережав мышцы. Она висела на бортике раковины, держась за нее одной рукой, а в другой крепко сжимая нож. Снизу доносились жуткие визги.
– Вытащите меня, я на нем стою! – кричала миссис Ниппл, но, прежде чем Джуэл успела дотянуться до нее, миссис Ниппл вместе с насосом и раковиной опустилась на Ролло.
* * *
– Маленького сукина сына сильно помяло, но он выживет, – сказал за ужином Даб. – Притом, какой на него свалился груз, могло и раздавить в лепешку, но, похоже, тяжесть опускалась на него медленно, аккуратно, а не рухнула враз, а старушка вроде как присела на корточки, приземляясь, так что он легко отделался. Старушке досталось больше, чем ему. Она нашпигована ржавыми гвоздями, как игольница. Ее хотели оставить на день-два в больнице, но она не согласилась.
– Как подумаешь, что под всем этим образцовым хозяйством была такая гниль… – воскликнула Джуэл. – Хороший им будет урок. – Ее очки с мутными, в грязных пятнах стеклами лежали на столе. Она потерла переносицу, словно скобка телесного цвета соединявшую два красных овала.
– Но как он туда попал? – спросила Мернель, вспоминая доносившиеся из-под пола плач и вой, миссис Ниппл, лежавшую на заднем сиденье машины Ронни с окровавленными коленями, младенца, вопившего благим матом на коленях Дорис, сидевшей на переднем сиденье, и Ронни, гнавшего машину по подъездной аллее и кричавшего: «С дороги!»
– Заполз, – ответил Даб. – Насколько можно понять, он забрался под крыльцо, оттуда – дальше, под веранду, дополз до узкого места, где не смог развернуться, а поскольку его никто никогда не учил ползать задом наперед, то он и дул вперед, пока не добрался до конца, до места, где под летней кухней находится насос. Запомни Мернель: своих детей всегда учи ползать задом наперед.
– Ты горазд рассуждать о детях и ползании. А я помню, как ты больше мили прополз по грязи до самой дороги и недокумекал, как вернуться обратно, – сказала Джуэл.
– Нет, – ответил Даб, – если я чего и недокумекал, так это уползти дальше.
11
Желтоцветы
Ронни с красными после похорон глазами наклонился и поставил фарфоровую собачку в центр стола, на почетное место. Потек от портвейна у него на подбородке был какого-то густого цвета, словно он угодил подбородком в блюдо с раздавленной черникой.
– Когда поняла, что умирает, – пробормотал он, обращаясь к Мернель сквозь распухшие губы, – она сказала, что хочет, чтобы это было у тебя. Сказала, что твой пес был на правильном пути, когда обнюхивал землю под ступеньками крыльца. Может, если бы кто-нибудь обратил тогда на него внимание, все обернулось бы по-другому, так она сказала. – Он подвинул собачку вперед указательным пальцем, потом повернулся и пошел к машине.
На подоконнике тикал будильник Лояла. Все смотрели на фарфоровую собачку. Ее бесстрастная морда и неуместно розовая блестящая окраска обвиняли. Миссис Ниппл молча взывала: если бы только вы заметили, что́ пытался показать вам пес, я была бы сегодня жива, а не лежала бы в закрытом гробу из-за того, что лицо у меня почернело от заражения крови.
– Не думаю, что пес учуял что-то, кроме метки, оставленной другой собакой, – сказал Минк. Он похлопал Мернель по руке, это, насколько помнила Мернель, было первым ласковым жестом с его стороны с тех пор, как она заболела свинкой и у нее так кружилась голова от высокой температуры, что она не могла идти, тогда он на руках отнес ее наверх по лестнице и уложил в постель. Джуэл убрала собачку в кладовку, засунув ее за какие-то пустые банки.