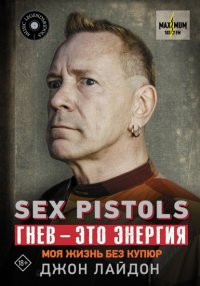
Читать онлайн Sex Pistols. Гнев – это энергия: моя жизнь без купюр бесплатно
- Все книги автора: Джон Лайдон
Джон Лайдон, легендарный фронтмен Sex Pistols и основатель Public Image Ltd, делится откровенной, неприкрашенной историей своей жизни, полной сложностей, лишений и непростых выборов.
«Веселая и временами трогательная история».
– ROLLING STONE
«Необыкновенная книга о детстве, которая захватывает и не отпускает».
– THE TIMES
«Жизнь Джона Лайдона достаточно богата и насыщенна, чтобы дать ему право на еще одну. А он сам – достаточно талантливый писатель, чтобы читать его было весело и увлекательно».
– BILLBOARD
Джон Лайдон – икона панк-рока, одна из самых узнаваемых и влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Именно с ним в качества лидера Sax Pistols стали мировыми звездами, пережив расцвет славы в 1970-х благодаря таким песням, как «Anarchy in the UK» и "God Save the Queen». Их влияние на общество оказалось настолько сильным, что британское правительство было близко к тому, чтобы обвинить музыкантов в госизмене, а сам Лайдон стал громким символом поколения, требующего перемен, Вместе со своей второй группой, Public Image Ltd, он и по сей день продолжает бросать вызов миру и развиваться как артист и личность.
Лайдонам. Я не стану благодарить мою семью за помощь с карьерой, потому что с этим я справился самостоятельно, но вполне благодарен им за то, что они всегда были со мной рядом. Спасибо.
Норе. Любви всей моей жизни. Моему лучшему другу. Ссоры – это прекрасно, но мириться – еще лучше. Я всегда видел от тебя только любовь и поддержку. И надеюсь, дарил то же самое в ответ. Спасибо.
Посвящаю эту книгу порядочности.
Предупреждение от издателей
Эта автобиография написана Джоном Лайдоном, и написана она его словами. То, как он ими распоряжается, не всегда соответствует строгим грамматическим правилам. Иногда читатель может встретить слова, которых нет в словаре, или какие-нибудь не совсем, скажем так, ортодоксальные случаи их употребления. Издатель прекрасно об этом знает – и это вовсе не ошибки или опечатки. Они – часть уникального языка мистера Лайдона, и, принимая вещи таковыми, какие они есть, мы решили пустить подобного рода штуки в свободное плавание. Как сказал бы по этому поводу Джон: «Не парьтесь по всякой хрени».
Предисловие
May the road rise with you
(Пусть дорога бежит впереди)
«Гнев – это энергия». И, черт возьми, да, так оно и есть. Возможно, это самые мощные строки, которые я когда-либо написал. Работая над «Rise», песней Public Image Ltd, я и понятия не имел, какое эмоциональное воздействие окажет она на меня, да и на всех, кто ее услышит.
Я сочинил эту строчку, особо не задумываясь, – просто выдал то, что пришло мне в голову, непосредственно перед тем, как впервые исполнить целиком всю песню в своем новом доме в Лос-Анджелесе. Такая крутая, спонтанная идея.
Сама песня была посвящена событиям в Южноафриканской республике во времена апартеида. Я смотрел тогда все эти устрашающие новостные репортажи по «Си-эн-эн», так что строчки вроде:
- На голове моей замкнули провод,
- Что делал я и говорил – им дал я повод,
– являются отсылками к пыткам, которые правительство ЮАР применяло против несогласных с режимом. Невыносимым пыткам.
Ты видишь подобные репортажи по телевизору и в газетах, и кажется, что это реальность, которую нельзя изменить. Так что в контексте «Rise» фраза «Гнев – это энергия» стала неким программным заявлением, словно говорящим: «Не воспринимай гнев негативно, не отрицай его, а лучше используй, чтобы создать нечто новое». У песни есть и еще один рефрен: «Пусть дорога бежит впереди». Когда я рос, это были именно те слова, что любили повторять мои мать и отец, а вместе с ними и добрая половина соседей, которым также повезло родиться ирландцами: «Пусть дорога бежит впереди, а враги всегда остаются позади тебя».
Так что, да, главный посыл «Rise»: «Всегда есть надежда», а для решения проблем вовсе не обязательно прибегать к насилию. Гнев не равнозначен насилию. Насилие вообще редко что-то решает. В Южной Африке они в конце концов нашли относительно мирные способы выхода из конфликта. Используя такую вроде негативную энергию, как гнев, бывает достаточно всего лишь одного позитивного шага, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
На записи «Rise» в студии мы с продюсером все время спорили, как с нами это обычно случается, но иногда подобные споры действительно имеют пользу и смысл. Когда же в начале 1986 г. вышел сингл, песня стала всеобщим гимном, причем случилось это именно в тот период, когда пресса твердила, будто со мной все кончено и мне и податься-то некуда. Оказалось, что очень даже есть куда, и я сделал это! Да, гнев – это энергия. Неисчерпаемая.
Когда я сейчас исполняю со сцены «Rise», то чувствую, как меня переполняют эмоции – реально, это такая настоящая связь с публикой. Я получаю все эти мелодраматические отклики, когда зал буквально взрывается, ощущая сопричастность тому заявлению, что несет песня, ее внутреннему смыслу и цели. Народ в зале полностью сознает это и, в свою очередь, делит свои чувства со мной. Просто дух захватывает. Часто я даже забываю о своем месте во всем этом действе. Настолько большое впечатление производит исполнение публикой песни, что эмоции берут верх. Для меня это и есть полный успех: нечто по-настоящему великодушное и благородное, понятное каждому в зале.
Гнев – корень причины, по которой я вообще сочиняю песни. Иногда мне даже кажется, что я сам себя едва контролирую, когда пишу. И если и есть где-то там ангелы-хранители, моему досталась чертовски трудная работенка. Во всех этих вещах, в том, как это работает, конечно, есть большая доля предвидения и опыта, влияния того, как сложилась моя жизнь, с чего начиналась. Но теперь, когда я на сцене, слова сами приходят ко мне. И когда я на сцене – я в игре!
Что бы там ни сидело во мне, оно заставляет меня шевелиться, действовать, быть упорным и непреклонным, и такое понимание вещей вовсе не пустые выдумки – я, в конце концов, не так уж и отличаюсь от остального человечества. Правда. Мы все через это проходим, просто я взял и высказался вслух.
Я родился на помойке. Я появился на свет и вырос в дерьмовом районе Северного Лондона, жизнь в котором была во многом похожа на то, как мы представляем себе сегодняшнюю Россию. Тотальный контроль. Везде и во всем. Сама презумпция контроля. Люди рождались в этой насквозь прогнившей коррумпированной системе, веря, будто другие вправе указывать им, как поступать и что делать. Как я сказал королевской семье: «Вы можете попросить меня быть верным подданным, но вы точно не можете этого от меня потребовать. Я вам не чье-то пушечное мясо».
Не думаю, что подобного рода образ мышления был свойственен тогдашней британской ментальности. Десятилетия викторианского подобострастия уничтожили свободолюбивый дух предшествовавших столетий. Британцы некогда имели и в самом деле славные традиции гражданского неповиновения, однако ко времени окончания Второй мировой войны от них не осталось и следа: школьные учебники стыдливо замалчивали о былом бунтарстве. Однако те из нас, кто любил читать… – ага, сюрприз, смотрите-ка, что мы тут нашли!
Я начал читать и писать в возрасте четырех или пяти лет. Меня научила мама, однако после перенесенного в семилетнем возрасте менингита я лишился всего – памяти, своих воспоминаний, даже не мог узнать родителей. Возвращение обратно заняло много времени. После школы я просто уходил в библиотеку, сидел там и читал книги до самого закрытия. Предки вели себя замечательно, они верили, что я найду дорогу домой, хотя иногда мне даже этого не удавалось – я в буквальном смысле слова не мог вспомнить, где живу.
Я любил возвращаться к чтению, не важно, будь то история, геология или рассказы о дикой природе. Позднее я познакомился с Достоевским. В возрасте одиннадцати лет я нашел «Преступление и наказание» очень содержательным – печальным, да, но, знаете, иногда бывает полезным и плодотворным погрузиться в скорби и печали других людей. Типа: «Ага, что он за несчастный сукин сын, но у меня-то проблемы посерьезнее будут!» Так что книги оказались неоценимо важными – жизнь моя была спасена.
Тут у нас в Штатах недавно все обсуждали, зачем каждый бывший президент открывает библиотеки, если политики не читают книг. Привет, Америка! Это отчасти объясняет вашу политику. Что касается меня лично, чтение спасло меня, вернуло обратно. И едва я снова осознал себя, ко мне постепенно начали возвращаться память и обрывки воспоминаний. Они снова обрели для меня смысл, и постепенно я понял, что являюсь тем же человеком, кем был до того, как все потерял. Даже лучше, теперь я мог взглянуть на себя со стороны и поинтересоваться: «Слушай, ну и чем ты тут занимаешься? Давай-ка постарайся сделать все как следует и не бросайся, не подумав, куда ни попадя».
Возможно, я был слишком строг – что можно ожидать от семилетнего мальчишки? Однако я был очень, очень требователен к себе и продолжаю оставаться таковым. Никто не напишет обо мне всех тех действительно отвратных вещей, в которых я бы сам себя не обвинял. В половине случаев, читая разные хейтерские статейки, я думал про себя: «Да ладно, это они со мной еще легко обошлись». Как вы увидите в дальнейшем, читая эти страницы, я – мой самый строгий критик, а книга – моя попытка понять и изучить себя – постоянный процесс длиною в жизнь.
Возвращаясь к моему подростковому возрасту, стоит отметить, что я определенно был готов что-то совершить. Мой пистолет, скажем так, был заряжен, однако все дальнейшее случилось самым занимательным образом, поскольку такого я уж точно не ожидал. Как только прозвучало это: «Эй, хочешь петь в нашей группе?» – я немедленно ответил: «Вау, да без вопросов! Боже мой, теперь все сходится!» И будь я проклят, но я не собирался так просто отступаться от этой идеи. Я оказался очень настойчив, несмотря на всеобщие неявки на репетиции и весь сопутствующий ранним Sex Pistols негатив.
Нельзя сказать, что я пришел в группу с блокнотами, исписанными словами песен, – тексты стали появляться уже по ходу дела. Мои мозги служили библиотекой. Мне нравится делать заметки, однако я достаточно пренебрежительно отношусь к уже записанному слову. Думаю я явно быстрее, чем пишу, поэтому и обзавелся неплохим таким хранилищем между ушами.
Было просто чертовски здорово получить возможность выкрикивать со сцены все эти вещи. Откровенно говоря, я и представить себе не мог, сколько народа в конце концов будет это слушать. «Пистолз» казались мне клубным проектом. Я не видел в нем особых перспектив, поскольку музыкальный бизнес, как и любой другой к тому времени, был целиком и полностью схвачен и повязан. Все эти проповедовавшие свободную любовь команды 60-х заняли там первые позиции и не собирались освобождать место в своем автобусе.
Однако спустя всего лишь год-два первая же парочка написанных мною вещей «Anarchy In The U.K.» и «God Save The Queen» попали точно в цель. Я хотел бы поблагодарить британскую систему публичных библиотек: они стали моей тренировочной базой, именно там я научился бросать свои словесные гранаты. Я не швырял кирпичи в витрины магазинов в знак протеста, а бросал слова там, где они имеют значение. И еще какое!
Адвокаты и парламентарии обсуждали меня на открытых слушаниях, гневно цитируя «Акт об измене». Смертельно опасная штука, если обернуть ее против тебя. Этот очень древний закон, судя по тому, что рассказал мне мой адвокат, до сих пор предусматривает смертную казнь. Упс! Что? За сказанное слово? Абсурдно, когда правительство диктует, как, по их мнению, людям следует или не следует поступать. Ау! Мы – те, кто за них голосует, и вовсе не для того, чтобы они указывали нам в ответ, что мы делаем не так. Лучше бы побольше обращали внимания на то, когда мы поступаем правильно. Гражданские права одинаковы для всех нас, скажу я. Не судите, и не судимы будете.
Вся эта провальная история пробудила во мне эдакого ворчливого маленького мерзавца. Только представьте – сама мысль о том, что слова и в самом деле являются оружием и воспринимаются как таковое власть имущими. Аж мурашки по коже! Просто вау! И для меня это – оправдание. Это было жестко, настоящий хардкор, а не так посмеяться. Я ненавижу любые формы управления. А тут они еще и заявляют, будто мне не позволено говорить определенные вещи – другими словами, я не могу высказывать свое мнение. Так я обнаружил, что и правда представляю опасность для сильных мира сего.
Не многие «поп-певцы» осмеливались зайти так далеко. Типа да, конечно, весь этот Пусси-Пук в России – я всячески их поддерживаю. Я люблю храбрость. Но до них мое положение было самым тяжелым из тех, в которых когда-либо оказывалась поп-звезда. Самое политическое, самое опасное – а я по ходу только смеялся. Наш так называемый менеджер, Малкольм Макларен, обосрался, как и вся остальная группа. Именно это и стало одной из причин распада: они боялись оказаться втянутыми в то, что считали скандальным. Для меня же это – вопросы, которые нельзя было не задать. Такое социологическое исследование. Что можно говорить и что нельзя. С какой такой стати слово «херня»[1] считается запрещенным? Кто вправе мне на это указывать? Вот что вывело меня на тот путь, которым я теперь следую. Всегда называть вещи своими именами. И никогда не отступать.
Однажды я видел запись, на которой Игги Поп исполнял одну песню – «Down In The Street»[2]. Храбрость царившего на сцене угара впечатлила меня – нет, это ни в коем случае не была слабость, Игги жег на ВСЮ КАТУШКУ! Со своими длинными, блондинистыми, роскошными волосами, с тушью на ресницах – Игги! И это сработало, подействовало, потому что парень не уклонялся от того, кем он был. Да, я здесь, да, я такой, просто смиритесь. Абсолютная, настоящая храбрость.
Ты не можешь всегда надеяться на то, что тебя примут, и иногда даже выгодно, если этого не случится, но в любом случае, когда у тебя есть храбрость стоять на сцене, – это твое. Не надо бежать от этого. И я не бегу.
Я никогда не позволял себе снисходительно похлопать самого себя по плечу за достижения, даже несмотря на то, что я пришел буквально из ниоткуда. Потому что немедленно на меня обрушивалась другая проблема, а за ней еще одна. И для меня это вовсе не охота за трофеями. Просто есть вещи, которые я должен был высказать.
И я сказал свое слово. Политические ограничения и британское самомнение – думаю, я достаточно имел с ними дело во время всей этой Пистолзовзской херни, так что следующее, чем я занялся, – так сказать, внутренней политикой: хотелось разобраться в себе и выяснить, что со мной не так. Прежде чем строить карьеру, обличая других, необходимо было понять, что плохого скрыто внутри меня самого. Так что свою следующую группу Public Image Limited, кратко PiL (ПиЛ), я использовал для того, чтобы перестать изображать из себя заносчивого засранца. Я верил, что в этом проекте мы все будем на равных.
И таким образом нам удалось проделать замечательную работу. Придумать парочку действительно важных штуковин, просто потрясающих по тем временам. Мне нравились мои Pubic Hairs Limited[3]. Мы бросили вызов устоявшимся на тот момент представлениям о музыке. И это коренным образом изменило саму ее концепцию. На самом деле я менял музыку дважды.
Сейчас уже трудно припомнить детали, но где-то в 80–90-х мне предложили: «Разве не отличная идея, если ты станешь Кавалером Ордена Британской империи?» Думаю, они решили, будто теперь меня можно приручить, но, вероятно, не вслушивались в содержание Metal Box или Album. Предполагалось, что тексты песен не имеют особого значения, но это было не так. Да, в них затрагивались проблемы скорее внутренние, а не внешние, как в текстах «Пистолз». Где-то там подумали, что меня можно вписать в эту дерьмовую систему, однако с Джонни такое не прошло. Я сильно опасаюсь этих хвастливых титулов и не вижу в них особой необходимости. На самом деле мне нравится помпа и всякие церемонии – всего лишь не хочу принимать в этом участие.
Но знаете, я тут совсем недавно имел дело с американскими властями, когда подавал заявление на американское гражданство, и они сказали мне, что британцы все еще хранят открытое на меня дело. Только представьте!
Все, чего я хочу в жизни, – это ясность и прозрачность. Мне необходимо, чтобы я всегда знал, кто что делает и с кем. Мои единственные реальные враги – лжецы, готовые на все, лишь бы меня остановить, поскольку хотят, чтобы обман и подмена понятий продолжались, потому что так им удобно, или совершенно невежественные и безмозглые дураки, верящие каждому слову, прочитанному в ежедневной газетенке.
Я чертовски хорошо знаю, что больше всего удовольствия извлекут из этой книги мои хейтеры, и практически каждая вторая строчка здесь может стать оправданием их презрения. Ну, это нормально. И тоже отчасти относится к делу. Ведь они думают, пусть и негативно – по крайней мере, в их голове есть хоть какие-то мысли! Гнев – это энергия, помните?
Итак, вот вам «Моя жизнь, без купюр». Здесь должен быть подзаголовок – «Даже если они попытаются». Купюры, цензура – это то, против чего я всегда выступал. Своего рода непререкаемые постулаты, исходящие от людей, которые не любят много думать, не готовы анализировать себя (судить других гораздо проще) и боятся будущего. Будущее неизвестно, давайте запрыгнем туда и посмотрим, куда оно нас приведет. Есть одна старая, но очень правильная цитата: «Нам нечего бояться, кроме самого страха»[4].
Эта книга – жизнеописание серьезного любителя риска. Есть во мне этакая склонность к риску. То, что всегда брало надо мной верх. В начале 2014 г. я готов был ввязаться в самую большую в своей жизни авантюру – собрался провести три месяца, колеся по дорогам Америки, играя царя Ирода в рок-опере «Иисус Христос – Суперзвезда». Да, я знаю. Я прекрасно понимал, какое это произведет шоковое впечатление и какое вызовет осуждение – просто обожаю подобное… Обожаю! Но все это и гроша ломаного не стоило по сравнению с тем, что я получил бы от шоу как человек. Это заставляло меня подчиняться приказам и следовать сценарию. Последний вызов! Однако за неделю до начала шоу его отменили без каких-либо реальных объяснений.
Но слушайте, я постараюсь быть как можно более точным, не нанося никому слишком большого личного ущерба, поскольку считаю, что каждый заслуживает шанса вернуться и реабилитироваться, независимо от того, сколько раз он падал. У меня была нелегкая жизнь, и я не хочу, чтобы эту автобиографию восприняли как отражение ненужной злобы по отношению к кое-каким действующим лицам тех событий. Оставляю злобу этим собакам и крысам.
Я сделаю все возможное, чтобы не забыть, кто я, блядь, такой. Я могу иногда отказываться строго следовать хронологии событий своей жизни, но хочу, чтобы все было честно и открыто – говорить всю правду, и ничего кроме… НО!
Я могу ошибаться, а могу быть и прав.
Все в жизни взаимосвязано. Непредсказуемость – вот история моей жизни. Я облегчаю путь другим людям, готовым за мной последовать.
Я – слон гостиной, которого никто не замечает. Я тот чувак, кто не боится встать и во всеуслышание высказаться. В мире, где уже, кажется, никто не способен слушать.
Глава 1. Рожден ради цели[5]
«Испытания и невзгоды!»[6] – написал я в начале 80-х, пытаясь примириться с хаосом и смятением, с которыми я вошел в этот мир.
- Родился я, и доктор невзлюбил меня,
- Рванул за пятку, будто бы мясник цыплят,
- Пинок под зад – ах, мама, где же ты была?
- Как ты могла? – Ты на меня забила![7]
Одно четверостишие – и вы приходите к выводу, что я был очень недовольным ребенком.
А ведь я действительно горжусь песней «Tie Me To The Length Of That» («Привяжи меня на всю длину»). В то время по телевизору шло много медицинских передач, в которых показывали документальные съемки родов. Они там занимались тогда разными экспериментами на тему, что можно показывать и что нельзя, поэтому, наблюдая за всеми этими выскакивающими отовсюду младенцами, я типа такой: «Посмотри-ка, они шлепают бедного малыша по заднице, стоит ему только появиться на свет». Да, они делают это совершенно правильно с медицинской точки зрения, но я просто подумал, какая же это психологическая травма – ты едва покинул безопасное убежище материнской утробы, и тут они такие: «Вот тебе хороший шлепок по заднице, приятель!»
Мой отец пришел в ярость, когда услышал эту песню, потому что там есть упоминание и о нем: «тупой алкаш – ублюдок уронил меня». Это была история, рассказанная мне тетей и которую позже повторила мама: о том, что гордый папаша на радостях напился. Он взял отгул, потом вся эта паника, одно, другое – вот и результат. Я появился на свет ранним морозным утром 31 января 1956 г., а он «паниковал» накануне всю ночь.
Отец жутко разозлился на такой свой портрет. «Да не так все было! Ну… да оно могло и тако случиться, но совсем по другой причине!» – говаривал он с сильным ирландским акцентом. Бедный папочка. Я написал эти строки вовсе не для того, чтобы позлить его или отомстить. Как я уже сказал, я всего лишь пытался перевести на музыкальный язык те эмоции, которые, должно быть, испытывал в детстве. Вот почему я люблю писать песни – это реальное самокопание до какого-то энного уровня постижения.
Есть одна фотография со свадьбы моих родителей, которая представляет для меня невероятный интерес, потому что там, где-то в дальнем правом углу, тетя Агнес держит ребенка. И самое вероятное объяснение – этот ребенок, скорее всего, именно я и есть. Та-дам: я – ублюдок! В последние годы мне даже приходилось общаться с другими детьми, очевидно, рожденными моей мамой вне брака. И я никогда не мог получить честного ответа ни от одного из членов семьи, который был в курсе происходящего. Все они терпеть не могут разговоров, все тишком, и все великая тайна. Конечно, пока я сам не разобрался с всякими тайнами в собственной жизни и в собственном положении, мне было очень сложно иметь дело с другими предполагаемыми членами моей семьи.
У меня не было свидетельства о рождении, и я подозревал, что родился не в Лондоне, поскольку моему отцу, по-видимому обеспокоенному перспективами призыва на военную службу, пришлось притаиться и залечь на дно. По очевидным причинам я вынужден здесь немного темнить, равно как мои предки, которые очень неохотно делились информацией о себе или вообще о чем-либо еще. Это было все равно что пытаться выдавить воду из камня. «Алло, да член я этой семьи или нет?» – «Ну, знаешь…» Наверное, у моей мамы такое своеобразное чувство юмора, в которое мне по молодости было довольно сложно въехать. Это держало меня в постоянном состоянии настороженности – я все время пытался подобраться к интересующей меня теме под разными предлогами. Настоящая игра в крестики-нолики, которой забавляются родители, чтобы подразнить своих отпрысков. Но, пожалуй, мне это оказалось очень даже полезным в зрелом возрасте.
И оно научило меня быть всегда начеку. Меня не игнорировали и не потчевали сказками о Зубной фее – нет, здесь было кое-что уровнем повыше. Мне не морочили голову фантазиями. Каждому в нашем доме было ясно, что если Санта-Клаус и попытается спуститься по трубе, то, во-первых, он будет сожжен, а во-вторых, его изобьют до полусмерти, как личность весьма подозрительную, типа священника-растлителя малолетних!
В те времена все было немного иначе, чем сейчас. Ты не доверял никому. Мама и папа были очень отсталыми людьми – вовсе не тупыми, даже по-своему умными, поскольку сумели приспособиться и стать этакими выживальщиками. Однако ситуация в Англии складывалась так, что они всегда чувствовали – ими манипулируют.
Мой отец, Джон Кристофер Лайдон, был родом из Голуэя и всегда работал с разными тяжелыми машинами. В четырнадцать лет он приехал в Лондон в поисках работы на какой-нибудь стройке и быстро получил профессию машиниста подъемного крана и всего такого прочего. Однако он никогда не считал себя гребаным землекопом.
Его отец был жестоким, драчливым, не вполне адекватным парнем. Он приехал в Англию задолго до своего сына и жил неподалеку, но они никогда особо друг с другом не ладили. Мой отец старался бывать у него, пытался наладить контакт. Но все шло как-то мрачно, без особого результата. Мы обычно звали деда «старым хрычем» или «сычем», хотя тот вовсе не был похож на какого-нибудь филина. Он был заядлым курильщиком. От него постоянно воняло сигаретами, и в уголке рта у него всегда торчал окурок. Дед говорил очень гортанно, и было трудно разобрать, что он там произносит, поскольку давно превратился в настоящего алкаша, да к тому же еще и любителя проституток. Было очень странно наблюдать за их отношениями с отцом.
Моя мама, Эйлин, была очень любящей, но очень тихой женщиной. Мне нечего особо рассказывать. Все, что тебе нужно, когда ты маленький, – внимание взрослых, но правильное внимание. У мамы всегда было что-то не так со здоровьем – им с отцом едва исполнилось семнадцать или восемнадцать, когда они поженились и начали производить на свет нас.
Семейство моей матери, Баррисы, происходило из графства Корк – из местечка под названием Карригрохан. Очевидно, родители познакомились, когда отец там работал. Нам приходилось ездить к маминым родственникам на ферму каждое лето, честно говоря, только чтобы порадовать маму. Баррисы нас едва выносили, и нам, как это ни досадно, приходилось их терпеть. Они просто сидели и не разговаривали друг с другом. Ха, мои дедушка и бабушка с материнской стороны не были большими болтунами. На самом деле вся эта семья целыми днями так и сидела бы в тишине, из них едва можно было выудить и слово. Очень спокойный образ жизни – очень странный. Это, вероятно, раздражало отца, который в определенной степени любил поговорить.
В отце сидела какая-то скрытая обида. Они не хотели с ним разговаривать, но он это терпел. Я думаю, что все это потому… ну, потому что Баррисы считали, будто он недостаточно для них хорош. Это конечно странно, поскольку спустя много лет нам стало известно, что мою бабушку со стороны матери выгнали из семьи за то, что она вышла замуж за Джека Барри, отца моей матери, который служил в ирландской республиканской армии и был кем-то вроде героя Войны за независимость[8], ха-ха!
Очевидно, у матушкиных родственников «водились деньги», что бы это ни значило. Это трудно объяснить за пределами Ирландии, но для них иметь деньги – это владеть фермой. Джек построил собственную ферму после войны, когда юг отвоевал свои права. Так что он явно преуспел, но не был свободен от предубеждений – а ирландцы могут быть невероятными снобами, гораздо большими, чем кто-либо в Британии, даже учитывая всю эту английскую классовость. В ирландцах это было всегда.
Наша лондонская жизнь была очень замкнутой и обездоленной. Все вокруг нас жили в настоящем дерьме – нищие до убожества. Мы и понятия не имели, что такое деньги, на самом деле. Жили мы на Бенуэлл-Роуд, там, где «Арсенал» сейчас строит свой стадион «Эмирейтс». Прямо у железнодорожного моста, в принадлежавшем компании «Гиннесс Траст» большом многоквартирном доме Бенуэлл-Мэншенз. Прямо на первом этаже дома располагалась лавка, в каморке под которой в то время, когда мы сюда въехали, обитал бродяга по имени Говняный Том. Если пройти по коридору через лавку, можно было попасть на задний двор, где в двух комнатах, кухне и спальне – общий сортир, доступный всем жильцам, находился прямо на улице – жили мы. По ночам в сортире валялись алкаши, поэтому, даже повзрослев, мы обычно все равно пользовались горшком. Там же находилось и бомбоубежище, но поскольку люди превратили его в мусорную свалку, везде было полно крыс.
В спальне жили мама, папа, я, а затем, по мере появления на свет, и мои младшие братья: Джимми, Бобби и, наконец, Мартин. Тогда нас стало шестеро: четверо детей и двое родителей. Мы не были такой сюси-пуси дружной семейкой, да и вряд ли кто-нибудь из нас нуждался в дополнительной близости. Только представьте себе: две двуспальные кровати и раскладушка в крохотной комнатке с масляным обогревателем, и вы постоянно случайно друг друга касаетесь. Самое последнее, чего хотелось в такой ситуации, – всякие какашки-обнимашки. Потому что с наступлением зимних холодов все равно приходилось спать, закутавшись всем вместе в старое пальто.
Арендная плата составляла 6 фунтов в месяц или что-то вроде того. И по сей день, когда я слышу всю эту расистскую чушь типа: «Посмотри на этих “паки”[9], набились по восемь человек в комнате», – я думаю: «Ну, здрасьте, да это не просто расистские оскорбления, я сам так вырос». Как и большинство моего окружения. Нам и в голову не могло прийти, что подобные вещи имеют отношение к цвету кожи. Это дискриминация не расовая, а социальная, экономическая.
Когда Говняный Том умер, мы заняли его каморку. Этот человек никогда ничего не выбрасывал, так что можно себе представить скопившиеся там горы мусора. Мы еще долго потом не могли избавиться от запаха, потому что труп Тома пролежал в комнатушке целую неделю, прежде чем его нашли. Похоже, вокруг меня всегда валялись какие-то тошнотворные вонючие трупы.
Мне очень рано пришлось научиться подтирать задницу моим младшим братьям. Насущная необходимость – что тут поделаешь? Матушка моя была бо́льшую часть времени очень больна, и кто-то должен был этим заниматься. И я вовсе не испытываю теперь ко всему этому отвращения – всего лишь проявление элементарной человечности. Мне кажется, очень здорово, что мама меня об этом просила, ведь так? И я это делал. Мне нравилось чувство ответственности. Я знал, что мне может потребоваться встать ни свет ни заря, и вовсе не возражал против того, чтобы приготовить овсянку. Я любил улаживать проблемы самостоятельно.
Я думаю, что в нашем квартале подобные истории были совсем не исключение: люди обычно присматривали за теми, кто помладше. Это такие общинные ценности, то чувство сопричастности, которое сейчас стремительно исчезает. Поверьте, я вовсе не подвержен романтическим бредням и прекрасно понимаю, что до Второй мировой войны люди, скорее, жили по принципу «ненавижу тебя больше, чем ты меня». Не думаю, что могла существовать какая-то общность между всеми этими невероятно высокомерными викторианскими аристократишками и невероятно голодающими остальными людьми. Но после войны, мне кажется, такая сопричастность вполне себе существовала – единственным способом выжить было держаться вместе.
Папа почти все время отсутствовал. Часто мы переезжали вместе с ним, куда бы ни забрасывала его работа. Когда мне было около четырех лет, мы жили в Истборне. Что за адская дыра! Мои воспоминания об этом месте ужасны, поскольку наша квартирка располагалась в доме прямо на берегу Северного моря, и шум ночного прибоя пугал меня до чертиков. Я никак не мог отделаться от мысли, что сейчас нахлынет волна и всех нас утопит.
Большую часть времени за нами присматривала мама. Когда же папы поблизости не было, я совершенно спокойно относился к тому, чтобы самому присматривать за ней. Мне нравилась эта ответственность. Во мне срабатывает какой-то инстинкт: присматривать за людьми – вот чем я обычно занимаюсь.
Моя мать всегда была чем-то очень встревожена. В те дни ее постоянно подкарауливали кобели, наверное, думая: «Ага, одинокая женщина без защиты». Раздавался стук в дверь, и мама говорила: «Закрой шторы, помолчи, подожди, пока он уйдет». По этой причине мы с детства очень настороженно относились к незнакомцам. К мужчинам. Не доверяли им. Я чувствовал себя очень, очень обязанным ее защищать. Это единственная область, в которой я могу переборщить – если мне покажется, будто что-то угрожает моей семье или моим ближайшим друзьям. Что тогда начнется! Вот когда Ганди берет базуку!
Мама всегда болела. Бесконечные выкидыши вовсе не способствовали улучшению ее здоровья. Не думаю, что в те дни они много знали о предохранении. На самом деле, они, скорее, относились к этому как к смертному греху, что вовсю внушалось католическими священниками, навязывающими вам детей. Однажды у мамы случился выкидыш, а я оставался с ней в квартире один. Конечно, кругом полно родственников, но – случается и так, что типа давай как-нибудь сам, парень. То еще занятие – выносить ведро с выкидышем (да, вы можете углядеть в нем маленькие пальчики и все такое прочее) и смывать его в общественном сортире на улице. У нас дома не было телефона, так что мне приходилось сначала разбираться со всем этим, а потом отправляться к доктору, и это была долгая прогулка.
Обычно поблизости были другие члены семьи, готовые прийти на помощь. Тетя Агнес, которая вышла замуж за брата моего отца, жила в том же доме, что и мы, на Бенуэлл-Роуд. Потом была еще тетя Паулина, которая поселилась с нами в Бенуэлле, еще когда мы все как-то размещались в двух комнатах. Оглядываясь назад, теперь, когда я уже взрослый, я не могу себе и представить, насколько непросто было отцу с матерью находиться в постели, когда в другой спала мамина сестра со мной и Джимми. Вроде как близко и удобно – нет!
Но я любил тетю Паулину. Она стала мне как старшая сестра, которой у меня никогда не было, – фантастически теплая, но в то же время абсолютно отстраненная, в стиле Баррисов. После смерти Говняного Тома нам перепала еще одна комната для тети Паулины, и именно тогда появился дядя Джордж. Я любил этого парня. Он был просто великолепен.
Однажды на Рождество мы все должны были пойти в церковь, но тетя Паулина отказалась. К тому времени, когда мы вернулись, она успела обглодать головы всех игрушечных солдатиков, которых мне только что подарили. И по сей день я не знаю почему. Когда же пришел Джордж, он подарил мне конструктор для строительства игрушечных домиков типа «Лего», но явно дешевле. Джордж распечатал коробку, и мои слезы испарились. Я играл с ним весь день и никогда этого не забуду, потому что он потратил кучу времени, обучая меня разным штукам, и вообще вовлек меня в это дело.
Спустя пару лет он женился на Паулине, и они переехали в Канаду. Свадьба произвела на меня самое глубокое впечатление по очень многим причинам, главным образом, из-за встречи с братом Джорджа. Я не помню его имени, но он был настоящим кельтским хулиганом с огромным шрамом, идущим наискось через все лицо. Типа такой: «Да забейте! Какой-то козел топором приложил!» Охренеть, нехило так впечатляет! Это ж гребаный уличный боец, приятель. Вау!
Моя мать целеустремленно пыталась сделать из меня интеллектуально развитого человека. Именно она научила меня читать и писать еще в четыре года, задолго до школы. К тому времени, когда я наконец поступил в начальную школу Иден-Гроув, католическую школу, это стало очень серьезной проблемой для монахинь, поскольку я оказался левшой да к тому же свободно читал и писал. Типа посиди в углу, подожди, пока остальные ученики подтянутся. Мне стало как-то лениво, плюс, не знаю уж по какой причине – на самом деле я был очень застенчив и тих, – монахини меня невзлюбили. Поэтому они лупили меня, приговаривая: «Ах, ты левша, это знак дьявола». Чему монашки хотели научить таким образом пятилетнего ребенка, который уже умел читать и писать? Что за отвратительная, злобная чушь?
К этому всему добавилась рьяная, тотальная неприязнь ко мне за то, что я был умником или что-то вроде того. Обычно они бьют тебя острым краем линейки по правой руке, но так как я писал левой рукой, они били меня по левой… чтобы заставить меня писать правой! Но это невозможно. Так уж устроен мой мозг. К тому же все это выглядело в высшей степени нелепо, потому что мне вообще не нужны были уроки чтения или письма. Я уже научился этому дома.
Иден-Гроув находилась в маленьком здании, напрямую соединенном с католической церковью – из кабинетов, расположенных на верхнем этаже, туда можно было пройти по специальным мосткам, а из нижних классов – через внутренний двор, так что избежать встречи со всем этим было невозможно. Все вокруг было святое-пресвятое, а ты не пойми кто, что бы ты ни делал – плохо, и Бог тебя накажет, – такое своеобразное отношение. Я не ожидал ничего подобного и в свои пять лет не мог и предположить, какими злобными бывают эти монашки.
Священники всегда меня пугали, поэтому ребенком мне было страшно ходить в церковь. Они казались мне очень похожими на Дракулу или персонажей фильмов ужасов студии Hammer[10]. Кристофер Ли![11] Они всегда заявлялись сюда с этаким своим догматичным, диктаторским видом, со всеми этими снисходительными суждениями. Монахини были еще хуже – вонючие старухи с непримиримой ненавистью ко всему человечеству. Невесты Иисуса? Уверен, что это не совсем то, что Он имел в виду.
Многие местные жители были не слишком счастливы соседству с ирландскими иммигрантами, но в большей степени их недовольство вызывала католическая школа, пристроенная к церкви, в самом центре квартала с дешевым социальным жильем для рабочих. Я полагаю, они смотрели на все это так же, как люди сегодня смотрят на мечети – как на пропаганду противных им идей, считая нас чужаками только потому, что мы имели к этому какое-то отношение.
Я никогда не ощущал себя ирландцем. Я всегда чувствовал типа: «Я англичанин, я отсюда родом, и все тут». Потому что тебе обязательно напомнят об этом, стоит только оказаться в Ирландии. «Да какой ты ирландец!» – так скажут местные. Так что это было что-то вроде: «Черт возьми, в меня здесь с обеих сторон стреляют»[12]. Я все еще люблю эту песню Magazine – настолько ее слова оказались для меня в тему.
Мы с братьями говорили на местном кокни, но я совсем забыл, насколько заметным был ирландский акцент моих родителей. У моей матери, в частности, был очень сильный коркский акцент и такой очень деревенский. После смерти Малкольма[13] мы просматривали разные съемки Sex Pistols, и я нашел кассету с интервью моей матери. Все это валялось где-то на складе, и когда я вновь услышал ее голос, то был потрясен тем, насколько сильным и сложным для понимания оказался ее акцент. Я сам с трудом разбирал ее слова.
Мама и папа старались быть религиозными, но, очевидно, у них это не слишком хорошо получалось. В Католической церкви все сводится к деньгам, а у нас их не было. По воскресеньям нас тащили в церковь, и родители еще были хороши, поскольку в раннем детстве нас никогда не водили на утреннюю службу – только вечером, в семь часов. Что, кстати, было здорово, потому что означало, что мы пропускали Джесса Йейтса с его «Звездами по воскресеньям»[14] по телевизору.
В школе я попытался сам для себя во всем этом разобраться. Понимал ли я, что в церкви происходит сексуальное насилие? О, да абсо-нахер-лютно. Вполне себе узаконенное насилие, старательно прикрываемое и оправдываемое. Все знали, что надо куда-нибудь скрыться, когда священник приходит в гости, и ни в коем случае не связываться с пением в хоре или какой-нибудь чепухой типа работы алтарным служкой, потому что это был прямой контакт номер один. Именно поэтому я научился петь фальшиво, намеренно не попадая в ноты – так как прекрасно понимал, как опасно было со всем этим связываться. Так что мне пришлось расстаться с любовью к пению из-за этих проклятых священников. Представьте себе мою радость от того, что в конце концов я присоединился к Sex Pistols и попытался сделать мир лучше – очень мстительным способом.
Но при всем при этом я рос тихим, но счастливым маленьким зайкой. Вокруг была грязь и нищета, в Англии только что отменили карточки, но погожий жаркий день английского лета, кажется, значил для меня гораздо больше. Мои самые теплые воспоминания – такие вот моменты. То, что еще называют «салатными днями»[15]. Я, кстати, долго по молодости не мог понять, что означает этот термин, потому что салат был штукой, кторая наводила на меня ужас. Мамина идея салата подразумевала салатный соус «Хайнц» и кошмарные бледно-зеленые листики. Единственной радостью в нем, конечно, была свекла, потому что я люблю маринованную свеклу. Я могу просто так взять и съесть целую банку за один присест. Мне это очень нравилось! А еще я любил крыжовник, мама часто покупала его летом. А теперь вот совсем не выношу. Эти ягоды в высшей степени отвратительны. Я не знаю, как я вообще мог терпеть нечто настолько кислое. Есть их – настоящее наказание, но, возможно, виной тому была цинга или недостаток витамина С, которые заставляли мое тело жаждать эту гадость.
Мне нравилась одежда, в которую нас одевала мама. Я обожал клетчатые жилеты и маленькие клетчатые костюмы с пиджаками, шортами и жилетками. Мне нравилось буквально все. Она одевала нас с Джимми отлично, прям один в один, но это нормально. Что-то вроде: наша банда носит это, и все тут. Наш прикид сильно отличался от того, во что одевали других детей, так что, возможно, это каким-то образом вошло в меня – понимание важности иметь индивидуальность.
С годами я все больше ценю это, потому что знаю, насколько мы были бедны. Знаю, каких усилий стоило одеть нас вообще. И так было всегда – мы ничего не могли себе позволить. К тому же у меня сохранилось почти нежное воспоминание о том, как однажды я чуть не умер от голода – денег совсем не было, так что на ужин ожидала только банка супа «Хайнц Маллигатони». Это был подарок папы, который он принес, вернувшись домой, и мы все сидели вокруг этой банки «Маллигатони». Не думаю, что его сейчас производят, и, надо сказать, неспроста. Это был такой типа суп с соусом карри, а в то время карри казался нам абсолютно несъедобным – обжигающе-острым. Поэтому я так и заявил:
– Да я лучше помру с голодухи.
– Отлично, помри.
Ты видишь большие дома и все такое, но никогда не будешь иметь к ним никакого отношения и пока не понимаешь этого. Мне казалось полной бессмыслицей, что люди живут в таких огромных зданиях. Я всегда думал: «И что они делают со всеми этими комнатами? Как можно спать по ночам, зная, что здесь так много окон, которые нужно запереть?»
А еще я любил лето, потому что летом мы могли гулять весь день напролет, вообще не возвращаясь домой – по факту даже забывать, что он у нас есть, этот дом. И горько расстраиваться, когда вечером темнело. И слышать крики и вопль: «Где ты?» Вокруг стояли бомбоубежища времен войны, и тысячи детей безудержно разбегались по ним в разные стороны. Бомбоубежища служили нам настоящими павильонами парка развлечений. Как это было захватывающе! Для ребенка бомбоубежище – удивительная, чудесная вещь. Никогда не надоест, всегда есть что-то новое, что можно разгадывать и исследовать, – ну и, конечно же, фабрики.
Черт возьми, в пять, шесть, семь лет попытка проникнуть на фабрику представлялась в высшей степени захватывающей. Кварталы вокруг Бенуэлл-Роуд и Квинсленд-Роуд все еще лежали в послевоенных руинах, но внутри и вокруг нашего района уже строили новые заводы. Там нас была целая толпа – во все, что мы творили в те дни, было вовлечено около двадцати окрестных ребят, – и мы строили самодельные лестницы из кирпичей, собранных по округе на месте разрушенных бомбежками домов, чтобы карабкаться по стенам. Как только ты оказывался на крыше, все шло замечательно – достаточно лишь прошмыгнуть вниз. Это был вызов, и мне он нравился.
В верхней части Квинсленд-Роуд располагалась фабрика мороженого «Воллз», настоящий магнит, притягивающий нас туда, но попасть внутрь было нереально – современная фабрика с железными ставнями, решетками и висячими замками являла собой непреодолимое препятствие. Вместо этого мы прятались поблизости от загружаемых продукцией фабрики фур и, когда рабочие уходили внутрь, чтобы наполнить очередную тележку и прикатить ее обратно, пытались украсть фруктовое эскимо. Любым возможным способом стащить «Распберри Сплит» – вот это наше эскимо дня! Настоящее мороженое «Воллз» внутри и малиновый лед снаружи – реально самое вкусное эскимо. И мы были готовы на все, чтобы получить его за просто так.
Лед, которым они прокладывали пачки мороженого – не жидкий азот, но что-то вроде того, – в нем было какое-то химическое вещество, чтобы эскимо не растаяло на пути между фабрикой и фурой. Однажды на спор я прикоснулся языком к тому, что мне показалось ледяной глыбой, но в результате с нее сошел слой льда.
– Ну давай же, попробуй лизни!
– У-у-у-ух, я сделаю все! Я бешеный!
– Бежим, они идут!
– Улю-лю-лю-лю-ю-ю!
В другой раз меня поймали, когда мы с моим двоюродным братом Питером, Джимми и еще двумя ребятами «вломились» в чужую собственность. Копы притащили меня с Джимми обратно в наш дом – они, должно быть, заметили тревогу на наших лицах. Мой отец открыл дверь, и они спросили:
– Это ваши дети? Мы поймали их, когда они проникли в…
А папа ответил:
– Чаво? Эти – маи? Я-то тут при чем.
Было очевидно, что взрослые кивают и подмигивают друг другу, и полицейский заявил:
– Ну, мы не знаем, что с ними делать, может, нам стоит отвезти их на север и там оставить?
О, это чувство брошенности! Я выплакал все глаза. Это прозвучало очень убедительно.
Повзрослев, я понял, что они просто посмеялись над этим эпизодом, причем обе стороны. Это был всего лишь пустой гараж – та собственность, в которую мы проникли, – ничего ценного. Умный способ намекнуть: «Держись подальше от того, что тебе не принадлежит». И еще: «Не попадайся» – это всегда была любимая фраза моего отца. «Если уж решил делать всякие глупости, не попадайся – не позорь меня нах!»
Так что в конце концов нас, конечно, впустили домой, но заставили немного постоять снаружи и подумать о том, что мы натворили. И это сработало. Это положило конец фазе «проникновения на чужую собственность». Кто знает, к чему бы это привело? Это был скользкий путь – воровство, кража с взломом и все такое; убежденность, будто распоряжаться чужими вещами – твое полное право.
Но именно таким был Лондон. Не так уж много машин, пустые улицы, плохое освещение и сотни и сотни детей без присмотра, подбиравших что ни попадя на руинах разрушенных бомбежкой домов. Ну, не совсем без присмотра, это было: «Мотайте на улицу и поучитесь чему-нить, тока чтоб никакой полиции по возвращении!»
Менингит пришел к нам от крыс. Они были повсюду. Эти твари мочатся на землю и, как и все грызуны, волочат свои задницы, оставляя везде следы мочи. А я тогда любил делать бумажные кораблики и пускать их по выбоинам на нашем заднем дворе, так что в процессе касался воды, а затем рта. Так и заразился.
Болезнь оказалась не из легких. У меня были очень сильные головные боли, головокружения, обмороки, я видел всякие несуществующие штуки типа пышущих огнем зеленых драконов. Это было ужасно – наблюдать за собой словно изнутри, паниковать из-за того, чего, я понимал, рядом не было. Но я не мог заставить свое тело это прекратить. Истерические припадки тотального ужаса.
Вечером накануне того дня, когда я оказался в госпитале, я съел на ужин свиную отбивную – и с тех пор больше никогда не ем свиных отбивных. Просто терпеть их не могу. Абсолютно. Даже запах. Ничего не имею против хрустящего бекона, но вот свиная отбивная – нет! И поскольку я много лет винил в болезни все что угодно, то в конце концов убедил себя, что именно свинина меня доконала! Сплошное здоровье с моей стороны.
На следующее утро, когда мама решила: «Боже, все становится совсем плохо», – появился доктор, и я отключился, пока тот еще был у нас дома. Следующее, что помню, – я в машине скорой помощи, потом снова провал, и несколько месяцев спустя я очнулся в больнице. Я провел в полной коме шесть или семь месяцев. Как только это меня накрыло, все потухло, и больше ничего не происходило.
Когда я пришел в себя, помню, как они размахивали пальцами перед моими глазами, говоря: «Следи за моим пальцем». Я намеренно не стал следить, потому что, хотя я правда был серьезно болен, почему-то решил, будто должен сыграть больного по полной программе. Что, черт возьми, заставило меня это сделать? Но я точно помню, что поступил именно так – да, я всегда был дерзким маленьким поганцем, даже с самим собой. Злобный тихушник, несмотря ни на какие болезни!
Я лежал в больнице Виттингтона, и это всегда наводило меня на мысль о Дике Виттингтоне[16], очень положительная ассоциация. В моей палате было еще около сорока детей, многие из которых находились даже в худшем положении, чем я, так что жалость к себе – не вариант. В центре палаты располагалась огромная библиотека с множеством увлекательных книг, некоторым образом вне пределов моей досягаемости, но от этого казавшихся еще более привлекательными. Как странно работает мозг, что-то включается, что-то нет. Я не забыл, как читать, но не мог говорить – язык меня не слушался. Мне казалось, будто я формулирую слова, но мне потом сказали, что я всего лишь издавал какие-то звуки.
Периодически, по крайней мере раза три в день, они выкачивали жидкость из моего позвоночника – делали «поясничную пункцию». Укол, скорее хороший такой удар. «Это похоже на удар в поясницу, Джон!» Прокол иглой был очень болезненным, так как они вставляли ее прямо в основание позвоночника. Затем, когда они начинали откачивать жидкость, ты чувствовал, как она поднимается по позвоночному столбу и шибает в голову. В высшей степени тошнотворно. С тех пор я панически боюсь иголок. Просто ненавижу. Всем рекомендую – прежде чем подсесть на героин, сделать «поясничную пункцию». Целиком изменит ваше мнение на сей счет. Самая жуткая вещь, к тому же чувствуешь себя ужасно неловко, даже в семь с половиной лет, когда кто-то вот так тычет тебе в зад. Я всегда полагал, что моя задница принадлежит только мне, и мне не очень-то нравилось, когда за мной наблюдали снизу. Они, медсестры, буквальным образом приковывали меня, пока делали это. И я вопил от страха, потому что знал, какая боль меня вот-вот настигнет.
Все это абсолютно точно оказало долгосрочное воздействие на мою осанку. Пункция искривила мой позвоночник – да, если они откачают слишком много жидкости, такое вполне может случиться. Мне пришлось ходить потом, зажав черенок от метлы за плечами, чтобы выгнуть спину и заставить себя стоять прямо, но и по сей день, если я попытаюсь встать совершенно прямо, у меня начинает сильно кружиться голова. Это перекрывает кровоснабжение мозга, поэтому лучше я буду ходить сгорбившись, как какой-нибудь Ричард III.
Это также сильно ухудшило мое зрение. Мне пришлось долго носить очки, но я с ними так и не свыкся. У меня очень хорошее дальнее зрение, то есть я прекрасно вижу вдаль, но вблизи мне даже ногти подстричь сплошное мучение, поскольку все расплывается перед глазами – приходится надевать очки. И еще я вынужден щуриться, чтобы сфокусироваться на человеке. Повезло мне, да? Люди думают: «Что за страшная пизда!» Ха-ха.
Спустя еще четыре или пять месяцев лежания в больнице я полностью смирился и адаптировался к пребыванию в этих условиях. Угнездился в этаком комфортабельном забвении. Впал в состояние, которое, слава богу, врачи, родители, да и все окружающие не стали терпеть. Родители вытянули меня оттуда тычками и окриками. Они говорили мне, будто они – мои мама и папа, и я должен был им поверить:
– Ты принадлежишь нам, ты наш сын, мы тебя любим.
– О! И откуда мне об этом знать?
Возвращение домой прошло очень неловко, потому что я просто не понимал, что это и где я. Все равно что застрять в приемной какого-то учреждения и совсем позабыть, зачем ты вообще там оказался, – ну, знаете, когда тебя заставляют ждать так долго, что может вылететь из головы, что тебя туда вообще привело; или как попытаться оформить пособие по безработице – этакое чувство покинутости. Я никак не мог свыкнуться, все это заняло ужасно много времени. Почему я здесь с какими-то незнакомцами? В этом не было никакого смысла. Единственным способом иметь со мной дело – а я находился в постоянном состоянии возбуждения и паники – было тихонько попытаться заставить меня думать о том, что меня беспокоит, почему я не узнаю окружающих, а также что я и в самом деле нахожусь там, где мне следует быть.
Странно, но я никогда не ощущал себя не в своей тарелке рядом с братьями. Я сразу же почувствовал себя с ними нормально. Они никогда не показывали, будто со мной что-то не так, – как это делали все взрослые. И это было хорошо – Джимми мог сказать что-нибудь вроде: «Где ты пропадал? Тебя так долго не было дома!» На что следовал мой ответ: «Я не знаю». Он, наверное, просто решил, что меня в одиночку отправили куда-то на длинные каникулы.
Как только я начал принимать своих родителей, это стало похоже на открытие двери в моем сознании. Что-то щелкнуло в голове, и воспоминания начали возвращаться. Потребовалось ужасно много времени, чтобы информация дошла до меня, но она все же пробила барьер, просочилась маленькими фрагментами и осколками, и каждый такой прорыв был чистейшей радостью. Помню, я подбежал к маме – мне не терпелось сказать ей, что я кое-что вспомнил и что в ее словах есть смысл.
Когда я понял, что они те, за кого себя выдают, – это был настоящий эмоциональный срыв, откровение. Часто нам говорят о чувстве вины в католическом понимании этого слова, но сомневаться в своих собственных родителях – это вина, которая намного превосходит все, чем может огорошить религия. Безумное чувство вины. Но было так чудесно осознать, что родители не лгут. Они действительно оказались теми, за кого себя выдавали. Какое фантастическое открытие!
Правда, потом я еще много лет не мог им поверить, что мне действительно надо ходить в школу. Я никогда в это не верил. Я сейчас пишу об этом всем с большой долей шутки, но на самом деле я абсолютно серьезен. Именно так видит мир восьмилетний ребенок, который только что вышел из больницы и ни хера о себе не помнит. Много раз я забывал дорогу домой и просто бесцельно бродил по округе. Заходил в какие-то магазинчики. К счастью, из-за того самого чувства сопричастности мне говорили: «О, так ты тот больной мальчик, мы покажем тебе, где ты живешь». Но потом ты начинаешь уже на это обижаться: «Я не больной!»
С точки зрения реабилитации Национальная служба здравоохранения показала себя бесполезной – в буквальном смысле слова. Мои мама и папа сказали мне, что все, что им посоветовали в больнице, – это не делать мне поблажек, не сюсюкать и не нянчиться со мной, потому что если я стану ленивой задницей, то вообще ни за что не справлюсь со своими проблемами. А беспокойство и волнения заставляли меня задуматься. Иногда подобное нервное возбуждение – мощный инструмент.
Итак, ты был более или менее покинут государством и совершенно точно заброшен школой. Столько всего произошло за год – ты так отстал. Находясь в своем уме или нет, ты все равно пропустил целый год. Все становилось острой проблемой. Влиться обратно в привычное течение школьной жизни оказалось очень сложно. Это был первый год без друзей, реально без друзей, и очень одинокий из-за отношения к тебе детей: «А-а-а, он больной, держитесь от него подальше!»
Я ненавидел школьные перемены и обеды, потому что это означало, что мне абсолютно нечем заняться. Никто не хотел со мной разговаривать, по школе ходили слухи, будто Джонни «немного не в себе», – в итоге я оказался сам по себе, выброшенный за пределы школьного коллектива. Я знаю, что такое это одиночество, и оно очень, очень, блядь, вредно. Единственными людьми, которые разговаривали со мной во время большой перемены, были работницы школьной столовой. Очень добрые ирландские женщины: «Слышали, что ты болел – как твои дела?» А я ведь даже толком не помнил, что болел, просто: «Кто я и что здесь делаю?»
Чтобы хоть чем-то себя занять, я решил как-то задержаться в школе подольше и присоединиться к бойскаутам. Я возненавидел их! Я ненавидел, черт возьми, садиться в кружок и начинать это: «Доб-доб-диб!»[17] Для меня оно ничего не значило. Мне вообще показалось все это антиобщественным, потому что там целая куча книг с правилами, и нужно было получать эту форму, плюс когда ты зарабатываешь значок, то тебе присуждается столько-то баллов. Примерно через полчаса я понял, что это абсолютно бессмысленная трата моей жизни. Там выступал еще скаут-мастер, который показался мне мерзким отморозком, очень похожим на священника, мрачным и призрачным. Знаете, у них еще такая пакостная улыбочка, что за ней так и слышится, как они зубами скрипят. В итоге я побывал только на одном вечернем собрании.
Одна из монахинь как-то назвала меня «пустоголовым тупицей». Это прозвище прочно прижилось в школе. На самом деле глубоко шокирует, как эти сучки умеют поставить на тебе клеймо. От мальчика, который в четыре года умел читать и писать, до ПустоголовогоТупицы. Это стало для меня настоящим вызовом – преодолеть навешенный ярлык придурка, но я это сделал. Через год или два я снова стал получать высшие баллы.
Эти ублюдочные злобные монашки сделали мою жизнь настоящим наказанием, так что мне пришлось самому заниматься своим образованием. И я справился с этим довольно легко. Если находил какую-нибудь полезную книгу, то просто брал ее и читал. Я обожал читать. Только не газеты, они вгоняли меня в скуку. Вчерашние мнения, не более того – я всегда к ним именно так относился. Нет, это были книги, книги, книги – все и вся. После болезни я записался на курсы в местную библиотеку, ходил туда после школы и рисовал до девяти вечера, а потом брал кучу книг домой и читал их, пока не засыпал, постоянно борясь со сном. У меня был непреодолимый страх не проснуться или проснуться и снова не знать, кто я такой. Говорю вам, это самое худшее, что с тобой может случиться.
Я понял, что чем больше ты работаешь, тем больше получаешь. Это был мой опыт, и я совсем не возражаю против тяжелой работы. На самом деле я даже люблю тяжелую работу почти так же сильно, как люблю бездельничать. Мне нравится, когда жизнь моя переключается между этими двумя занятиями. Когда мне было лет десять, один из друзей семьи устроил меня по выходным диспетчером мини-кэбов[18]. Даже при том что я периодически все еще пытался вспомнить, кто я, черт возьми, такой, соображал я достаточно неплохо, чтобы этим заниматься.
Я любил свою работу, реально любил все это напряжение, стресс. Тебе и правда необходимо было иметь очень ясную и четкую память. Приходилось координировать шестнадцать водителей одновременно, ты должен был помнить, где все они находятся, звонить им, разговаривать с ними по радио, бронировать заказы. Мне это очень нравилось – всегда находиться в состоянии, близком к полному краху, на грани того, чтобы все испортить – но никогда! И еще это чувство ответственности – я реально собой гордился, и это мне здорово помогало.
Очень скоро я обнаружил, что слова – это мое оружие. Я понял, что могу выйти из любой напряженной ситуации и не быть изгоем с помощью шутки. Или остроумной фразы, которая может поставить в тупик и позабавить. Поэтому меня принимали за пусть какого-то странного, но интересного человека. Конечно, когда я повернул эту артиллерию против учителей, которых считал самыми настоящими ленивыми недоумками, это привлекло внимание всего остального класса. Я стал чем-то вроде живого воплощения школьного сопротивления, в котором не было ни злобы, ни насилия. Я всегда старался убедиться, что мои доводы верны – это не был просто бунт ради бунта. Моя цель состояла в том, чтобы добраться туда, куда я хочу, достичь нужного уровня осведомленности, а затем перейти к следующей проблеме.
Когда я потерял память, то надеялся, что все остальные расскажут мне, что есть что. Для меня было жизненно необходимо, чтобы их слова оказались правдой, так как я отчаянно нуждался в ответе. Я все еще такой же – хочу верить тому, что мне говорят. Я очень открыт и доверчив, но некоторые люди могут зайти слишком далеко, как это часто бывает в жизни, – люди со своими эгоистичными, ошибочными целями, которые они скрывают от вас.
С годами все воспоминания вернулись ко мне, практически фотографические. Вот почему я не склонен преувеличивать реальные факты своей жизни. Они и так важны для меня. Я полагаюсь на них. Я не знаю, как бы вы назвали эту систему, но ты вроде как берешь и откачиваешь фантазии из реальности. Есть один очень верный способ это сделать. Еще раньше, когда у меня были эти ужасные видения и кошмары, до того как я попал в больницу, я воображал притаившегося в изножье кровати дракона, а мои мама и папа говорили: «Нет там никакого дракона». И я знал, что они правы, знал, что дракона нет – я его не видел, но мозг говорил мне, что он там. Ты понимал, что мозг тебя обманывает. Вот почему я поместил бы то нечто, что называют душой, отдельно от мозга. Эти двое могут разговаривать друг с другом, поэтому я рассматриваю их как отдельные сущности.
Честно говоря, у меня в голове не так уж много фантазий. У меня там просто нет для них места. Может быть, именно поэтому я иногда ошибаюсь, будучи слишком прямолинейным. Я действительно не люблю тратить время попусту. Мне требуется приложить огромные усилия, чтобы подняться утром, но еще бо́льшие (буквально в десять раз) усилия я прикладываю, чтобы добраться до постели. Я не люблю спать. Это пугает меня – что если я вдруг не проснусь или не вспомню себя. И это останется со мной, я полагаю, до конца моей жизни. Никуда оно не денется, так что я склонен, скорее, «не спать и оставаться начеку». Возможно, за эти годы у меня и были кое-какие «помощники» в этом деле, ха-ха.
После выхода из больницы у меня какое-то время все еще продолжались галлюцинации, жуткие. Одно из призрачных существ, являвшихся ко мне в видениях, напоминало мне священника. И по сей день он время от времени возвращается. Очень высокий и худой, черные волосы, черные глаза – он очень, очень злобно на меня смотрит. Это настоящий вызов – иногда он приходит во сне, и мне приходится заставлять себя ему противостоять. Если я это делаю, видение пропадает. Но мне очень трудно собраться и дать ему отпор. Во сне сложно себя контролировать. Однако так или иначе мне удается подчинить себе сны. В конце концов, у меня была многолетняя практика.
Короче говоря, я пережил тяжелую болезнь, которая повлияла на то, как теперь работает мой мозг, и это стало неотъемлемой частью моего становления. Я не знаю, в чем именно состоит механика восстановления, но, когда я читаю современные исследования о том, как функционирует мозг, или про научный подход к человеческой жизни, я уверен, что во всем этом есть нечто большее. Есть личность – и это не просто набор химических формул, – есть сердце и есть душа, которые находятся далеко за пределами чистой механики функционирования «мягкой машины»[19], которой является человеческое существо.
Я знаю, что это было странное детство и все такое, но мои мама и папа научили меня независимости, умению самостоятельно справляться со своими проблемами и способности отличать реальность от фантазии. Когда я был ребенком, мне очень нравилось смотреть серию телепостановок под названием «Тайна и воображение»[20] – настоящие ужастики. Фильмы обычно начинали показывать поздно вечером в воскресенье, и родители, естественно, не хотели, чтобы я это видел, что, в свою очередь, заставляло меня еще сильнее стремиться посмотреть шоу. Мне нравятся хорошие фильмы ужасов или истории о привидениях, но я знаю, что в реальности все происходит несколько иначе, – и это мое знание оказалось чрезвычайно полезным.
Мне смешно смотреть ту ерунду, что крутят по телевизору, потому что им и на милю не удалось подобраться к реальности. Но я далек от того, чтобы высмеивать саму возможность испытать соприкосновение с чем-нибудь сверхъестественным. Время от времени я вижу и чувствую странные штуки. Я словно воспринимаю атмосферу, и хотя не могу сказать точно, что это, но я способен уловить нечто странное, какое-то изменение в настроении или ритме привычной обстановки комнаты или дома. Я могу почувствовать присутствие чего-то потустороннего и реально осознаю разницу между воображением и действительностью. Я просто ощущаю какую-то вибрацию. Это такая эмпатия к «настройкам» твоего окружения. Есть способ настраиваться и отключаться. Я могу полностью игнорировать или, наоборот, позволить этому случиться, и тогда потусторонние штуки проявляют себя. Иногда видения или странные ситуации навязываются сами.
Много лет спустя, в той старой студии звукозаписи – Маноре[21], я четко, абсолютно четко и точно почувствовал, как нечто – уверен, это был кот – запрыгнуло ко мне на кровать. Я вполне сознавал происходящее, ощущал, как движется это нечто. Будто что-то говорило мне, что это кот, однако я его не видел. Хотя вроде как знал, что он там есть. За много лет до того случая, прежде чем впасть в менингитную кому, я так же четко представлял себе притаившегося на другом конце кровати дракона, однако разум говорил мне: его там нет. Так что у меня в голове есть хороший сторожевой пес, и я вполне ясно понимаю разницу. Трудно объяснить, но это так.
И я видел много чего подобного. Когда умер дедушка, отец моей матери, я каким-то образом узнал об этом – подбежал к родителям, разбудил их и все им рассказал. Я увидел в коридоре огромную вспышку. Никаких рациональных объяснений появлению этого пятна большого яркого света не было; казалось, нечто оглядывается вокруг и что-то ищет. Я вышел в коридор и последовал за световой вспышкой в комнату мамы и папы, где рассказал им о том, что только что видел. Я уже видел это раньше. «Что это?» Уж точно не Most Haunted[22] – прекрасный пример того, чем оно быть не может. По мне, так то телешоу – настоящее мошенничество, что бы там ни вытворяли эти придурки в подвалах якобы замков с привидениями. На самом деле происходит нечто иное – это похоже на сигнал, который в определенное время становится доступен тому, кто знает, как его поймать по радио, что зовется вашим мозгом. И все это не внушает мне никакого страха; вот одна из областей, где я чрезвычайно храбр. Оно либо есть, либо нет, и я нашел способ сосуществовать с этим, чтобы подобные штуки не причиняли мне вреда.
Вернемся, пожалуй, в больницу. В моей голове возникали тогда образы персонажей, которые якобы окружали мою кровать или таились где-то неподалеку, в темноте больничной палаты. Я все еще помню их. Один – чрезвычайно высокий католический священник, такой зловещий странный персонаж, который является мне время от времени. Он выглядит выше, чем занимаемое им пространство. Не знаю как, это происходит не в том измерении, что доступно моему пониманию. Но я точно знаю, что это зло, и знаю, как его остановить. Обычно я крепко сплю, когда такое случается, однако заставляю себя проснуться и посмотреть точно в то место, где, как мне кажется, это призрачное нечто должно находиться. Едва мне удается сделать это, оно исчезает, словно рассеивается в воздухе. Я поступаю так же и в том случае, если мне не нравится сон, в котором я нахожусь, – могу найти выход, вернуться в сознание.
Обычно подобные эпизоды случаются, когда остаешься один. На самом деле умение справляться с этим – отличный навык. Он дает огромное ощущение силы, того, что ты смог отбить нападение на свою психику. И это реально нападение, вызов. Ты должен победить его, и это каким-то образом дает тебе возможность почувствовать себя сильнее. Возможно, это нечто вроде ежедневной зарядки для разума. Я не занимаюсь физическими упражнениями, но очевидно же, что как-то так я управляю своим ментальным спектром, так сказать, поднимаю брошенную мне перчатку.
Финсбери-парк: звучит как такое прелестное местечко, да? Ну так вот – нет. Никакой вам верховой езды, за исключением полицейских патрулей по субботам, преследующих местных подростков. Мне было одиннадцать, когда мы переехали туда из Холлоуэя, как раз перед средней школой. Это наконец-то случилось, и причиной переезда была как теснота в нашей старой квартире, так и некий разговор моего папаши из серии «между нами ирландцами» с местным членом парламента ирландского происхождения. Пожалуй, единственный раз в жизни ирландская национальность хоть на что-то сгодилась. Я думаю, тот депутат просто помогал своим единоверцам, людям одного с ним происхождения. Дело, конечно, было нечисто, от него издалека несло гангстерским душком. Могу себе даже представить размер взятки, поскольку такие муниципальные квартиры, как наша новая, было не так-то легко получить.
Эта квартира располагалась в Ханифилде, в Сикс-Акрс-Эстейт – огромном многоквартирном жилом комплексе на Дарем-Роуд. В то время была популярна ужасная, сентиментальная песня Роджера Уиттакера[23], в которой звучали строчки: «Я покину старый Дарем-Таун», что, конечно, отчасти портило хорошие впечатления, но в остальном я был в полном восторге. Только представьте себе – столько комнат! Мне нравилось ходить по дому, подниматься и спускаться по лестнице, касаться перил. «О, пожалуй, я сейчас выгляну в это окно»! Я никак не мог насытиться. Конечно, мой отец всегда жаловался на арендную плату. Вот к чему сводились все эти дополнительные комнаты – умопомрачительно огромные еженедельные счета за аренду. С переездом также завершилась и моя работа диспетчером мини-кэбов. Слишком далеко стало добираться до работы по утрам: дорога от нашей новой квартиры до той конторы занимала фигову тучу времени.
Я и правда с нетерпением ожидал перехода в среднюю школу, поскольку это было для меня новым началом. Мне предстояло отправиться в школу Вильяма Йоркского, еще одно католическое заведение неподалеку от Каледониан-Роуд. Мне очень понравился первый день – все были одинаково застенчивы и открыты. Я был уверен, что вся эта ерунда про Пустоголового Тупицу позади. Однако чего я точно не знал, в школе меня уже сочли проблемным. В первый же день – что меня горько обидело – меня зачислили в поток «D». «D» – куда определяли самых тупых! Алло! Они просто предположили, что у меня проблемы с умственным развитием, и все тут. Но не прошло и недели, как я показал себя и выбрался вперед. Далеко вперед!
Вскоре, конечно, в нашу жизнь постепенно вкралась эта школьная система травли и насмешек, потом появились глупости типа «мы-они», и юные прыщавые детишки стали кучковаться группками друг против друга. Я возненавидел все это. И к тому же школа, где учатся одни мальчики, становится чудовищно скучной, когда подростковый возраст поднимает свою уродливую голову. Священников там не было, за исключением одного, периодически преподававшего математику. И опять-таки все эти штуки, связанные с хором, – я старался держаться от них подальше. Вот уж и правда, католицизм убийственно воздействует на потенциальных вокалистов, с этим надо что-то делать.
Некоторые занятия мне очень нравились, но я искренне ненавидел бредовую систему организации уроков физкультуры – они заставляли тебя чувствовать себя очень бедным, потому что необходимо было носить определенную форму для определенных занятий, типа экипировки для регби или чего-то подобного, что было абсолютно для меня невозможно. Если пришел на урок без формы, физкультурой ты заниматься не можешь – великолепно! – но получаешь: «Нагнись!» – и тапком по заднице от учителя. Поэтому я добровольно соглашался получать пинок под зад. Черт, тот жалил как псих.
Негодование, которое я испытывал по отношению к тем, кто пытался навязать мне униформу, делало боль почти приятной, этакое самодовольное: «Ха! Вам меня не победить!» Многие другие ребята поступали так же, в итоге мы оказались в большинстве, так что посещаемость уроков физкультуры была так себе, и им наскучило отвешивать нам пендели. Мы это пережили. Отлично! Когда дело доходило до этого конкретного предмета, я просто покидал школу через главные ворота и шел заниматься чем-то более для меня интересным.
В возрасте двенадцати или тринадцати лет я начал сам находить себе друзей, таких как Джон Грей. Невероятно неуклюжим парнем был наш Джон. Он тоже учился в школе Вильяма Йоркского и абсолютно не вписывался ни в ее программу, ни в какую-либо еще, кроме своей собственной, и мне нравилась его индивидуальность. Настоящий бриллиант неловкости и в то же время полон высокомерия, основанного на реальном знании вещей. Ходячая энциклопедия – очень полезно! Когда что-то не знаешь, просто: «Джон?» – вот тебе и ответ.
Он напоминал мне фильм «Кабинетный гарнитур»[24] c Кэтрин Хэпберн и Спенсером Трейси. О том, как знающий и компетентный персонал в одном офисе пытаются заменить компьютером. Компьютер устраивает всеобщую путаницу, и в результате все понимают, что человеческий мозг гораздо более надежен и эмоциональнее реагирует на различные происшествия. Так вот, это – Джон Грей как он есть.
Еще одним моим другом стал Дэйв Кроу. Очень странный, темный, зловещий парень, немного Франкенштейн по телосложению – этакий огромный качок-хулиган. Тихий, очень тихий, но может внезапно стать смертельно серьезным. Он учился в моем классе, но мы начали вместе тусоваться только спустя год или два после знакомства. Дэйв был абсолютным математическим гением, а математика – предмет, который сильно меня озадачивал – после менингита, ну понимаете. Я нахожу математический подход к жизни очень запутанным. Я либо инстинктивно попадаю в такт, либо – не судьба.
Дэйву наскучило тусоваться в школе с фанатами «Арсенала», потому что сам он был болельщиком «Тоттенхэма». Мы оба выбивались из своего окружения, оба отказывались заниматься физкультурой – Джон Грей, кстати, тоже, – вот так мы и сошлись. Престранная кучка персонажей, но мы прекрасно друг с другом уживались и всегда предпочитали скорее получить пинок под зад, чем нацепить на себя какую-нибудь странную форму, чтобы поиграть в бадминтон.
Какова, однако, претенциозность этой крошечной, убогой католической школы в районе Каледониан-Роуд, самонадеянно полагавшей, будто она сможет тренировать будущих игроков в бадминтон – что было невозможно в окружавшем нас жестоком мире. Все крутилось вокруг каких-то хулиганских разборок, стычек футбольных фанатов и бандитизма. А они пытались заинтересовать нас подобного рода бабьей ерундой. Да как можно говорить парням из такого района, чтобы они «легко били по волану»! Неприемлемо! Обязывать нас носить белые изящные наряды с суперкороткими шортами. Никогда! Нет! Нет! Даже геи отказались бы это делать. Просто невозможно!
Вскоре мой брат Джимми, как и я, пошел учиться в католическую школу Вильяма Йоркского, а обоих младших, Бобби и Мартина, отправили в школу в Толлингтон-парке. К тому времени мои родители охладели к Католической церкви, так что Вильям Йоркский был из разряда «ни-в-коем-случае». Нашим младшим братьям не грозило терпеть все это церковническое дерьмо. Мой отец оказался в этом вопросе непреклонен.
Беда заключалась в том, что школа, которую он выбрал для Бобби и Мартина, была, вероятно, самой хулиганской школой в Лондоне. Толлингтон-парк считался местом, где кучковались все серьезные фанатские банды «Арсенала» нашего района. Это то самое место, куда не ходил мой будущий менеджер Рэмбо, если вы понимаете, о чем я. Посещаемость в этой школе была не очень высокой.
Всю свою жизнь я являюсь фанатом «Арсенала», так что во многом тот факт, что я не пошел учиться в Толлингтонскую школу, стал прискорбным пробелом в моем образовании. Школа Вильяма Йоркского располагалась в районе Каледониан-Роуд, но это не означало, что мы водились с фанатскими бандами Калли[25]. Нет, мы застряли в этой закрытой католической чепухе, очень узколобой и замкнутой, и нам закрывали глаза на происходящее вокруг. Пытались ограничить наши знания о том, как на самом деле устроен мир. А вот в школе в Толлингтон-парке была настоящая жесть, вам типа говорили: «Вот оно, приятель, смотри, ты никому не нравишься, и нам наплевать». «Pretty Vacant»[26], на мой взгляд, могла бы стать прекрасным гимном Толлингтон-парка, который вообще трудно было назвать школой.
Как только я начал подниматься на ноги в Вильгельме Йоркском, случилось нечто ужасное. Мой дедушка по отцовской линии, тот самый Старый Сыч, умер, и мне пришлось опознавать тело. К этому времени у него уже насчитывалось четырнадцать детей, и он жил с проституткой. Можете себе представить, каково отцу было все это мне рассказывать?
Моя тетя, у которой было четырнадцать собственных детей, приехала из Голуэя, однако отцу пришлось уйти на работу, так что в морг с ней поехал я. Им пришлось немного подлатать деду череп, потому что он упал навзничь и раскроил себе голову, трахая на пороге проститутку, – вот как он умер. Когда они вытащили тело на прозекторский столик, стало очевидным, что старик умер с нехилым стояком. И это вам не какая-то падающая «Писянская башня»!
Ну вот, стою я там в морге с этой тетей, тетей Лол, а она как начнет вопить и стенать – но ведь это же был ее отец. Ее истерическое поведение реально меня напугало – и как взрослым только удается причинять вам столько боли, когда они, наоборот, должны в такие моменты взять на себя ответственность. «А-а-а-а, тьфу, я не могу на это смотреть! Это самое ужасное, что я когда-либо видела!» – она так и заявила. «Да, но нам надо, чтобы кто-нибудь опознал тело». И пришлось идти мне. Ну, да, дед выглядел слегка как тот монстр Франкенштейна, с этими стежками на лбу и вдоль висков, но я вполне сумел его опознать.
Даже будучи еще совсем маленьким, я понял, что он, похоже, был еще более грязным ублюдком, чем мне известно, поскольку сестра моего отца повела себя так, как она себя повела, когда они вытащили обнаженное тело с большим гребаным стояком… Иисусе, я не настолько хорошо одарен – он был реально большим. Боже всемогущий, это же твой родной отец. Что, черт возьми, происходит в этой семье?
Это уроженцы графства Голуэй, семья моего отца. Члены семьи моей матери иначе сообщали мне о своей смерти – мелькая белой вспышкой в коридоре. По какой-то странной причине мои мама и папа любили друг друга, действительно любили, и у них были мы, их дети, но обе ветви их семейного дерева – абсолютно сумасшедшие. Какая-то полная бессмыслица. Холодность семьи моей матери, безумный страх перед чем бы то ни было – и бесконечный парад бедствий с другой стороны.
Ту ночь на квартире в Сикс-Акре тетя Лол провела в соседней комнате – мама и папа выделили ей отдельную спальню, так что мне с Бобби и Мартину с Джимми пришлось делить кровати. Мы слышали, как она вопила всю ночь – реально пугающие вопли, – и мне пришлось пойти к ней, потому что именно об этом попросил нас отец: успокоить ее. Было слишком тяжело слушать ее крики: «Он вернется, вернется, чтобы преследовать меня!»
Должно быть, там и в самом деле что-то произошло, потому что невозможно плакать о своем отце таким образом. Видимо, случилось какое-то настоящее зло. Это ужасная правда и реальность, которую мне пришлось узнать о своей семье именно тогда, когда я едва научился справляться со своими собственными проблемами.
Весь мой тогдашний мир составляла школа и наш маленький кусочек Лондона. Что еще нам было известно? Самой дальней точкой, где мне довелось на тот момент побывать, была ферма в Карригрохане. Да еще поездки с отцом в Гастингс и Истборн, когда он там работал. Вот и все мои путешествия, вплоть до эпохи Sex Pistols. Еще была школьная экскурсия на Гернси[27] и географическая практика в Гилфорде. В те дни Гилфорд был ужасно далеко от Лондона – убийственно скучная поездка по очень ветреным деревенским дорогам – казалось, она длилась целую вечность.
Неделя в этих ужасных хижинах на Бокс-Хилл – много лет спустя я вспомнил об этом в пиловских «Flowers Of Romance», – да еще и необходимость иметь дело с физруком, который угрожал отшлепать шлепанцем, если ты отказывался тащиться в общий душ. «Ах, спасибо, я обожаю шлепанцы!»
Мы, подросшие детки, только и думали о том, как бы попасть в паб. Это то, что занимало нас больше всего, способ взросления. Ты чувствуешь, что достиг чего-то – чего-то похожего на взрослость, – только когда тебе удается проникнуть в эти запретные места.
Во время учебы в Вильгельме Йоркском папа получил работу машиниста подъемного крана на нефтяных вышках у побережья Норфолка. Была зима, и мы остановились в летнем лагере в Бэктон-он-Си – в округе никого, только мы одни. Наше пребывание там продлилось недолго, но за это время я понахватался норфолкских «о-aaarr» в речи. Когда мы вернулись в Финсбери-парк, это не принесло мне никакой пользы. «Ты чаво-о?!»
Мне нравилось слоняться по округе в норвичской шапке с помпоном, но без оного. Единственное, что меня в ней привлекало, – цвета, желтый и зеленый. У меня была еще одна однотонная норвичская шапка, и тоже без помпона. То, как я обычно одевался и выглядел – что всегда немного отличалось от нормы, – похоже, было равноценно поглаживанию против шерсти народа, собиравшегося на стоячих местах Северной трибуны, фанатского сектора старой домашней арены «Арсенала» – Хайбери.
На мне была та самая шапка в тот раз (кажется, это была наша первая встреча), когда я столкнулся с Джоном Стивенсом. Рэмбо, каким мы все его знаем, был дворовым приятелем Джимми. Своей целеустремленностью и организованностью Джон навсегда изменил лицо футбольного насилия. Вам бы никогда не удалось угнаться за Джоном! Он быстрее хорька вклинивался в драку – щуплый, на треть ниже любого, кто бы ни бросил вызов «Арсеналу», – и всегда выходил из нее с широкой улыбкой на лице. Такой болван, как я (а я был немного выше), стал бы первым, кому досталось по зубам. И всегда с кривыми, выступающими зубами – у-ух, сколько, должно быть, костяшек пальцев было сбито на моих зубах.
Я тут не углубляюсь в психологический аспект насилия, потому что я не такой. Я не держу слишком долго обиды, и мой гнев – это штука проходящая, нет обиды, нет проблемы. Все просто и ясно. Не ори «Тоттенхэм» или «Челси» на Северной трибуне. Вот не надо. Мы тебя оттуда выставим, и все счастливы! Я не из тех, кто будет мусолить это дело. Но зато я тот, кто пойдет на их стадион и будет как можно громче топить за «Арсенал»! Это своего рода лицемерие, но это прекрасная арена, поле битвы, которое создает футбол.
Чувство единения было поразительным. Каждый домашний стадион позволяет ощутить всю глубину этого чувства, и ты это знаешь. Ты понимаешь, что оно охватывает всех – от подножия трибуны до самых верхних рядов. И дело не в том, чтобы просто одолеть соперника, дело – в полномасштабном сражении. И это великолепно, правда. В школе я обожал историю. Мальчишкой моей любимой темой было вторжение римлян в Британию, а также саксы, викинги – я всегда хотел бы оказаться в одной из этих ситуаций. Ну так вот, футбольная трибуна – самое оно в этом смысле. И там все даже устроено так же. Фланговые атаки, например, имели большое значение. У меня была одна библиотечная книжка про битву при Азенкуре[28] – так вот, тактика это наше все, и Рэмбо всегда был отличным тактиком, даже в столь юном возрасте. Наша часть группировки «Арсенала» была очень молода, да и выходили мы против этих огромных тридцати-сорокалетних уебков, но ни разу не пытались покинуть сражение.
Так или иначе, в тот вечер у «Тоттенхэма» был домашний матч. Ходили слухи, что их банда могла перенести действия за пределы стадиона. Сорок человек наших встретились во дворе паба «Сэр Джордж Роби» в Финсбери-парке. Я пришел туда в своей одноцветной гринвичской шляпе без помпона. Рэмбо устроил засаду, чтобы подстеречь чуваков из банды «Тотенхема», когда они будут возвращаться с матча. Он только взглянул на меня и заявил моему брату Джимми: «О нет, он никуда не годится, отправь его домой!» Джимми принялся возражать: «Нет, это мой старший брат, он крепче меня!» Я тогда работал на стройке, так что внешность может быть обманчивой. Сколько мне тогда было – лет пятнадцать-шестнадцать. И я был ебать как бесстрашен. Прошли те мальчишеские дни, когда я не умел драться. Но для кого-нибудь вроде Джона, кто, случись что, обязательно придет к тебе на помощь – это типа, о-ох, ну как этому мелкому откажешь. Ни за что, никогда, и я до конца осознал это только много лет спустя.
В школе, похоже, я постепенно начал доставлять много хлопот учителям. Не систематически и намеренно, а так – инстинктивно. Если я чем-то озадачен, я хочу знать ответ. А если им не хочется объяснять, о чем они там болтают, то, блин, да отъебитесь вы от меня уже – и тогда, конечно, твое поведение их возмущает. Да как можно ожидать, что такие люди, как я, будут просто сидеть там и терпеть унижения! В глубине души я понимал, что пришел туда для того, чтобы учиться, что предназначение школы – дать образование. И когда дрянные учителя отрицали подобные очевидные вещи, это приводило меня в ярость. Конечно, речь не шла о насилии, но я всегда умел подобрать правильные слова.
Это было наказанием и большим разочарованием с такими предметами, как история, которую я любил. Мне приходилось обращаться к людям типа Джона Грея и спрашивать их: «О чем сегодня был урок?» Им быстро становилось скучно мне объяснять, и тогда я шел в библиотеку и пытался найти ответы самостоятельно. Однако постепенно, будучи предоставленным самому себе, теряешь интерес. Воодушевление пропадает, новизна стирается, наконец, все становится в тягость.
В конце концов меня вышвырнули из Вильгельма Йоркского прямо посреди года, в середине семестра. Я опаздывал на уроки (опоздания стали официальным поводом), не носил правильную школьную форму, и мои волосы были слишком длинными. Они решили, будто я байкер из «Ангелов ада», потому что я обычно надевал в школу папино кожаное пальто. А еще я не мог позволить себе проездной на автобус, поэтому ездил в школу на мотоцикле. Они взяли и сложили вместе эти ошибочные сведения и сделали неправильные выводы.
Это был Прентисс, учитель английского языка, тот, из-за которого меня исключили, – Прентисс Обоссанные штаны. Сейчас я вполне согласен с фразой «пусть мертвые покоятся с миром», но в те дни я ненавидел этого ублюдка. Я презирал его, но по иронии судьбы он был блестящим учителем; то, как он объяснял Шекспира, – совершенно потрясающе, я был очарован. Так сложно и глубоко, вплоть до анализа каждого слова, поэтического ритма строки, ее стихотворного размера (в высшей степени захватывающе!), лексических особенностей английского языка. Действительно превосходный с профессиональной точки зрения учитель, но абсолютно отвратительный мерзавец.
Поскольку по возрасту я был еще обязан учиться в школе и хотел получить аттестат о среднем образовании, мне пришлось пойти в колледж дополнительного образования в Хакни. Это было что-то вроде дневной спецшколы для неудачников – если школа решала, будто не в состоянии с тобою справиться, тебя отправляли в это учреждение, более или менее напоминавшее местный государственный центр содержания под стражей. Нас всех здесь считали достойными порицания бродягами. Типа уже сел в автобус, осталось минут десять пройтись пешком.
Давайте посмотрим правде в глаза, Хакни никогда не был отличным местом. Скажем так, это был уже другой класс фанатов «Арсенала».
Там я и познакомился с Сидом.
Корни и культура
В доме Лайдонов всегда звучала музыка, это воспринималось как нечто неизменное. Особенно музыкой увлекался папа – он даже играл на аккордеоне, когда был совсем маленьким. В двенадцать-тринадцать лет, в Ирландии, он выступал во всяких шоу-группах – все эти «дидли-дудли-ду», – но никогда не учил меня ничему подобному. Мне казалось, это было как-то странно с его стороны. Возможно – как и со всем остальным в этой жизни, – отец хотел, чтобы я нашел свой собственный путь. Аккордеон был у него и на моей памяти, однако папа спрятал его на самом дне шкафа и не хотел говорить о нем или иметь с ним что-то общее. Это было так странно, та атмосфера таинственности, которую он создал вокруг инструмента. Похоже, папа вообще не хотел передавать нам никаких знаний о музыке.
Но родители владели огромной коллекцией пластинок. В доме постоянно играла музыка, особенно в выходные дни. У них были очень разные вкусы и разные друзья. Каждый из них приносил что-нибудь послушать, и таким образом в доме появлялись бесконечные пластинки, которые я очень любил. Сингл «A Boy Named Sue»[29] Джонни Кэша был примерно из этой серии, родители могли его поставить, чтобы послушать и бросить вызов приятелям, посмотреть на их реакцию. Мама любила традиционные баллады и фолк, но ей нравились и The Kinks[30], The Beatles, а также эстрадные звезды типа Петулы Кларк или Ширли Бэсси[31], танцевальная музыка.
Я живо помню, как мама с папой танцевали под пластинку «Добро пожаловать в мой мир» Джима Ривза[32], которая играла на проигрывателе Dansette в гостиной, – она в своем пышном, розовом кримпленовом платье, а папа в костюме и галстуке. Это была очень романтичная песня, но и отчасти политическая, о том, что мир может стать лучше, – такая обнадеживающая, позитивная. Замечательная песня.
Именно там я научился диджейским навыкам, потому что с детства считал это своей работой – ставить пластинки. И подавать напитки – в таких ситуациях диджею приходилось еще и руководить баром, и чем в более юном возрасте ты пребываешь, тем лучше, поскольку подаешь большие порции, чтобы сделать своих старших счастливыми. Мне нравилось ставить пластинки. И я начал понимать, как это работает, потому что научился просчитывать результат: «Ага, значит приятный звук на большой громкости! О’кей». Замечательно, какой эффект! Вскоре я и сам начал покупать пластинки, так все дальше и покатилось.
Странно, но когда я был в больнице – а это продолжалось почти год, – я совсем не скучал по всему этому, возможно, потому что не помнил. В больничной палате не было ни музыки, ни радио, ни чего-то подобного. По правде говоря, даже не думаю, чтобы там стоял телевизор.
Вскоре я уже поглощал всю популярную культуру, которая попадалась мне на глаза. Я помню, что у нас всегда стоял телек, кажется, небольшой Rediffuson. Это было нечто очень английское и по внешнему виду, и по качеству, так что работал наш телевизор не очень: зернистая картинка, крошечный черно-белый экран. Папа никогда им особо не интересовался, равно как и мама, – для них он был лишь способом отвлечься, вымотавшись за день.
После Второй мировой войны социально-классовая система Британии кардинальным образом изменилась. Владевшие землей джентри относились теперь к породе недовымерших динозавров, да и вся сословная иерархия подверглась пересмотру. По телеку у тебя было «Би-би-си», рассчитанное на тори, – высший и средний класс; и «Ай-ти-ви» – для лейбористов и простых работяг. И демаркационная линия проходила четко. Мы вообще никогда не смотрели по «Би-би-си» ничего, кроме футбола, потому что считалось, что всякие напыщенные аристократы занимаются полной ерундой. Мне нравились телеспектакли по «Би-би-си», я рос вместе с ними, но этот напыщенный акцент сводил меня с ума.
Я ужасно ненавидел воскресенья, потому что воскресные телепередачи всегда были просто отвратительными. C раннего утра религиозные программы. Мы любили смотреть во второй половине дня «Большой матч»[33], но после нас ожидали лишь гимны, «Звезды по воскресеньям» и все эти кошмарные «Воскресные вечера в Палладиуме»[34], настолько мрачные, что невозможно было смотреть. Я ненавидел их, ненавидел всех, кто на них выступал, даже комиков; трудно было избавиться от впечатления, что их шутки разбавлены водой. Даже мне в моем очень юном возрасте было понятно, что юмор у них самый что ни на есть детский. Вечер заканчивался просмотром «Вверх и вниз по лестнице»[35] – мне нравилась мамаша, замотанная в эти удушающие шарфики, – просто потому что больше не хрена было смотреть.
Стоит, кстати, напомнить людям: сколько каналов у нас было? На тот момент – всего три. И что же из всего этого предназначалось детям? Чепуха вроде «Тандерберды: Международные спасатели», «Суперкаров» и – та-дам! – «Файербол XL5»[36]. Вот и весь телек моего детства. Я ненавидел их всех. Какой-то дурацкий кукольный спектакль. Да там даже струны видны были, за которых дергали этих долбанных кукол! Может, это кому-то и смешно, но меня они вообще никак не трогали. Был еще «Доктор Кто», в котором показывали и людей, но я смотрел его только из-за да́леков[37]. В основном там действовали тупые люди-муравьи, причем видны были большие толстые ноги, и ты понимал, что это человек в костюме. Парень в высоких сапогах с муравьиной херней на макушке. Идиоты!
Что мне нравилось, так это комедии – особенно «Степто и сын»[38], потому что главные герои там были такими, какие они есть, имели дело со всяким старьем и мусором и казались реальными, похожими на живущий вокруг рабочий люд. Сценарий и сами персонажи были прописаны превосходно. Персонажи не выглядели карикатурно, а диалоги были в большинстве своем поучительными. Понимание, всесторонний и взвешенный подход, тонкости британского национального характера – здесь все это было.
Бедный старина Гарольд, пытающийся казаться утонченным, был просто уморительным. Я мог сопереживать боли, которую он испытывал, делая все неправильно, но никак не мог посочувствовать тому факту, что он, казалось, никогда не учился. Все его социальные эскапады, в которые он пускался, желая выглядеть «по-аристократически шикарно», и абсолютное непонимание жизни людей «из общества». В какую бы среду он ни пытался проникнуть со своим подхалимским: «О да!», эти якобы аристократы оказывались порядочными людьми, которые терпеть его не могли и считали снобом. Ему всегда делали выговор за высокомерные выходки, потому что в итоге именно он оказывался полон сословных предрассудков. Все это я почерпнул из сериала еще будучи совсем маленьким ребенком.
Я также любил фильмы с Норманом Уиздомом[39]. Его герой – настоящее «золотое сердце», всегда не понят. Но очень скоро моим единственным увлечением стала музыка. Больше всего мне нравилось открывать ее для себя самостоятельно. Я, конечно, принимал к сведению советы от мамы и папы, но их вкус не всегда совпадал с моим. Совсем. Я почему-то никогда не понимал «Битлз», а они их любили. Всю эту хрень типа: «Она любит тебя, йе-йе-йе»! Бр-р-р! Я ненавидел их прически, ненавидел в них все.
Поэтому, как только мне удавалось заработать немного деньжат на разных подработках, я отправлялся бродить по музыкальным магазинам, пытаясь определить для себя, что есть что. Все мои первые покупки были плохим выбором, основанным на цветах обложек, но одно цеплялось за другое. Мне нравилась форма пластинок, нравилось само ощущение от них, нравилась сила того, что исходило из динамиков, когда я их проигрывал. Занятие всем этим приносило мне удивительное чувство удовлетворения. Все виды звуков приводили меня в восторг.
Когда мне исполнилось лет десять-одиннадцать, шел уже 1966 или 1967 г., и альбомы становились все более важными, однако они были вне моей ценовой категории. Поэтому я старался приобрести хотя бы сингл. Некоторые из музыкальных магазинов разрешали прослушать альбом целиком, и это всегда было в высшей степени захватывающе. Приходилось, конечно, поискать такой редкий магазинчик, который бы держали люди, по-настоящему влюбленные в музыку и готовые разделить свое увлечение, разглядев в тебе подающего надежды меломана-маньяка.
Несмотря на всю эту чушь про «свингующие 60-е», Британия того времени все еще застряла в эпохе Макса Байгрейвса[40]. Нас все еще насильно потчевали всем этим попсовым сиропом. Ну и старая история: то, что тебе проигрывают на популярном радио, – не обязательно популярно. Это всего лишь то, о чем вам говорят, что оно популярно. Самые интригующие штуки – те, в доступе к которым вам отказано.
Пока не пришел панк, негде было послушать новой разнообразной музыки. Говорят, будто этим занимался Джон Пил[41] или пиратские радиостанции, но на самом деле это не так. Там все равно звучала музыка, которая была слишком далеко от среднего представителя рабочего класса. Да никому в моем районе не было ни малейшего дела до сержанта Пеппера. Развлечение богатых деток, которыми стали «Битлз». Отлично оркестрованный и хорошо организованный альбом, да и на промоушен ушла куча денег.
«Битлз»… – ну да, была у них пара хороших пластинок, но мама с папой настолько достали меня их ранней фигней, что к тому времени, когда они превратились в Гангадина[42] и его бонго, меня там мало что могло заинтересовать. Их окружали претензионные снобы с нарисованными на лицах цветами и в огромных розовых очках. Все настолько глупо, что даже слов нет. Помню, как смотрел их на «Top of the Pops», когда они исполняли свою «All You Need Is Love»[43], «ла-ла-ла-ла-ла-а-а-а» – ну бля-я! Нет, мне нужно чертовски много других вещей. И не заставляйте меня чувствовать себя эгоистом из-за того, что я признаю правду в столь юном возрасте.
Мое впечатление о них всегда было таким: холодные как лед, не созданы для того, чтобы делиться. Я предпочитал слушать Slade – чокнутую, ацки выглядевшую команду[44]. Нодди Холдер с этими перманентными кудряшками – да ладно, это же смешно, и какой замечательный гитарист!
Примерно с тринадцати лет, где-то в 1969 г., я начал очень активно покупать пластинки, и это был мой альбомный период. Я слушал все и вся, не только поп и рок. Я любил Рахманинова, и то, что имело римско-корсаковский фортепьянный грохот, было как раз по моей части. И еще одна тяжелая, тяжелая штука. Кажется, она называлась «Ромео и Джульетта»[45], но в ней была часть, которая звучала для меня как идущие с горы танки, – обожал ее!
Кстати, меня всегда приводил в восторг школьный оркестр, потому что он был ужасен, но великолепен. Я слушал его немного со стороны, стуча себе треугольником, пока сорок из нас устраивали этот безумный скандал. Я прислушивался к раздававшемуся изнутри звону и подбирал мелодии, абсолютно несогласованно. Там были хейтеры, которые устраивали настоящее рубилово, были и засранцы, пытавшиеся сыграть все как подобает, – Матлоки. И были те, кто просто старался получить от всего это удовольствие, такие как я.
Это сводило с ума нашего учителя музыки. Не могу вспомнить его имя. Он казался таким женоподобным и смешным, и еще – любил Bee Gees[46]. У него были эти дурацкие пластиковые штуки типа ксилофонов, всего с одним рядом металлических клавиш и крошечным молоточком, и он попросил нас выстукивать им ритм под записи Bee Gees. Конечно, здорово слышать Bee Gees в школе, однако их вряд ли можно было назвать голосом протеста. Между тем этому учителю музыки пришлось испытать на себе ненависть и гнев католической администрации школы Вильгельма Йоркского, которая считала, что Bee Gees оказывают негативное влияние на молодежь. Но вот что я вам скажу – что-то я не замечал, чтобы вокруг слонялись подростки, старавшиеся выглядеть как Bee Gees.
Напротив, в Финсбери-парке нас окружала та самая «Lollipop Opera» с альбома This Is PiL. Регги всегда был рядом – как без него, учитывая довольно большую карибскую общину по соседству. У-у-у-у-х, на некоторых ранних пластинках ска-групп были реально грязные песни. Особенно мне запомнились строчки из песенки «Dr. Kitch»: «Меня пугает вид твоей инъекции / Я его вставил! / Она его вытащила! / Я толкнул его внутрь…»[47]
С самого раннего детства я ходил в свой любимый музыкальный магазин, тот, что под мостом в Финсбери-парке, – этим магазином управляла маленькая старушка. Люди не из нашего района бывали в Финсбери только из-за этого магазинчика. Не знаю уж как, но здесь можно было купить лучший регги в мире, привезенный прямо с Ямайки. Магазин был полон ямайцев и рокеров. На стойках стояли пластинки Джими Хендрикса, много тяжелого хеви-метала, который в то время еще так не назывался – тогда это считалось прогрессивом. В итоге получалось блестящее сочетание этих двух элементов, которые, на мой взгляд, замечательно друг другу подходили.
Эти записи прекрасно смешивались. Я не делал между ними никаких культурных различий, передо мной не стоял выбор – они просто хорошо сочетались. Мне нравилось собирать отдельные фрагменты чего угодно, и я с удовольствием смешивал регги или классику с Элисом Купером и Hawkwind[48]. Я понял, что все это существует внутри головы: совершенно иная вселенная. Она столь же реальна, как и все остальное; это дар, который мы, люди, несем друг другу, особая форма общения, выходящая за рамки слов и звуков. Мне кажется, это такой пейзаж из сновидения, а из снов происходят великие вещи.
Еще, к примеру, я обожал Status Quo. Мне нравилось, что они нашли нечто интересное внутри самого незамысловатого, скажем так, формата. Их метод – простота и совершенство внутри этой простоты. Я так сопереживал тому, что они делали, это звучало мощно, как хороший толчок! Очень, очень искусно – превосходно, на мой взгляд, идеальный бит. Фантастический рок. Чудесные, блестящие, прекрасные вещи.
И я крепко запал на Капитана Бифхарта[49]. Я понятия не имел, о чем он там, но знал, что мне это нравится. Капитан Бифхарт был немного комедиантом. Никогда не делал пауз, когда погружался в комедию или пародию. Такой Томми Купер[50] от музыки. То, что Бифхарт делал, было чудесно – он брал дельта-блюз и все эти южные штучки, переворачивал вверх дном и создавал из немелодичной какофонии очень, очень хорошие мелодии.
Он вообще не нравился многим серьезным блюзовым музыкантам, именно из-за его хаотичного обращения с материалом. Они же воспринимали себя слишком серьезно и были слишком сильно погружены в себя… скажем, как историки. При этом полностью теряется смысл и назначение музыки, которая должна развлекать, увлекать и образовывать. Но не диктовать. Аутентичность? О, да прекратите! Это дьявол в музыке. Люди, проповедующие в блюзе аутентичность, похожи на Эрика Клэптона – а теперь погодите-ка! Помимо того, что приехал он совсем не из той страны, – здесь еще кое-что не так! Он имитирует нечто, а затем начинаются проповеди из серии «что такое хорошо и что такое плохо». И он не понимает, что музыку пишут люди и для людей. Я согласен, чистота – это замечательно, но иногда некоторым из нас нравится и что-то нечистое – так бывает. Прикиньте, я вот люблю смешивать напитки!
«Прогрессивный рок» был очень неудачным названием для всей той музыки, что появилась на рубеже 70-х, поскольку большинство групп, определенных в эту категорию, на самом деле были не очень-то прогрессивными. Все они, казалось, перепевали друг за другом, да плюс еще было слишком много битловского влияния. Я никогда не любил Yes[51]. Мне нравилось оформление их пластинок и обложки, но те нелепые сопли, что они выпускали, – меня там мало что трогало. Но я действительно относился серьезно к работам Роджера Дина[52], покупал альбомы таких групп, как, например, Paladin[53], – все обложки, которые он рисовал. Во многих отношениях это открыло мне доступ к записям, которые я обычно не слушал. Есть много способов открыть для себя музыку, и оформление пластинки для меня – один из них.
Раньше мне нравился лейбл Vertigo, когда они украшали пластинки лого с вращающейся спиралью – выглядело потрясающе. Наклейка всегда была на стороне B, поэтому я проигрывал именно эту сторону – просто чтобы посмотреть, как она вращается на вертушке. Это было классно, довольно так трипово, на синглах, на 45 оборотах. После перенесенного менингита я был склонен к эпилептическим припадкам, поэтому любое движение, подобное этому, создавало в моей голове ощущение психоделического путешествия. Наблюдать, как крутится наклейка, этот вечно-вечно-бесконечный туннель, и пытаться поставить эту гребанную иглу в бороздку – у-у-у-х, ты!
К тому времени, как мне исполнилось лет пятнадцать-шестнадцать, победил глэм-рок. Electric Warrior[54] T. Rex был потрясающим альбомом. Опять же мне очень понравилась обложка – золото и усилитель – вау, просто охуительно! То, как он обрывал эти прекрасные недоигранные гитарные партии, рассеивающийся словно дым звук – больше чем кивок в сторону Бо Диддли[55], бог мой, посмотрите, как он это делал!
Вообще, релизы того времени меня реально будоражили. Поп-музыка в целом звучала отпадно, так гладко и клево, даже у Элвина гребаного Стардаста[56], которого я обожал. А еще Rock On Дэвида Эссекса[57] или Rock And Roll (Part 1 & 2) Гари Глиттера[58]. С музыкальной точки зрения они мало что собой представляли, но что-то такое в них было – та атмосфера, которую они создавали. Своеобразная модернизация рок-н-ролла, перевод его на новый уровень, и это не всегда было связано с Yes и теми группами, что мучили вас своими виртуозными записями. Эти же такие: «Да пошло все в задницу!»
Уйдя от хиппи-шмиппи-фолка, Болан подрастерял признание этой бригады скрещенных ног, но мгновенно обрел любовь и обожание девчонок и молодых ребят на местных дискотеках. Это были записи, открыто выражавшие необузданную сексуальность. Тамла Мотаун[59] сделали то же самое. Так что мы получали это изо всех источников. Дайте деткам заниматься любовью.
Потом был Дэвид Боуи, поющий о «мужской любви» в «Moonage Daydream»[60]. Это была песня Сида – он любил ее, но не мог объяснить. Для меня главное здесь эта чертова гитара Мика Ронсона, которая до сих пор так и застряла у меня в голове, – самый замечательный звук, который я когда-либо слышал. Он был плавный, изысканный, мелодичный … О-о-о, такая охренительно прекрасная вещь, достойная того, чтобы в нее вникнуть. Неисчерпаемый источник вдохновения.
До Ронсона – если говорить о гитарных кумирах, – конечно, это Джими Хендрикс. Правда, никто не мог точно понять, что именно делал Джими Хендрикс, потому что – удивительно – это было за пределами музыки. Но поскольку пришел он из американской культуры, а для нас все еще оставалось загадкой, что это за культура такая, было очень сложно увязать его с нашей жизнью на районе. Мик Ронсон же представлялся обычным парнем – ну немного блесток и атласные штаны, – но он исполнял мелодии, которые западали в душу человеку моей культуры и моего окружения.
Выбираясь из дома, ты проводил все выходные, выпивая и накачиваясь наркотиками – да чем угодно, распутничая, – только мы называли это совсем не так, скорее – «иметь взаимовыгодные отношения». Другими словами, ты взрослел. Открывал, на что действительно способны отдельные части твоего тела. Все это было совсем не плохо, а фоном звучали гитары Мика Ронсона. Другие разнообразные звуки пробивались, конечно, тоже, но прежде всего музыка – ей как-то удавалось нажать на пуск и сбросить все лишнее у тебя в голове.
И это исходило не от заумных интеллектуальных групп типа Emerson Lake & Palmer[61] или Yes. Нет, подобного эффекта удавалось достичь именно средненькой, вполне заурядной попсе. Нелепость Марка Болана, абсолютная красота, нашедшая воплощение в простейшем материале, мнимое чудо трех аккордов: «Ах, это не музыка». Да, черт возьми, именно это она и есть. В этих трех аккордах скрыто нечто, способное поразить любого. Вот почему и по сей день свою основную задачу я вижу в том, чтобы писать поп-песни. Я могу вдаваться в их замудренные версии, но мой основной корень – поп-музыка. Мне нравится песня Fortunes[62] «Storm In A Teacup» так же сильно (ну, на самом деле даже больше), как и «Smoke On The Water» Deep Purple.
Боуи пропагандировал имидж, связанный с любовью к мужчине, но делал это так смело, что это нравилось даже фанам «Арсенала». Футбольным головорезам нравилась его дерзость и жесткость, и совершенно неожиданно прежде вызывающие всеобщее возмущение геи становились воинами, уважаемыми хулиганами. Хороший урок, чтобы понимать, как все на самом деле работает: параллельные прямые пересекаются. Если ты встанешь на защиту того, во что на самом деле веришь, реально встанешь и не побоишься нести ответственность – люди будут тебя уважать.
Многие глэм-роковые команды звучали великолепно, но ни одна из них не может быть сравнима с тем классом, тем уровнем сложности, которого достиг Боуи. У Болана есть отличные записи, но, знаете, он все равно был немного маленьким взбалмошным эльфом. Боуи довольно громко заявлял о своей позиции, причем совершенно антиобщественным способом по мнению властей того времени. И поэтому он пользовался такой популярностью. Концерт Боуи был отличным местом для знакомства с девчонками, это точно – их там было полно, и все такие горячие!
Пробужденное глэм-роком сексуальное любопытство, Боуи, который твердо заявил о своей позиции: «Да кто вы такие, чтобы указывать мне, что делать?», – все это было отличной питательной средой, из которой появился панк. И панк не просто возник в одночасье, он возник из всего этого. Это было постепенное, но чертовски упорное стремление к гребаной очевидности.
Глава 2. Первый собственный сортир
Колледж Хакни и Сток-Ньюингтон был полон девчонок! Еще и проблемных – ах, вкусняшка! Да, в Иден-Гроув были девочки, но в начальной школе они всегда такие задиры. И кажутся более взрослыми, чем мальчики. Школа Вильгельма Йоркского была всецело мальчиковой, так что Хакни и Сток-Ньюингтон показался мне просто великолепным.
Я был настоящим придурком и влюблялся во все, что мимо меня проходило. Очень романтично! Абсолютное стремление завести роман – сотни раз представлял себе все возможные ситуации, и, конечно же, все шло прахом, стоило мне только открыть рот.
Едва я оправился после менингита, как меня подстерег еще один кошмар – подростковый возраст! Многие дети вступают в эту пору с какой-никакой артиллерией в запасе. Моя же защита была разрушена и разбита в пух и прах, так что все окружающее воспринималось как враждебное вдвойне. Необходимо было ужасно много всего обдумать, и именно этим обдумыванием я и занялся – скажу я вам, у меня появилась настоящая навязчивая идея относительно девчачьих летних платьев. Я превратился в этакого уродского вуайериста. Не думаю, правда, что в те дни это называли «вуайеризмом», были гораздо более жесткие синонимы. Но я даже не сознавал, что пялюсь на девчонок столь пристально. Я полностью погрузился в красоту этого визуального образа – школьницы в летних платьях. Фантастика!
Однако в то время у меня не было подходящих слов, чтобы разобраться с этими вариантами. Я вел себя крайне неуклюже в присутствии большого скопления девчонок и очень, очень этого стеснялся. Я не знал, что сказать или сделать, и не у кого было спросить совета, потому что отношения с девчонками не являлись предметом обсуждения с другими парнями. Просто нет, и все, разве что вставить свое слово в компашках, где шел треп из серии: «О да, я трахнул эту, а потом я трахнул ту», – при этом ты прекрасно понимал, что все они гребаные лжецы.
Так что я на какое-то время превратился в вечно прищуренного китайца. Джонни Вань-Кинг. Сильно дальше мне не удавалось продвинуться. Хотя девчонки тусили вокруг, и иногда удавалось кое-чем заняться за велосипедными сараями – на что сейчас оглядываешься и думаешь: «О нет, даже вспоминать об этом не хочется». Надеюсь, и они не вспоминают!
Что же касается каких-то конкретных влюбленностей, меня устраивала абсолютно любая девушка! Я был как пиявка-паразит – цеплялся за них и ходил по пятам, доводя до сумасшествия. Их было несколько – имен я сейчас не вспомню. Одна девчонка жила в доме над нами и училась в монастырской школе в Хайгейте – она приводила меня в восторг. Ходила всюду в этой униформе – ух ты! Оглянуться так назад – всего лишь очкастая прыщавая пацанка с узловатыми коленками, но для меня она была очень даже хороша! Однако, очевидно, я оказался недостаточно хорош для нее, вот и все. Отказ – ужасная вещь, правда? Но так становишься мужчиной. Вообще это того стоит, чтобы тебя периодически посылали на хуй. Полезно.
В Хакни все это стало больше похоже на настоящие свидания – встретиться, сходить в кино и тому подобное. Или посидеть в кафе, что тоже совсем неплохо. Все было иначе, и мне это нравилось. Однако меня вряд ли можно было назвать великим охотником за юбками. Просто как-то у меня это плохо получается. Я склонен создавать глубокие отношения – да, я. В случае со мной все эти игривые, легкомысленные штуки не работают; так или иначе, мне надо приложить достаточно ощутимые усилия, чтобы кому-то открыться. Для этого я должен полностью доверять этим людям.
В жизни каждого ученика колледжа Хакни в той или иной форме присутствовали проблемы социального характера – вот почему мы все там оказались. Это не было жестоким местом. Конечно, напрашивается предположение, что колледж для трудных подростков – это просто рассадник зла. Напротив, все мы хотели чего-то достичь, но не имели возможность этого сделать, будучи изначально под прессом говносистемы[63]. По сути же это была обычная школа, так что я продолжал носить свою униформу Вильгельма Йоркского, поскольку не хотел занашивать до дыр ничего из той одежды, что мне нравилась. Но вообще то, как мы одевались в колледже, чем-то напоминало своеобразный модный показ. И Сидни определенно использовал школу как подиум.
Парень, которого я окрестил Сидом Вишесом, был удивительно забавным персонажем. Середина зимы, пробирающий до костей мороз – типичный ноябрьский зимний день (вы можете, наверное, себе представить, каким пронизывающим ледяной ветер бывает в Лондоне), а он появляется в сетчатой рубашке с коротким рукавом, что было модно в то время, без пальто и в тонких брюках – чувствуя себя очень стильно, но замерзая до смерти. Хотя это и не имело для Сида ни малейшего значения, поскольку он думал, что прекрасно выглядит.
Я познакомился с ним в колледже и просто подумал, что он смешной. Парень всегда зачесывал волосы, стараясь выглядеть как Боуи, но это не помогало. Что за чудило. Прикольный чел, отличная компания, но туп, как гребаный веник, и был абсолютно уверен в своей неотразимости, о чем не уставал повторять. Мне очень нравилась такая объективность. «Дефки меня любят!» – всегда говорил он. Когда эта фраза попала в пистолзовскую документалку «Грязь и ярость»[64], меня прям вдвойне торкнуло, поскольку это было именно то, что он сказал мне в самую первую минуту, когда я его встретил. Я знаю, он понимал, что я догадаюсь. До сих пор угораю над этим. Так типично для него, он был таким не неотразимым – ха, ну гениально же!
Его настоящее имя было Саймон, но ему оно никогда не нравилось, поэтому он использовал другое – Джон. Он рассказал мне, что его отец был гренадером-гвардейцем. Сид с гордостью говорил: «Да-а, прям как у Боба Марли!» Его мать – хиппи с Ибицы, и это была нежелательная беременность. Отец ничего не хотел о них знать, поэтому она его воспитала сама. Мать Сида была хорошо образованна, но у нее, похоже, не было профессии. Любительница длинных струящихся хипповых платьев и черных ногтей. Иногда я встречал ее в том, что напоминало мне наряд медсестры, но только хаки. Очень странно. Я понятия не имею, что она вообще делала. Возможно, гвозди укладывала. Ну а что – кто-то же должен распределять все эти гвоздики по коробочкам.
Ричи – фамилия его отца, Беверли – матери, так что я даже не знаю, как он был записан в свидетельстве о рождении. Он никак не мог определиться с именем, поэтому оказался более чем доволен, когда я начал называть его Сид, потому что это было новое имя, которое можно было добавить к уже имевшемуся набору. Сид – в честь моего домашнего хомячка, создания глупого, но очень дружелюбного, что вполне подходило. В то время имя Сид было этаким воплощением убожества, поскольку, имея прямое отношение к Сиду Джеймсу[65], означало все ужасное – отвратительное имя типичного тупого работяги. И поэтому Сид любил его еще больше, просто им упивался. В этом – весь Сидни.
Он жил со своей матерью в Феллоуз-Корте, мрачной высотке в Хакни. Сперва я подумал – какое прекрасное место, чтобы в нем жить. Но нет!!! Лифт там никогда не работал, и, придя в гости к Сиду, приходилось тащиться вверх одиннадцать пролетов пешком, поэтому сперва я не особо стремился к нему захаживать.
Сид был очень остроумен, и опять-таки это стало для него техникой выживания – юмор. Произносить название журнала Vogue как «вогг-юю» было очень смешно[66]. Я бы так ничего и не понял, если бы не тот факт, что у нас в Вильгельме Йоркском преподавали французский. Однако, несмотря на все знания, я предпочитал, как и Сид, произносить «вогг-юю». Мне казалось, это гораздо лучше отражало суть чтива. Но Сид относился к журналу так, будто это была Библия. Разумеется, он ни разу не приобрел и номера. Просто шел к газетному киоску и читал его. Скорее, конечно, просматривал фотографии, ни о каком чтении не шло и речи. Он любил моду до смешного, и для Сидни Дэвид Боуи был иконой стиля на все времена. Если Сидни когда-нибудь и хотел быть кем-то, так это Боуи.
Отличительной чертой внешности Сидни была прическа, как у Боуи, с торчащими вверх волосами. Обычно Сид брал из гостиной два стула, ставил их перед духовкой, открывал ее, зажигал огонь и ложился вниз головой на стулья – от жара его волосы становились жесткими. Однажды Сид таким образом даже поджег себе волосы. Иногда он подпаливал себе концы, но выглядел в итоге замечательно.
– Как же Дэйв Боуи этого добивается?
– Ну, примерно как ты, Сид!
Было очень весело привести Сида в Финсбери-парк. А там же повсюду топовые «канониры» – они такие:
– Что еще за хуйня?
– Ну, прикинь себе – храбрый чел. Середина зимы, а он носит рубашку без рукавов, потому что типа мода и все такое!
– Да ты прав, чувак!
Однажды я взял его с собой на северную трибуну «Арсенала». И как оказалось, у него там были хорошие приятели – серьезные ребята; я был удивлен. Помню одного чувака, который спустя пару лет ввязался в реальные проблемы – настоящий боец. Он не был трусом, Сид, и пришел на трибуну с этим своим коком а-ля Боуи, который доводил до совершенства два дня подряд, запрокинув голову в духовку – идея лака для волос или фена никогда не приходила ему на ум!
Как-то Сид заявился ко мне домой в тонкой футболке и в украшенной вышивкой дубленке, которую, по его словам, один его кореш украл у болельщика «Манчестер Сити». На спине дубленки все еще было вышито: «М. С.» И начал:
– У тебя есть баллончик с краской?
– Да ладно тебе, Сид, что, по-твоему, «горожанин» реально приехал в город в таком виде? Хм-м-м, я не знаю, мне кажется, это означает Мария Саруба – имя девушки или что-то типа того.
– Нет, нет, – спорил Сид, – я выиграл ее в битве!
Оказалось, дубленку украли у хиппи.
Но Сид не представлял ни для кого угрозы. У него была фишка: я выгляжу лучше Боуи, и я девственник. Беспроигрышный ход. И невероятно смелый для того возраста. Все наши ровесники, от четырнадцати до пятнадцати лет, говорили: «О нет, конечно я не девственник». Представьте, возвращаешься в школу после трех месяцев летних каникул, и все принимаются тебе рассказывать, сколько женщин они трахнули. Сомневаюсь, что сейчас ситуация сильно изменилась, разве что, возможно, возраст снизился до тринадцати-четырнадцати лет. Но это был основной принцип, а Сид перевернул его с ног на голову: «Нет, я девственник, и точка». Мне в нем это очень нравилось.
Может, я и подъебывал его из-за Боуи, но если ты пытаешься быть похожим на кого-то другого, приготовься к насмешкам. В то время у меня были длинные волосы, а джинсовую куртку с отрезанными рукавами, которую я носил поверх школьной формы – очень по-байкерски, я полагаю, – украшала надпись «Hawkwind». Именно то, в чем меня обвинили в Вильгельме Йоркском, – я сделал это своим образом.
Очень забавно меня тогда Сид нарисовал: крошечная головка с ниткой длинных волос и огромными широкими плечами. Похоже на кирпич с горошиной на верхушке и свисающей ниточкой. Это было его представление обо мне, так что остается только гадать, как мы вообще могли общаться друг с другом. Единственными нашими точками пересечения были, мне кажется, юмор и его предпочтение в то время называться Джоном, хотя на самом деле он был Саймоном. Я типа: «О, еще один Джон – я, Джон Грей, Джон Стивенс и так далее. Сколько их мне нужно!»
Да, в той школе я знал еще одного Джона, у него тоже были очень длинные волосы, правда, вкупе с некоторыми психопатическими склонностями. Блестящий художник и замечательный футболист, однако с очень антиобщественным поведением – в итоге он окончательно вписался в какую-то криминальную нишу. Джон был усыновлен и не нравился своим приемным родителям, так что у него были реальные проблемы, ментальные и социальные. Я многому у него научился – гораздо больше, чем у школьного учителя рисования. Итак, еще один Джон – похоже, после войны у всех было как-то туговато с новыми идеями. «Назовите его Джоном, он, наверное, долго не протянет». Ну а если выжить все-таки удавалось, ты мог сам выбрать себе подходящее имя: «Поступай как знаешь. Можешь звать себя как угодно, только давай проваливай побыстрее из дома!»
По пятницам в Хакни и Сток-Ньюингтон устраивались танцевальные вечера. В конце концов я стал их вести. Мне удавалось устраивать блестящие смены декораций: много вещей типа Kool & The Gang[67], а затем хардкорный регги, периодически прерываемый каким-нибудь Hawkwind, – сплошная радость! Великолепная смесь различных музыкальных стилей, собранных вместе, – шанс пронести напитки и повеселиться, наблюдать за девушками и видеть, как они ведут себя, не скованные школьными правилами и ограничениями, когда ослаблен контроль. Вот в чем суть общественных мероприятий: возможность ослабить бдительность и быть вознагражденным за это, вознагражденным дружелюбием и открытостью со стороны других людей. В этом деле музыка – великий уравнитель.
Мы начали тусить по клубам в Хакни, потому что там полно мест, куда можно было пойти. Сперва я шел к Сиду, а потом мы отправлялись искать приключения на свою голову – прикол-глюч-ения! – куда бы мы ни пошли, они нам были обеспечены хотя бы из-за того, какие на нас были «тряпки», и как мы их носили. Много раз нам приходилось бежать обратно к Сиду, потому что мы пропускали последний автобус, а я вовсе не собирался идти через этот район ночью. Я всегда зависал у него в таких случаях: автобусы, естественно, уже не ходили, а пешком до Финсбери-парка тащиться было не только слишком долго, но и очень опасно ночью. Надо было пройти через Хакни, потом через Страуд-Грин-Роуд, и по ходу все могло пойти наперекосяк. Мать Сида, Энн Беверли, никогда по-настоящему со мной не разговаривала. Никогда не понимала и не любила меня. Думаю, я казался очень молчаливым персонажем. Никто не знал, что у меня внутри, каков мой потенциал – даже я сам. У нее всегда был готов обед для Сида – только Сида, которого она чудно́ называла Майклом, хотя мы знали его как Джона (ну, или по прозвищу – как Сида). Даже не Саймоном. Это было так странно, так неестественно далеко от реальности. И вот я здесь, у нее в гостях, я – чувак, который только что спас ее сына от побоев, и меня даже не пригласили к столу. Приходилось сидеть и смотреть, как Сид хавает свою жрачку.
Учителя в Хакни и Сток-Ньюингтоне были хороши, некоторые из них реально оказали на меня вдохновляющее воздействие. Они побудили мой ум открыться всевозможным вещам. Например, один из них заставил нас написать эссе о слове «встреча» и о том, что оно означает. Ответа на этот вопрос не было, и в том-то и заключалась вся прелесть. Хотя в то время это меня просто вывело из себя:
– Я хочу знать, что вы имели в виду. Что еще за встреча? Скажите мне!
– Нет, выясни это сам и напиши эссе.
Конечно, я и близко не подошел к ответу. Это было потрясающе, но в то же время приводило в бешенство, и я хотел побольше подобных вызовов.
Насколько мне помнится, я окончил школу, успешно сдав экзамены на сертификат о среднем образовании примерно по семи предметам. И мне все это было действительно нужно. Я начал изучать эти предметы еще в совсем юном возрасте и хотел успешно завершить курс, чтобы ощутить удовлетворение от достигнутого, гордость за свои успехи, но также, конечно, из-за глупой веры, будто, сдав эти экзамены, я стану удивительно умным, и все непременно захотят меня нанять. Забавно, но это так не работало.
Тем не менее я ощущал желание учиться и хотел стать лучше. Поэтому решил продолжить обучение в другом колледже и сдать экзамены на уровень «А». Для этого мне необходимо было платить за образование, и отец устроил меня на стройку, чтобы заработать деньги и поступить в колледж Кингсуэй. Гранта у меня не было. Я просто не соответствовал требованиям. И плохие школьные отчеты из предыдущих мест обучения в этом мне совсем не способствовали. Никакого студенческого кредита. Ничего. Я заработал на колледж, вкалывая на стройках, и это были очень даже неплохие деньги – хватило на обучение, а также на вполне комфортную жизнь с учетом того, что я еще и оплачивал свою часть аренды нашей квартиры в Ханифилде. Я решил тогда, что Кингсуэй – это очень хорошая инвестиция в будущее. И это окупилось, потому что независимо от того, чему я там учился или не учился, я получал социальные навыки, узнавал, как ладить с другими людьми и как слушать учителей. И да – когда они говорили интересные вещи, я был весь внимание.
Кингсуэй находился примерно в десяти минутах ходьбы от Кингс-Кросс по Грей-Инн-Роуд, а если идти по ней вверх до самого конца, то попадаешь в Сохо, прямо в самый центр города. Правда, сам колледж располагался как раз напротив квартала с муниципальным жильем – кругом дома бедняков.
Однако главное заключалось в том, что я хотел продолжать заниматься английской литературой, потому что мне нравилось читать, а Прентис Обоссанные штаны, каким бы ублюдком он ни был, втянул меня в Шекспира – так что, йо-хо! – спасибо Прентису, все не так плохо. Также мне хотелось изучать техническое рисование, я любил черчение, но оно шло вместе с математикой и физикой – ни за что!
Вполне возможно, что до менингита я неплохо разбирался в математике, но потом эта способность как будто угасла в моем мозгу. Такие штуки, как физика, для меня реально ракетостроение. Я нахожу эти предметы умопомрачительными, потому что не могу поместить их ни в какую реальность. Все они представляются мне сложными предположениями. Это все равно что представить себе трехъярусные шахматы без шахматной доски. Где в логарифмах и двоичных числах вдохновение? Никто так и не объяснил, почему мы сидим и снова и снова повторяем как заведенные: «Ноль, ноль, один, один». «Х плюс Y равно чему?! – Да какая разница, если я не знаю, что такое X!»
Итак, я выбрал три предмета, по которым собирался сдавать экзамен на уровень «А»: английский язык и литературу, искусство и историю. Поначалу мне было чрезвычайно сложно вникнуть в иную систему: на занятиях мы обсуждали темы, а не просто слушали то, что вещал учитель. Раньше нам говорили: «Это – так, а это – эдак, и не задавайте вопросов». А теперь нас заставляли думать самостоятельно. Это было хорошо, потому что они постепенно как бы вытягивали что-то из меня, и медленно, но верно я вышел из своей скорлупы.
Я обнаружил, что могу публично делать то, что могу делать, да еще это совпадает с учебным процессом. Какой кайф! Не быть застенчивым, уметь встать и прочитать вслух стихотворение или отрывок из романа. Полагаю, так я научился выступать на публике. Это не то, ради чего я туда пошел, но это то, что я получил, – умение сконцентрироваться на словах, структуре предложений и множество подобных замечательных штуковин. Кажется, здесь я начал писать собственные вещи. Я ставил себе задачу – брал тему, о которой и понятия не имел, шел и искал по ней как можно больше информации, словно складывал по кусочкам целую вещь – учился, и мне это нравилось. В Кингсуэе у меня реально получалось поделиться своими идеями с другими людьми, потому что они делали то же самое, я мог встать и с гордостью представить свой рассказ. Это и было творчество. Я ощущал, что готов к чему-то, только пока не знал, к чему именно.
Особенно там хороша была преподаватель английской литературы – очень мне нравилась. Достойный анализ поэзии и прозаических текстов. Даже дневники Сэмюэла Пипса[68], мы иногда заглядывали и в них. Просто обожал его. А между уроками я читал все и вся. Хаотически. Использовал, кажется, тот же подход, что и с музыкой: «О, мне нравится обложка этой книги цвета электрик!»
Я любил Теда Хьюза[69]. Это было весело. Много лет спустя я беседовал о нем с Питом Таунсендом из The Who, потому что тот написал вступление – на немецком языке! – к антологии Хьюза. Круто! Стихи Теда Хьюза были великолепны. Первое, что приходит в голову, – стихотворение под названием «Дрозд». Ну, то есть там не о том, как «дрозда дают». О птице. Прекрасная штука на том моем уровне, здорово почитать подросткам шестнадцати-семнадцати лет. О да, тогда все кажется сложным и запутанным, но когда становишься старше, то понимаешь, что это довольно-таки детский уровень. Двигаясь маленькими шажками, рано или поздно доберешься до сути – и не надо сразу бросаться в польскую философию!
Достоевский… Есть одна сложность в раннем возрасте: невозможно примириться и до конца осознать брошенный им вызов. «Преступление и наказание» – да, но вот «Анна Каренина» Толстого мне, скорее, не понравилась. И я совершенно не переношу идиотские романы типа «Джейн Эйр». Для меня это сплошная территория Барбары Картленд[70], меня это не интересует, я не могу сопереживать жалеющей себя женщине, которой приходится иметь дело с миром мужчин. Это пресвитерианство, вот точное слово. В нем все такие сахарно милые, а жестокости настолько преувеличены, что кажутся карикатурными, – так что у меня просто не было на это времени.
Оскара Уайльда я находил возмутительно смешным. Он был далеко впереди своего времени, этот парень – не позволял себе прогнуться и вел образ жизни, который тогда считался чрезвычайно опасным. Не стану вдаваться слишком подробно в то, что именно он делал, поскольку здесь нет никакого особого хардкора, но факт остается фактом: ему очень хорошо удавалось высмеивать общество, из которого он вышел. И это притом что Уайльд получил все присущие этому классу недостатки. Критикуя общество, он критиковал и себя, и мне это нравилось, я этому учился. Мы не идеальны. Высказываясь с позиции человека рабочего класса, я чертовски уверен, что не забуду упомянуть и весь связанный с этим негатив. А его довольно много.
Сид тоже пошел учиться в Кингсуэй, а через пару недель я познакомился с другим Джоном – Джоном Уордлом, которого Сид как-то вечером – ужравшись до такой степени, что не мог нормально разговаривать, – назвал «Джа Уоббл». Мы все трое были трудными подростками, но по очень разным причинам. Так или иначе, мы не вписывались в систему – я не думаю, что это вообще многим удавалось. Мне кажется, сама система должна к нам адаптироваться, учитывать наши вкусы и потребности. А если уж вы не соответствуете нашим ожиданиям, то получайте все эти оппозиционные выступления.
Уоббл опять-таки был забавным. Он выглядел очень странно, был таким немного перекошенным. Пытался напустить на себя вид крутого парня, но у него это не очень получалось. Он больше походил на чьего-то папашу послевоенной поры, с подтяжками и носовым платком на голове. В придачу большой шарф «Тоттенхэма» и широкая улыбка на лице. Чувак забавный, но полный всякого недовольства.
Он жил неподалеку от того знаменитого паба братьев Крэй[71] – «Блайнд Беггар» в Уайтчепеле. В первый раз, когда я вошел туда, я сказал: «Ты что, не знаешь, это ж паб “канониров”?!» Мы никогда не ссорились из-за футбола – в этом не было необходимости. Нам приходилось гораздо чаще вступать в противостояние с остальными. Были у меня и другие приятели, типа Дэйва Кроу из Вильгельма Йоркского – фаната «Тоттенхэма». Конечно, между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» всегда существовало соперничество, но не настолько острое, чтобы из-за этого ссориться, – у нас и кроме того было чем заняться. Я не собирался никого убивать из-за игры в футбол. И я подчеркиваю, именно «игры». А поскольку я особо не участвовал в потасовках и не входил в банду, мне пришлось отстраниться от драк. Хотя время от времени я получал удовольствие от хорошей футбольной драки. Сиду, конечно, было все равно.
Я так и не узнал, по каким предметам собирался специализироваться Уоббл. Не думаю, что нам хоть раз случалось сесть и обсудить уроки. Во время перемен он всегда общался с кем-то еще. У каждого из нас всегда есть какой-то свой круг общения, но при этом мы были аутсайдерами. Уоббл не мог понять Сида, а я – наш союз, как мы вообще все познакомились. Сид, я, Уоббл – и еще несколько человек, вроде Джона Грея, – казалось, что мы вообще не принадлежали к этой среде.
Все мы рассматривались как потенциальные преступники. Мы поняли это, потому что один наш друг как-то залез в колледже в сейф с документами, где лежали наши досье, и обнаружил, что там написано, будто Уоббл, Сид и я склонны к насилию. Да нет же. То, что в нас было, – это склонность задавать вопросы, ну, а если в ответ нам начинали нести всякую чушь, то могли и огрести. Мы все оказались в этой идиотской заведомо проигрышной ситуации. Полная бессмыслица, обвинения и непонимание того, кем мы были и откуда пришли, – вот что привело нас к насилию. Уоббл изначально и в мыслях ничего подобного не имел. Он хотел чего-то добиться, а система его подталкивала и подставляла. Он был из Степни, Сид – из Хакни, а я из Финсбери-парка. И это все – кварталы социального жилья, с небольшими вариациями. Проблема заключалась в том, что это именно школьная система считала нас неспособными к обучению.
Уоббл бросил школу через полгода – стало скучно. С него оказалось достаточно. Но он был моим лучшим другом и надолго задержался в этом качестве. И знаете почему? Потому что он топил за «Тоттенхэм». Он верил в него, как бы глупо это ни звучало. И я не сомневаюсь, что Джон верил и мне, каким бы нелепым не выглядел мой «Арсенал». И мы сошлись вместе – этакая межкомандная фанатская банда, вне общей системы. Прекрасная основа для панка, приятель.
Я был прилежным учеником, но это касалось только тех предметов, которые имели для меня значение. И я снова столкнулся с авторитарным давлением, обязательными уроками и требованиями, которые не очень-то помогли мне в долгосрочной перспективе. Да и в краткосрочной тоже. Примерно через год мне это безумно наскучило. Эта медлительная образовательная машина – в ней не было того, что могло меня заинтересовать.
Я все еще продолжал подрабатывать, так что деньги у меня водились. Работа была самая разнообразная – я брался за все, что предлагали. В основном на стройках – папа периодически подбрасывал мне варианты. Мне это очень нравилось, деньги – просто фантастические.
На стройках труднее всего было иметь дело с хамоватым поведением работяг-ирлашек. Они пытались достать меня своей дедовщиной, а я не подчинялся. «Знай свое место!» – «Да отъебитесь от меня, не хочу!» Я возмущался, когда мне пытались вручить в руки лопату и отправить копать яму. Совсем не прикольно. На стройплощадке меня завораживала работа с инженерами и проектировщиками, потому что это означало, что я мог рассматривать технические чертежи, и мне все это нравилось. Не возражал я и против разнообразных геодезических работ.
Папа любил свои подъемные краны, просто обожал их. Он мог говорить часами о разнообразных кранах. Любил любую тяжелую грузовую машину со стрелой. Это была его фантазия. Ему нравилось управлять машинами, и папа был в этом очень хорош. Управление подъемным краном и перемещение вещей – работа, требующая идеальной концентрации и высочайшей аккуратности. И рабочие на стройке по-настоящему любили его за это, потому что, если он поднимал бетонную плиту, они знали, что он опустит ее именно туда, куда нужно. Работа опасная, и возможны самые ужасные несчастья. Я сам видел людей, серьезно раненных этой штукой. Если машинист крана не справится со своей работой, люди могут погибнуть.
Папа много учил меня, как управлять кранами. Он запирал меня в кабине и: «Вперед!» Один только этот шум приводил меня в ужас. В те дни не существовало такой штуки, как наушники, и все эти машины издавали истошный скрежет. Тонны чугунного железа – все холодное, ледяное и ненавистное. Я не мог понять, почему ему это нравится. Совсем не мое дело.
Если я ошибался с педалью, папа со всей силы пинал своей лапой в ботинке по моей ноге – чертовски больно. Я понимаю, наверное у него не было другого выхода, но господи Иисусе, все эти технические сложности – мои попытки работать одновременно двумя ногами и двумя руками, при этом заставляя их выполнять разные вещи, – были вне пределов моей досягаемости.
Однажды папа сломал мне лодыжку лопатой. Да. На самом деле я лежал в постели и смотрел «Тайну и воображение», а он запрещал мне смотреть ужастики, потому что они вызывают плохие сны. В итоге отец резко швырнул лопату на кровать, а там была моя нога, хотя он и не понимал этого, пока не стало слишком поздно. Я почти ничего не помню, не помню реакцию мамы, только боль. С тех пор у меня проблемы с лодыжкой: стоит поменяться погоде – похолодание или влажность повысится – Боже, какая боль! И артрит. Одна из тех раздражающих вещей, которые никуда не деваются.
Типа как когда я вывихнул плечо. Ну тут вообще никто не виноват: я слишком сильно потянулся в кровати, пытаясь достать рукой стакан молока – понимаете, обожаю молоко, пью его всю ночь напролет, поэтому у меня всегда рядом с кроватью стоит стакан, но мне лень было особо двигаться, я сильно изогнул руку и в итоге вывихнул плечо. Ну и что мы имеем: горб, вывихнутое плечо, раздробленная лодыжка… Теперь я не могу двигаться, как какой-нибудь вальяжный средиземноморец, и моя жизнь испорчена на хуй.
Длинные волосы изжили себя сами. Они были этаким раздражителем. Отличная прическа, чтобы работать на стройках, потому что эти престарелые ирлашки ее ненавидели. Длинные волосы делали тебя магнитом для копов. И опять-таки именно по этой причине большому количеству настоящих уголовников реально не доставало длинных волос. Длинные волосы означали многое. Для некоторых это было: «Чувак, мир, я хочу выглядеть как Иисус, вот мои домашние тапочки». Для других – полновесное агрессивное высказывание: «Да идите вы все нах, я их не отрежу!»
Постриженная, побритая налысо голова была абсолютным актом агрессии. Я думаю, что большинство вещей начинается с какой-никакой агрессии, даже для самых пассивных хиппи. Пассивная агрессивность – тоже позиция. Это заявление, что ты не вписываешься, просто позволяешь расти своим волосам и… что вы с этим сделаете? Мне кажется, это станет общепринятым порядком вещей, навеки, мы все будем стремиться стать другими. Однако к тому времени, когда все это осознают, мы поймем, что стали нормальными, – и значит пришло время двигаться дальше.
Поэтому я решил коротко подстричься и покрасить волосы в зеленый цвет. Красители «Krazy colour» были гениальны. Жаль, что сегодня не делают таких плотных и прочных красителей, как тогда. Они каким-то образом разбавили их, и цвета уже не такие яркие. Эти проклятые штуки почти бесполезны, если вы, конечно, не хотите выглядеть как выцветшая газета. Знаете, цветные комиксы на последней странице старых вонючих газет? Эти потускневшие цвета – вот и все, что можно сейчас достать. Ну или, возможно, народ не знает, как правильно отбеливать волосы. Те цвета были реально яркими и пугающими.
Мой отец совершенно серьезно не одобрил моего поступка, и это стало последней каплей – меня вышвырнули из дома. Пресловутая папина фразочка гласила: «Убирайся из дома, ты выглядишь как брюссельская капуста!» Я никогда не забуду, как он это сказал. Я только рассмеялся. Даже в болезненном расставании отца и сына присутствовал юмор. И я любил за это отца, любил, потому что это было остроумно. До этого самого момента я не осознавал, но правда – я действительно выглядел как куст брюссельской капусты.
Единственным способом попасть в дом после этого было прокрасться туда в четыре утра. За исключением, конечно, тех случаев, когда из Канады приезжала моя тетя Паулина, – тогда мне вообще не разрешалось подходить к дому, потому что я был позором семьи.
После того как меня выгнали, я отправился прямиком в Хампстед, где в сквоте жил Сид. Сид занял неплохую пустующую квартирку, просто молодец. Думаю, он использовал опыт своей матери, так что Сид был лидером во всем этом предприятии.
Оказалось, что его мать была зарегистрированной героиновой наркоманкой. Как-то раз я был у них в квартире в Хакни: мы слушали Tago Mago, альбом Can[72], это был день рождения Сида, о котором я заранее не знал, и она просто дала ему маленький пакетик героина, чтобы тот вмазался. Должен сказать, я был действительно потрясен. Сид спросил:
– Хошь чутка?
– Да ни за что, черт возьми, не хочу скатиться.
– О’кей, тогда тебе лучше сейчас уйти.
Итак, я был в центре Хакни в три часа ночи, и мне надо было пробраться через весь бандитский район, чтобы вернуться в Финсбери-парк. Смертельная прогулка, реально серьезная смертельная прогулка, особенно если учесть, как я одевался и кто я такой. Всем было на меня решительно наплевать, помощи ждать не от кого. Я вполне себе представлял, что будет дальше. Даже местные парни из «Арсенала» представляли опасность, у них тоже была причина при случае со мной подраться, просто из-за моего поведения. Однако я прекрасно понимал одну вещь: я – ни за что – не вернусь. В те дни тебя могли пырнуть ножом на улице, и никто не открыл бы дверь, чтобы помочь, потому что ты не местный. Реально опасная прогулочка оказалась, но я как-то добрался до дома.
Да, у Энн Беверли, матери Сида, были престранные отношения со стариной Сидни. Совсем не похоже на семью. Как я говорил, она никогда ничего мне не предлагала перекусить или выпить, ни разу, даже стакан воды. С чисто религиозной целеустремленностью, снова и снова. Случались и другие вечера, когда к Сиду приходили в гости вся наша банда Джонов, и они тоже этому удивлялись. «Нас что, здесь нет? – Боюсь, что да». Странная, очень странная женщина. Она вообще не хотела, чтобы у Сида были друзья; не принимала никого из нас. В то время другим лучшим другом Сида был парень по имени Винс. Он сказал то же самое: «Черт возьми, вот адок – это же ледяной дом».
Я сказал Сиду: «Ты не можешь жить с такой мамашей. Посмотри на нее, Сид, она же дает тебе гребаные почки, посыпанные сверху героином, неужели тебе это нужно?» На самом деле, когда я только познакомился с Сидом, он был против наркотиков. Но вы не можете себе представить, что делают матери-наркоманки: это было в еде. Безумие, верно? Она такая:
– Вот тебе еда, Сид. Убедись, что твой друг ничего не съест.
– Хорошо, мамочка, – отвечал Сид, а потом мы шли в его спальню, и он говорил:
– Попробуй это, Джон, что она мне дает?
И я обычно:
– Не, приятель, я не голоден.
Таково было наследство Сида.
Итак, его новое жилище, сквот, находилось за станцией метро Хампстед, так что я пришел туда и спросил: «Могу я к тебе перебраться?», – и Сид ответил: «Отлично!» Он жил там совсем один, и ему было нечего делать, так что теперь нам обоим стало нечего делать вместе. Почему-то вдвоем гораздо лучше удается ничего не делать, чем в одиночку.
Здесь не было ни электричества, ни горячей воды, но туалеты смывались, так что мне все показалось не так уж мрачно – что есть, то есть, выбирать особо не приходилось, да и, честно говоря, по своим стандартам это жилье не многим отличалось от нашей квартирки на Бенуэлл-Роуд. Однако туалет здесь находился в доме, так что я продвинулся на балл по шкале Рихтера.
Во всем огромном доме, превращенном в сквот, жили старые хиппари и тедди-бои, а мы были этакими бездомными бродягами, застрявшими между двумя поколениями. Тогда в сквотах селились люди с очень разным уровнем жизни, поскольку само это явление стало знаковым для того времени. Правительству была глубоко похуй жилищная проблема. Получить квартиру было нереально, а то жилье, которое удавалось найти, отличалось запредельными ценами и попросту того не стоило. И при этом почти везде в Лондоне располагалось огромное количество незанятого старого жилья – квартир, в которых никто не жил и ничего не происходило. Вселившись в него, вы никого не лишали крыши над головой, не выгоняли семьи на улицу. Дома были просто пусты и полуразрушены. И везде вывески: «Заброшенное здание – не входить». Супер, здесь я и буду жить. Заселяемся. Все равно что рекламный баннер!
На пособии я прожил совсем недолго, около двух недель. Не хотел выстраиваться в очередь в центр занятости. Я ненавидел это место, не желал иметь с ним ничего общего. Не чувствовал себя там своим. За те два раза, что я там появился, я проклял все и поклялся, что больше никогда туда не вернусь. Мне абсолютно не нравился весь этот формат: официальное оформление, которое следовало после постановки на учет, то, как они заставляли тебя чувствовать себя каким-то образом во всем этом виноватым. Ты здесь в своем праве – ты работал, или работали твои родители. Если государство не может обеспечить рабочие места, тогда какого хрена ты поделаешь? Во многих отношениях я отлично понимаю людей, которые занялись незаконной деятельностью, потому что, честно говоря, не было никакого иного способа заработать хоть какие-то деньги и выбраться из той дыры, в которой оказался. Что касается меня лично, то я никогда бы не стал воровать, просто не смог бы. Мне не нужно то, что мне не принадлежит, – так меня воспитали мама и папа.
Я могу работать кем угодно и где угодно. Однажды у меня была подработка на обувной фабрике – о, мне даже очень понравилось упаковывать ботинки. Еще как-то довелось поработать в «Хилз» – большом сетевом мебельном магазине на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Ну и вершиной всего была наша с Сидом работа уборщиками в модном вегетарианском ресторане.
Мы в основном занимались разнообразными экспериментами с вегетарианской едой, потому что, понимаете, там много чего оставалось. Так я впервые попробовал ореховую котлету. В те дни вегетарианская еда была новой штукой, модным увлечением очень богатых людей. И совершенно безвкусной. Они пытались работать с цветом и формой, о вкусе и аромате не шло и речи. Очень забавно. Вообще-то и убирать там особо было нечего. Несколько измельченных арахисовых орешков на полу, вот и все, но мы растягивали этот процесс часа на два каждую ночь, потому что нам за это платили.
Потом, во время летних каникул, Джон Грей нашел мне работу в детском центре на севере Лондона. Я присматривал за детьми семи, восьми, девяти и десяти лет. Я мог бы играть и с малышами, для меня это не проблема. Однако это было проблемой для конторы, которой принадлежал лагерь: им совсем не нравилась идея, чтобы некто вроде меня находился рядом с маленькими детьми. И это в мире Джимми Сэвила[73]! Вот в чем горькая ирония – я был бы последним человеком, который причинил зло детям, но ярлыки у нас приклеивают быстро и несправедливо. И за этими ярлыками никто и не пытается заглянуть в сердце и душу человека, понять его характер.
Мы делали самолеты из бальзового дерева – бипланы или трипланы. Все хотели быть Красными Баронами[74], поэтому выкрашенный в красный цвет самолетик пользовался особой популярностью. У меня были кое-какие навыки работы по дереву – от моего увлечения техническим рисованием, уроков столярного дела в школе, а также работы на строительных площадках. Мне как-то удалось плотно поработать на стройке с одним плотником, и он многому меня научил.
Вместо пил и молотков мы пользовались маленькими макетными ножами, которыми было очень удобно обрабатывать легкое бальзовое дерево. Принцип работы тот же, и дети любят быть вовлеченными. Это то, что я любил, поэтому именно этим и занимался. Хотите успокоить детей, хотите, чтобы прекратилось насилие? Заинтересуйте их. Все дети любят творить и сознавать, что они придумали что-то самостоятельно, что достигли этого своими собственными руками. Если, к примеру, ребенок задает вам вопрос, не уклоняйтесь от ответа – иначе он будет вечно обижаться на вас за то, что вы ему не сказали. По крайней мере, так это случилось со мной.
Я понял, что учителя превратили меня в карикатуру на самого себя, карикатуру, которая на самом деле имела со мной очень мало общего. Они вынуждали меня чувствовать себя каким-то неприкаянным. Мне и так было неуютно, я пытался найти свое место в жизни, но они заставляли меня ощущать себя нежеланным и обиженным за то, что я там оказался, и, естественно, я отвечал на это соответствующим образом. По-моему, ни один ребенок не рождается мистером Паршивцем или мистером Сквернословом. Все зависит от того, какой именно пример вы ему подадите. И я думаю, мне удалось в конечном счете превратить весь этот негативный опыт в нечто положительное. Я – не жалеющий себя мерзкий кусок дерьма, я не склонен к преступлениям. Слава богу, благодаря их усилиям я понял, кем мне не следует быть.
Чтобы выжить, нам с Сидом пришлось продавать амфетамины. Так или иначе, мы занимались мелкими сделками. С деньгами было трудно, а времена наступали тяжелые.
Я не наркоман, но мне нравится состояние бодрости – той бодрости, которую могут предоставить вам определенные химические вещества. В ранней молодости, когда ты еще подросток, тебе это вполне заходит. Не хочется ничего пропустить, что бы и когда ни намечалось. У тебя реальный настрой поспеть везде и всюду. Потому что, когда ничего не происходит, кругом одна апатия – бр-р-р! В то время, если я заболевал какой-нибудь простудой, или гриппом, или у меня случался приступ аллергии – а все это накатывало на меня со страшной силой, – амфетамины, которые всегда были под рукой, выбивали эту дрянь из моего организма. Как мне казалось, вполне себе полезная штука.
Это не какое-то самовозвеличивание, происходящее в твоей голове, – только не с правильными амфетаминами. Они просто делают тебя более бдительными. Не думаю, что от этого вообще исходит какой-то кайф, просто ты получаешь способность активировать себя. Я отношусь к амфетамину как к ключу от шкатулки. Или относился.
Во всем этом была одна проблема – знаете, недаром говорят, что продавец никогда не должен пробовать свой собственный товар? Ну вот перед вами один из тех, кто это делал, так что продажи у меня шли так себе. Я сидел рядом с большой сумкой, был весьма доволен собой и даже не думал шевелиться, пока она не исчезала. Спиды не заставляли меня подрываться и бегать по миру. Наоборот, мне хотелось сидеть, думать и наслаждаться всем, чем бы я ни занимался. Даже если это стрижка ногтей. Это доставляло мне удовольствие. На какое-то время у меня пропадало чувство постоянной усталости – еще одно последствие менингита.
Наверное, сейчас это назвали бы самолечением. Формой моего нормального существования в то время была бездеятельность – абсолютный ноль, истощение, недостаток железа в крови. Откровенно говоря, мой мозг просто не мог справиться с тем, что творилось вокруг, да и физически все было просто невыносимо. За исключением, как ни странно, работы на стройке. Это был хороший десятичасовой день тяжелого физического труда, и я никогда не считал это проблемой. Но вот ремонт подоконника или починка унитаза проблемой для меня были. Позже я узнал, что можно превратить такие вещи в замечательное приключение. Но не тогда; я употреблял наркотики немного иначе. Это было не столько развлечением, сколько необходимым делом, просто чтобы заставить себя встать и пойти. После менингита я был очень склонен к депрессиям, где-то лет до двадцати.
Амфетамины были вокруг нас повсюду в течение многих лет. Такой возврат к модам. Спиды определенно давали возможность не спать всю ночь, ходить по клубам и все такое. Больше всего мне тогда в них нравилось свойство снимать сопутствующую алкоголю сонливость, так что можно было пить сколько угодно и при этом не пьянеть. Мне очень нравится вкус пива. Я не любитель коктейлей – ну, если только не считать коктейлем пиво со спидами. Мы, плохие рокеры, все такие! Но, вот уж радость так радость, в этом мы мало отличаемся от футбольных хулиганов, по крайней мере, мало отличались тогда – так что есть в нас что-то общее.
Таковы были, так сказать, декорации нашего сквота в Хампстеде. На какое-то время к нам вписалась Безумная Джейн. Вот же сумасшедшая корова! Она была похожа на одну из тех роковых женщин нуарных фильмов 1940-х. Длинные зачесанные на боковой пробор волнистые волосы, она еще и платья той эпохи носила. Очень странная девушка. Старлетка из фильмов 40-х – такая «загляни-ко-мне-как-нибудь?»[75], в стиле Джулии Лондон, – не самый популярный имидж для девчонки у нас на районе в то время, так что я даже восхищался ее храбростью. Не думаю, что мы очень хорошо ладили, но так, сносно. А время от времени к нам заглядывал будущий гитарист PiL Кит Левин. Возможно, он и был как-то связан с химией, но не более, чем кто-то другой из нас.
Наркотики были повсюду, вероятно, из-за модов. Моды все были на спидах, так и пошло. Фишка скинов в том, что они были типа чище, но только не «канониры».
Я не говорю здесь о героине; он был для большинства из нас совершенно неизвестной штукой – ну, типа хрень какая-то, которую употребляли Grateful Dead, и, ей-богу, по ним же это слышно! Самая тупая группа, которую я когда-либо знал. Абсолютно напрасная трата четырех с половиной часов! Я видел их когда-то совсем в молодости в Александра-палас. Нет! Нет! Я точно не хотел иметь ничего общего со сбродом, который вмазывается подобным дерьмом. Как по мне, это опасно для жизни. Коматоз.
Это были очень трудные времена, 1973–74-е гг. Все вокруг расклешено. Нет, пожалуйста, только без клешей! Мы не имели никакого отношения к хиппи, они представлялись нам просто избалованными богатыми детьми. Наверное, именно поэтому меня так привлекали дембельские костюмы[76] и внешний вид работяг-ирлашек. Мы пытались порвать с 1960-ми, и как по мне, это больше совпадало с подходом к одежде скинов, чем хиппи, поэтому я и выбрал для себя этот стиль.
С раннего детства я проводил воскресенья в «Раундхаусе»[77]. Джон Грей жил в Кентиш-Тауне, а «Раундхаус» располагался совсем недалеко оттуда, на Чок-Фарм, так что я просто садился на автобус до Кентиш-Тауна, заходил за Джоном, и мы шли пешком на Чок-Фарм, а потом весь день, до позднего вечера, смотрели выступления примерно двенадцати-пятнадцати команд. Когда я стал постарше, то в большинстве случаев начинал тусить уже с вечера пятницы, так что это был идеальный способ завершить воскресенье.
Это было поразительно, потрясающее музыкальное разнообразие! Я видел выступления Roxy Music[78], Judas Priest, Queen (когда они были еще совсем юными), T. Rex, The Seeds[79], Mott the Hoople[80] – смешение стилей действительно фантастическое, и притом никакого снобизма из серии «кто там напечатан на верхней строчке афиши». Просто кто бы ни появился в определенное время – они ставили свое оборудование на сцену, и вперед. Публика была в основном хиппи: полно цветочных принтов, танцующие босиком девушки, перестук бонго, благовонные палочки – подобная хрень. Я вроде как не обращал на это внимания, мне просто нравилось то, что происходило на сцене, и я как губка впитывал все.
Позже история панка провозгласила, будто вся музыка середины 1970-х была дерьмом. Вовсе не так – надо было просто знать, где искать. Это было моим становлением. Я мог радостно провести целые выходные – полный сил! – посещая все эти ночные концерты в разных городских клубах. В «Раундхаусе» было полно всяких сумасшедших команд. Народ типа Pink Fairies[81] – мощные, жесткие, тяжелые, громкие, агрессивные – абсолютная противоположность «вибрациям» хиппи. И да, с этими своими длинными волосами – но как яростно они откидывали их прямо на тебя этаким шумным разрушительным образом. Фантастика!
Точно так же чуваки из Edgar Broughton Band[82] носили самые длинные, самые грязные бороды и волосы, одевались как байкеры и пели песни под названием «Gone Blue». Помнится одна классическая строчка оттуда: «Хоть и убит я словами, что она сказала мне, но мне так нравится маленькая дырка в ее голове»[83]. Ха! Вау! И это при том, что типичная тема для того времени и того возраста была такой: «О-о, все они идут куда-то сюда». Совсем не послание этих ваших хиппи, да? Обложка их альбома была сенсационно зажигательной – ряды висящих на крюках коровьих туш. Не думаю, что сегодня такая музыка выдержала бы конкуренцию, но это и не самое главное.
Black Sabbath были такими же – совершенно другой подход к музыке и другие наркотики, в основном такие, что позволяют провести всю ночь бодрячком. О-о-о, да, мы отлично понимали, что́ все эти люди на сцене были готовы с собой сделать. Когда ты слушаешь такие группы или, к примеру, The Deviants, прекрасно сознаешь, что все оковы сброшены. Правила для дураков – вот что можно из этого извлечь. Что, по крайней мере, извлек я. Ну конечно: «Ой, не делай этого, тебе будет плохо!» «Да чушь собачья! Давай, двигайся, создавай хаос и начни со своей собственной головы!» И что плохого в том, чтобы время от времени сходить с ума? Вполне себе здоровая вещь. Но эти команды, все они были очень молоды – и это было и про нас. Мы – молодая кровь, мы – те, которых сидячая толпа заставляла чувствовать себя ненужными. Я ходил на концерты, чтобы танцевать. Я насмотрелся всякого, бывал повсюду, но все равно подрывался – и меня опять перло!
Одним из тех людей, которые мне действительно очень нравились, был Артур Браун из Crazy World of Arthur Brown[84]. Он как-то проходил мимо в толпе, а я подошел к нему и поздоровался – это было здорово. Как-то его группа должна была играть на разогреве у Элиса Купера в кинотеатре «Финсбери Астория» (еще до того тот переименовали в «Рейнбоу»), и по неизвестной причине Элис Купер отменил этот концерт. Я купил билеты для Джона Грея, Дэйва Кроу и еще нескольких человек, но я был таким фанатиком обеих групп, что оставил билеты себе, не стал их возвращать или обналичивать. На самом деле они до сих пор у меня.
Я даже вступил в фан-клуб Элиса Купера, и мне прислали коробку куриных перьев и это дурацкое информационное письмо. Вся эта шутка показалась мне реально смешной. Некоторые люди восприняли ее слишком серьезно.
Поэтому я сказал тогда Артуру: «У меня так и хранятся билеты с того концерта, который был отменен», – а он ответил: «Не по моей вине!» Ну и завязалась беседа. Я был просто неуклюжим ребенком, который доставлял немало хлопот учителям, а он оказался настолько любезным, что поговорил со мной как с равным. И я не хочу слышать о нем ни одного плохого слова, потому что таких людей на Земле слишком мало. Любой, кто разговаривает со мной открыто и свободно, меня устраивает. А вот те, кто посматривает искоса или пренебрежительно раздувает ноздри, действительно сводят с ума. Но этот парень был и правда не в себе, не от мира сего. Как ни странно, безумцы делают прекрасные записи, пишут хорошие картины и романы. Они просто не укладываются в эту говносистему.
Другой знаменитой группой, которую я видел в «Раундхаусе», были Can. Они использовали оборудование, делавшее басовые тона настолько низкими, что вы их не слышали – только чувствовали. Впрочем, как и сцена, которая вся завибрировала и рухнула. Рухнули строительные леса и опоры. После этого все несколько часов ждали, когда восстановят сцену. И – в конце концов – там была самая удивительная игра на барабанах, которую я когда-либо слышал! Спасибо, Яки Либецайт! Звук и его дерзость, понимание, откуда он исходит. Это было далеко за пределами восприятия бренчавшей на бонго всякой триппи-хиппи публики. Гораздо более трудное для понимания послание, не просто эти идиотские тупости типа «любви» и «мира».
Еще одна команда из Германии, Faust[85], снискала мою любовь, продавая альбом The Faust Tapes всего за 50 пенсов – выгодная сделка, даже в 1973 г. Я видел их в «Рейнбоу» в Финсбери-парке – они там просто издавали шум, который состоял из очень интересных, гипнотических, трансовых, электронных звуков, а сами наматывали круги вокруг груды старых телевизоров посреди огромной пустой сцены. Должен признаться, меня тогда это очень разозлило, потому что у меня телевизора не было. «Что они делают со всеми этими телевизорами – мне бы вот точно один из них не помешал!» Потом они пинали их ногами, разнося на куски, и заново скручивали. Это был вполне подходящий фон для их музыки, но в то же время – да, я всегда отличался практичностью! – я так старался попасть за кулисы и стащить хотя бы один.
Я участвовал везде и во всем. Ходил на бесплатные фестивали. Побывал на одном из первых Гластонбери. Кажется, тогда выступали Audience[86], возможно, Atomic Rooster[87] и даже Мелани[88]. На самом деле не помню. Это был какой-то беспрерывный алкогольный угар, творимый чудесными амфетаминами. Правильная текстура великолепия.
Не думаю, что группы даже кто-то представлял. Создавалось впечатление, что выступление одной команды перетекает в выступление другой. Не было какой-то значительной смены оборудования, рабочих сцены или диджеев. Просто казалось, что появлялся тот, кому нужно было появляться, потом все быстро заканчивалось, и не успеешь оглянуться, а на сцене уже совершенно другая группа. Просто замечательно.
И в самый разгар этих событий я, скрестив ноги, улетал, слушая, как Нико бормочет свою «Janitor of Lunacy»[89]. Фантастика, настоящая королева вампиров! Это Джон Грей предложил: «О, мы обязательно должны на нее посмотреть!» Все знали, что она торчит – типа это будет приятный концерт, но так оно и было. Удивительное, жуткое ощущение: Нико и ее фисгармония в течение полутора часов стонали немного не в такт, что делало все происходящее еще лучше, потому так острее чувствовались накатывавшие на нее тоска и тревога. Трагедия в этом голосе показалась мне ошеломляюще сильной. Я многому научился в те ранние годы, когда ходил на концерты, – главное здесь не идеальный звук, главное – эмоции.
Однако я был не из тех, кто сидит, скрестив ноги, больше трех минут, поэтому я вполне себе радостно шел танцевать под «Janitor of Lunacy» – и меня мало волновало, кто там на меня смотрит. Я обожал танцевать. Обожал. Обожал. Обожал. Вот он я – длинные волосы, вышитая на спине куртки надпись «Hawkwind», тедди-бойские туфли на платформе – они казались мне самыми удобными для танцев. Никаких клешей. И… любой концерт, где угодно, в любое время – поднимайся и танцуй! Но, богом клянусь, самым крутым во всем этом был Джизус.
Джизус был парнем, который тусовался с двумя девчонками, танцевавшими у Hawkwind. Кажется, их звали Саша и Стейси. Он раздевался догола, у него был самый маленький член в мире, и ему было наплевать, кто на него смотрит. Я любил его за это. Мне казалось тогда: «Ему все равно, и, смотри-ка, он абсолютно счастлив. У него есть бонго, на которых он не умеет играть, нет чувства ритма – ни-ка-ко-го! – но полное ощущение радости!» И он определенно не был похож на того Иисуса, которого представляли себе мои мама с папой.
Но его посыл был хорошим, и годы спустя, когда начался панк и «Пистолзы» участвовали в концертах – мне кажется, это было в «Марки», мы тогда выступали на разогреве у Eddie and the Hot Rods[90], – он был там! Он выглядел совершенно по-другому, на нем был костюм, но все та же нелепая прическа – глубокая челка и длинный маллет сзади, натуральный блондин с неестественно светлыми волосами.
Было очень трудно уговорить принять участие в подобных мероприятиях Уоббла. Он сразу же проникся ненавистью к «Раундхаузу». «Ненавижу этих людей!» Уоббл решил, что там бывают только твердящие про мир и любовь придурки, но это уже его недостаток проницательности. Чего Джон не понимал, так это того, что «Раундхаус» полон реально странных персонажей и что он сам становился одним из этих странных персонажей уже тем фактом, что был там – хотя это случилось лишь однажды. Этого оказалось достаточно – я знал, что больше его не вытащить. Уобблу больше подходил какой-нибудь соул-клуб – это было его.
Примерно в то же время я ездил в Илфорд в Эссексе на соул-вечеринки в клуб «Лейси Леди». Причем не один – мы катались туда целой бандой Джонов. Сид, Джон Грей еще парочка. Настоящей толпой, реально.
Здесь была совершенно другая постоянная публика – очень интересная. Этакие гангстерского вида местные крутые парни. Они смотрели на тебя угрожающе, и тут уж ничего не поделаешь. Но мы и сами были довольно сумасшедшей компанией. Вот откуда на самом деле произошел пого. Именно так мы обычно и танцевали, прыгая вверх-вниз. Мы не знали никаких танцевальных движений, поэтому придумали собственные, и всем было весело. В результате мы не воспринимались как какая-то угроза, поскольку находились тогда в собственной вселенной и наслаждались собой на свой манер – вовсе не с целью подцепить какую-нибудь девчонку, хотя девушки и любят «других». Испытывали ли они к нам материнские чувства? Нет, но это тоже было хорошо! Я был очень молод для своего возраста, и у меня никогда не было шанса на это «а теперь давай ко мне». Хотя я и очень старался. В любом случае все равно реально ничего нельзя было сделать; невозможно было покинуть вечеринку в одиночку, на тебе лежала ответственность не только за себя, но и за всех остальных.
По тому базовому набору, что там играли, было понятно, куда движется американская соул-музыка. В ней как раз начинали выделяться разные течения, после «Тамла Мотаун». Среди них встречались еще более интересные и захватывающие, но за пределами Детройта они были не так хорошо организованы. Играли что-то типа фанка Западного побережья, что было реально интересно, много филадельфийского и чикагского материала, который позднее превратился в разные крутые штуки.
На самом деле это было такое раннее диско, и мне оно очень нравилось: «Hi-jack your love, hi-jack your love!»[91] и так далее. И еще там были великолепные диджеи, некоторые из которых работали на «Би-би-си», но играли они то, что им самим нравилось, не из обычного плейлиста, но разные хардкорные штуки. Я обожал это. В те дни можно было просто подойти и спросить: «Что это за пластинка?» – и они отвечали. Это урок, который вполне пригодился бы современным диджеям. Так я выискивал будущие покупки, вот в чем был весь Илфорд: «О, я обязательно должен это заполучить!» – и я шел и покупал пластинку.
Диско отстой? Такого вы никогда от меня не услышите. Кем бы ни был тот, кто писал все эти панк-манифесты, он никогда не слушал настоящих панков – тех, с кого все началось. Никто не обращал на это никакого внимания, сплошной негатив – какой-то отстойный, позавчерашний Долбовилль. Очень жаль. Я до сих пор искренне люблю Fatback Band[92]. Умели они выпускать маленькие заводные танцевальные синглы о себе. Просто отпад. Kool & the Gang, обожаю их. Что еще сказать?
Существенный недостаток поездок в Илфорд заключался в том, что оттуда было невозможно вернуться ночью домой, а единственного нашего местного приятеля звали Тони Коллетти, и он не позволял нам остаться в его доме. Три или четыре раза нам приходилось давать дуба на платформе в ожидании 4 утра, когда прибывал первый поезд, – к тому времени все веселье улетучивалось. Мы еще не достигли возраста получения водительских прав, да и все равно пребывали под воздействием различных веществ, и у нас совершенно точно не было денег на мини-кэб. Так что пришлось перебраться в другое место за нашей дозой такого рода музыки.
Если вы когда-нибудь оказывались в Сохо в центре Лондона, единственными, кому реально наплевать на ваш нестандартный внешний вид, были гей-клубы. Здесь вам не докучали всевозможные футбольные банды и прочая малолетняя гопота. Не нужно было иметь дело со всеми этими разборками, типа: «Ты за кого? За “Арсенал” или “Вест Хэм”?» И опять-таки туда приходило много девушек, одетых реально хорошо, с разнообразными модными идеями. Захватывающе наблюдать и находиться среди них, да и, откровенно говоря, наркотики здесь были классом повыше.
Музыку обычно играли танцевальную. Там всегда были любопытные вещи разных странных маленьких групп с севера, и я сейчас даже говорю не о той музыке, которую ставили в «Уиган Казино», потому что она вовсе не отражала всю северную сцену. Было много разных вариантов, ремиксы треков Боуи, что угодно. Просто очень весело. Они не слишком были ориентированы на прорывную, открывающую глаза музыку – скорее, это такое светское сборище, где можно чертовски хорошо повеселиться и тебя никто не изобьет до полусмерти, если ты слегка почудишь вечерком. Все вокруг были естественным образом отзывчивы. Очень открыты и дружелюбны, никакого осуждения.
Этакая позиция мачо, которую воспринял прогрессив-рок, была мне отвратительна. Я любил Status Quo и всегда буду любить, но их публика – это неизменная кучка патлатых, с развевающимися по ветру волосами тупиц. Какие-то безликие клоны, от первого до последнего ряда. У меня не было на это времени. Я не хотел вступать в их армию и чувствовал, что никто из этих дураков на самом деле не слушает, что происходит. Их маскарадная униформа ни хрена никакого отношения к группе не имела.
Это были просто волосатые студенты в шинелях Королевских ВВС – выглядели, как будто натянули на себя какие-то зеппелиновские обноски. Эти шинели – очень большие толстые попоны с серебряными пуговицами – были повсюду благодаря сети магазинов армейских излишков. Поймите меня правильно, я вовсе не возражаю против того, чтобы наряжаться в разные прикиды, сегодня я надену одну вещь, завтра – другую. Но как стиль жизни? Нет, никогда.
Было очень интересно найти единомышленников, которые одеваются по-другому. Например, Джон Грей и я периодически забредали на Кэнви-Айленд в Эссексе, чтобы послушать Dr Feelgood[93]. Опять же Уилко Джонсон – какой гитарист! Охренеть, этот чувак потряс меня до смерти. Типа как, черт возьми, как ты это делаешь? Просто фантастика. А их вокалист Ли Брилло – да боже ж мой, самый грязный, самый безвкусно одетый, играющий на губной гармошке неряха; какие-то пятна по всему белому смокингу. Он был похож на бродягу, пытающегося выглядеть стильно, – отличный образ! Вся суть истории с Dr Feelgood в том, что они были вне общей картины, и они и правда были немного неряшливы.
Требовалось определенное мужество, чтобы одеваться иначе, потому что, я полагаю, так устроено общество. Оно всегда пытается что-то унифицировать. Выдать униформу, повесить ярлык и таким образом обуздать и держать под наблюдением. Мне не интересно сдерживание. Я хочу иметь все в полном объеме.
В то время я носил дембельские костюмы. Я любил наблюдать за стройплощадками, смотреть, как приходят на работу ирландские работяги, как их бывший лучший воскресный костюм превращается в тот, в котором они месят дерьмо в канаве. Мне нравилось, как он выглядит. В мире обвисших клешей, которые я искренне ненавидел, этот мешковатый стандартный костюм был из разряда вещей абсолютно и немедленно доступных. В то время мне также нравился рабочий костюм газовиков – такого яркого синего цвета, оттенка электрик, и я довольно часто его надевал. Короткая легкая куртка с резиновой лентой на поясе (немного похожей на харрингтон), с такими же брюками – все вместе отлично смотрелось с парой красных сапог со стальными носками. Нещадно обстриженные волосы. Я решил довести их длину до абсолютного минимума – от «куста брюссельской капусты» до «бешеного ежика».
Вся мода с улиц имеет подоплеку – нехватку наличности. Были времена, когда я мог позволить себе дорогие вещи, и я это делал, но покупал что-нибудь одно, например, потрясающе восхитительную пару туфель, которая не подходила ни к чему из того, что у меня было, но мне нравились эти туфли, – так и появился знаменитый беспечный стиль Джонни Роттена, сочетание несочетаемого. Я даже купил высокие ботинки на платформе, но они были на сплошной танкетке, без каблуков. Такая толстенная деревянная подошва. Ты возвышался на семь дюймов над поверхностью земли – очень опасно ходить по Лондону. Но я любил их – в них сочетался небесно-голубой цвет и цвет электрик, – грубая модель, типа старых ботинок скинхедов, однако будто запущенная в открытый космос и вернувшаяся обратно. Ботинки представляли опасность еще и потому, что в них реально было трудно ходить, да и спуск на эскалаторе в метро превращался в настоящий кошмар. Ну, а если тебя подстерегала какая-нибудь местная шпана, далеко ты на них определенно убежать не мог. Приходилось оставаться на месте и принимать все, что тебя ожидало, надеясь на то, что в очередной раз выручит хорошо подвешенный язык, – так случалось часто, но не всегда.
Не знаю, может, я был этаким стильным поросенком, далеко опережавшим свое время, но я решил усовершенствовать дембельский костюмчик. Я думал: «Идея у него хороша, но стиль какой-то дерьмовый. Давай-ка попробуем это изменить». Для начала отрежем лацканы. «Не-а, с ними было лучше. Может, мне стоит отпороть рукава и все такое, но… нет, там они смотрелись лучше… О, идея – булавки!»
Глава 3. Джонни носит то, что хочет
Именно Сид, а он всегда был настоящей жертвой моды, первым услышал об этом скандальном магазине одежды под названием «Секс» и предложил нам сходить туда и разведать, что и как. В итоге пришлось совершить парочку вылазок туда-сюда по Кингз-Роуд, прежде чем мы нашли этот магазинчик. Пожалуй, кто-нибудь другой бы и догадался, что это настоящая дыра, место, расположенное вдали от чего-то годного. Мы же были молоды и глупы и не сразу свели концы с концами. Но стоило только нам туда добраться…
Это было где-то в середине 1975 г., и в то время там все еще активно торговали всяким тедди-бойским шмотом. Основной источник прибыли – такие типа специальные костюмы тедди-боев и, конечно же, ботинки на платформе. Постепенно в ассортимент магазина прокрались и другие вещи, типа резиновых костюмов для извращенцев или масок Кембриджского насильника[94]. Довольно быстро подобного рода штуковины вытеснили все тедди-бойские прикиды, торговлю которыми, как мне казалось, владельцы магазина должны бы поддерживать.
Это был не просто магазин, это был настоящий центр притяжения для самых разных странных и жутко интересных людей. Пару месяцев спустя я там даже успел недолго поработать, и, скажу я вам, продавать обтягивающий резиновый топик Реджинальду Басанкету[95] – то еще потрясение. Вот стоит перед тобой популярный ведущий новостей, и ты такой слышишь от него вопросы типа: «Как вы думаете, мне подходит?» И отвечаешь: «Конечно, просто зашибись!» Этакий толстячок, обтянутый резиновым топом, будто желейный пудинг, да еще пузыри на животе топорщатся. Очень смешно, но мне нравилась его смелость, то, что он не стыдился всего происходящего. Он хотел этого, и он это получил.
Дизайн придумывала Вивьен Вествуд, Малкольм Макларен же стал рупором – он пришел с такой псевдоинтеллектуальной чушью, чтобы обосновать все это. Вивьен, по сути, была прирожденной продавщицей, типа Маргарет Тэтчер. Абсолютный диктатор:
– Нет, вы не можете купить это, оно идет только в комплекте вот с этим – и я не продам его вам, пока вы не купите весь прикид!
– Э-э, что?!
А поскольку я любил миксовать разные шмотки, то еще так умудрялся ее достать. Вивьен никогда не любила меня, да и я никогда с ней особо не ладил. Обычно я предпочитал рядом с ней помалкивать, потому что понимал, что все это в три секунды может обернуться скандалом – она была удивительно вздорной, но потрясающе креативной. И все ее навязчивые идеи окупились. Вивьен знала, что делала. Просто иногда это было уж очень заморочено, и она немного перебарщивала. Однажды я сказал ей: «Сдается мне, что ты типа слишком долго ковыряешься с этим проектом!» Ха! Уволен следующим же утром!
В музыкальном автомате там можно было поставить штуки типа Flamin’ Groovies[96] – некие абстрактные гаражные группы из Америки, пара английских мод-групп, много рок-н-ролла – из-за тедди-бойского прикида, которым торговали в «Сексе». Владельцы магазина были жутко увлечены: «Да, мы твердо верим во всякий уличный движ – который станет намного лучше, если мы их еще и приоденем!»
Магазин был таким наглым и антиистеблишментским, я его реально полюбил. Мне жутко нравилось работать там в течение того короткого времени, что я в нем продержался. Продлилось это всего пару недель, но Сид очень ревновал, что мне удалось попасть туда, а ему – нет. Но он еще поработал там после меня. А тогда для меня это означало, что я мог выйти в город типа сам по себе. Я появлялся в обтягивающих футболках цвета лаванды, но с прорезями для сисек. Очень отталкивающе, плюс на мне были остроносые «винклиперы», джинсы-дудочки, большой золотой пояс, который я купил в «Сексе», золотые браслеты на запястьях и шипованный чокер. Мне нравился этот образ, я полагал, что выгляжу охренительно.
И это был именно тот прикид, что приводил в ярость самые разнообразные банды футбольных фанатов, ошивавшихся в Челси каждую субботу. Как не вспомнить фанатов «Ноттингем Форест» – они как-то попытались напасть на магазин, но я принял вызов, и дверь за мной закрылась. Когда драка завершилась фиаско – на самом деле все ограничилось какой-то пощечиной, – я вошел внутрь, и Вивьен заметила: «Я же говорила тебе не привлекать подобного рода публику». Она просто бросила меня на произвол судьбы, предоставив самому разбираться с ними, а потом еще и обвинила в том, что эти люди вообще здесь оказались. «О’кей, Вив!» В этом вся она.
Малкольм был невероятно остроумен и начитан. Он понимал дилеммы того времени, но был учителем английского языка, который не совсем знал этот язык. Малкольм исходил из того, что подразумевается, будто все в курсе, о чем он, а это со мной не работает, никогда. Все это просто автоматически заставляло меня думать, что этот парень подозрительный, а то, что он говорил, сомнительно – кстати, немного похоже на нынешнего менеджера «Арсенала» Арсена Венгера[97].
Странно, но его любимыми книгами были романы типа «Джейн Эйр». Малкольм обожал о них поговорить. Оказалось, что эти романы вместе с ним читала его мать, когда он был еще совсем мальчишкой… Так что, привет, да, это все объясняет. И дело не в том, что Малкольм воображал себя юной изможденной дамочкой, нет, я так не думаю. Мне кажется, ему не хватало с детства какой-то любви. Это было для него бесценной редкостью.
Все его друзья обычно рассказывают одну и ту же историю о том, как в 1968 г. они отправились вместе ним на Гросвенор-сквер, где в то время происходили студенческие волнения: едва начались неприятности, Малкольм пропал. Он был всеми руками за то, чтобы орать и скандировать высокопарные лозунги, но как только они возглавили толпу, он таинственным образом исчез. Вот о чем я писал несколько лет спустя в песне PiL «Альбатрос»[98]: отсутствие приверженности, он всегда и от всего сбегал.
Малкольм руководил New York Dolls[99] в последние дни их существования. Когда «Доллзы» приехали в Лондон, было очень весело с ними поболтать, потому что они всегда делились с нами внутренней информацией и не скрывали того, что думают о Малкольме. Конечно, ни одна из рассказанных им историй не свидетельствовала в его пользу. Если когда-нибудь и существовал человек, который вообще ничего не делал, то это – Малкольм. Парни говорили: «Он просто предложил парочку глупых идей, но ничего из этого и близко не стояло к тому, чтобы хоть как-то помочь».
Малкольм обтянул их красным винилом, но к чему тогда русский стиль с торчащими отовсюду серпами и молотами? Просто глупо. «Ах да, это ужаснет весь мир!» Единственные люди, которых это пугало, были сами New York Dolls, потому что им приходилось платить за всю эту ерунду. Когда я увидел в магазине фотографии, то громко заметил: «Это напоминает мне “Битлов” периода “Back In The USSR”, Малкольм!» Очевидная же подколка! Но вот «Доллзы» позволили этому случиться и поплатились за такую сомнительную привилегию. Они не воспротивились, не заявили: «Нет, я этого не надену». Несмотря на все их фиглярство, мне кажется, что они просто хотели стать популярными.
Отношения Малкольма и Вивьен были очень необычными. Мне до сих пор трудно поверить, это действительно довольно странно, что им удалось произвести на свет дитя. Но у него были рыжие волосы! Еще был вроде один ребенок от предыдущего брака Вивьен. Когда тот, который родился у них, был маленьким, мне казалось, что его немного игнорируют. Я очень жалел это дитя. Типа вот он, обычный кроха-карапуз, довольно пухленький, кстати, бегает по их дому, а там эти БДСМ-ские штуки и резиновые шмотки на манекенах, и Вивьен шьет бондажные костюмы и все такое. Странное воспитание, это точно, но не более странное, чем мое.
В их доме царил полный бардак. Никому и в голову не приходило что-нибудь помыть, а этот ребенок, похоже, всегда был голоден. Меня это очень раздражало. И все же он был такой здоровяк! Честно говоря, я не думаю, что они когда-либо неправильно воспитывали детей, там не было ничего такого из этих гадостей. Все дело в невинной и наивной манере поведения Малкольма и Вивьен, в том, как они пытались проецировать сексуальность на других людей – это не было тем, чем каждый из них особенно занимался. Отсюда необходимость для них обоих манипулировать поп-группой в соответствии со своим образом мышления, и в том-то и заключались все проблемы со следующей группой, на которой они ее опробовали. Потому что Джонни вовсе не собирался прогибаться – ни под кого и никогда.
Я думаю, что это был один из приятелей Малкольма – Берни Родс[100], который заметил меня среди их постоянных клиентов и заявил: «Вот он – тот самый!» Даже не Сид, жертва моды, потому что это было бы слишком похоже на всем надоевшее старье. «Тебе надо кого-то такого, типа “с огоньком”!» Мы были странной компанией парней, которые тогда только начали там ошиваться. Джон Грей казался, скажем так, слишком расслабленным; Сид – похожим на туповатую модель, а я – уж не знаю, как мне это удалось, – вероятно, производил впечатление этакого едкого уебыша. Тихий, но угарный. «Злой парнишка», как сказал бы Моррисси.
В тот момент мне и в голову не приходило поучаствовать в группе. «Как там насчет чувака в футболке с надписью “Я ненавижу ‘Пинк Флойд’” и зелеными волосами? Он похож на солиста». Должно быть, это случилось в августе 1975 г. Берни был одним из тех интеллектуальных идеологов, что вертелись вокруг Малкольма, – они знали друг друга еще по колледжу.
Берни – настоящий возмутитель спокойствия, это уж точно, но он также был одним из тех парней, которые становятся жесткими и реально отмороженными. Он зашел слишком далеко, наш Берни. Политически он был крайне левым, почти коммунистом по своим убеждениям. Конечно, то, как он впоследствии руководил The Clash[101], больше походило на загребание в свой карман деньжищ, несмотря на все его коммунистические склонности. Да уж, очень любопытное стечение обстоятельств случилось с легкой руки Берни Родса.
Благодаря этой штуке из серии «подбора талантов» мы имели репутацию бойз-бэнда, но, вспомните, у Стива Джонса[102] и Пола Кука[103] уже была к тому времени своя группа, где-то с 1971–1972 г. Они тусили среди постоянных клиентов будущего «Секса», Глен Мэтлок[104] там работал, так что он тоже вписался, поскольку учился играть на басу. Им нужен был солист, и через Берни к Малкольму пришел я!
Берни был очень хорошо осведомлен в том, как манипулировать публикой, что вполне себе заметно по тем ранним футболкам, дизайн которых он разработал для «Секса». Была среди них одна – она до сих пор у меня сохранилась – с треугольником на каждой стороне и линией между ними. Перевернутый треугольник содержал все хорошее, а устремленный вершиной вверх – все отрицательное. Это многое говорит о черно-белом мышлении Берни. С хорошей стороны – где-то у самого дна, ха-ха! – QT Jones & His Sex Pistols. Так они мыслили себя до моего появления, пока не обнаружили, что Стив на самом деле не умеет петь, а его личность совсем не подходит для того, чтобы проецировать ее таким образом.
Наша первая встреча в тот день пошла настолько не так, что все вообще не должно было сработать, правда? Мне никто и никогда не верил, но я играл там роль дипломата. Я хотел быть возмутительным и отвратительным, но я одновременно хотел и получить эту работу. У меня было несколько разных целей. Когда же они попросили меня вернуться после закрытия магазина, я реально желал быть с ними в группе.
Теперь, уже в наши дни, я точно знаю, что и для чего я делаю, мне не нужно объяснять, как я смотрю на мир, и мне это нравится. Встречаясь же с группой в первый раз, я должен был справиться со всем тем, что у меня внутри, прямо там, на месте. Нельзя было больше прятать все в себе – это показалось бы неприемлемым. Если я собирался поладить с этими людьми, я должен быть полностью открыт.
Когда мы вернулись в магазин и я спел «I’m eighteen» Элиса Купера и другие песенки из музыкального автомата, я действительно этого хотел. Был готов к этому. У меня мгновенно появилась манера, характерная артикуляция. Но что поделать с тем, что я просто не мог петь. Мелочь какая… Я играл честно с Малкольмом, и он сказал: «Мы можем это исправить». Конечно, просто «вау», я понятия не имел, что мне делать, – но он оказался прав: если у тебя есть все остальное, это придет. Всего лишь вопрос дисциплины. Кстати, я ведь брал уроки пения, но они мне не помогли, поскольку подход был совсем другим, не тем, что нужен мне. «До-ре-ми-фа» маячило где-то далеко за пределами моего понимания – я не мог связать это с песнями, которые хотел писать. Но было полезно посмотреть, что обычно делают певцы, поэтому я нашел свой собственный путь даже в этом. Вот так у меня и получился тот самый сладкий и благозвучный тембр, в который влюбился весь мир.
После этого мы отправились в паб «Косуля», расположенный чуть дальше по улице, и по-настоящему повздорили. Я пришел на собеседование – назовем это так? – с Джоном Греем, геем, который в то время еще не совершил каминг-аут. Я подумал, что это будет по отношению к ним очень дерзко, и это реально их встревожило. Они не ожидали такого от парня, которого воспринимали как, я не знаю, ну типа слабака-студента из колледжа искусств. И он на самом деле достал их. Этот женоподобный парень просто сводил их с ума. Но Джон говорил исключительно логичные вещи и обладал каким-то абсолютно магическим знанием музыки – прямо настоящий библиотекарь, и поэтому у нас с ним были готовы ответы на все возможные вопросы. Это их просто ошеломило. Глену не удалось поставить ни одной редкой записи The Kinks, которая стала бы для меня сюрпризом, поскольку уж здесь-то я был докой. Я люблю The Kinks – обожаю их!
Я заранее выпил пару пинт, чтобы успокоить нервы, так что весь тот день прошел в сплошном алкогольном тумане и закончился только потому, что нам нужно было успеть домой на ночной автобус. Я никак не думал, что получу работу. Просто решил, что это был отличный вечер, мы смеялись всю обратную дорогу в абсолютно угашенном состоянии в ночном автобусе, что опять-таки могло оказаться в те дни очень даже опасным. Банды имели обыкновение совершать нападения, и грабежи и избиения считались в порядке вещей. Но нам удалось добраться домой совершенно незамеченными, так что все представлялось мне в самом радужном цвете.
Я не думал, что они когда-нибудь еще позвонят, однако через пару дней раздался телефонный звонок. Это был Буги, он же Джон Тибери, один из людей Малкольма, который сообщил мне, что в Ротерхите состоится репетиция. Итак, я отправился в доки, добрался туда, но там никого не оказалось. Репетиция отменилась, и я до сих пор не знаю, почему никто не потрудился сказать мне об этом. А ведь это было совсем нелегко для Джонни Роттена тех лет – тащиться через весь город на верфи Бермондси и бродить по докам в одиночестве. И там даже не оказалось никого, кто бы сказал: «Прости, Джон». Я чертовски разозлился.
Поэтому я позвонил и сообщил, куда им всем надо идти, но потом последовала целая серия телефонных звонков, и я решил: «О, черт возьми, теперь все стало еще хуже, потому что они действительно говорят мне, что хотят меня – не группу, не всех этих подопечных Малкольма, – они очень, очень настаивают именно на моей персоне». Я подумал тогда: «Я не могу уже контролировать ситуацию, в которую сам и ввязался».
Еще одна репетиция была устроена в пабе в Чизвике. Ведь я же ничему не научился, правда? Я просто пришел на следующую, и все. Зачем я туда пошел? Я стиснул зубы, так? Я не собирался бросать все именно сейчас. Хотел продвинуться еще на пару стадий, но, будем честными к ребятам, ни один из них не попадал в ноты. Они просто поиграли так-сяк то, что теперь называется музыкой модов, классику 1960-х гг.: The Who, The Small Faces[105], типа того – обычные куплетно-припевные поп-хиты.
До этого я бывал только на репетициях в хоре, где оттачивал искусство распеваться только для того, чтобы меня вышвырнули. Поэтому мне пришлось очень быстро избавиться от этой привычки и найти собственный голос, а не звучать так, как будто я подражаю или пытаюсь быть тем, или этим, или еще кем другим. Таков был мой подход. И для меня это оказалось сущим адом и пыткой.
Та ночь закончилась ссорой – хорошей, здоровой ссорой, потому что речь шла о том, чтобы побузить и на самом деле попытаться сделать все как следует. Мне кажется, что я смог донести свою точку зрения: что бы вы обо мне ни думали, дайте мне шанс и не будьте таким грубым. Нельзя просто послать кого-то и считать, что это прикольно, потому что, черт возьми, это не так. В те дни, сделай ты из меня врага, можно было крупно об этом пожалеть.
И с этого момента и далее, на мой взгляд, они проявили невероятное малодушие. Я был очень решителен в своем намерении показать им всем, как следует со мною обращаться. Но я был так впечатлен… В углу стояло пианино, совершенно расстроенное, типичное для паба пианино, и Стив с Полом заиграли на нем «Good Golly Miss Molly»[106]. Стив отбивал ритм, а Пол потом проигрывал это «динь-динь-динь». Слушая их игру, я, именно я сам решил – я хочу быть в этой группе, мне нравится, как они разрушают и создают одновременно.
Они пытались исполнить ранний рок-н-ролл, но не так, не по правилам. Ноты – не те, но сама идея – та, верная идея! Особый акцент, звучавшая в этом всем энергия – были превосходны. Мне понравилось их слушать, несмотря на диссонанс, непопадание в ноты и, очевидно, неправильное расположение пальцев – в этом было нечто, энергия была правильной, а Пол Кук всегда великолепно держал темп. Умение держать темп – это ВСЕ! Если ваш барабанщик не может держать темп, все остальное – бессмысленно; это корень музыки. С этого момента я внимательно слушал Пола Кука, и у меня был свой якорь.
В тот вечер я отправился в паб «Сэр Джордж Роби» в Финсбери-парке и попытался повторить то, что они делали. Я наблюдал, куда они кладут пальцы, и запоминал положение рук – элементарные вещи, но для меня это было необыкновенно захватывающе. Типа: «Ух ты! Я начинаю понимать химические формулы!»
Когда я впервые встретил Малкольма в магазине, я не знал, понравился ли я ему или нет. Он никогда не был моим другом, не был никак со мной связан и, возможно, даже представил меня Стиву и Полу, словно в отместку. Я никогда не понимал этого, но так или иначе Малкольм, должно быть, предполагал, что я – персонаж, значение которого несоразмерно очень скучной на тот момент деятельности группы. Он почти наверняка видел во мне что-то такое, чего не было в нем самом. Но насколько все это сработает, Малкольму было не слишком понятно. Однако он в итоге пошел на риск, поддержал меня с моими задумками: я был идейным парнем и всегда им буду.
Я пришел с концепцией лирики и этакой пробивной силой, чтобы сломать границы тупости. Без меня, я полагаю, они могли бы стать в лучшем случае неким подобием The Small Faces, возможно, типичной паб-роковой командой, и им бы это понравилось. Более того, это понравилось бы и Малкольму – тот любил нью-йоркскую сцену, а действие там в то время разворачивалось в очень маленьких клубах. Такие места, как CBGB[107], были крошечными. Все это выглядело так манерно: «О, мы креативны, мы особенные, все остальные не в счет!»
Ну, простите, а я – ярмарочный аттракцион. Мне нравится ярмарка, нравится хаос и нравится сама возможность сразиться с большинством, бросить вызов.
Вообще-то чего мне извиняться? Меня возмущает, что я и правда сказал здесь: «Простите». Я совсем не жалею об этом. Я жалею лишь о том, что большинство людей реально не понимают, как измениться, и с готовностью принимают те форматы, которые им предлагаются. И Малкольм, и, в незначительной степени, группа, поскольку он был их наставником, были под завязку забиты этим: «Все, что нам надо делать, это носить красивую одежду и выглядеть нелепо, и мы заработаем немного деньжат, верно?» И вот во что это превратилось. Стив, люблю его. Пол, люблю его. Глен, люблю его. Но их установки не отражали общей картины. Ни в коем случае, никогда.
После моего появления группа QT Jones and his Sex Pistols превратилась просто в Sex Pistols. Как проходили репетиции для меня: никаких сценических мониторов. Они колотят по инструментам, включенным через усилки, производя чудовищный шум, и совершенно меня не слышат. Они понятия не имеют, что я собой представляю, разве что Стив типа решил: «Ты не умеешь петь!» Я в ответ: «С чего ты это взял?» – «Я тебя не слышу». – «Ну, тогда мне нужен микрофон». Мы позаимствовали микрофон из паба внизу, и тогда уже и я понял, что не умею петь, однако Пол Кук за меня заступился. «Ну, понимаете, вы должны дать парню шанс…» Пол был весьма дружелюбен и очень в этом отношении мне помог.
Вы могли бы возразить и были бы абсолютно правы: «Что за, блядь, мягкосердечие!» Почему бы не нанять нормального солиста, у которого есть собственная акустическая система? Но они ничего такого не сделали, они решили оставить меня, и Пол тоже так решил – он тайно меня поддерживал. Против всего этого. Это сделало меня еще более сумасшедшим, более диким. Я начал появляться в одежде, в которой действительно хотел ходить. Я ведь не дрэг-квин, так? Я полноценный, хардкорный, крезанутый мужик, и это было совсем не похоже на то, что происходило в поп-музыке. Уж даже не знаю, с каких пор – наверное, с того времени как себя придумали тедди-бои? Да, кстати, я ощущаю огромное родство с ранним движением тедди-боев. С любыми уличными бандами или уличной культурой в целом. Я прекрасно понимаю, что это такое.
Во время тех первых репетиций в Чизвике я был одет в спортивный пиджак, часть униформы женского клуба академической гребли. Я только потом узнал, что это – пиджак был белым, поэтому я всегда думал, что это крикетный пиджак. Нет. Он был женским, и я случайно покрасил его в розовый цвет, положив в дешевую стиральную машину вместе с парой розовых брюк, которые купил в магазине Вивьен. Ну, я и написал «GOD SAVE OUR GRACIOUS QUEEN» во всю его длину. И это в конце концов навело меня на мысль: «Гм, неплохое название для песни…»
За любую одежду, которую мы брали в «Сексе», нам обязательным образом приходилось платить. Если даже и не всю сумму, то что-то к тому очень близкое. И бесполезно было взывать к Малкольму: «Что за бред, мы же продвигаем ваши вещи, вы используете наше имя». Ответ всегда следовал один: «О, но я постараюсь сделать вам небольшую скидку». Позднее некоторые северные группы, называвшие себя панками, плакались, что типа нам было легко, поскольку нас одевала Вивьен. Нет, детки! И так как я сам платил за это, я всегда говорил ей, чего хочу и чего не хочу, независимо от ее представлений о хорошем вкусе. Она – тот дизайнер, которому надо время от времени говорить пару вразумляющих слов, иначе, блин, затрахаешься потом, как мы все.
20 или 30 фунтов за пиджак по тем временам – большие деньги, огромные; но все, что там продавалось, было одноразовым. Там могла быть выставлена целая линия вроде как одинаковой одежды, однако каждый принт отличался друг от друга, каждая вещь была по-своему уникальной – только никогда не пытайтесь ее постирать, иначе все чернила потекут и швы разойдутся.
То, что тогда делала Вив, не было рассчитано на долговечность. Пуговицы просто отскакивали – они летели через всю комнату, как будто у них была на тебя аллергия. Ворот ее футболки после первой же стирки оказывался между твоих грудей из-за того, как он был вырезан, и красивая обтягивающая майка становилась похожей на мужской бюстгальтер.
Я начал носить английские булавки еще до «Пистолзов», но тогда они мне реально пригодились. На самом деле, на старых фотографиях видно, что на всем том, что я тогда носил, всегда присутствовал набор английских булавок, свисающих с воротника, – на тот случай, если швы разойдутся. Подручный ремонтный комплект, который шел в ход, когда продукция Вив разваливалась.
Мы никогда и ни с кем не обсуждали наши действия, не вырабатывали какой-то общей концепции – ни с группой, ни с Малкольмом. Нас просто вталкивали в зал, и ба-а-бах! Что бы там ни утверждал впоследствии Малкольм, лишь мы вчетвером устраивали весь этот разнос. Ни одна из его сделанных задним числом глубокомысленных сентенций не принесла ему пользы, потому что не он диктовал нам темп, тон или содержание – и это его раздражало.
Мне нравились Captain Beefheart и Can, но это не означало, что я хотел, чтобы наша группа звучала именно так. Нисколько. И в то же самое время я именно тот парень, который сказал бы вам, что первый альбом 10cc[108] – одна из величайших вещей, которые я когда-либо слышал, – такая заумь! Мне казалось, что минимализм приводит к совершенству. Но, подумать, у меня все это было, все это. И я не испытывал каких-то особых ожиданий, кроме как от того, в чем был хорош Стив – его звук, его точка зрения, то, что составляет его вселенную, – и все это давало мне огромное количество материала для работы. Великолепный калейдоскоп возможностей. Вещи, о которых я раньше даже и не думал; вещи, которые никогда не слышал в своей коллекции пластинок или вообще где-либо еще. Вот как я совершенствовался, реально, благодаря Стиву и его якобы недостаткам, которые вовсе не были таковыми.
Они все тогда сильно ругали Стива за отсутствие музыкальности, а я ему говорил: «Да забей ты на них, нет такой хрени, как фальшивая нота. У тебя есть яйца, чтобы стоять там и играть эту штуку, и это довольно неплохо – все остальное со временем сложится!» Мне кажется, Малкольм и правда толкал его в неправильном направлении, и это реально затрахало ему все мозги. Стиву нужна была поддержка, а не пафосное недовольство. Во многих отношениях он слегка похож на меня, может очень быстро отвлечься, а потом потерять все ориентиры. Я узнаю в нем эти черты, они у нас общие.
Он казался мне кем-то вроде мелкого хулигана, воришки-сумочника. У него было реально дерзкое чувство игры. Абсолютно ненадежный персонаж, настоящий диккенсовский уличный мальчишка, как тот Джек в «Оливере!», – ну, типа: «Неплохо бы тебе обчистить пару карманов!»[109]
Но, по крайней мере, он был тем, кто он есть. Это было реально. Малкольм все время говорил ему: «Ух, посмотри на свои волосы, они похожи на перманентную завивку!» Правда, и я тоже, поскольку так оно и было. Действительно! С этой кудрявой прической он был похож на старуху. Кудрявый маллет – это преступление. Против самой природы! Ну, понимаете, типа: «Мы не хотим, чтобы у нас в группе был Роберт Плант, спасибо!»
У Стива было отвратительное воспитание, но мы все были испорченным товаром, этакими грязными котятками. К тому времени у нас у всех числились приводы в полицию не за одно, так за другое.
На первый взгляд Стив был немного таким прикольным умником – однако на самом деле не слишком прикольным и не слишком умным. Ему хотелось создать впечатление, будто он нащупал что-то эдакое. Однако он вечно пытался уйти от вопросов – очень уклончивый, ухмыляющийся, к нему было трудно подобраться. Да, у нас случались моменты, когда мы были очень близки и здорово веселились, я и Стив, но он сразу же возвращался к этому своему отчуждению.
Он мог быть веселым, но ему не нравился другой комик в комнате. И, гм, если там есть я, это ж случится, лады? Да и потом, когда рядом такие люди, как Сид… Ну, это для него уже слишком. Если бы он только потрудился открыться, мы могли бы блестяще помочь друг другу, но мы были молоды, и подобное оказалось совсем не в его духе. Как ни странно, мы все считали Стива старшим в группе. Он был на год старше Пола, они даже учились в разных классах. Таким образом, Стив обладал неким взрослым влиянием, но, гм, на самом деле это было вовсе не то влияние, которого бы вы хотели.
Глен был, цитирую, музыкантом группы, и поэтому его подход был типа: «Вы не можете этого делать, это не музыка!» – «Пардон, что?» С самого начала у нас с ним вышел спор, потому что он хотел, чтобы мы были этакими денди, щеголями из Сохо, возвратом к модам. Это никогда не сработало бы – притворяться кем-то, кем мы явно не являлись, поэтому я рассмеялся прям сразу, еще до всяких обсуждений. «Послушай, мы ж не денди, зачем нам ими казаться?» Мне казалось, все это должно исходить от настоящего хардкора, реальных эмоций. Нельзя просто взять из воздуха какую-то фантазию и думать, будто тебе это подойдет, будто это понравится и всем остальным. Подобное отношение достойно всяческого презрения, как по мне.
Сам того не желая, Глен оказался очень полезен. Иногда действительно нужно столкнуться с направленным на тебя негативом – это великая движущая сила, она заставляет тебя работать усерднее. Когда же из всех этих провальных первых опытов начало что-то вырисовываться, складываться, скажем так, некая мелодия, это было просто фантастически. Наши попытки исполнять чужие песни, особенно The Who, были великолепны. Я на самом деле ощутил, что мы группа, и мне нравилось это чувство.
Мы могли бы и должны были больше общаться друг с другом, но этого так и не произошло. Если Малкольм и приходил на репетиции, то только для того, чтобы забрать Стива, Пола и, возможно, Глена, у которых обычно были дела поважнее. Он брал их с собой в эти очень важные обеденные клубы, в которые ему нравилось ходить самому. Я всегда понимал и знал наверняка, что даже не рассматриваюсь как часть этой социальной жизни. Поэтому и никогда особо не утруждал себя просьбами после одного или двух отказов. Слушая неловкую ложь о том, что «о, э-э, нет, у нас нет возможности взять еще одного» или как бы там ни было, ты все прекрасно понимаешь и больше не возвращаешься к теме.
Не думаю, что Малкольм вообще любил музыку. Для него это был просто шум, который сопровождал его экзотическую одежду будущего человеческой расы. Он не совсем понимал важность музыки и ее социальную значимость. Ну и в самом деле, с какой стати ему это понимать, если до нашего появления этого реально было не так уж много. Что подразумевалось под социально значимой песней до Sex Pistols? Да какой-нибудь тоскливый фолк-певец, терзающий акустическую гитару. О господи – тьфу!
Была у нас одна интересная встреча в пабе на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Мы немного поссорились, и Малкольм познакомил нас с «Кровавой Мэри». «Ого, они так коктейль называют? Вкус у него отличный, и от водочного привкуса не страдаешь, а эффект тот же». Потрясающий вечер! Где-то на заднем фоне заиграл «Working Class Hero» Джона Леннона, а я хорошо знал эту песню. Я сказал: «Вот! Вот социальная значимость как она есть, мой стиль» – и тут, кажется, до Малкольма дошло, откуда я вышел. Не знаю, произвело ли это на него хорошее впечатление. С тех пор мы почти не разговаривали – очень странно. Ему совсем не хотелось двигать горы, ему хотелось перетряхивать кучки блесток.
А тем временем я почти сразу же занялся написанием текстов. Вот что дал мне Стив, весь этот взрыв энергии. Он был для меня как бриллиант. Потрясающий, великолепный, блестящий, с прекрасными возможностями. Я превратился в настоящий динамит, едва только все двери распахнулись, и я получил возможность петь. Я действительно пошел на это. Я сразу же принялся сочинять и так писал и писал все это время. Слова просто вытекали из меня, вся эта сдерживаемая внутри хрень, к которой раньше у меня не было возможности стремиться, к которой у меня не было никаких амбиций, внезапно нашла свою цель. Фантастика! Великолепно!
Было много, очень много текстов, с которыми я игрался по первости. Сейчас уже не помню, но, кажется, один из них был об архангеле Гаврииле, отшлепавшем Католическую церковь. Я мог бы и в самом деле сотворить нечто подобное, но то, что в конце концов было выпущено, – это то, в чем чувствовались энергия и усилия. Все остальное я рассматриваю как, знаете, костистую часть бараньей шеи, которую лучше всего оставить на полу разделочной. Все, что так и не было закончено, является таковым по очень веской причине.
Первая вещь, которую мы репетировали, кажется, была «Mandy». Я как-то оказался в доме этой девушки, Мэнди, на вечеринке, и она сделала нечто похожее на пунш, используя Southern Comfort, мартини и какой-то фруктовый сок, в котором тоже был алкоголь, ликер и лед. Я выпил так много, что мне потребовалось два дня, чтобы прийти в себя, – Джон Грей, Дэйв Кроу и Сид дотащили меня тогда в родительский дом. Я могу время от времени быть существом чрезмерной глупости. Причем прекрасно знаю обо всех предупреждающих знаках, и все равно меня накрывает, и я набираюсь. Мне, как правило, не хватает тонкости. Может быть, потом когда-нибудь до меня и дойдет, как это все работает, ну, идея быть тонким. Но в любом случае это была тема моей первой песни – не стоит, наверное, записывать, а?
На репетициях кто-то что-то играл, а я типа: «О, у меня есть для этого пара слов» – абсолютно непредвзятый, спонтанный подход, который, я хорошо знаю, может и совсем не сработать. Но для нас это было так, и с тех пор я придерживаюсь этой методики. Так было в «Пистолз», знаете ли, добрых две недели. В углу всегда кто-нибудь играл что-нибудь просто так, от души и сердца, а я прислушивался, ловил момент. Потом резко вскакивал: «Почувствуйте это!» Я обычно пишу песню уже с готовой мелодией в голове, я просто пытался встать и спеть ее, прямо с места в карьер. Иногда невозможно было спеть то, что я написал, и тогда я просто набрасывал на листке пришедшую в голову идею.
Из ранних песен «No Feelings» была анализом характера, она высмеивала то, как рокеры пытаются выставить себя крутыми, типа выше всего этого, будучи на самом деле кучкой слабаков. Тогда вокруг тусовалось множество скучных групп, которые все пытались казаться хардовее, чем они есть на самом деле. Я никогда не строил из себя крутого, был просто честным человеком, а имел дело с людьми, которые выставляли себя теми, кем они вовсе не являются. Лжецы. Лжецы всегда будут отличной темой.
Песня «Lazy Sod»[110], которая позднее получила более изящное название «17», была придумана Стивом Джонсом. Лирика просто меня убила! Прости, Стив, но это свежо в памяти до сих пор – я вовсе не хотел тебя унижать, однако тебе бы следовало чувствовать себя униженным, это были ужасные слова. Сказочно глупые строчки вроде: «Я одинок, киньте собаке обглодок!»[111] Наверное, он писал о жалости к себе и о том, что не может найти должной привязанности к другому человеку. Хорошая идея, но я не был готов к подобному нытью, так что когда я до нее добрался… Ну, посмотрите, что я сделал.
«Я не работаю, я просто ускоряюсь»[112] – вот все, что мне было нужно в жизни! Это была очень антихипповская вещь, обозначавшая нашу линию фронта. «Давайте все вместе жить в лесу!» – «Да пошли вы на хуй!» Послушайте, я хорошо разбираюсь в пассивном сопротивлении, я понимаю, что это жизненно важный способ разрушения империй, но хипповская идея мира и любви была абсолютно пустой. На самом деле она ничего не значила и никогда не обладала какой-то веской силой.
Когда я бывал на фестивалях, то видел, как они грызутся из-за того, где припарковать свои «фольксвагены», ставят дизайнерские палатки и спорят о колышках. Ну и где ваши мир и любовь? И при всем при том они были типа добродушными и стремились к тому, чтобы не носить униформу. Ага. И как, помогли вам вельветовые клеша?
В «Нью-Йорке»[113] я использовал New York Dolls в качестве своеобразной точки отсчета и немного поиграл со смыслами. Лично у меня не было никаких проблем с Dolls, я считал их великолепными, но у нас в британском роке к тому времени развелось довольно много одетых как шлюхи мужиков. А потом, боже мой, когда они уже оказались на последнем издыхании – какой бардак! Эта группа просто развалилась. Другие нью-йоркские группы – Television[114], Ramones[115], – мы не могли поверить, сколько им было лет и насколько они все были обдолбанные. Они могли позволить себе вещи, которые мы отчаянно хотели, но у них не было вкуса, так что они наезжали к нам из Нью-Йорка и выглядели ужасно. Они так старались вырядиться непристойно – все в черном, затянутые в кожу, – просто депрессивно. И в то же время я не знал ни одного американца, который приехал бы с пустым кошельком. Мне казалось, мы выглядим значительно лучше.
Крисси Хайнд[116] пыталась помочь мне с музыкой. Она начала околачиваться в магазине где-то на год раньше меня, возможно, даже на пару лет. Они дружили с Вивьен, но потом рассорились. И одна из самых восхитительных реплик, которые я слышал от Вив, была: «Что мне в тебе не нравится, Крисси, так это то, что ты плывешь по течению. Ну, и плыви себе – только в ту сторону», – сказала она Крисси, указывая на дверь. Крисси не смогла удержаться от хохота. Подача была настолько забавной, что ей пришлось ответить: «Отлично». Вивьен определенно могла срезать тебя остроумным замечанием – за словом она в карман не лезла.
Я не могу припомнить, что это была за драка/скандал/сцена/да что угодно. Но – уфф! – когда женщины решают друг другу не нравиться… Эгей, нам, парням, есть чем гордиться, потому что мы никогда не сможем довести это до такого уровня. Хотя вообще-то я знаю парочку парней, которые на это способны. Поговорим о них позже.
Но Крисси – какая прелестная психопатка! У нас никогда не было физической близости, но ментально мы были очень настроены друг на друга. Я уважаю в Крисси многое, реально многое! Крисси – очень умная девушка, которая в детстве прошла через всевозможные психологические травмы и вела себя в юности, скажем так, весьма своенравно. Она всегда была очень неудобным в общении человеком, она сложная, но я уверен, Крисс вполне заслуживает твоего личного пространства и потраченного времени, потому что в этой своей сложности она ищет ответы. И время от времени их находит, и это делает ее, на мой взгляд, очень важным в этом мире человеком.
С ней было очень весело тусоваться. Она брала меня с собой в Клэпхем-Коммон, и мы, бывало, нагуливали там многие мили, разговаривая о музыке и нашем понимании вещей. Она пыталась научить меня играть на гитаре. Я жаловался на то, что я левша, но, конечно, в ответ слышал: «Джими Хендрикс тоже был левшой, это не оправдание». – «А как насчет этой отговорки, Крисси… Смотри, у меня в запястье как-то застряла бутылка!» Что было правдой, у меня было два пальца, которые мне зашивали, и я частично потерял управление пальцами левой руки.
Как-то вечером я тусил с Полом Куком, он повел меня к своим приятелям в Чизвик, и некоторые из них стали наезжать на Пола, поскольку тот играл в группе. Последовала драка, настоящий хаос, от которого остались лишь обрывки воспоминаний, учитывая количество влитой нами в себя выпивки. Потом мы шли пешком из Чизвика и в конце концов оказались в больнице Хаммерсмита, где мне пришлось зашивать руку, потому что подушечки указательного и среднего пальцев были разорваны до кости и сильно кровоточили.
Вот что получается, когда ты левша. Первое, что используешь в драке, – левую руку. Ту руку, удар с которой застает всех врасплох, потому что обычно люди привыкли иметь дело с правшами.
Итак, да, я левша, и мне трудно играть на гитаре, но кроме того, я не тот человек, который когда-либо мог бы просто сесть и научиться – и я пишу именно так, как пишу, в негативном смысле – «играть на инструменте». У меня нет ни времени, ни терпения. На самом деле у меня нет математического мозга, который мог бы воспринять такое мышление. И сделать то, что у меня в итоге получилось в чудесном мире музыки, в любом случае реально выдающееся достижение. Мне удалось прорваться через этот барьер, я все еще способен сочинить песни без каких-либо – как бы лучше выразиться – законов логики.
Крисси и правда досталась работенка не из легких. Жаль только, что я не мог попросить совета у своих так называемых коллег по группе. С Гленом у нас отношения не сложились с самого начала. Наверное, этого не следовало допускать, но когда Глен упирался рогом, с ним было очень трудно иметь дело.
Малкольм полагал, что Глен – «музыкант». Вероятно, Макларен нашел что-то положительное и в том, что делал я, потому что однажды он отвел нас обоих в паб, чтобы мы как-то уладили ссору и набросали вместе пару песен. Легенда гласит, что он дал нам 20 фунтов на расходы, но мы оказались умнее – потребовали по 20 фунтов каждый. Потом Малкольм ушел, предоставив нас самим себе.
Мы заржали. В тот момент мы находились на одной подводной лодке – наступило перемирие. Хотя мы и вправду оказались плохими врагами, нам обоим пришла в голову одна мысль: «Ну и что это сейчас было?»
И мы отлично провели вечер. Мы понимали, что нам надо что-то придумать. Если в группе и наметится какой-то прогресс, хорошо бы он исходил от нас. Это не должно было случиться благодаря Малкольму и нашему с ним сотрудничеству, поскольку это – интеллектуальный тупик. В итоге мы действительно неплохо поладили друг с другом, и песня «Pretty Vacant» стала одной из наших совместных задумок.
Уходя, Малкольм сказал: «Вот вам несколько идей – подчинение, ну типа бондаж и тому подобное. Как вам такая тема?» Ну я есть я, поэтому смеха ради решил воспользоваться его идейкой буквально, а потом извратить весь смысл. Я назвал песню «Submission»[117], но первая же строчка звучала: «I’m on a submarine mission for you baby»[118]. Так что да, предлагайте мне всякое, предлагайте – я ухмыльнусь, но возможностью непременно воспользуюсь. И понеслось.
Мы прекрасно понимали, что делает Малкольм, пытаясь использовать нас, чтобы прорекламировать новую линию садо-мазо-одежды своего магазина. В «Сексе» перестали торговать тедди-бойскими шмотками и занялись продажей настоящей одежды для извращенцев от Малкольма и Вивьен, смотревших на мир извращений, как странная пара из Тринга[119]. Для них это было просто средством для достижения цели – на самом деле они вовсе не являлись частью этого мира БДСМ-культуры. Они были наблюдателями, пафосно полагавшими, будто им каким-то образом удается манипулировать чудесным миром фетишизма, тогда как на самом деле они были просто мелкими торгашами[120] – торгашами одеждой. Эта парочка всегда оказывалась, так сказать, не на том конце плети, и мы прекрасно знали, что им не понравится то, что мы задумали.
На самом деле мы никогда не получали комментариев по поводу того, что сочиняли. Мы с Малкольмом вообще не разговаривали. От первоначального всплеска и ощущения поддержки до внезапной пустоты. Как отрезало. Мне кажется, он смотрел на меня как на проблему для своих теоретических построений в области искусства. Его интерпретация артистических пристрастий группы – моих или вообще чьих-либо еще – была совершенно иной. Я никогда не считал, что нам надо пытаться как-то специально придумывать имидж. Для меня его создавали мои слова и моя собственная личность. Я просто ждал, когда парни поднимутся и смогут стать тем, кем они сами хотят, – чтобы только это было подлинным, а не искусственным.
В тот вечер в пабе мы оба с Гленом поняли, что должны объединить два наших разных видения – без всяких уступок – и создать нечто лучшее, чем то, что каждый из нас задумал независимо друг от друга. Мне кажется, что мы это сделали, однако в то же время понимаю, что я хотел большего, понимаю, что Глен тоже хотел большего, но на все это наложились дополнительные проблемы.
Люди мне не верят, но в те первые дни мы почти не видели Малкольма. Он не появлялся на репетициях, и, откровенно говоря, поступи он как-то иначе, мне было бы еще сложнее. Огромное количество собравшихся в одном помещении людей, которые на самом деле не имеют никакого отношения к общему делу, – только не это! Это было бы так: ага, им нужно подкрепление, тогда я тоже приведу кого-нибудь меня поддержать, и тогда уже мои друзья будут против их друзей. Пусть даже моя идея победит, но это ни к чему не приведет. В тех редких случаях, когда нам удавалось поймать Малкольма, он говорил: «О, да, да… Кстати, послушайте, я тут договорился о парочке концертов…»
Первые концерты были нервными и страшными. Как группа, мы чувствовали себя очень неадекватными и испуганными. Вообразите себе такую ситуацию – вы предстали перед судом. Правда, отрицательная оценка – все, чего нам когда-либо удавалось достичь. Но мы росли, нам стало нравиться то, что мы делаем. Ну, по крайней мере, мне. И я начал ожидать от публики негодования только потому, что мы были такими освежающе разными. Хотя «освежающий» – совсем не то слово, которое употребили бы некоторые из присутствующих.
Наш самый первый концерт состоялся в Центральном колледже искусства и дизайна имени святого Мартина в ноябре 1975-го. Этот концерт даже организовывал не Малкольм – номинально считалось, что Глен там учится, поэтому он сам все уладил. И слава ему, что он нашел смелость показаться вместе с нами перед своими друзьями. Это было прямо через дорогу от того места на Денмарк-стрит, где мы обычно репетировали. Должен сказать, что выбор места стал гениальным ходом Малкольма. Рядом с Сохо, в самом центре города – но по тем же самым причинам это не было похоже на настоящий концерт. Мы просто перешли со всем нашим оборудованием через дорогу, перенесли все по частям, и бинго! Совсем не то, с чего, по твоему мнению, начинается музыкальная карьера.
Конечно, мы все чертовски нервничали, страшно напуганные тем, что должно было произойти. Потонем или поплывем? Настоящая фантастика – ты выныриваешь с другой стороны водной глади и плывешь – хотя, вероятно, в ту ночь нам так не казалось.
Основной командой выступали некие Bazooka Joe. Они были ужасны, в точности так, как, по вашему предположению, могла бы выглядеть и звучать группа под названием «Базука Джо». Назвать себя в честь американской жевательной резинки было просто – у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-ух! С этим далеко не продвинешься, ребятки. И еще все они были похожи друг на друга, потому что носили белые «Конверсы». С высоким верхом, кстати. И хотя Адам Ант[121] был их басистом, не удивительно, что они так обиделись на нас за то, что мы делали.
Я никогда раньше не пел без остановки в течение целых пятнадцати минут. Ну, вполне вероятно, в ту ночь – не более двенадцати с половиной, со всей этой нервной энергией. А если сосчитать все «Стрепсилсы», которые мне пришлось сжевать, чтобы как-то прокашляться, то получится, наверное, в чистом виде минут десять. А потом просто пришлось повторить наш концертный репертуар, чтобы хоть чем-то заполнить положенные полчаса!
До меня быстро дошло, что в такой момент надо полагаться на свой внутренний потенциал. «Выносливость», наверное, вот подходящий термин, но не совсем: «О да, я могу пройти десять миль, да, я!» Дело ведь не в этом, а в выносливости умственной – сколько ты способен продержаться независимо от всех обрушившихся на тебя проблем. Есть ли у тебя внутренний стержень, достаточно ли веры в себя, чтобы победить. И все это без нормального подхода к тренировкам и технике.
Оглядываясь назад, понимаешь, что наши репетиции были своего рода тренировкой. Нам удалось поднабраться опыта сценических выступлений и, наконец, воспроизвести то, что мы делали на репетициях, перед живой аудиторией. И как-то справиться с сопровождавшим первые концерты негодованием зрителей в позитивном ключе, а не переходить в режим «о, горе мне, горе». Полагаю, в этом отношении именно мне удавалось прийти на помощь команде. Чем негативнее реакция публики, тем позитивнее моя собственная. Я всегда был не прочь немного поболтать с аудиторией. Обменяться с лучшими из зрителей парочкой остроумных замечаний, которые, полагаю, главным образом сводились к вариациям на тему: «Да пошел ты!»
Все было словно в тумане, мы пытались привыкнуть к тому, что совершенно незнакомые люди смотрят и оценивают нас. Я чувствовал себя в ответе за моих парней. Никаких аплодисментов – буквально. Молчание золото. И большая потасовка в конце. Они всегда случались – бог знает почему. Большинство заварушек связано было с другими группами. Всегда находился какой-нибудь мелочный, разочарованный, гребаный ревнивый мудозвон, заявляющий: «Да вы играть не умеете, вы – говнюки, это не музыка!» И подобные клише! В наши дни они выглядят почти нелепыми, но тогда это было настоящее оскорбление.
После концерта мне просто приходилось валить домой, делать было нечего. У нас не было денег, не было вечеринок с выпивкой, никакого братания по этому поводу. Скучное погружение в метро и одинокая дорога домой. Со мной могли быть друзья, но дело в том, что я словно оказывался запертым в своей собственной голове. Да, меня окружали друзья, но я не был с ними связан. Я реально беспокоился обо всем, что шло не так. В тот момент я был очень погружен в себя. Ну не совсем в себя, скорее, размышлял о том, как бы все получше наладить.
После этого в течение следующих нескольких месяцев мы сыграли во всех колледжах и университетах Лондона и его окрестностей, куда только могли попасть. И вскоре я убедился, что студенчество – вовсе не тот подверженный всяким влияниям очаг мятежа, как нас в том убеждали. Они были очень консервативной публикой, но в то же время у них водилась куча денег, и они сорили ими направо и налево.
Мы давали концерты просто для того, чтобы заработать и иметь возможность купить что-то для дальнейшего роста. Мне кажется, по своей идее это очень похоже на современные бесплатные приложения, знаете, всякие видеоигры для мобильников и все такое? Вы постепенно втягиваетесь, но потом, для того чтобы продвинуться на дополнительный уровень, надо покупать разные штуковины. Именно так работают гастроли: нужно собрать как можно больше денег, поэтому приходится много вкалывать, чтобы приобрести оборудование, необходимое для того, чтобы играть лучше. Для себя же нам удавалось дай бог наскрести 20 фунтов к концу месяца да еще и как-то прожить на эти гроши.
Мы любили концерты в колледжах, потому что там всегда давали бесплатные бутерброды и были профсоюзные цены на пиво. В этом есть свой смысл. Мы играли для людей, которым мы не нравились и никогда бы не понравились, которые не понимали, что мы делаем, не хлопали, даже не имели храбрости освистать, но зато они нас хорошо кормили.
В Хай-Уикоме мы играли на разогреве у Screaming Lord Sutch[122] – какое это было волнение для меня. Я так давно обожал Лорда Сатча. В нем было нечто особенное – он понял регги в то время, когда его еще никто у нас не играл. И тут он такой, прямо в точку! Было очень здорово играть с ним, да и просто поздороваться. Но никакого ответа. Он лишь повернулся и сказал: «Я вообще не врубаюсь, что вы делаете».
А для меня в те первые дни фальшивые ноты Стива были великолепны, потому что он не останавливался. Он не паниковал, типа: «У-у-у-ух, и где я в этой песне?» Просто такой: «Ну и на хуй!» – и продолжал. Если ты чувствуешь ритм, ноты реально не имеют значения. На самом деле это даже еще более захватывающе и увлекательно, потому что так можно менять форму. Помогает развить свое ремесло гораздо лучше, чем занятия уроками пения с Тоной де Бретт[123].
После этих наших первых опытов я начал серьезно относиться к концертам. Мы давали их довольно много, но потом очень быстро появились запреты и необходимость ехать играть за границу.
Но мы никогда не хотели, чтобы это было простым кидаловом и шумом в прессе. Малкольм терпеть не мог хороших отзывов:
– Это совсем не то, чего нам надо! Нужно, чтобы эти старые пердуны нас возненавидели!
– Да мне вообще не надо, чтобы они что-либо делали, Малкольм. Я занимаюсь этим не для старых пердунов!
И в этом мы все четверо были едины. Нам нравились наши песни, и мы хотели, чтобы они работали правильно. Если бы только…
Прекрасный стыд
Будь я диванный критик, я бы выразился именно так[124], но я слишком ленив даже для этого; что же касается любой физической активности, я абсолютно неопытен. Как не раз отмечали многие мои друзья, я даже не умею ходить, куда там бегать.
Мое тактическое понимание футбола практически равно нулю. Я вообще по нулям, когда люди начинают говорить о различных формациях и тактических уловках. Чрезмерный анализ футбола – это реальная современная проблема. Вы, конечно, меня простите, все это придумал средний класс, и это полная чушь. Игроки должны иметь возможность играть на поле где угодно, да хоть по всему полю, иначе что они делают в футболе? Игрок, который не может пройти, атаковать или выполнить удар по мячу – а у моей команды, «Арсенала», за эти годы таких было несколько, – совершенно, черт возьми, бесполезен.
Футбол – или «сокер», как говорят мои американские друзья, – это все-таки игра. А в игре должен быть хаос, и так оно и есть на самом деле, как бы они ни пытались все спланировать. Независимо от того, кто ударит по мячу – пятьдесят на пятьдесят, где он приземлится. Меня не волнует, насколько им переплачивают или недоплачивают, все сводится к одному и тому же. Вы можете заморочиться на стратегии или скупить всех лучших игроков, но все равно это может не сработать. Тут, скорее, замешаны сочетание отдельных игроков и та уверенность, которую тренер может вселить в команду. Именно это делает ее успешной и, следовательно, интересной для зрителей. Искусство футбола заключается в том, что можно проиграть и наслаждаться этим, потому что знаешь, что твоя команда выложилась на все сто. Но на самом деле… Я бы все-таки предпочел гол рукой!
Я болею за «Арсенал», который был моей местной командой в Финсбери-парке, с самого раннего детства. Я обычно околачивался с весьма определенной группой парней на стоячих местах Северной трибуны, фанатского сектора старой домашней арены «Арсенала» – Хайбери. Это – наша территория, наш домен, но более, чем какой-либо еще английский клуб, «Арсенал» всегда был антирасистским. И там всегда была настоящая смесь цветов кожи и вероисповеданий. Очень грустно видеть, во что теперь превратился футбол, когда с появлением там отпрысков среднего класса и так далее все это было перевернуто с ног на голову. Все, что было хорошего в футболе, исчезло. Начиная с фанатских речевок и атмосферы вокруг, все стало стерильным.
Эта чепуха с зональной маркировкой на поле и тому подобное искажает сам формат, в котором они играют. Я имею в виду – давайте начистоту! Если оставить огромные части поля без внимания из-за нелепой одержимости позиционированием, вас поймают. Если у вас слабые, медлительные защитники, вы будете посрамлены.
Футбол – это та игра, в которой, если ваша команда играет очень плохо, вы начинаете смеяться над проигрышем. Вы и правда можете наслаждаться ожиданием следующего трагического поражения. И нет ничего другого, что бы могло дать мне такую способность. Способность, которая служит абсолютно блестящей, прекрасной цели. Это театр эмоций, а не мечтаний.
Самая большая радость быть футбольным болельщиком заключается в том, что в конечном счете нет никакой радости. Наоборот, все может стать только хуже. Много лет назад, когда «Вест Хэм» вылетел во второй дивизион, я помню, как их болельщики пели эту славную песню: «Que sera sera, что будет, то будет, мы едем в Бе-е-е-рнли, que sera sera»[125]. Юмор был просто фантастический.
И где она, радость современного футбола? Да это сплошная гребаная боль, и когда ты действительно что-то выигрываешь, длится это совсем недолго. Пабы закрываются слишком рано, и все кончено. Все расходятся по домам, а ты остаешься стоять там – ва-а-а-а-а-ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Все равно что пытаться играть в приложениях на айпаде. Настолько неудовлетворительно, что и правда лучше пусть зовется «сокером». Разочарование гарантировано, и нужно постоянно вкладывать деньги, чтобы чего-нибудь достичь.
Правильный футбол – это когда ты видишь, что команда наслаждается собой, полностью погружена в игру, со стопроцентной самоотдачей. И тогда не имеет значения, окончится матч победой, поражением или ничьей. В точности как концерт – что-то выигрываешь, что-то теряешь. Но когда видишь опущенные головы, медлительность, неспособность сделать рывок или создать новую интересную идею – это не впечатляет. Убивает всяческую страсть.
Оказавшись теперь далеко от Финсбери-парка, я не могу уследить, когда будет следующая наша игра. Каждое субботнее утро на рассвете я звоню Рэмбо, тоже живущему в Америке, за двадцать минут до игры, в панике, пытаясь выяснить, будет ли матч по спутниковому телевидению. И если бы я отказал себе в пытке смотреть, как рушится «Арсенал», я бы все равно очень, очень разозлился.
Я определенно не из тех, кто по возвращении в Лондон наблюдает игру из этих лож для знаменитостей. Меня никогда туда не приглашали, да я и не хочу этого. Мне доставляет гораздо большее удовольствие смотреть футбол в пабе с настоящими людьми, настоящими футбольными болельщиками, прислушиваясь к их добродушным поддразниваниям. Футбол подходит для этого просто фантастически. Слушать остроумные реплики людей, юмор – это блестяще, истинно в британском духе.
Но заплатить в наши дни 75 фунтов за билет, чтобы попасть на стадион «Арсенала»? Да за эти деньги они должны предоставить тебе возможность заняться сексом со всеми женами футболистов! Я бы предпочел отправиться в местечко поменьше, вроде того, где играет «Торки Юнайтед»[126]. Сколько там стоит? 20 фунтов? Это цена массажа – и, если повезет, возможно, «кульминации».
Глава 4. Вперед в преисподнюю
Sex Pistols – тема давно избитая, но большинство из тех, кто писал о нас, не отличались особой точностью. Каждый считал своим долгом высказаться о том, кем мы были или кем не были, и теперь все это зашло слишком далеко, но никто из нас четверых, ныне здравствующих, не заинтересован что-либо опровергать. Если люди настолько глупы, чтобы верить чужим версиям нашей истории, то туда им и дорога. Нам нет никакого смысла вмешиваться. И пусть наша работа говорит сама за себя.
Мы выстрелили, и выстрелили очень быстро и сильно. Мы стали, я думаю, самой мощной группой в мире. От этого очень трудно оправиться и перестроиться, поскольку это было так динамично, что пересекло все мыслимые границы и распахнуло людям разум. К несчастью для большинства, двери открывались и закрывались, снова и снова – а-а-а, отсылка к песне PiL[127].
«Пистолзы» были удивительным объединением людей, которые сразу же не понравились друг другу и относились к своим товарищам по группе с большим подозрением, но каким-то неведомым образом сумели сделать так, чтобы это сработало к лучшему. Настоящий поезд с сорванными тормозами, поезд идей и мыслей.
Все эти идеи вертелись в моей голове годами, но у меня никогда не существовало какого-то формата, чтобы собрать их воедино и представить миру. Так что возникшая с появлением «Пистолзов» возможность оказалась просто фантастической! Все это было не зря. Дремавший вулкан извергся, и все вышло наружу.
Совершенно очевидно, что слова песни «Anarchy In The U.K.» удивительны для двадцатилетнего парня. И я говорю об этом вовсе не с каким-то высокомерием. Просто мне никогда не предоставлялось возможности отойти в сторонку и понаблюдать за тем, что я делал в то время, – все было так суматошно и быстро. Постоянно что-то происходило, мой мозг взрывался от всевозможных проблем. И когда я сейчас слушаю эту или любую другую из первых песен, то реально поражаюсь тому, что придумал эти строки. Они исходят откуда-то из глубины меня, и они искренни.
Жизнь в Британии в то время очень напоминала 1940-е гг., мы словно застряли в том далеком десятилетии, со всеми перебоями с энергоснабжением, отключениями электричества и несобранными мусорными мешками на улицах. Страна все еще несла бремя огромного послевоенного долга. В отличие от Германии, которая впоследствии отстроилась, победившая Британия поимела одни гребанные проблемы. Урок, который необходимо запомнить. Война приносит экономическую катастрофу, но она же – источник благосостояния производителей оружия и корпораций. Огромную прибыль от войн получает нефтяная индустрия – вот кто реально оказывается в выгоде. А мы должны быть верноподданным пушечным мясом.
Когда моя тетя собиралась приехать к нам из Канады, то, прочтя в прессе сообщения о нехватке продовольствия, она предложила послать нам посылки с продуктами. Я никогда этого не забуду. Мама и папа были в ярости. «Нет! Никогда! Никогда! Нам не нужны подачки!»
И это определенно вдохновляло на революционные мысли. Я замечал, как все становилось хуже и хуже, и это стало настоящим топливом для того, что мы делали, – ощущение потери энергии. Все эти потребности и возможности целого поколения молодежи просто-напросто игнорировались. Как бы депрессивно это ни выглядело, как бы тяжело ни было это все пережить, все, кого я знал, оказались в одной лодке. И не могли ничего с этим поделать. Это было топливом, которое запустило двигатель того, что стало панком.
Первыми строчками песни «Я – антихрист / Я – анархист» я вовсе не пытался выставить себя каким-то пугалом. Я никогда и не думал об этом. Хотя нет, постойте, нет, нет, нет, где-то в глубине души мне казалось, что меня сочтут жертвой всего этого, отнесутся ко мне с великим сочувствием, и на меня прольются излияния любви и радости! Честное слово! Я вовсе не собирался становиться испорченным пидорасом. Дело было не в этом, и, на мой взгляд, уж точно речь здесь шла не только обо мне. Она шла о нас. Мы все получили здесь возможность высказаться – давайте же расскажем все как есть на самом деле, так?
Конечно, окружение группы в то время постоянно мне советовало:
– Почему бы тебе просто не написать песенку о любви? Почему бы тебе просто не написать хитовый сингл? Будет здорово, все будут тебя любить!
– А что, разве они уже меня не любят? Печаль.
И по сей день это все, что я слышу от разных деловых людей, – они несут полную чушь.
Строчка «Я хочу уничтожить прохожего»[128] – да, я сама любезность, я знаю – она обо всех тех людях, которые просто сидят и стонут и на самом деле не делают ничего, чтобы улучшить свое положение или помочь другим. Безучастное морализаторствующее большинство. И я решил, что слово «прохожий» – в этом смысле удачное, оно полностью отражает суть. Вместо того чтобы использовать двадцать два слова, достаточно одного.
«Ваша мечта о будущем – список покупок»[129]? Это оказалось довольно точно, правда? Похоже, именно так сейчас мир и устроен. Я это предвидел.
Строчки про ИРА и ЮДА[130] были не столько о терроризме и политических махинациях в Ирландии, сколько, знаете… «Постойте, я думал, это – Великобритания»[131]. Все эти политические интриги, разделение по религиозному признаку могут привести только к краху. Я всегда считал, что Великобритания – это хорошие люди, которые ладят друг с другом, а не Империя. И полагаю, это же очевидно, я вовсе не пропагандировал британский колониализм – наоборот.
Но нет, я не был анархистом. Я понял, что слово может вызвать гораздо большее возмущение, чем заложенная в супермаркете бомба. Письменное слово – мощная штука. Не думаю, что до меня об этом часто задумывались, по крайней мере, не в поп-музыке. В том, что я пишу, нет никакой личной мести или злобы. Речь идет исключительно о требованиях ясности от политиков. Пока я знаю, что есть что, чего вы от меня ждете и чего я жду от вас, все в порядке. Я не буду ничьим пушечным мясом. Если это дело недостойно, я с оппозицией.
По мере того как мы прогрессировали и я начал выпускать подобные песни, это занятие полностью меня увлекло, я был на все сто процентов предан делу, несмотря на то что Стив пребывал в ярости. А он часто приходил в ярость, бросал гитару и сматывал. А потом Пол вроде как пытался меня успокоить: «Не волнуйся, он всегда такой, он капризный ублюдок».
И я постоянно краем глаза ловил Стива, который твердил: «О боже, он не умеет петь, он никуда не годится», – не понимая, что это скорее: «Ну, Стив, это ты не умеешь играть! А мы делаем все, что в наших силах, приятель…» Мы были вместе меньше полугода, а уже решили, что мы дерьмо.
По правде говоря, меня вдохновляло то, что делали остальные, все трое. Я был очень, очень впечатлен. А что касается музыкальности, то кому какое дело? Это была бравада, смелая попытка прорваться в море одинаковых групп, состоявших из избалованных деток.
Мне всегда нравился подход к гитаре Стива Джонса. То, как почти разваливалась его гитарная партия, – мне это казалось абсолютно захватывающим. И как он умудрялся вытянуть ее опять. Самое близкое, что я видел у других музыкантов, – это игра Нила Янга на его альбоме Zuma[132], где песня порой балансирует на грани полного краха – самый динамичный момент. Для меня представлялось здорово просто суметь вписаться в это, и это было великолепно. Я мгновенно начинал мыслить строфами. Именно игра Стива давала мне такую возможность, и я не знаю, понял ли он это до сих пор. Не думаю, что он сознавал, насколько помогал мне, и я очень, очень благодарен Стиву, несмотря на все его презрение – на самом деле это просто вишенка на торте.
Умение Пола Кука задавать темп – поразительное и всегда было таковым. Он не выводил меня из себя, Пол, его барабаны звучали твердо, без срывов – на него можно было положиться. Когда я лажал на сцене, Пол обычно произносил самую болезненную реплику и заставлял меня ощутить всю горькую реальность промаха, тогда как от подковырок Стива или Глена мне было как с гуся вода. Пол уверенно выносил вердикт: «Сократи это, а то исправь…»
Я быстро понял, что Пол всегда готов идти на уступки Стиву. Стив мог подначить Пола попросить меня о чем-нибудь. «Э-э-э-э, гм, а тебе не кажется, что этак было бы лучше?» Все эти вещи, независимо от того, как они до меня доводились, я воспринимал с издевкой. Во многом именно они и создали проблемы между мной и Полом, поскольку он думал, что это мои к нему личные подъебки. Но это было не так. Я адресовал их тем людям, которые пытались на него повлиять. Потому что с Полом все было в порядке. И я всегда хорошо с ним ладил. Но я отнюдь не ладил с Полом, когда Стив или Малкольм шептали ему на ухо.
Очень странная она была, наша группа. Пол – тихий парнишка, не из тех, кто суетится, очень похожий на своего отца, тихий и склонный к компромиссам. Не знаю даже, о чем он думал. Пол отосится к числу людей, предпочитающих оставаться незамеченными. Но именно сочетание разных характеров и создает нечто целое, именно это сделало нас теми, кем мы стали. Я имею в виду, если бы все были такими же психами, как я, все пошло бы насмарку – осталось бы только спустить в унитаз! В этом я должен быть честен. Предоставленный самому себе, я на все сто процентов – настоящая катастрофа! У меня нет кнопки «стоп». И тут: «Да, давайте подумаем, как быть».
Я думал, что нашел свой голос почти сразу, но по-настоящему услышал себя только тогда, когда у нас впервые появились сценические мониторы, а именно на концерте с Eddie & the Hot Rods в «Марки». Это оказалось для меня большим шоком. Я случайно «сломал» мониторы, потому что не мог вынести звука собственного голоса. Дело в том, что все остальные оказались достаточно глупы, чтобы позволить мне себя услышать.
Они говорили со мной, используя музыкальные термины типа «тактовый размер», и я понятия не имел, о чем шла речь. Или: «Вступай с “соль”!» Что?! Совершенно невежественный в этом отношении, я обладал огромными знаниями музыки, но ничего не понимал в том, как она создается.
Это было захватывающе – очень похоже на то, как в детстве впервые начинаешь собирать модели из деталек металлического конструктора. Когда-нибудь получали «Мекано» на Рождество? Открываешь коробку – ты уже успел посмотреть снаружи все фотографии того, что можно собрать, – однако едва эта коробка оказывается открытой, ты полностью теряешься. Вот что для меня означало присоединиться к «Пистолзам». Я должен был быстро сложить детальки вместе и догнать их.
Стив, Пол и Глен сделали для меня удивительные вещи, и я буду любить их до самой смерти. И пусть они меня позорят сколько влезет – это их право, но именно так я отношусь ко всем, с кем работаю. Хорошо у нас идет или плохо – не важно; очень быстро ты понимаешь, что если оно вообще не идет, то ты больше и не работаешь с этими людьми.
Изначально помещение на Денмарк-стрит должно было стать нашей штаб-квартирой. Стиву, однако, были не рады в доме его матери, и оказалось, что ему негде жить, поэтому он остался на Денмарк-стрит. Он как бы превратил репетиционную в свою квартиру и попытался создать некую атмосферу, которую мы неминуемо портили, когда приходили туда поработать. У всего есть темная сторона. Поскольку стены были голыми, я принялся рисовать на них отвратительные карикатуры. Мы провели ужасно много времени, играя во вражду, разными способами заводя друг друга.
Мы все очень надеялись, что группа отвлечет Стива от воровства. Однако оказалось, что хрен редьки не слаще. Было очень трудно поладить со Стивом, когда он был не в настроении. Только Пол Кук по-настоящему понимал его. Стиву особенно хорошо удавались злые шутки, он любил поступать людям назло, и Полу приходилось терпеть это, так же как и всем остальным. Все мы рано или поздно оказывались жертвами его розыгрышей, некоторые из которых были реально на грани. Представьте себе юнцов, предоставленных самим себе.
Что же касается Малкольма, то он предпочел бы, чтобы я поменьше высказывался, потому что все еще хотел, чтобы его приняли в модное художественное общество. Один из первых концертов, которые он устроил, был в лофте того парня Эндрю Логана[133]. Он назывался «Бал святого Валентина». Это было очень странное, фантастическое место выступления, но я им не понравился. Возможно, потому что я и сказанул что-нибудь этакое.
Подобного рода чепуха была тем, ради чего Малкольм пресмыкался и к чему стремился, общаясь со всеми этими фальшивыми светскими львицами, уверявшими друг друга в собственной важности и снисходительности. Художники-мусорщики, позеры, чертовы скульпторы. Это было очень «искусно» и, следовательно, очень фальшиво.
В двух словах, Малкольм и его клика были этакими хипповатыми поклонниками искусств, реально. Они сменили шмотки, но их менталитет остался все тем же хипповским пустым тупиком. Все они целовали друг друга в зад и ничего не могли достичь, ничего не предлагали, ничего не делали. Поглощенные и очарованные собой, они закрывали двери в реальный мир. Мир, в котором я прочно укоренился.
В этом зашоренном модном Лондоне не было места для таких людей, как я, чему чертовски рад, потому что тот водоворот мог затянуть в себя, можно было поддаться общему настрою и решить, что самолюбование и самовосхваление сделают тебя спасителем вселенной. На самом деле это не так. Все они высокомерны и поверхностны, переполнены восхвалениями друг друга и из-за этого ограниченны и узколобы. У них нет настоящего понимания того, как работает реальный мир. Они погружены только в себя. Вот что я выяснил. Внешне они очень впечатляют: «Только посмотрите на этих людей, на их безумную одежду и на их типа безумный образ жизни, и все они выглядят так, будто занимаются безудержно-извращенным сексом». А на самом деле они лишь кучка буржуа из пригорода.
Малкольм был вечным студентом арт-колледжа. Однако я никогда не видел ни единого произведения искусства, которое бы он сотворил. Он окружил себя людьми вроде Джейми Рида[134], который был своего рода художником, но больше имел отношение к коммерческим аспектам искусства – подаче, упаковке и продаже вещей. Из всей компании Малкольма мне очень нравился Джейми и еще Софи Ричмонд, ассистентка Макларена. Она всегда была угрюма: «О, все уныло, мне скучно, я в депрессии». Мне было забавно находиться рядом с таким подавленным человеком. Ничто на свете не могло заставить Софи улыбнуться. Надеюсь, она это прочтет, и на ее лице появится широкая улыбка.
Малкольм снял офис на Оксфорд-стрит. В доме было две комнаты, и Малкольм всегда запирался в задней. «Что происходит, Софи?» – «Не знаю, он опять заперся!» Самой большой статьей расходов при организации этого офиса, помимо проведения телефонной линии и покупки стола и стула, стала установка двойных замков, которые Малкольм заказал в свой кабинет, чтобы убедиться, что мы его не взломаем. Он прятался там, чтобы не отвечать на вопросы. Не хотел, чтобы мы мешали его тайным планам. Малкольм держал свои идеи при себе, поскольку знал, что они будут отвергнуты, и я полагаю, что в своей иррациональной, эгоистичной манере он не мог справиться с необходимостью защищать то, что защитить невозможно. Может, он почему-то думал, что подобное поведение, этакая легкомысленность, делает его артистом. Это не так – все привело к какому-то аутизму и просто спровоцировало раздрай между всеми нами.
Так что случалось много ссор. Одна из них произошла в том пабе, «Нэшвилл», в Кенсингтоне. На самом деле мы играли там дважды, и во второй раз атмосфера была просто ужасная – Вивьен ударила кого-то в толпе. Все это превратилось в знатную потасовку между тем парнем и Гленом из серии «я или он», и, гм, догадайтесь, чем все завершилось? Ну да, в конце концов, победил «он»!
За все эти годы между мной и Гленом произошло много горького и перевранного, но я не хочу, чтобы это осталось так, потому что на самом деле Глен мне очень нравится. Нет, хочу! Иногда. Ха-ха-ха! Я понимаю, откуда все пошло, но для меня это два шага назад – совсем неинтересно. Я вовсе не считаю его темным, злым существом. Он просто хочет жить в счастливом мире, где все ладят. К несчастью для нас, этот счастливый мир должен быть устроен по его правилам, а это неприемлемо.
Были и другие проблемы, как, например, ходившие повсюду слухи о «желании быть похожим на Bay City Rollers[135]», хотя никто мне прямо об этом не говорил. Предложение было хитро передано мне через Малкольма, но это – совсем не то, чего я хотел. Тексты становились все жестче и жестче. Стив… Я тогда и не подозревал, что он не умеет ни читать, ни писать, и списал его отсутствие интереса к тому, что у меня было на бумаге, на простую небрежность. Это оказалось не так; на самом деле он просто не имел ни малейшего понятия, о чем я. Единственным, кто действительно читал тексты, был Пол Кук – его интересовало то, что я придумывал. Подход же Глена был таков: «Это не соответствует музыке. Ты не попадешь в такт». Как тут не подумать про себя: «Да только попадись ты мне, долбоеб!» Но между нами никогда не было открытого насилия. Пинались и толкались, но ничего откровенно грубого или отвратительного.
Нам вполне грозила опасность ударить в грязь лицом, но мы уперлись, и все получилось. Мы и в самом деле усердно работали, что часто упускают из виду. Да, мы работали очень, очень тяжело, и совсем без денег. Одним из тех, кто обратил на это внимание, был Крис Спеддинг, бывший в то время гитаристом Брайана Ферри. Он потратил немало времени, чтобы нас кое-чему научить. Отвез нас в настоящую студию звукозаписи и помог сделать демозапись, которая оказалась просто фантастической. И это открыло наш разум для новых возможностей.
До этого мы делали и другие демо с нашей дорожной командой, состоявшей из парочки хиппи с завалявшейся звукоаппаратурой, но это совсем не то же самое, что работать с профессионалами, – когда ребята, на самом деле занимающиеся звукозаписью, показывают, как все делается. Это было фантастически и лишь укрепило наше желание двигаться дальше.
Со стороны Малкольма отсутствовала какая-либо стратегия. Все происходило случайно – он действовал, скорее, наобум. Поднять трубку и сделать звонок – чего он даже сам не делал, этим занималась Софи, – не думаю, что это можно назвать стратегией. Малкольму каким-то образом удавалось вызвать раздражение у каждого, к кому бы он ни обращался. Многие агенты выгоняли его из офисов, некоторые даже с применением физической силы. Им не нравились его высокомерие, его тон, его поверхностность. Ты можешь быть снобом, но веди себя прилично. Эти ребята не хотели тратить свои деньги на то, что им представлялось фантазиями какого-то помешенного на собственном эго парня.
Он устроил нам кучу концертов на севере, но заказывать Sex Pistols на встречу тедди-боев в Барнсли было не очень умно, правда, Малкольм? Вечер мог закончиться очень печально. Когда вы находитесь в не том месте, играя для не той публики, концерт может стать настоящей зоной боевых действий. На тот момент у нас все еще был наигранный пятнадцатиминутный сет, который пришлось исполнить дважды. Среди публики преобладали очень злые тедди-бои средних лет. Они пытались вспомнить свою юность, но у нас – юнцов нового поколения – не было того, что им хотелось.
Следующий вечер в Скарборо оказался просто невероятным. Ненависть! Погода выдалась совсем не по сезону, и вокруг не было никого, кроме местных. Снаружи шел проливной дождь, жуткая холодрыга и штормовое море. Со сцены, через заднюю стену клуба, в которой были сделаны огромные окна, виднелся океан.
А перед сценой столпилось человек триста залившейся пивом гопоты, которые совершенно точно думали: «Эй, слабаки с юга, а не слишком ли сильно вы выеживаетесь?» Я пытался петь, дубася приближавшихся ко мне штативом микрофонной стойки – железным наконечником, который удерживает стойку вертикально. Через какое-то время ты уже входишь в раж, не пропускаешь ни единого такта и продолжаешь песню, и это становится чрезвычайно интересным для людей, которые до того считали тебя своим врагом. Они начинают обращать на тебя внимание, потому что ты тут не просто ради какой-то провальной потасовки, у тебя, видимо, цель поважнее. В конце концов эти люди воспринимают тебя своим приятелем только потому, что в тебя только что угодили бутылкой. Это уважают.
Каждый концерт был похож на битву, но мы выдержали. Музыкальная пресса начала освещать то, что они называли «насилием» на наших концертах, но, надо сказать, они изо всех сил старались выискивать подобные инциденты. Да пойдите на концерт Джастина Бибера, даже там в зале могут начаться драки. Это в порядке вещей. Заведите кучу людей одновременно в одно здание, и будет потасовка.
Никогда, ни в коем разе я не проповедовал насилие. У меня настоящее рабочее происхождение, и в моем окружении насилие считалось в порядке вещей, а мне, возможно из-за перенесенной в детстве серьезной болезни, приходилось всегда искать иной выход из положения.
Может быть, я и говорил что-то там, чуть выше, но… О, это все шуточки! Никогда не принимайте это за сопротивление, если, конечно, меня не пытаются убить, тогда у меня найдется сказать что-нибудь посерьезнее. Мне нравится давать и брать. Нравится, когда люди выкрикивают что-нибудь. Я отвечаю. Это связь. Они – люди, они пытаются поздороваться. Они вовсе не желают тебя оскорбить, хотя некоторые их реплики могут обернуться именно так.
Дерьмо иногда случается, и время от времени в зале появляется какой-нибудь человек, от всей души ненавидящий саму землю, на которой вы стоите, и тут уж ничего не попишешь, приходится иметь с ним дело напрямую. Самое последнее, что можно сделать, – покинуть сцену, поскольку 99,98 % зрителей находятся в зале с абсолютно правильными намерениями. Ты просто должен принять вызов.
В Лондоне из-за всей этой ерунды дошло до того, что никто не хотел разрешать нам играть в своем клубе, кроме Рона Уоттса из «Клуба-100»[136]. Рон мне очень нравился. Он был воспитан на джазе. И это – джаз-клуб, но, будучи парнем очень честным и непредубежденным, Рон был готов дать шанс любому. Он как-то сказал тогда: «Будь это Джордж Мелли[137] или Sex Pistols, какая разница?»
Не думаю, что ему очень нравился Малкольм, но, с другой стороны, того вообще мало кто любил. Малкольм заявился туда в своем фирменном стиле «Я – королевское высочество» и умудрился оскорбить персонал и владельцев этой явной помпезностью. Он всегда старался преувеличить свое положение, что, конечно, делало его мишенью бесконечных насмешек не только со стороны посторонних, но и даже со стороны Стива Джонса – он был в этом, ффу-у-ух, как масло на тосте. У этих двоих сложились очень странные отношения. Стив не хотел ничего делать без разрешения Малкольма, однако потом день и ночь над ним подтрунивал. Глубоко порочная манера, но Малкольму, похоже, это нравилось. Пойди тут разберись.
Я же не мог растрачивать свою энергию на сарказм по отношению к Малкольму. Чем дальше я держался от этого, тем меньше была вероятность выпалить ему какую-нибудь дерзость в ответ на: «Как мне кажется, Джон, что ты должен сделать, так это…» Единственный раз в жизни Малкольм попробовал ко мне обратиться и был послан так, что больше не повторял своих ошибок!
Во время жары, которая обрушилась на Британию летом 1976 г., боже мой, я делал все, чтобы не загореть, но это было неизбежно. Мне нравился мой мертвенно-бледный цвет лица, потому что я был в большей степени ночным созданием, но эта ужасная, смертельная дневная жара, особенно когда пытаешься в это время выспаться, – нет, ни за что! Поэтому примерно в это время я типа изменил свой режим сна и бодрствования и стал больше выбираться из дома днем. Пришлось, спать все равно в такую жару было невозможно. Жара стояла просто нереальная, хорошо за тридцать. Так странно, так не по-британски. Хотя не помню, чтобы кто-нибудь из лейбористов на это жаловался.
Погода влияет на все, это заложено в самой природе, приходится учиться поспевать за ее причудами. Противостоять им невозможно, вас просто расплющит. Однако, с другой стороны, это оказался настоящий дар свыше, и с тех пор в Лондоне все изменилось. Я заметил, что в ресторанах начали ставить снаружи стулья, потому что сидеть внутри было слишком жарко, и Лондон стал очень похож на Европу. Однако едва подобного рода двери открываются, в глобальных масштабах, их уже не закрыть, поскольку к хорошему быстро привыкаешь.
Мне очень нравилось играть в «Клубе-100» в то лето, по мере того как росла наша популярность. Да, это был потный подвал, но там установили нечто похожее на кондиционер, пусть даже звук его напоминал рев авиационных двигателей. У меня осталось только одно смутное воспоминание о том, как я был на сцене, и это связано с фотографией, на которой я стою на полу на коленях в своем разорванном джемпере и ору в микрофон. Я помню, как делал это и чувствовал: «О, посмотрите, что я могу! Я реально наслаждаюсь этим, мне это нравится. Нравится быть в группе, нравятся песни, нравится сила и энергия всего этого, и, клянусь богом, посмотрите на счастливые лица вокруг. Все возможно!» Нас часто изображали на сцене как помешанных на спидах маньяков, однако этот образ был далек от реальности. Другие трое участников группы вообще не имели к подобному отношения. Несмотря на то, что много лет спустя Стив присоединился к анонимным алкоголикам, он никогда особо не употреблял, щепотка солей, и то едва ли. А я… Я остановился. Я не собирался слишком увлекаться наркотическими радостями, поскольку действительно хотел реализовать предоставившуюся мне возможность. Кроме того, ты не можешь петь на любых стимуляторах, просто забудь об этом, это не сработает, с твоим-то учащенным сердцебиением… Ты закончишь песню еще до того, как группа выйдет на сцену. Все это делает тебя слишком взбудораженным, чтобы сосредоточиться на работе, – не совсем то, чего бы хотелось на сцене. Сердечный приступ, паника – вполне вероятные последствия. Я не люблю находиться в состоянии тоски, поэтому для меня наркотики всегда были строго факультативными.
Мой любимый напиток перед шоу в те дни был Liebfraumilch, немецкое вино, – с ним меня познакомила Нора, моя будущая жена, хотя и сказала, что оно отвратительно. Материнское молоко. Да, оно было ужасно, но, черт возьми, это помогло мне пережить… сколько концертов?
Еще одна легенда о панках гласит, будто все мы были на пособии. Ну, а на самом деле мы – не были. Пол довольно долго работал на пивоварне «Фуллерс» в Чизвике. Он был там стажером-электриком. Я старался заработать как можно больше денег и всякого такого. Тогда я еще учился в Кингсуэе, но по мере того, как все больше погружался в «Пистолз», учеба стала невозможной, я не мог сосредоточиться на двух вещах одновременно. Это было типа – рискни, прыгни, нырни, соберись. И я полностью посвятил себя группе. Поэтому меня страшно бесило, что Пол вовсе не собирался следовать моему примеру, и расписание репетиций подстраивали под его работу.
Мы совершенно ясно демонстрировали всем, кто нас видел, что это возможно – возможно, без значительной финансовой поддержки. На самом деле, нам удалось забраться так далеко вообще без всякой поддержки. Мы сделали это до работы со звукозаписывающими компаниями, до всего подобного – мы продвинулись сами. И у нас не было никого, чтобы научить нас тщеславию. Тщеславие – это то, чему ты учишься, нельзя просто так начать нести весь этот вздор.
Когда собирались люди, чтобы на нас посмотреть, для меня главным было не просто выступление, мне гораздо больше нравилось то, что происходило потом – разговаривать с людьми, узнавать, каковы их интересы, их идеи и мнения, и обнаруживать, что все они смотрят на жизнь с разных сторон. Да, публика в Бромли будет сильно отличаться, скажем, от той, с которой вы столкнетесь на севере, но все эти люди одинаково интересны и одинаково равны.
Так называемый «контингент Бромли»[138] был словно создан для Sex Pistols. Многие из них вышли из среды поклонников Боуи и Roxy Music, где все были помешаны на том, чтобы одеваться соответствующим образом. Концерт Roxy Music, особенно большой концерт, был, скорее, про то, чтобы выделиться в фойе. Сам концерт оказывался уже делом второстепенным. И у разных группировок фанатов было разное чувство моды; среди них царило товарищество, но нельзя забывать и про чувство конкуренции.
Когда выглядеть в стиле «Рокси» стало отстойным, не осталось никого, чтобы заполнить вакуум. А затем взлетели мы, и это было: «О, ха, да, пожалуйста! Теперь мы все можем быть самими собой!» Любой мог признаться, что ему нравится совершенно разная музыка, и создать свой собственный образ. Вовсе не обязательно было копировать какого-нибудь чувака со сцены. Это открыло перед ними новую дверь, за которой можно было оторваться от элемента соревновательности и ограничений, поскольку все это становилось уж слишком похоже на бальные танцы – я имею в виду, жесткую ограниченность чрезмерного увлечения костюмами. Мы позволили себе отдохнуть от этого, и бинго, вот оно! Открылось множество дверей, и сексуальная ориентация уже не имела ни малейшего значения. Никто никого не осуждал.
На самом деле вначале появилось множество маленьких глэм-роковых команд, и мы открывали их для себя. Чем больше они отличались, тем интереснее выглядели. Однако с этой сценой вскоре было покончено. Мир отошел от высокодраматичной тревожной музыки, и, честно говоря, Roxy Music делали это лучше всех, так зачем было пытаться стать их продолжением.
Так что было здорово, когда народ просек фишку и стал создавать свои собственные группы. Если я могу это сделать, то и ты сможешь. Это были дети нашего возраста, но не только из моего окружения – из самых разных социальных слоев. Фантастика, настоящее слияние различий. Девчонки, которые могли постоять за себя, из этих замечательных женских групп, типа X-Ray Spex[139] и Slits[140]. Было так много всего этого, так много различий между группами в музыкальном плане. Невероятно интересный и захватывающий период – наблюдать и слушать такую музыку. И «Рокси» был для этого отличным клубом. Несмотря на то, что «Пистолзы» на самом деле никогда там не играли, у нас было место, чтобы как-то выразить самое разное друг к другу отношение. Я всегда думал, что в этой среде прежде вообще не было никакого чувства конкуренции, пока благодаря средствам массовой информации панк не стал доступен самым широким слоям населения, не начали возникать клише, эти вопли на сумасшедшей скорости.
Все это пришло в большей степени от The Clash и The Damned[141], чем от нас. И это было очень похоже на ритм-н-блюзовые команды Джо Страммера, в которых он играл до того, как присоединился к The Clash. Это был бы какой-то бешеный рокабилли на сумасшедшей скорости, который мне никогда не нравился. Не поймите меня неправильно, я любил Джо. Поначалу он был очень дружелюбен, дружелюбен, дружелюбен, но вскоре все изменилось, едва только Джо начал воспринимать The Clash слишком серьезно.
Для меня ярким светом в этой группе всегда будет личность Мика Джонса – прекрасный человек, по-настоящему теплый. То же самое с басистом Полом Симононом – он шикарный парень, скажем так, из хорошей семьи, но двух слов связать не мог. Я всегда списывал это на застенчивость. По отдельности они все мне очень нравились. Ребята играли к тому времени всего пару месяцев, когда выступили у нас на разогреве в кинотеатре Screen on the Green в Ислингтоне. Они пришли с таким количеством оборудования – о боже, у них была огромная акустическая система озвучивания, которую, конечно, они нам не одолжили. Поэтому, когда разогревающая группа удалилась вместе с этими огромными ящиками, мы снова оказались на сцене с нашими маленькими коробочками.
Группа, которую я любил, – Buzzcocks[142]. Отличные, веселые тексты, совершенно иной подход к музыке. К сожалению, в то время, когда все было свалено в кучу и называлось «панком», люди действительно не замечали, что Buzzcocks были немного в стороне от проторенной дорожки.
Они играли свои первые концерты с нами, в Манчестере. Все, что я помню, – это бесконечные споры, что бы вы ни упомянули. Помню еще, как их солист, Говард Девото (он ушел вскоре после этого), и парень, который стал новым солистом, Пит Шилли, отвели нас в паб под названием «Томми Дакс», где самым большим приколом было подвешенное к потолку нижнее белье, и я вел себя соответствующе. Просто мне все это показалось довольно глупым. Ну, потому что ты нервничаешь перед выступлением и не готов к подобного рода идиотским ситуациям, так что я был немного к ним несправедлив, но мне кажется, они поняли, что мы такие, какие есть. Ты всегда должен быть самим собой. Много лет спустя мне пришлось извиниться.
Малкольм любил изображать себя дирижером бурно развивающегося движения, но все это происходило вне его контроля. Буквально каждый его шаг был бестолковым. В сентябре он впервые взял нас с собой во Францию, и в итоге мы играли в переполненном зале парижской дискотеки для твердолобой толпы любителей диско. Ну, понимаете: «Это не есть быть “Би Джиз”, п’гавда?» – «ДА-А-А!»
Но как чудесно мы провели время! На мне был баскский берет и все такое. Малкольм повел нас в шикарный бар с открытой верандой, где, по-видимому, тусовались все крутые селебы Парижа. Он познакомил нас со своим другом-мультимиллионером, который пригласил всех в пятизвездочный ресторан французской кухни. О, обожаю – самый большой, самый жирный, самый сочный, самый сырой, самый кровавый стейк из всех возможных, и я залакировал его перепелкой – целой перепелкой, которая выглядела точно так же, как мой любимый волнистый попугайчик. Крошечная птичка, абсурд. В чем суть всего этого? Никогда не понимал фишки, но я оценил изумительный вкус.
Так что это открывало разум разным интересным штукам, но не позволяло превратиться в изнеженную культурную шлюху. Совсем наоборот. Я думаю, что подобный уровень качества должен быть доступен всем нам. Это мой образ мыслей. Откройте двери. И если вам удастся приоткрыть щелочку, просто пните дверь немного сильнее, чтобы за вами последовали другие. Чтобы сделать мир лучше, а не хуже.
Глен думал примерно в том же духе, но его идея того, что такое «лучше», была обременена правилами. Ты не должен материться, потому что, понимаешь, дети, это же плохо на них влияет. Мы тогда сильно поспорили, и, да, я утверждаю, что не существует такой штуки, как ругательства. Все это вопрос интерпретации. Ругательства – просто издаваемые людьми звуки, которые обладают определенным эффектом. И это относится к любому слову, а как только вы начинаете запрещать слова, вы запрещаете то, что делает человека человеком. Как, черт возьми, мы можем умалять себя таким образом? Это не акты насилия. Это мнения, и если твое мнение ошибочно – что ж, тем веселее. У-ух, класс, почему бы тебе не сгореть синим пламенем! Да кто вам мешает говорить всякое дерьмо. Одно только «но»: если говоришь дерьмо, его же в ответ и получишь.
И еще одно наше легендарное выступление, которое не было спланировано Малкольмом, а состоялось по приглашению. Как, однако, странно, что Челмсфордская тюрьма строгого режима пригласила туда играть «Пистолзов» – убийц и психов. Фантастический концерт и фантастические заключенные. Сколько же дури было у этих парней! Все они мотали серьезные сроки; среди них не было тех, кто сел за то, что подрезал сумочку, – по крайней мере, в толпе, которая пришла на нас посмотреть. Это были реальные люди, которые попали в сети нашей говносистемы и по уши увязли в ее проблемах. Очень легко стать преступником, не понимая правил. Я вижу в каждом заключенном в той или иной степени жертву, в этом проявляется мое сопереживание. Мне это нравилось.
Те парни поняли наши песни, скажу я вам. На середине «Анархии» я бросил в зал: «Кхе-кхе, запах марихуаны меня тормозит!» Но когда их вот так вот запирают, все, что у этих бедолаг остается, – это наркотики. Боль, которую я испытывал за них, была заперта без надежды выбраться.
После концерта мы поговорили с ними – не было никакого контроля со стороны тюремных властей, и мы не были отделены от нашей публики. Они не хотели причинить нам вреда, и многие из них ожидали, что я вскоре стану их товарищем по заключению. «Ты на пути к гибели, ты на пути!» С тех пор я доказал обратное, но они понимали наше общество и то, как оно может против тебя обернуться.
Когда мы собрали кучу групп на двухдневный панк-фестиваль в «Клубе-100», слово «фестиваль» было намеренно использовано совершенно неподобающим образом, с большой долей юмора и ни в коем случае не должно было восприниматься так серьезно, как это было до тех пор. Назвать это фестивалем означало устроить самим себе розыгрыш, вволю посмеяться. А тогдашние репортеры – да, собственно, и до сих пор так считается – восприняли все абсолютно на голубом глазу как какое-то ортодоксальное, продуманное, серьезное мероприятие. Нет, чушь полная! Это была просто куча групп, которые собрались, чтобы повеселиться, развлечься и некоторым образом дать знать о своем существовании.
Бо́льшую часть репортажей заняли события, связанные с журналистом «Нью Мьюзикл Экспресс» Ником Кентом. В какой-то момент он думал, будто является членом Sex Pistols, – он участвовал в той странной репетиционной неразберихе задолго до того, как я присоединился к группе. Впоследствии он превратил себя в рупор разногласий по поводу «Пистолз». Поэтому едва он объявился на «фестивале», все отреагировали типа: «Ага, попался!»
В ту ночь его избил Сид. Что я могу сказать? Меня поражает, что он вообще упомянул об этом, потому что быть избитым Сидом почти невозможно. Если ты будешь говорить гадости, рано или поздно кто-нибудь попытается сказать тебе, чтобы ты заткнулся. У многих людей возникали проблемы с Ником Кентом. Нельзя просто так быть таким злобным и неточным в том, что ты пишешь, и думать, что это останется без последствий. Сид тогда еще не был в «Пистолз», он просто злился на то, что читал.
Но я наслаждался «Фестивалем» в «Клубе-100». На мой взгляд, такое разнообразие групп было потрясающим. Можно было просто стоять в толпе, слушая их всех, а потом пойти и внести свою лепту. Это было невероятно приятно. И, конечно, мы все вместе выпивали, каждый из присутствующих был изрядно навеселе. На тебя не давил тяжкий груз необходимости выглядеть грандиозно. Ты просто был самим собой, а потом оказывался в толпе и братался с публикой. Это было удивительное чувство близости. Обожаю. Чувство товарищества, и, казалось, не было никакой высокомерной ревности к другим участникам.
Девушки, которые ходили тогда на концерты, обладали исключительным творческим гением в плане одежды. Там была целая толпа девчонок, которые начали носить мешки для мусора задолго до того, как это просекла пресса. Из-за забастовок на улицах было полно свалок, и соорудить прикид из мусорного пакета казалось вполне естественным – отсюда все и пошло. У властей закончились черные мусорные мешки, поэтому они начали выпускать ярко-зеленые и ярко-розовые. Поразительные цвета, и идеально, если вы не можете себе позволить дорогой псевдо-панковский прикид – просто натягиваете один из этих мешков, парочка поясов, заклепки, и бинго, носите на здоровье! «Отлично, ну и где там мальчишки?»
Бондажные шмотки Вивьен, с другой стороны, были самой ограничивающей, отвратительной, раздражающей вещью, которую только можно было надеть. Я чувствовал себя в них полным ненависти. Обожаю! Теперь молния на брюках тянулась от задницы к переду. Проблема заключалась в том, что они были слишком тесными – Вивьен всегда кроила брюки под женскую фигуру, и это заставляло мужские гениталии внутри чувствовать себя невероятно неудобно. Эта чертова линия банта, передний срез брюк, была в нижней части скорее V-образной, какой там плавный изгиб, а затем резко шла вверх. Твоим причиндалам было негде разместиться. Проклятье, так что тебе приходилось перекладывать хозяйство то влево, то вправо. Помните присказку старого портного – сэр одевается налево или направо? Но даже в этом случае места не хватало… Так неудобно!
Она никогда не понимала форму человеческого тела и, я думаю, горько на него обижалась. И Вивьен, конечно, не имела ни малейшего представления о том, как располагаются мужские гениталии. Вот что бывает, когда у тебя любовник – Малкольм: она устроила роскошную кастрацию своим обожающим поклонникам моды!
Бондажные штаны с ремнем между ног – это одно, верно? Для меня, имеющего очень хорошее представление о футбольной культуре – я вырос на этом, – идея «Я не могу в них бегать, поэтому должен стоять и драться» была хороша, но Вив же делала совсем по-другому. И да, что касается молний, послушайте, это просто невыносимо стесняло яички. Ее ответ был прост: «Ну, тогда оставь молнию открытой!» Так вот: я попробовал это сделать на одном концерте, кажется, в Лидсе. Нет, в Мидлсбро. На мне были бондажные штаны, и когда я оставил молнию открытой, случилось следующее: молнии по обе стороны моих гениталий впились в меня, как пара острых пил, что привело к действительно серьезной инфекции. Через пару дней ты даешь интервью невероятно важному музыкальному журналу, и они спрашивают тебя, каково это – быть рок-звездой? Ха-ха-ха! Ну давай, Джон, все девушки, должно быть, от тебя без ума! А ты думаешь только о том, что в данный момент уж точно никак не можешь показать женщине пару своих наполовину распиленных орехов. Мое мужское достоинство оказалось под угрозой.
И, боже, если тебе не везло с молнией, которая тянулась от задницы до переда, это было очень больно, поэтому ты должен был внимательно следить за тем, как садишься. Они были скроены исключительно на женщин. Но Вивьен объясняла это так: «Все это часть твоего опыта рабства». Дословно цитирую. Эта женщина была просто уморительна!
Но вскоре о ножные ремни спотыкались уже все. По всему миру! Немного отвлекусь, но это отличная история: мой очень хороший друг, Пол Янг – не поп-певец, – купил как-то себе такие брюки, и его мама отутюжила на них спереди стрелки! Стрелки на бондажных штанах! Она хотела как лучше – это хорошо, когда о тебе кто-то заботится, но боже мой, представьте, насколько болезненно воспринял это подросток? Но не волнуйтесь – всего час в таких штанах, и эти складки прекрасно разошлись от пота.
Должен, однако, сказать, что ее футболки были потрясающими. Мне понравился дизайн одной, скроенной в виде двух сшитых между собой квадратов. Это была задумка Вивьен, там был еще какой-то написанный спереди диалог или что-то типа того, но сама идея сделать футболку из двух квадратных кусков ткани, сшитых вместе от линии горловины до края рукава и от подмышек до низа, превосходна. И зачем нужны вещи по фигуре? Мне это нравилось, за исключением разве что тех случаев на сцене, когда ты совершаешь свою самую стремительную, самую крутую пробежку, а потом появляется фотография чего-то похожего на пивной живот, а тебе всего двадцать. Понимаете, слишком коротко.
Постоянная проблема, с которой я сталкивался в творениях Вивьен, заключалась в том, что эстетика значила для нее гораздо больше, чем реальная физиология человека. Другой проблемой были вечно распускающиеся нитки, поскольку швы она никогда не закрепляла. С другой стороны, у нее действительно не было денег, чтобы нанять хороших швей и сделать правильную отделку, так что все это – дело случая. Я имею в виду, что она реально пережила тогда целую вселенную всяческих напастей. С тех пор мы с ней встречались, и на протяжении всех этих лет она говорила обо мне очень плохие вещи, да и я говорил о ней ровно то же самое. Но я все еще уважаю ее. Кто еще способен так ходить по краю? Кто еще? В том-то и радость от того, что мы делаем, – когда мы говорим друг о друге, мы словно подталкиваем друг друга к следующему шагу. Но в прессе все это совершенно неправильно обозвали «сварой».
Хотя замечу, что у Вивьен всегда был очень сложный характер. Очень неумолимый и осуждающий, и с ней очень трудно ладить. И еще ее манера – она стояла там, выкрикивая оскорбления, взирая на весь мир, как индюшка! О, помню один ее наряд – Вив кричала на меня перед каким-то концертом, на ней был цельный, облегающий, застегивающийся на молнию резиновый комбинезон телесного цвета, на месте сосков были продеты красные кольца, и этот костюм доходил ей до самой шеи. Плюс еще волосы торчком – она на самом деле выглядела как индейка. Истощенная, ощипанная индейка. Ее морщинистая старая шея пыталась высунуться из этой штуки. Это было до того, как Сид присоединился к группе. Я не понимал, о чем она говорит. Кому какое дело? Я просто смотрел на эту нелепую штуку перед собой, и Сид заметил: «Да заткнись ты, индюшачья шея!»
Теперь я жил в квартире Линды Эшби в Сент-Джеймсе, сразу за Букингемским дворцом, почти напротив Скотленд-Ярда. Линда тусовалась с кем-то из «контингента Бромли». Фактически она была девушкой по вызову, и все ее подруги были такими же. Мне очень нравилось их общество. Они мне казались действительно открытыми, честными людьми. Как только они заканчивали со своей утомительной деятельностью на ниве секс-услуг, этой ежедневной рутиной, с ними было очень весело общаться, поскольку отпадала необходимость хранить какие-то личные секреты.
Мы познакомились через девчонок из лесбийской тусовки, которые часто ходили на концерты Sex Pistols. У «Пистолз» всегда было много поклонниц-лесбиянок, и они мне очень, очень нравились. На самом деле они очень ранимые, теплые люди. Я понимаю, что они дают друг другу то, что не могут дать мужчины. Больше силы! Как чудесно сидеть на диване между двумя лесбиянками – такого тепла ты не испытывал никогда в жизни. Просто невероятно, насколько открытым может быть подобное чувство. Знаете, если вы находитесь там, где вам не стыдно за себя, это знак того, что вас окружают хорошие люди, – ключ к поиску правильных по жизни людей. Всегда общайтесь с теми, кто не стыдится себя, будь то лесбиянки, геи, гетеросексуалы, черные, белые, кто угодно – ебанутые, психически ненормальные, извращенцы или просто абсолютно нормальные. Если они действительно имеют в виду то, что говорят, и являются теми, кто они есть, это очень комфортная среда.
Мне очень, очень нравилось общество Линды. Я любил ее до безумия. Между нами не было никаких «отношений», ну, разве что некая общность двух психов. Она была прелестной девушкой, которая втягивала меня в действительно замечательные ситуации.
Например, Линда однажды познакомила меня с Джереми Торпом в баре в здании парламента. В то время он был лидером Либеральной партии в Великобритании, однако его политическая карьера вскоре закончилась гей-секс-скандалом. В парламенте проводилось какое-то вечернее мероприятие с выпивкой, и у Линды был туда доступ, поэтому она взяла меня и еще пару человек. Несколько пенни за пинту – возмутительно, блестяще, какое замечательное для выпивки место! Где-то неподалеку возвышалось здание парламента, а мы стояли там под специально раскинутыми навесами, глядя на Темзу, окруженные этими депутатами, которые весь день, кажется, ссорятся и ненавидят друг друга, но вот они тут – обсуждают, кто с каким эскортом покинет вечеринку.
Мои представления о продажных депутатах всегда многократно усугублялись, когда я получал возможность наблюдать за ними застигнутыми врасплох. Наверное, они решили, что я проститутка мужского пола, просто с несколько иным стилем одежды. Я никогда не одевался откровенно сексуально, так что мне повезло – я не привлекал к себе подобного внимания. Скорее, отталкивал.
Так что в ту ночь я был свободен от поползновений геев-депутатов. Я определенно не был тем, кого мог искать Джереми Торп. И только посмотрите на скандалы, которые развернулись всего через пару месяцев – вокруг нас обоих! Он был так знаменит своими твидовыми пиджаками – ну, знаете, классическими британскими костюмами, это была его фишка – и своей дурацкой маленькой шляпкой. Когда много лет спустя, в 2007-м, я надел твидовый костюм на мероприятие «Пистолзов»[143], то, танцуя в этом наряде, в глубине души думал о Джереми Торпе.
К концу лета концерты стали очень напряженными. На том, что проходил в кинотеатре «Screen on the Green», было полно народа из музыкальной индустрии, всяких людей из звукозаписывающих компаний, занимающихся поиском новых исполнителей и так далее. Это был очень странный концерт, все, что с ним связано. Меня не особенно порадовала идея Малкольма показать перед нашим выступлением фильмы Кеннета Энгера[144]. «О, черт возьми, да это геи, одетые как “Ангелы Ада”, сосут друг другу члены. Правда, Малкольм, разве это Искусство?» Но в «Screen on the Green» заведовал всем очень хороший парень по имени Роджер, и это была его работа – продвигать это безумное кино не для всех. Наверное, и я бы предпочел, чтобы они демонстрировались на экране на концерте Sex Pistols, а не между Дональдом Даком и Багзом Банни.
Я сидел в толпе, смотрел эти фильмы и задавался вопросом: «Интересно, о чем думают люди?» А люди не думали ни о чем, кроме: «Посмотрите на этих старых пердунов, пытающихся произвести впечатление». Таково было общее отношение собравшейся там молодой публики; все это выглядело каким-то утомительно-пресыщенным и было наполнено энергетикой в стиле заблудшего Джеймса Дина. Помню, я сказал все это Малкольму. Это было так забавно. Рядом со мной сидел Джон Грей, который поинтересовался: «А где в этом фильме девушки, Малкольм?»
Я вообще понятия не имел, как заключались сделки со студиями. Конечно, Малкольм делал все это за кулисами со своим адвокатом, которого я никогда и в лицо-то не видел. У меня с самого начала были большие сомнения в юридической силе контракта с EMI, поскольку при подписании мои интересы не представлял мой адвокат. И я всегда держал это в уме, думая, что, если в будущем возникнут проблемы, у меня будет возможность воспользоваться этой лазейкой и как-нибудь отвертеться. Типа что в контракте есть нестыковки. И, как всегда, я ошибся в том, что касается законов.
Будьте очень осторожны с тем, что вы подписываете, я обращаюсь сейчас к каждому в этом мире! Даже если вы думаете, будто знаете, о чем идет речь, вы очень легко можете обнаружить, что ничего не знали! Формулировки контрактов настолько мудрены и запутаны, что с таким же успехом их можно было бы написать по-вьетнамски. То, что, как вам кажется, вы поняли абсолютно ясно и четко, оказывается неправильным и на самом деле имелось в виду нечто совершенно другое. Ты запутываешься в этих вещах, а потом годами пытаешься их распутать. Итак, ты проходишь через все это, и вот он, твой первый контракт на запись, и ты жутко взволнован. Иначе и быть не может, ты думаешь, будто чего-то добился, обеспечил себя деньгами до конца жизни. Ура! Достижение Номер Один. Но это не так. Такова жизнь – череда взлетов и падений.
Ходили разговоры и о других лейблах, таких как Harvest и Chrysalis, которые я очень любил, когда был помоложе, но они все погрязли в хиппизме и уж там точно не было места Sex Pistols. Это совершенно другой жанр, и там бы пришлось менять все, от туалетов в подвале до кладовой на чердаке, чтобы приспособить к совершенно иному подходу к жизни. Так что нет, это не выход.
Было очень трудно сказать, что происходит, кроме того, насколько утомленной и старой студией была EMI и насколько потерянной. Они и понятия не имели, как инвестировать в будущее. Они, вероятно, просто увидели нас: «О, смотрите, похоже, группа может дать какую-то движуху. Давайте ими займемся!» Мы были не первой панк-группой, подписавшей контракт. The Damned сделали это незадолго до нас, что было весьма забавно, – использовав наше старое панковское прозвище[145] и опередив нас на один шаг. Не знаю, были ли они очень довольны своим положением. Об этом мало что говорилось.
Я полагаю, на EMI думали, что это все только шуточки, и они реально, на самом деле реально не справились с тем, во что это вылилось. Весь наш хардкорный напор просто потряс их до основания, так что пришлось быстро убираться из EMI. И во многих отношениях это было здорово, поскольку записи, которые мы сделали для EMI, были настоящим дерьмом, я не преувеличиваю, – они записали такие отвратительные демо, что полная безнадега. То, что в результате получилось, иначе как бездарным шумом не назовешь.
Была тогда записана печально известная ранняя версия «Анархии», полный отстой. В то время мы ее так и не выпустили, и слава богу. Мы порядком поджали хвосты со стыда за то, насколько это оказалось ужасно. Так что наша следующая попытка записать сингл, уже с Крисом Томасом, выстрелила точно в цель – ну, вы знаете, «если долго мучиться, что-нибудь получится». Можно сделать хорошую запись и с фальшивыми нотами, дело было не в этом – всему свое время.
Мой голос сошел с ума на строчке «Is this the I-R-Aayyeeaaaye», но в этом-то и заключается вся магия. Именно так я и чувствовал себя в тот момент, однако парни на студии оказались не очень довольны. «Iiiyiis thii-iis ver…» – «О, нет, ты не можешь делать это таким образом, Джон». – «Я только что сделал. Баста». Мне нужен всего один дубль. И многие продюсеры (когда я уже работал с профессиональными продюсерами) настаивали – или любезно просили, что приятнее, – чтобы я вернулся и попробовал по-другому. Но для меня нет «другого». Я написал песню именно так. Я вам не Рой Орбисон. Я нашел свой собственный голос, свой собственный путь, свой собственный стиль и свою собственную оценочную шкалу, и я буду придерживаться их, потому что именно в этой системе я чувствую себя лучше всего – здравым и готовым к работе.
Когда сингл вышел, у нас не произошло никаких изменений, никакого внезапного притока наличных вашему покорному слуге. Я не обращал внимания на место в чарте или что-то в этом роде. Я был полностью поглощен ежедневной рутиной поисков следующего сэндвича. Эти саркастические ублюдки звали нас на телешоу – мы побывали на шоу «Такие дела» с Тони Уилсоном[146], позднее основавшим «Фэктори рекордз»[147]. Там типа все пытались состязаться в интеллектуальном остроумии; сразу вспоминается Клайв Джеймс[148] – он всеми силами пытался разбить нас в пух и прах, еще когда мы готовились, чтобы выступить вживую. Поэтому я сказал этому парню пару слов и объяснил, что к чему, после чего прославился своей свирепостью. Да, я такой: всегда встану на защиту того, что делаю. Вместо того чтобы признать, что, знаете ли, мальчик говорит дело, Джеймс пустился в грязные тирады.
Мы даже не напрашивались на участие в шоу Билла Гранди «Сегодня». Приглашение стало для нас неожиданностью. Мы получили его только потому, что Queen в последнюю минуту отменили концерт, а у них также был контракт с EMI. Ну и спустя полчаса после приглашения я уже сижу в телестудии, наслаждаюсь своими выходными, и тут мне бросает вызов этот ебанный пьянчуга. Я не мог это так оставить.
Чтобы смотреть то интервью Гранди сегодня, надо понимать общий контекст того времени, насколько все были дисциплинированы, насколько публично, именно по-британски вежливы, и каждый знал свое место. Так обстояли дела в школе: ты должен был знать свое место, тебя всегда этому учили. А мы своего места не знали, и мы были настоящими. В этом нет никакого шоуменства, это просто точное изображение молодых людей, пытающихся что-то сделать в мире, который самым решительным образом настроен против правды. И если я что-то делаю, то только взаправду. Все, что мне нужно, – это правда. Джон Леннон, спасибо!
Мы должны были приехать туда к четырем, а потом ждать – шоу выходило в прямом эфире в шесть. Гримерка была полна бесплатного алкоголя, и должен сказать, Билл Гранди возглавил атаку. «Выпьем, давайте все выпьем, за всех!» Он с самого начала пропустил парочку и не стеснялся открыто насмехаться над Сьюзи Сью[149] и девчонками из «контингента Бромли» – ну, мы позвонили им до передачи и сказали: «Хотите с нами на это?» Мы превратили мероприятие в вечеринку, решив немного приколоться, и это оказалось приколом что надо – мы получили отличную дозу проблем на свою голову!
На самом деле первым выругался я. Гранди бросил в ответ: «Что это?» – «Ну, грубое словцо!» На самом деле я не хотел быть первым засранцем, который начнет разборки, но что поделаешь – он спровоцировал меня на это, и все покатилось. «Он сам напросился. И в том, что произошло дальше, моей вины нет, ваша честь. Я невиновен». Если вы и в самом деле понимаете, о чем весь разговор, это очень увлекательно. Должно войти в курс психологии, столько разных вещей происходило в наших головах одновременно. Похоже на сцену из пьесы Гарольда Пинтера[150].
Скажу честно, вы смотрите запись и видите пятна на моем лице? Видите, какой я мертвенно-бледный? Это говорит о том, что я два дня как под спидами. Мальчик с рекламного плаката амфетаминов!
Гранди, с другой стороны, был представителем морального большинства и шоу-бизнеса. Скажем так, закоренелый циник, насквозь продажен и явно не желал дать четырем парням из рабочего класса и шанса на успех. Да он и не мог поступить иначе, учитывая его происхождение и социальное положение, и поэтому в конечном-то счете его саркастическая отповедь в наш адрес лишь укрепила веру общественности в то, что мы не так уж плохи. Мы не морочили публике голову всякой чушью. Не пытались притвориться, будто мы пришельцы из космоса, или втюхать какую другую эзотерическую хрень.
Малкольм обосрался со страху в студии. Он заявил: «Слышал, что они собираются вызвать полицию. Быстро все бегите!» Ха! От чего? Я всегда знал, что Малкольм – трусливый отступник; он никогда бы не взял этот последний барьер. Возможно, просто потому, что у него были совсем другие амбиции. Может, я немного несправедлив к нему, но он не был готов зайти так далеко, как я или Стив, который в то время казался более чем способным на это. Он был великолепен на этом шоу, его уверенность была превосходна.
После этого все телефоны в студии начали жуткий перезвон, а мы все вместе сели в машину и убрались. Они высадили меня на ближайшей станции метро и, вероятно, отправились на вечеринку или что-то в этом роде, но меня не пригласили. Мне пришлось вообще втискиваться в эту машину, только чтобы меня куда-нибудь подбросили по пути, иначе я брел бы домой пешком по большой дороге.
На следующий день все буквально взорвалось, и вскоре я осознал, что не могу нигде спокойно находиться. У меня была знакомая девушка, которая жила неподалеку от Кингс-роуд, и я поехал к ней. Мне приходилось держаться подальше от глаз прессы, потому что папарацци неотрывно следили за нами – я всегда говорю, что это было рождение папарацци в британском стиле. С тех пор, куда бы ты ни пошел, за отбой тянулись целые толпы. Это разрушало на корню любые попытки вести социальную жизнь. Ты не мог быть просто нормальным, не мог посидеть в местном пабе с друзьями. Всегда рядом с тобой оказывалось двадцать придурков, которые искажали в прессе любую историю (естественно, в неблагоприятном для тебя смысле) и были готовы отыскать скандал там, где его нет. Полный кошмар.
Обычно я не читаю прессу, но написанное в газетах в то время было настолько поразительно, что я радостно зачитывался отдельными статьями, думая: «Но я ведь ничего не сделал, а получилось такое! Зачем платить рекламщикам? Можно получить всю эту ложь бесплатно».
В одночасье все превратилось в хаос, потому что у нас не было за штурвалом хорошего капитана, и все вышло из-под контроля. Хаос – отличный инструмент, но им надо уметь пользоваться. Просто так пускать пузыри, балансируя от одного инцидента к другому, что, я чувствовал, происходило, было не по мне.
А ведь мы были способны произвести действительно значительные социальные изменения во многих вещах – не только в прекрасном мире музыки, но и в самом обществе, которое внезапно обратило на нас внимание, – и Малкольм все испортил. Он испугался этого следующего уровня и всегда боялся быть арестованным и оказаться в тюрьме. Все эти глупости, которые ты вроде как ждешь с нетерпением по молодости. У тебя есть храбрость, у тебя есть молодость, и у тебя, наконец, есть невежество, потому что ты не осознаёшь в полной мере последствия. Что касается меня, я чувствовал, что в состоянии принять все, что бы ни произошло, потому что я мог это оправдать. Я мог постоять за то, что делал.
Тур, который мы организовали, чтобы продвигать «Анархию», стал анархией! Бессмысленные, бесполезные игры разума, без всякого видимого результата. Нас везде запрещали, а Малкольм был совершенно не способен поддержать нас в этой ситуации. Мы должны были воспользоваться этим моментом и наводнить средства массовой информации запросами на тему: «Почему бы вам нас не поддержать?» Но мы не искали союзников. Нам казалось, что мы – муниты, члены какой-то секты, а не точная, хорошо смазанная машина – широкая, с распахнутыми дверьми, прозрачная.
Первоначальная идея состояла в том, чтобы объединиться с цирком и гастролировать таким образом. Идея эта мне очень нравилась, и я внес большой вклад в попытку ее реализации. В детстве я любил веселые ярмарки и цирки, любил смотреть на тедди-боев, которые там выступали. Для меня это стало бы следующим уровнем. Нашелся агент, который был очень заинтересован в том, чтобы продвинуть дело, но оно развалилось. И снова мистер Менеджер просто загубил все на корню.