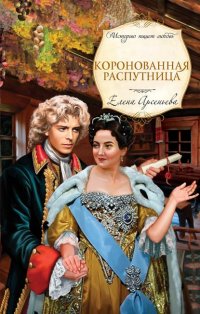
Читать онлайн Коронованная распутница бесплатно
- Все книги автора: Елена Арсеньева
Коронованная распутница
Змею во сне видеть – повстречаешься с неприятелем.
Видеть их во множестве – подвергнешься многим козням неприятелей своих.
Быть змеями укушену – окажешься пред лицом ужасной опасности, и неведомо, смертной погибели избегнешь ли.
Сонник грецкий и римскийиз незапамятных лет
– Сюда, ваше величество. Только будьте осторожны, не поскользнитесь на ступеньках – здесь темно.
– Да вижу я, что темно! – прозвучал сердитый женский голос. – То есть ничего я не вижу! Куда ты меня затащила, скажи на милость?! Тут хоть глаз выколи!
– Виновата, ваше величество, но старуха нипочем не хотела вылезать из своей дыры. А коли вам желательно было непременно услышать ее советы…
Говорившая умолкла достаточно многозначительно, чтобы та, которую называли ее величеством, могла понять то, что она не договорила: «А коли вам желательно было ее услышать, так и терпите!»
Ее величество выругалась сквозь зубы, спутница ее тихонько вздохнула. Она никак не могла привыкнуть к тому, что свежеиспеченная – не минуло и полугода, как на ее голову была возложена корона! – императрица российская при всяком удобном случае – да и при неудобном тоже! – сквернословит, словно маркитантка. Ну что ж, как говорится, от себя не убежишь, да и не таков ли весь русский двор?!
– Послушай, Анхен, а не болтлива ли старуха? – Голос звучал теперь не только сердито, но и встревоженно. – Как бы не начала потом молотить языком… Не пошел бы слух, что государыня императрица по гадалкам шляется.
– Что ж, вы правы, ваше величество, нам придется быть осторожней, – согласилась Анхен. – Мы ни в коем случае не должны говорить по-немецки – только по-русски. А главное, я не должна вас называть…
– Ты меня ни в коем случае не должна называть величеством, – отозвалась государыня. На русский язык она перешла с легкостью, свидетельствующей о привычке, хотя в речи и звучал тяжеловатый немецкий акцент. – Зови просто Катериною либо Катей. Думаю, бабка не догадается: мало ли Катерин на свете. Да ей небось и в голову не взбредет, что сама императрица к ней пожаловала. А я тебя буду звать Аннушкой.
– Как изволите, – покорно отозвалась Анхен, изрядно, впрочем, перекосившись от отвращения к этому имени, которое, на ее слух, звучало какой-то оскорбительной кличкой. Хоть и слышала она его частенько, но привыкнуть к нему никак не могла. Между тем приходилось терпеть, ибо русские ее почему-то иначе нипочем звать не хотели – вот Аннушкой была для них эта тоненькая девушка с соломенными волосами, точеным личиком и большими голубыми глазами, да и все. Не Анной, не Анхен, а именно Аннушкой!
– Однако мы на месте, – проговорила новоиспеченная Аннушка и повела перед собой рукой, ибо в кромешной тьме подвала, куда они с Катериной только что со всеми предосторожностями спустились, нельзя было что-либо увидеть – можно было только нашарить. Она нащупала толстую дверь, стукнула раз и другой… Тишина была ей ответом.
– Хм, – недовольно сказала Катерина. – Что ж никто не отзывается?
– Старуха плохо слышит, – пояснила Анхен, то есть Аннушка. – Еще раз постучу.
Она стукнула в другой раз, погромче, однако прежняя тишина царила за дверью.
– Майн либер Готт, – пробормотала Анхен по привычке, но тут же поправилась: – Господи Всеблагий, да уж не померла ли старуха, Боже упаси?!
– Померла?! – так и взвилась Катерина. – Это что ж, в такую даль перлись, в такую тьму спускались, ноги едва не переломали, а зря? Да я ее на правеж!.. – Вдруг она осеклась и засмеялась, видимо, сообразив, что, коли старуха померла, отправить ее на правеж никак не получится.
– Ладно, – сказала весело, ибо была хоть и вспыльчива, но весьма отходчива и обладала свойством мгновенной перемены настроения. – Дай-ка я стукну. У тебя-то ручонка тощенькая, а тут дверь ого какая! – И, чуть подвинув Аннушку плечом, она, шагнув вперед, шарахнула по двери с такой силой, что та содрогнулась, а Аннушка вскрикнула, решив, что ее спутница непременно сломает себе руку.
Ничуть не бывало! Катерина стукнула по двери еще и еще – так же напористо, и наконец послышался слабенький старческий голосишко:
– Кто это там долбится? Кто разбойничает?
– Отвори, бабушка, это я, Аннушка, – ласковым голосом сказала девушка. – Пришла, как мы и сговаривались.
– Да мы не сговаривались, что ты с собой стражников приведешь! – Старушечий голос окреп, исполнившись негодования. – Сказывала, с подругой явишься, тихо будет все, а ты что же?! Затеяли кулачищами бить!
– Да нет тут никаких стражников, – нетерпеливо крикнула Катерина. – Это я в дверь стучала. За делом мы к тебе пришли. Отворяй, бабка, негоже гостей за порогом держать!
– Ишь, какая гостья самовластная! – насмешливо произнес голос, а потом раздался скрежет тяжелого засова, который, видимо, с усилием вынимали из скобы, скрип заржавелых петель – и в подвальную прохладную тьму просочился слабенький огонечек свечи, а вместе с ним повалило таким спертым духом, что нежная Аннушка закашлялась, и даже Катерина, бывшая гораздо крепче своей спутницы, сказала изумленно:
– Да что ты, бабка, со времен ноевых дверь не отворяла, что ли?!
– Будет тебе изгаляться, барыня, – обиженно проговорила старуха. – Хочешь – заходи, а не по нраву мое обиталище – иди отсюда, я-то без тебя обойдусь, а вот без меня обойдешься ли – не ведаю.
– Как это – не ведаешь, про тебя ведь говорят, будто ты все ведаешь! – примирительно проговорила Катерина, подбирая юбку и повыше занося ногу, чтобы перешагнуть через слабо различимый порог.
Аннушка покорно последовала за ней.
История Анны Крамер
Сколько она себя помнила, ее всегда звали каким-то дурацким именем – Розмари. Наверное, на самом деле имя было красивое, но матушка давным-давно, когда у девочки были еще матушка, отец и родной дом, назвала дочку иначе. Девочка знала, что ее первое имя дано ей в честь матушки, а второе – в честь красивого цветка (розовый куст расцветал у них под окнами) и Пресвятой Девы. Это, конечно, очень мило, но все же первое имя, матушкино, нравилось ей куда больше. Однако отец, бывало, сердился: что это, мол, такое: позовешь жену – бежит дочка, дочку позовешь – откликается жена. Или обе приходят. Или каждая думает, что зовут не ее, ну и обе с места не двинутся. И он велел звать девочку только Розмари.
Она никак не могла привыкнуть. Все ждала – вдруг ее вновь окликнут привычно: «Анхен!»
Но нет. «Розмари, Розмари», – звучало в доме. Она сердилась, плакала, не отзывалась… Она тогда даже и не понимала, какая была глупая, какое это счастье, когда тебя окликают родные, любимые голоса – и совершенно не важно, как они тебя называют!
А потом эти голоса смолкли. К их городку подошли русские войска, и вскоре начали рваться снаряды. Одним таким снарядом был разрушен родной дом Розмари. Отца и матери не стало. Все мирные жители теперь считались пленными и должны были сделаться имуществом захватчиков.
При дележе добычи Розмари досталась раненому сержанту, которому предстояло покинуть армию и вернуться к себе в Казань. Он обращался с девочкой не зло, однако не скрывал, что не чает, как избавиться от нее. Зачем ему в доме лишний рот? А трудиться, как положено крепостным или работникам, она не сможет – больно уж слабенькая, что цветочек полевой. А потому, когда проезжали через Москву, сержант отвез Розмари в Немецкую слободу, на Кукуй, и предложил взять ее, кому нужно.
– А коли никому не нужно, – закончил он, – значит, я ее просто так тут оставлю, она у вас на пороге и помрет, но дальше я ее не повезу. Погибнет она, а я греха на душу брать не хочу.
Опрятно одетые, очень похожие на жителей родного городка люди, приветливо смотрели на Розмари, однако никто не спешил брать ее к себе.
Женщины, все в белых чепцах, стояли поодаль, спрятав руки под белыми накрахмаленными и в то же время уютными передниками. Внезапно на рыночной площади появилась еще одна женщина, и Розмари, раз взглянув, уже не могла отвести от нее глаз, до того та была красивая. Волосы как золото, глаза словно синее вечернее небо, капризный ротик похож на алый бутон, а щеки нежные, словно розовые лепестки. Она была одета в такое платье, какое, конечно, и во сне не могло привидеться даже самой богатой и знатной даме из всех, кого знала Розмари, – жене главы городского магистрата. Все ее наряды казались линялыми тряпками по сравнению с этим ярко-синим шелком – совершенно такого же цвета, как чудесные глаза золотоволосой дамы.
Она подбежала к Розмари и присела перед ней на корточки.
– Хочешь жить у меня? – с улыбкой спросила она, и девочка даже всхлипнула от счастья, потому что наконец-то слышала родную, любимую немецкую речь, а не этот противный русский язык, который еле-еле понимала и поэтому страшно его боялась.
– Да! Да, хочу! Конечно! – воскликнула она.
– Ну вот и славно! – лучисто улыбнулась красавица. – Тебя отведут в мой дом. А пока прощай, до встречи.
И, легко поднявшись, она пошла было прочь, но русский сержант окликнул ее:
– Куда же прикажете отвести девочку, сударыня?
– В дом госпожи Монс, – бросила через плечо красавица и величаво удалилась, а сержант, вылупив глаза, смотрел ей вслед, бормоча:
– Так вот оно что… Так вот она какая, Монсиха, кукуйская царица!
Розмари ничего не понимала, она не знала, почему красавицу называют Монсихой и кукуйской царицей, но та вдруг обернулась и спросила:
– Как же тебя зовут, девочка?
– Анхен! – радостно закричала Розмари, надеясь, что наконец-то избавится от ненавистного имени, однако красавица покачала головой:
– Нет, так тебя звать не будут. Анхен зовут меня! Еще не хватало, чтобы мое имя носила кухонная девчонка!
– Слышь, она говорила раньше, что ее зовут Розмари, – подал голос сержант, и красавица радостно хлопнула в ладоши:
– Вот и хорошо. Так и мы будем ее звать.
– Неужто ты ее в кухонные прислужницы определишь? – сокрушенно спросил сержант. – Да ты погляди, какая она беленькая и нежная, в самом деле – как цветочек!
Кукуйская царица оглянулась, и Розмари поразилась, обнаружив, что ее ярко-синие глаза вдруг стали бледно-голубыми и холодными, как льдинки.
– Все в моем доме работают неустанно, в том числе и я! – изрекла она. – Самые маленькие пчелки уже ищут мед с утра до вечера – то же делают и те, кто живет в моем доме. С утра до вечера. С утра до вечера!
Розмари смотрела на нее и тихо всхлипывала. Она была еще маленькая и не слишком понимала, что чувствует, а чувствовала она восторг перед этой красотой – и страх перед ней. Ну где было малышке справиться с этими такими разными, такими раздирающими чувствами!
И они останутся с ней на всю жизнь.
Во всяком случае, на ту часть жизни, которую она проведет в доме кукуйской царицы Анны Монс. И скоро она узнает об этой женщине так много, как не знал, может быть, никто на свете.
* * *
Оказалось, что в каморке старухи горела вовсе даже не свеча, а лучина, укрепленная над кадкой с водой, и ее зыбкий свет неровно, дергано выхватывал из темноты согбенную фигуру в каких-то засаленных обносках и большом темном платке. Играл огонек и в низкой, дымной, с плохо замазанными щелями жарко натопленной печурке. Ни лица старухи, ни подробностей ее жилища разглядеть было невозможно, да, впрочем, Катерина об этом не слишком жалела, потому что ей вдруг сделалось необычайно жутко в этой норе, хоть была она не робкого десятка и часто сопровождала мужа на поля сражений. Вспомнился один случай, когда во время императорского завтрака, перед началом боя, со стороны неприятельского расположения прилетела вдруг шальная пуля и сразила солдата, стоявшего за стулом Катерины. Она и бровью не повела и, продолжая макать баранки в токайское (больше всего на свете любила это лакомство!), промурлыкала:
– Пуля сия назначена была не ему. – Доела свою сладкую, пьяную тюрю, поднялась, чуть покачнувшись, перекрестилась: – Ну что ж, такова его доля. Кто с дерева убился? – Бортник. Кто утонул? – Рыболов. В поле лежит? – Служивый человек…
Тогда, под свистом пуль, Катерина не испугалась ни на чуточку, а в этой таинственной темнотище так и прохаживалась по спине холодная, мохнатая лапа ужаса. И все же она бодрилась, сколько могла.
– Ведаю то, что ведать мне надлежит, а чего не надлежит, того и не ведаю, – туманно ответствовала старуха. – Тебя-то что за кручина привела ко мне, а, барыня? Поведай печаль свою.
– Сны меня мучают, сны страшные, – глухо отозвалась Катерина, ощутив, как при одном только воспоминании об этих снах у нее начали подкашиваться ноги. – Ой, бабушка, нет ли у тебя места, где можно присесть?
– Там в углу лавка стоит, – отозвалась старуха. – Да гляди, садись побережней, Ваську моего не раздави.
Катерина наугад сделала несколько шагов в том направлении, где мог находиться угол этой каморки, и в самом деле наткнулась на какую-то лавку. Пошарив по краю, она никакого кота Васьки не обнаружила и нерешительно села. Лавка оказалась крепкой, не пошатнулась, и она с облегчением вытянула ноги.
– Села? Ну а теперь рассказывай! – велела старуха, и Катерина снова начала дрожать, вспоминая, как это было.
…Она рывком села в постели, отшвырнув атласное одеяло, разметав кружево простынь, скинув с постели ворох подушек. Она любила нежиться на добром десятке подушек, от больших и пышных, что твоя перина, до крошечных сдобных думочек, которые разве что под такой же сдобный локоток подложить способно. Но сейчас было не до неги.
– Свечей! – не закричала – завопила истошно, сама не узнавая своего безумного голоса. – Свечей!!!
Вбежала девка с подсвечником, в пляшущих бликах было видно, какое у нее перекошенное, перепуганное лицо: с чего это государыня блажит, словно ее режут?!
Уж лучше бы резали, честное слово!
– Еще свечей! – снова заорала Катерина. – Живо!
Вбежала другая девка с подсвечником – тоже трясясь от страха.
– На постель светите! – приказала Катерина, лихорадочно водя руками по простыням. – Ближе! Светите!
Девки добросовестно светили, капая растопленным воском на голландское шелковистое полотно.
В другое время государыня непременно вызверилась бы: «Дуры! Аккуратней!» – однако сейчас она ничего не замечала.
– Ну? – спросила тоненьким, девчоночьим, боязливым шепотком. – Видите? Нет? Тогда ищите! Под кроватью ищите, ну!
Девки, привычные к беспрекословному повиновению, к тому же еще не вполне проснувшиеся, пали на колени, задрав пухлые зады, принялись шарить под кроватью. Катерина на коленях переползала то к одному краю огромного ложа, то к другому, боязливо приподнимала кружевные подзоры простыней, вглядывалась и взвизгивала, когда ей что-то чудилось в мелькании теней. В конце концов девки приустали шарить по полу, и одна из них, побойчее, осмелилась спросить:
– Матушка, скажи Христа ради, чего ищем-то?
Катерина, высунув из-под рубахи голую ногу, пнула говорунью:
– Тебе-то что? Ищи знай!
– Да нету здесь ничего! – взмолилась девка, у которой уже саднило колени и ломило спину. – Ни тараканов, ни мышей.
– Каких мышей? – хмыкнула Катерина. – Чтобы я из-за каких-то там мышей с ума сходила? Ни мышей, ни крыс, ни пауков, ни лягушек я не боюсь, а вот змей… Змей ищи, змей черных!
Раздался слитный вопль, девки вмиг выскочили из-под кровати, словно их вымело метлой, а потом каким-то непонятным образом оказались сидящими на постели рядом с Катериной. Они поджимали под себя ноги и тряслись точно так же сильно, как их госпожа, которой от их страха стало еще страшней. Теперь кровать ходила ходуном.
Наконец у той самой девки, которая спросила, чего они ищут, рассудок взял верх над припадком ужаса, и она робко спросила:
– Матушка-государыня, откель же тут змеюкам взяться? А? Во дворце-то?! В покоях каменных?! Не примерещилось ли вашему величеству?
И тотчас, испугавшись собственной смелости, она соскочила на пол, чтобы уберечься от нового сердитого пинка. Однако Катерина пинаться не стала. Села, скрестив ноги по-турецки, натянула на озябшие лодыжки рубаху и призадумалась.
А может, дура девка правду говорит? Может, и впрямь ее величеству примерещилось?
Она махнула девкам, чтобы уходили, но свечи велела оставить. Еще немножко посидела, вглядываясь во все углы, потом легла, свернулась клубком, чуть не с головой закутавшись в одеяло, и, уставившись на пляшущие огоньки, принялась вспоминать, как это было.
Было?..
Среди ночи и глубокого сна она внезапно услышала громкое шипение. Взглянула – и увидела, что постель ее покрыта змеями, сновавшими туда-сюда. Катерина не поняла, откуда они взялись, – чудилось, их кто-то сбросил на кровать, вот они и расползлись: мелкие, проворные, зеленоватые, а еще три черные, чуть побольше. А потом между ними появилась еще одна, уж вовсе огромная, толстая, омерзительно-белая. Она разинула шипящую пасть – и вдруг кинулась на Катерину и обвилась вокруг ее тела. Катерине почудилось, что ее вдруг стянуло толстенным корабельным канатом, только канат этот не ворсистый и жесткий, а гладкий, ледяной, скользкий. Горло ее было перехвачено тугим кольцом – не то змеиным телом, не то ужасом, она не могла издать ни звука, а только что было сил пыталась разомкнуть эти смертельные объятия. Ей удалось перехватить змеиную голову и самой стиснуть ей горло… Она отчетливо помнила, с какой бессильной ненавистью смотрели на нее плоские желтые глаза, когда змея осознала, что побеждена.
Кольца разомкнулись, Катерина с воплем отшвырнула дохлую змею и принялась скидывать других, мелких, которые пусть не жалили, не душили, а все же наводили на нее ужас неодолимый.
Тут на ее крик набежали девки со свечами, и змеи все куда-то подевались. Неужто их и впрямь не было? Неужто это был сон?!
Да, видать, что так. Но какой же страшный сон, а?! До сих пор сердчишко колотится, словно выскочить норовит.
Катерина прижала ладонью пухлую левую грудь. Теперь сердце больно билось между пальцев, как птичка о прутья клетки.
Сон, сон… Нет, это не обыкновенный сон! Такие страсти просто так не снятся! Это был вещий сон. Вещий, а не какой-то иной!
История Анны Монс
Сколько Анхен себя помнила, все и всегда ошибались на ее счет, начиная с родителей. И папенька, виноторговец Иоганн Монс, и матушка, и старшие дети (Анна была в семье младшей, за нею следовал лишь братец Виллим) были убеждены, что весь ум достался сестре Матроне. А вот Анхен получила в награду от небес лишь прелесть, очарование, красоту, коими, конечно, надо будет со временем распорядиться с толком, словно капиталом.
Знала Анхен, что такое в понимании ее родителей – «распорядиться с толком»! Выдать ее замуж «за хорошего человека». Но, майн либер Готт, какая тоска охватывала ее при этих словах – «хороший человек»! Вот сестрицу Матрону – со всем ее умом – выдали за поручика Теодора Балка. И что? Велено Матроне сидеть дома, высиживать Теодору малых деток, одного за другим, а при этом мыть да чистить до зеркального блеска маленький хорошенький домик, чтобы царила в нем та же пряничная, сахарная чистота, что и в домах прочих кукуйцев. О нет, ничего против этой чистоты Анхен не имела. Однако наводить ее своими руками она не собиралась. Это должны были делать за нее другие! А ей надлежало только холить и лелеять свою чудную красоту – ну и выставлять ее на обозрение жадных взоров мужчин.
Богатых и знатных мужчин, само собой разумеется.
Самым богатым и знатным среди всех кукуйцев слыл Франц Лефорт. Он был родом из Женевы, однако не унаследовал от отца страсти к оседлой и добропорядочной жизни, общался с иноземцами, мотался по Европе… Иоганн Монс любил приватно вспоминать о том времени, когда этот двадцатилетний искатель приключений в 1676 году приехал в Москву среди прочих иноземных офицеров, но в Немецкой слободе, подобно своим сослуживцам, не засиделся, а стал своим человеком среди русских. Они ему очень нравились, эти русские. Нравились своим чистосердечием и отвагой, а также простодушной хитростью: были уверены, что умнее всех в целом мире, но об этом самом мире знать ничего не знали. И не больно-то хотели знать! Лефорт имел сердце отважное и благородное, а потому был искренне признателен стране, в которой сделал блестящую карьеру. Он был отличный воин, участвовал во всех кампаниях тех лет, зарекомендовал себя абсолютно бесстрашным человеком, который владел всяким оружием и, к слову сказать, стрелял из лука с непостижимой ловкостью, даже лучше, чем татары! Близкий ко двору военачальник Патрик Гордон, на родственнице которого женился Лефорт, делал ему самые хорошие рекомендации и помогал сводить нужные знакомства. С равным прилежанием служил Лефорт сначала Алексею Михайловичу, затем Федору Алексеевичу, беспрекословно состоял под началом любовника царевны Софьи, князя Василия Васильевича Голицына, ну а когда Софьина звезда закатилась, с охотой присягнул молодому государю Петру Алексеевичу. Более того! Когда, еще в 1689 году, Петр бежал вместе с матерью, сестрой и молодой женой от мятежных стрельцов из Преображенского в Троицу, именно полковник Лефорт первым привел своих солдат, чтобы защищать молодого царя. Государь при этом изволил вспомнить: Лефорт был представлен ему еще несколько лет назад, когда Петру едва десять годков сравнялось. Вскоре полковника произвели в генералы, царь не гнушался называть его своим другом. Лефорт был со всеми на короткой ноге, знал великое множество людей, в его доме на берегу Яузы с равным удовольствием толклись иностранные дипломаты и русские бояре, в голос хаявшие иноземцев, от коих, как это всем издавна известно, проистекают все беды России, в то же время, пусть и украдкой, тянувшиеся к их яркой и внешне беззаботной жизни.
– О, Франц далеко пойдет! – качал головой Иоганн Монс, а однажды Анхен услышала, как он с искренней досадой сказал жене: – Какая жалость, что в ту пору, когда Франц искал себе супругу, наша Матрона была еще ребенком! Вот был бы для нее блестящий муж!
Анхен только головой покачала, дивясь тому, что эти мужчины, и прежде всего ее отец, ровно ничего не понимают в жизни. Франц Лефорт – блестящий мужчина, это да. Но как муж он ничего особенного собой не представляет. Жену свою, красавицу Елизавету, как завез несколько лет назад в Киев, где тогда служил, так там и оставил. А сам живет холостяком, и уж юбок-то женских кружится вокруг него! По слухам, он очень щедр со своими любовницами – настолько, что дамы даже не возражают, когда Франц делится ими со своими приятелями. Да и приятели эти не абы кто, не мушкетеры какие-нибудь с пустым карманом, а приближенные ко двору люди и даже сам царь! Вот совсем недавно Франц представил ему Флору, дочку ювелира Боттихера. Эта маленькая, словно мышка, и черненькая, словно мушка, распутница недолгое время развлекала Лефорта в постели, но стоило ему почуять тоску, охватившую сердечного друга Петера после того, как его чуть ли не силком женили на нелюбимой, хоть и родовитой красавице Евдокии Лопухиной, – и Лефорт с дорогой душой презентовал ему Боттихершу. Какое-то время царь с ней забавлялся, но потом дал отставку, ибо, кажется, вообще не умел привязаться к женщине надолго. Однако расположение его к Лефорту с тех пор возросло в несчетное число раз. Трубку свою подарить или вином щедро потчевать – это всякий может, а вот отдать другу свою женщину – на это способен только истинный, бескорыстный, задушевный друг!
С тех пор Петр просто-таки дневал и ночевал в доме Лефорта, отделанном на французский лад с изяществом и роскошью, к которой Франц Яковлевич (так его называли на русский манер) имел врожденную склонность. А поскольку государь, который любил мешать дело с бездельем, являлся не один, а в «тесной компании» (достигавшей иной раз двухсот-трехсот человек), то явилась необходимость расширить дом Лефорта. К нему начали делать обширный пристрой, и государь не жалел подарков и денег для украшения нового жилья своего друга.
Ах, с какой тоской смотрела Анхен на это строительство, на веселье, которое по-прежнему вспыхивало в старом доме, на шумные кавалькады, сопровождавшие царя! Вот где ей место! Вот где она сможет «распорядиться с толком» своей красотой! Но при всей смелости мыслей в поступках Анхен была весьма робка. Не подойдешь же, не скажешь Францу Лефорту, что она хочет сделаться его любовницей, дабы через некоторое время он подарил ее русскому царю, улучив время, когда у того настанет очередная тяжелая минута!
Анхен только и могла, что за делом и без дела слоняться вокруг Лефортова дворца и стараться попасться на глаза хозяину. Однако вышло так, что она попалась на глаза совсем другому человеку.
Как-то раз ей не спалось. Разве заснешь, когда из окон дворца на берегу Яузы на весь Кукуй разносится превеселая музыка?
Анхен знала, что красивейшие дамы и девицы Слободы бывают приглашены к Лефорту и вовсю пляшут там с русскими кавалерами. Но Иоганн Монс считал, что его дочь еще слишком молода, чтобы бывать в обществе холостых веселых мужчин без родительского присмотра. Однако вышло так, что именно в это время он занемог, жена несходно сидела при нем, а дочь Матрона, женщина замужняя, а потому вполне пригодная для того, чтобы выступить дуэньей при Анхен, была снова беременна и с ужасом думала о пирушках и балах, потому что ее тошнило от всего на свете, а уж от запаха еды или табака – само собой разумеется.
Ну что ж, делать было нечего – только идти одной.
И она пошла.
* * *
Да, Катерина не сомневалась, что сон ее был вещий.
Но что же он предвещал?!
Именно затем, чтобы старуха его разгадала, Катерина и велела Анне Крамер, своей фрейлине, отыскать наилучшую гадалку, именно затем потащилась черт знает куда.
– Змеи, значит… – задумчиво прошамкала старуха. – Ну, это дело нехитрое – твой сон разгадать. Змею во сне видеть – повстречаешься с неприятелем. Видеть их во множестве – подвергнешься многим козням неприятелей своих. Быть змеями укушену – окажешься пред лицом ужасной опасности, и неведомо, смертной погибели избегнешь ли.
– А кто, кто они, неприятели эти? – возопила Катерина. – Кто змеищи? Кто против меня злоумышляет? И почему?
– Почему, почему… у всякого для того своя причина. Ты небось живешь небедно, муж твой – человек богатый и знатный, детки славные растут… Мало ли этому завистников сыщется? Верней сказать, завистниц, потому что всякая змея, во сне увиденная, она по большей части – баба злая и недобрая. Есть кругом тебя бабы злые и недобрые? А? Как сама думаешь?
Катерина только вздохнула, с трудом удержавшись, чтобы не ляпнуть: вокруг меня, мол, добрых нету. Это было бы несправедливо по отношению к Аннушке, Анхен – она-то к госпоже своей всей душой расположена, из кожи вон лезет, чтобы угодить, и не только на словах, но и на деле. Вот, сыскала гадалку втайне от всех, а прежде всего – от государя. Коль он узнает, что его Катя, его императрица, таскалась к какой-то грязной гадалке, – пришибет, как пить дать. Но что ж делать, коли так приспело, что без гадалки – никак?! Мужчине, особенно такому, как Петр, сего не понять. Для него гадалки – суть остатки былого старомосковского бытия, кои он ненавидел всей душой настолько, что построил для себя новую столицу – на неживом, пустынном, жутковатом месте. Из ничего, можно сказать, построил, в надежде, что никакой ветхозаветной глупости тут не оживет. И в самом деле – поначалу ничего такого, ведьминского, колдовского, на новом месте не водилось, а потом… Побрели финские колдуны, которые, по слухам, наилучшие в мире, и откуда ни возьмись, словно поганки на гнилой опушке, стали возникать в Санкт-Петербурге свои, русские бабки. За ними гонялась Тайная канцелярия и высылала в невозможную сибирскую даль тех, кто оставался жив после допроса в застенках или жестокого правежа. Финские колдуны сами снялись с ужасного места и вновь канули в свои суомские болота, как и не было их. Бабок выгнали из столицы. Где Аннушка сыскала эту старуху – неведомо, но спасибо ей.
– Значит, есть у тебя завистницы, – сказала между тем старуха. – Послушай, а змеи, ты сказывала, были все мелкие да зеленые, а три – побольше да черные?
– Именно так, и еще потом появилась огромная, белесая такая…
– О ней потом, – властно прервала ее старуха. – Сперва о черных поговорим. Значит, были они промеж себя схожие… черные, значит, были… А вот скажи-ка, барыня, нет ли среди прислужниц или знакомых твоих черноволосых девок или баб?
– Как не быть! – усмехнулась Катерина. – Я и сама черная.
– Быть того не может! – недоверчиво пробормотала бабка. – А я вот гляжу на тебя духовными очьми и вижу, что светлые у тебя волосы должны быть. Глаза – темные, как угольки, а волосы – светлые.
Катерина так и поперхнулась. А ведь и впрямь, когда-то у нее были светлые волосы, и сколько же мужчин сходили из-за них с ума… Давным-давно, еще в ту пору, когда звалась Катерина совсем даже не Катериной, а Мартой…
Ах, сколько лет минуло с тех пор! Марта изменила и имя, и цвет волос…
Уже давненько она красила их в черный цвет персидской басмой. Хотелось казаться ярче, да и раннюю седину, от которой ее светлые кудри приобрели цвет пожухлой соломы, надо же было как-то закрашивать. Но узнать об этом старуха никак не могла! И уж тем паче это невозможно было распознать в той темнотище, что царила вокруг.
Нет, и впрямь бабка из тех, что все насквозь видят! Вот повезло!
– Были светлые, – согласилась Катерина. – А теперь красы ради я их затемнила. Но не обо мне речь. Значит, спрашиваешь, есть ли близ меня девки чернявые? Есть! Не больно много, только две. Было три, но одна уж лет пять как с головой рассталась.
– Свят-свят-свят, – пробормотала старуха. – Ишь ты, с головой… Казнили ее, что ли, смертию?
– Казнили, – вздохнула Катерина.
– А схоронили небось необрядно? Не на кладбище?
Катерина вздохнула еще тяжелее:
– Ты, бабушка, точно с неба упала. Да кто ж хоронит государственных преступников?! Кинули бедолагу в жальник[1] какой-то – вот и весь сказ. А голову и вовсе в скляницу со спиртом положили да в Кунсткамеру снесли.
Старуха помолчала, потом сказала нерешительно:
– Что-то такое ты говоришь, никак в толк не возьму. Неужто бедолагу без головы и схоронили?!
– Да вот… – тяжело вздохнула Катерина. – Она была писаной красавицей, девка та, вот государь и порешил ее красоту сохранить навеки. Чтобы и через сто лет можно было поглядеть на нее и сказать с восхищением: «Вот, мол, какая она была, девка Марья Гаментова!»
– И-эх, – пробормотала старуха, – глумцы, кощунники! Что творят, что делают! Это ж сущее злобесие! А еще нас, вещих женок да знахарей, называют дьявольскими приспешниками! Сами-то каковы!
– Ты, бабка, не заговаривайся, – строго сказала Катерина. – Кого поносишь? Самого императора! Какова бы ни была его воля, не тебе спорить с ней. Ты лучше про сон мой дальше рассказывай.
– Изволь, – поспешно согласилась, очевидно, струхнувшая старуха. – Как, говоришь, девку сию злосчастную звали?
– Марьей Гаментовой.
– Марьей Гаментовой… – задумчиво повторила бабка. – И она, значит, была черная… черная, как те змеи, что тебе снились… Так вот что я тебе скажу: ищи злоумышленниц средь тех, кто черен волосом!
Катерина несколько опешила:
– А… так ведь Машка Гаментова против меня не злоумышляла!
– А против кого? – изумилась и старуха.
– Да ни против кого!
– За что ж ее казнили столь злой смертию?
– Ребеночка она родила… родила и удушила, потому что боялась сознаться во грехе.
– Ишь ты… – пробормотала старуха, явно не зная, что сказать.
Катерина ее, конечно, прекрасно понимала. С одной стороны, дитятю удушить – грех страшный, смертный, незамолимый. С другой стороны, не тот разве грех совершают все те женщины, что тайно вытравливают плод, не доносив его до срока? И помогают им свершать сие такие же вещие женки, гадалки и знахарки, как та, с которой говорила сейчас Катерина. Эта старуха и сама небось со счету сбилась бы, возьмись вспоминать, сколько нерожденных детей извлекла из материнских утроб и скольких жен и девушек избавила от позора. А то, что им всем вместе придется за свой грех платить в Судный день, так он, день этот, когда-а-а еще настанет… И неведомо, настанет ли когда-нибудь вообще. Катерина никогда до такого злодейства в своей жизни не доходила, но сама понимала, что не от высокого благочестия своего (никакое вообще благочестие ей не было свойственно!), а исключительно потому, что зачинала детей от мужа своего, который был рад и счастлив всякой ее беременностью. И она рожала… К несчастию, младенцы в большинстве своем умирали, и каким же это было сокрушительным горем для обоих, когда умирали сыновья!
Да, против плода чрева своего она никогда не злоумышляла, однако не стоит быть святее святости: неведомо как повела бы она себя, окажись беременной невесть от кого, перед лицом публичного позора и без всяких надежд, что дитя это будет признано. Небось тоже повредилась бы рассудком, как явно повредилась бедная Марьюшка Гаментова в ту минуту, когда совершила свое преступление.
– От кого же… От кого же родила она своего ребеночка? – подала голос старуха, и Катерина пожала плечами:
– Да ведь сего никто не ведает. Сама Машка думала, что от своего любовника, а потом слух прошел… дескать, дитя родила она от моего мужа.
– От чьего мужа?! – переспросила старуха, словно не верила своим ушам, и Катерина со вздохом подтвердила:
– От моего, от моего…
– Да ты что?! – так и ахнула бабка. – Ах, бедная, как же ты терпела такого изменщика?!
– А что ж в этом такого? – удивилась Катерина.
На своем царицыном веку она успела пережить несколько бурных увлечений мужа и не счесть сколько мимолетных. И понимала, что знает далеко не обо всех!
Была какая-то английская актриса Летиция Красс, какая-то француженка, какая-то голландка еще в бытность Петра в Амстердаме, во время его первого путешествия за границу. Вообще Катерина предпочитала, чтобы все такие истории происходили на ее глазах, чтобы она всегда знала, где, как, сколько раз…
Ну что ж, Петру нравилось совращать фрейлин императрицы, а потом вместе с женой подробно обсуждать их стати и поведение в постели. Такие беседы их обоих здорово возбуждали: болтовня и смех переходили в умопомрачительные ласки. Петр словно бы молодел от этих рискованных разговоров, и, когда возраст, заботы, хвори начинали брать свое и любовный пыл государя ослабевал, Катерина нарочно подсовывала ему какую-нибудь из своих на все готовых и на все гораздых девушек. Она слышала, что русские знахари для лечения невстанихи применяют такое средство: легонько подхлестывают прутиком «усталого жеребчика», и про себя называла мимолетных любовниц Петра березовыми прутиками, немало забавляясь при этом.
Вот так же подхлестнула Катерина однажды угасший мужнин пыл березовым прутиком по имени Марья Гаментова – но разве могла она вообразить, какой трагедией обернется эта история?
Девка напорола столько глупостей…
История Марьи Гаментовой
Все ее звали Гаментовой – Марья уже привыкла. И отец так звался, и дед. Они уже и забывать стали, что на самом деле их фамилия была Гамильтон. Марья что-то такое слышала, будто прапрадед ее некогда пришел на Русь (вернее сказать, приплыл морем) – еще при царе-батюшке Иване Грозном! – из далекой-предалекой иноземной страны Шотландии. Пришел-приплыл, женился на русской, народил деток… Одна из его внучек была замужем за Артамоном Матвеевым, ближним боярином царя Алексея Михайловича, а потому пользовались Гамильтоны царскими милостями. Многие потомки первого Гамильтона вступили в русскую службу, обрусели и стали в русских документах писаться Гаментонами, Гаментовыми и даже Хомутовыми. И старинные шотландские имена изменились до неузнаваемости, так отца Марьи Виллима стали отчего-то звать Данилою. Оно, конечно, привычней. Вот потому Мария Гамильтон и звалась Марьей Даниловной Гаментовой.
Как девицу хорошего рода, ее взяли в царицыны фрейлины. Матушка Екатерина (Марта Скавронская тож), сама будучи вознесена на трон из-под солдатской телеги, где валялась на соломе (вслух об этом, конечно, никто не говорил, не желая головы лишиться, однако знали все без исключения), очень ценила родовитость и хорошее происхождение в других. Однако же она не хотела, чтобы слишком уж высокородные боярышни от нее косоротились, а потому среди камер-фрейлин и камер-фрау ее было всякой твари по паре, всякого сброду по сосенке: немки, чухонки, польки, карлы какие-то, а также русские – все больше красавицы. Катерине был известен неуемный нрав ее царственного супруга и, смиряясь с его изменами как с неизбежностью, она предпочитала, чтобы блудил Петрушка со своими, ближними, девками, не слишком-то отдаляясь от жены. Она хотела знать его мимолетных милашек, чтобы к кому-то подольститься, кого-то припугнуть, с кем-то сдружиться – и с их помощью властвовать над сердцем величественного, непостоянного, пугающего, но столь любимого супруга. И, конечно, она мигом приметила те взгляды, которые Петруша начал кидать на высокую, статную, на диво белолицую и черноволосую девку Гаментову. Чертовски была она хороша с этими своими черными волосами, белым лицом и румяными щеками. А глаза при всем при этом у нее были синие – синей не бывает!
Ну диво ли, что Петруша возжелал Марьюшку и мигом прибрал ее к себе в постель?
Вскоре Марья Гамильтон оказалась в большом фаворе, столь большом, что иные придворные даже начали пред нею заискивать.
Катерина, по своему обыкновению, сочла, что лучше, если все будет происходить на ее глазах. Тогда отправились они с Петрушею в европейское путешествие. Поехали как бы за делом – пристроить Катюшку, любимую государеву племянницу, за герцога Мекленбургского, а вообще-то хотели и Европу посмотреть, и себя показать. Кроме того, государю врачи посоветовали полечиться на водах в Спа.
Катерине Европа не понравилась, и совсем не потому, что Петруша ее с собой в Спа не взял – утешался там с Машкой Гаментовой. В самом деле, было от чего утехи искать: судя по его письмам, это место было такое веселое, что скорей напоминало тюрьму. Оно было расположено между двумя горами, столь высокими, что едва можно видеть солнце. Пива хорошего там не было – одна только вода. Этой водой поили русского царя и его свиту, как лошадей, у всех них вздувались животы. Небось не до особых ласк, хоть бы даже и с Машкой Гаментовой! Удивительно ли, что он писал Катерине ласковые письма о том, что ощущает себя старым и скучает вдали от нее. Описывал свое унылое житье: за раз выпивает около двадцати стаканов воды подряд. Затем утоляет голод шестью фунтами вишни и дюжиной фиг. А когда эта бесцветная и пресная жизнь стала надоедать царю, он сдабривал ее винцом, мечтая о водке.
Машка Гаментова и была таким слабеньким винцом, а Катерина – огненной водкой, к которой стремился муж. Она пылко отвечала на его письма: «Я надеюсь нежно любить до самой смерти столь любимого старика».
Потом Петр потащился в Париж. И чего там не видел?! Катерина все сидела в Голландии и втихомолку злилась. Но не на мужа, не на Машку, которая была там с ним, – злилась она на Европу, европейские газеты и европейских баб.
Именно из-за этих дур высокомерных и не понравилась Катерине Европа.
Вы бы знали, как эти бабы о ней, супруге русского царя, отзывались!
Называли ее некрасивой, плохо одетой и плохо воспитанной. А газеты что писали!
Когда Петруша отправился в погибающую от роскоши, несчастную страну Францию, Катерина принялась почитывать разные газетенки, описывающие путешествие русского монарха. Хоть и не была она никогда книгочейкой, а все ж с тоски чем только не займешься! Как говорится, нужда заставит калачи печь, но можно к этому прибавить: а тоска – газетенки читать. И вот в одной – уж не припомнить, какой именно, то ли в лживой германской, то ли брехливой французской – прочла Катерина о себе следующее: «Царица маленькая и коренастая, очень загорелая и не имеет ни внешности, ни грации. Было достаточно одного взгляда, чтобы догадаться о ее низком происхождении. В своем смешном наряде она вполне подошла бы для игры в немецких комедиях. Ее платье куплено на толкучке – старомодно, грязно и украшено слишком большим количеством серебра. С дюжину орденов и столько же портретов святых и разного рода реликвий было нашито на ее одежду, так что, когда она шла, можно было подумать, что ведут мула». Еще какой-то наглец уверял, что в русской государыне, с лицом, намазанным белилами и румянами, и коренастой фигурой, на которой топорщилось безвкусное платье, невозможно было найти ничего соблазнительного. Между тем, писал он, «в ее манерах не было ничего неприятного, и можно было с натяжкой назвать их хорошими, если вспомнить о происхождении этой принцессы. Конечно, если бы рядом с ней был знающий человек, она бы сформировалась, имея большое желание соответствовать; но рядом с ней не имелось никого, кроме подобных ей дам. Ходили слухи, что царь, человек необычный во всем, находил удовольствие, выбрав таких, чтобы уязвить остальных, более благородных дам своего двора».
Катерина от души надеялась, что Петруша сие не прочтет. Он ведь вспыльчив, как порох! Из-за такой клеветы может и войну начать!
Хотя, может, чувства его к ней ослабели?.. Ох, как она заволновалась! Машка-то Гаментова и красавица, и ростом высока, и одета изысканно…
Но вот муж воротился, и Катерина сразу поняла: между ним и Марьей все кончено. Ему по-прежнему никого не было нужно, кроме его «маленькой и коренастой, очень загорелой» Катерины, которая «не имеет ни внешности, ни грации».
Ага, как бы не так!
Словом, Марья Гаментова оказалась отставлена императором.
Над ней посмеивались прежние завистницы, но никто не подозревал, что она с превеликим облегчением почувствовала себя свободной. Может, оно и нехорошо и чести алчется не по чину, а все ж не нравился Марье государь император, она его боялась как огня и часто, лежа в его объятиях, мечтала совершенно об ином. Ведь все это время, удовлетворяя неугасимый пыл Петра, она сердцем принадлежала совершенно другому мужчине: государеву денщику Ивану Орлову.
Он был ее любовником еще прежде государя, деля, впрочем, ее ложе также с денщиком государевым Семеном Алабердеевым, да и еще с другими молодыми красавцами, которых было при дворе довольно, ведь в государев штат набирались самые видные молодые люди – рослые, смышленые, расторопные, красивые.
Служба была завидная, поэтому сыновья небогатых дворян охотно в нее шли. Их число при государе доходило иногда до двадцати. Им поручались самые разнообразные, нередко первой важности дела, как, например, разведывание о поступках генерал-губернаторов, военных начальников и прочих лиц. Денщикам вменялось в обязанность не только разведывать, но и доносить, производить следствие, нередко исполнять роль палача – по царскому велению нещадно исправлять провинившегося дубинкою. Такая деятельность требовала не только силы, ловкости и тяжелого кулака, но и умственного проворства, сообразительности, хитрости – и верности. Денщики также служили лакеями при столе государя, его выездах и тому подобном, между тем они были записаны в те или иные гвардейские полки, поэтому через несколько лет получали довольно высокие чины и должности. Из денщиков, к примеру, вышел в генерал-прокуроры Павел Ягужинский, а про всесильного Алексашку Меншикова и говорить нечего, этот блистательный пример у всех на виду и на слуху.
Вот из этого-то служивого разряда и брала себе любовников фрейлина Марья Гаментова, Гамильтон тож, поскольку она была девушка добрая и никому не отказывала. Она, в точности, как императрица, принадлежала к числу тех красавиц, которые слабы на передок… к великому счастию и удовольствию сластолюбцев мужского пола. Но Иван Орлов был среди прочих возлюбленных самый любимый, и, когда государь оставил Марью, она всецело предалась Орлову.
Что и говорить, мужские достоинства сего молодого человека были весьма значительные, однако же никаких иных у него не имелось: ни ума, ни сердца, ни души. Вдобавок ко всему он пил, а во хмелю становился буен и жесток, жаждал на ком-нибудь опробовать свои пудовые кулаки – и, как правило, находил покорную, безответную жертву в Марье Гаментовой.
Императрицу муж порою тоже поколачивал, и она полагала, что ласки после пары тумаков воспринимаются острее, любится слаще, но Иван Орлов месил Марью кулаками, будто крутое тесто, и частенько ей приходилось прибегать к немыслимым ухищрениям, чтобы скрыть кошмарные синяки, покрывавшие ее лицо и тело. Давным-давно надо было бросить поганца-денщика, Катерина просто жаждала наябедничать на него мужу и избавить фрейлину от мучений, однако Марья на коленях умоляла оставить Ивана в покое. Ее любовь к нему была любовью жертвенной, безрассудной, и Катерина, обладательница тяжеленькой ручонки, которой она при случае могла вразумить даже и мужа, бывшего на две головы выше ее, только дивилась такой безответности. Разумеется, когда Марья стала любовницей государя, Ивану пришлось на время спрятать кулаки в карманы, однако Катерина не раз слышала, как он бранил девушку самыми грязными словами. Катерина подозревала, что Марья тайком изменяла Петру с Орловым, когда и денщик, и метресса были взяты государем в большое заграничное путешествие, которое длилось чуть не год и во время которого Петр снова начал любезничать с Марьей. Во всяком случае, Катерина почти не сомневалась: те ночи, которые Петр проводил с женой, Марья проводила со своим ненаглядным Иванушкой.
Видит Бог, Катерина по-своему любила камер-фрейлину. Гамильтонша, девка добрая, бесхитростная, коварства в душе не таила, а главное, была искренне предана императрице, которую обманывала против своей воли. К примеру сказать, Марья – одна из немногих фрейлин государыни – спокойно сносила ее причуды с платьями и прическами. Катерина в летнюю жару стригла волосы под корень – мешали тяжелые косы, когда она ездила с Петром по военным лагерям, там нельзя было ни помыться, ни причесаться толком – и покрывала всю голову алмазной сеткой. Постепенно моду на эти сетки она перенесла и на придворные балы, но только для себя одной. Дамам можно было украшать прическу лишь с левой стороны. Точно так же Катеринины дамы не имели права носить горностаевые меха с хвостами (а ведь известно, что хвосты – это главное украшение горностая!) и сорочки с длинными рукавами. Глупенькие фрейлины задыхались от зависти и пробовали даже роптать на императрицу, которая была в своей вотчине, в этом бабском курятнике, истинным диктатором. Марья Гамильтон в любом, даже вовсе простеньком платье все равно смотрелась восхитительно и понимала, что и самый причудливый наряд – всего лишь рамка для ее красоты. Катерина этой красоте не завидовала, никакого зла на Марью не держала, однако Гамильтонша сама довела себя до погибели.
Когда царская семья и свита вернулись из заграничного путешествия, Марья была беременна. Почему-то она пребывала в убеждении, что ее ребенок зачат от Ивана Орлова, а не от царя, к примеру, а поэтому решила извести плод.
* * *
– Ну, – усмехнулась Катерина, – а что делать? Она ли одна от него чреватела? Да их не счесть сколько было!
– Ну уж и не счесть! – усомнилась бабка.
Катерина спорить не стала. Но вспомнила, как в одной из тех отвратительных европейских газетенок прочла однажды очередную пакостную ложь: «Метресса русского императора прибыла с четырьмястами так называемыми дамами своей свиты. Среди них были в основном немецкие служанки, которые выполняли роль дам, горничных, кухарок и прачек. Почти каждое из этих созданий имело на руках богато одетого ребенка, и, когда женщин спрашивали, их ли это дети, они отвечали, отвешивая низкие поклоны по-русски: «Царь оказал честь, сделав мне этого ребенка».
Ох и горазды они врать, эти европейские писаки! Четыреста! И почти все с детьми от императора!
Глупости. На самом деле их было не больше десятка, этих дур, которые потащились в Европу с государевыми младенчиками. Правда, еще одна или две родили прямо в дороге. Ну что ж, Петр любил зреть своих детей! Но если какая-нибудь из этих прачек, кухарок или горничных надеялась, что, забрюхатев от государя, а после удачно опроставшись, она привяжет его к себе или хотя бы удостоится особенных милостей, она ошибалась. Царь дарил их мелкой монетою да улыбками, а детишкам перепадало и того меньше. Так что Катерине на сей счет беспокоиться не приходилось. Только один-единственный раз она встревожилась, когда на горизонте появилась Машка Кантемирова со своим дурацким пузом и этими коровьими, черными валашскими глазами…
Катерина содрогнулась от воспоминаний. Они были настолько тяжелы, что даже думать об этом не хотелось!
– Как бишь ее звали, обезглавленную-то? – спросила старуха.
– Говорю же, Марьей Гаментовой, – сказала Катерина.
– Марьей… так-так… – Голос старухи зазвучал настороженно. – А скажи-ка, милая моя, нет ли среди твоих знакомых баб или девок других, кои то же имя носят?
– Ты, бабка, ровно и не на этом свете, и не в России живешь, – несколько раздраженно усмехнулась Катерина. – Да у нас в какого мужика ни плюнь – попадешь в Ивана, а в какую бабу или девицу ни плюнь – непременно в Марью угодишь. Конечно, есть они и среди моих… – Она чуть не ляпнула: «Среди моих фрейлин!», да вовремя спохватилась. Бабка, конечно, уже поняла, что ее гостья занимает высокое положение, но совсем незачем давать ей понять, насколько положение высоко. – Есть они и среди моих знакомых.
– Ну вот тебе и ответ, – усмехнулась старуха. – Вот тебе и ответ, где змеюк искать! Вспомни трех черноволосых, да чтоб их Марьями звали – и получишь своих трех змей.
– Да брось… – растерянно проговорила Катерина. – У Машки Гаментовой голова отрублена. Машка Матвеева давно отставлена. Замужем за другим.
– И что же, что отставлена?! – горячо возразила бабка. – А может, она спит и видит, как бы твоего мужа к себе вновь причаровать, а своего извести?!
Катерина только усмехнулась. Она достаточно знала Петра, чтобы усвоить: как бы его ни причаровывали, по старым следам он не хаживает, потому что надобности нет: сколько угодно новых троп, по которым можно пройти если не к одной, так к другой новой женщине.
Кого только не приводил… Вернее, кого только не затаскивал он в свою походную постель! Брал женщин бессчетно. Ну что ж, Катерина отлично знала, что природа ее мужа – это природа петуха, который топчет курочку за курочкой без всякой устали и жить может только так. Иначе – помрет. Она и сама была неуемна плотью, а потому не судила мужа, которого любила от всей души. Любила и понимала, понимала и прощала! Она для него единственная, она его жена – так не все ли равно, что он там кого-то походя приласкает? Петр и не скрывался от жены. Для него эти девки были необходимы, как лакомые блюда, а Катеринушка – как хлеб и вода, воздух, она была тем, без чего невозможно жить. Она могла бы с уверенностью сказать, что на свете есть всего лишь две женщины, к которым царь возвращался после разлуки: это она сама и… герцогиня Мекленбургская, племянница Петра, дочь его покойного брата, скудоумного царя Ивана[2] и царицы Прасковьи.
Впрочем, все знали (хотя, самой собой, вслух об сем не говорили!), что трех дочек своих, царевен Екатерину, Анну и Прасковьюшку, улыбчивая, глазастая и расторопная царица Прасковья Федоровна родила от своего спальника и любовника Василия Юшкова, поэтому племянница была Петру не совсем племянницей… Ну что ж, это многое оправдывало. Он пристроил Екатерину за Карла-Леопольда, герцога Мекленбург-Шверинского, к которому относился весьма пренебрежительно, ибо тот вечно с кем-нибудь враждовал: то со шведами, то с англичанами, то с собственными подданными – и постоянно нуждался в поддержке Петра. Муженька государь мог сыскать для веселой Екатерины и поавантажнее… А может, нарочно не сделал этого, чтобы племянница не нашла счастья в супружестве. Зато она вполне обретала это счастье во время довольно-таки частых наездов дядюшки в столицу герцогства Мекленбургского – Шверин.
Многим доводилось зреть, как Петр, едва завидев племянницу, обнимал ее и увлекал в соседнюю комнату. Немедля опрокидывал там на диван, задирал многочисленные юбки – и отделывал так, что вскоре по всему дворцу разносились крики восхищенной герцогини. Строго говоря, окажись придворные посмелее, они смогли бы не только слышать, но и видеть происходящее, ибо Петр с царственной небрежностью не заботился запирать за собой дверей. Но, разумеется, никто не осмелился туда заглянуть, однако двух мнений относительно происходящего ни у кого не оставалось. Неудивительно, между прочим, что герцог злобствовал на жену и в пьяной болтовне (в трезвой не решался, ибо был сущий заяц во хмелю) отрекался от отцовства малышки принцессы Елизаветы-Екатерины-Кристины.
Когда до Катерины дошли слухи о забавах супруга с племянницей, она так хохотала, что ее фрейлины решили, будто царица повредилась умом от ревности и горя, что у нее истерика. Уже даже доктора позвали – кровь государыне отворять! А ей и впрямь было весело. Потом она спросила Петрушу, правда ли сие. Тот со смехом подтвердил.
И даже кое о чем поведал жене… про царицу Прасковью поведал нечто, предварительно взяв с Катерины клятву молчания. Она клятву дала тем более охотно, что, при надобности, молчать умела не хуже несчастного Василия Кочубея, которого до смерти запытал предатель гетман Мазепа. Само собой, пытать ее никто не намеревался, однако она ведь, хоть и честили ее газетки европейские такой да сякой, прекрасно понимала, о чем болтать всуе можно, а о чем – никак нельзя. А потому царица Прасковья могла спать спокойно: тайна ее первой брачной ночи была сохранена за семью печатями!
История Прасковьи Федоровны
Царь Иван Алексеевич храпел рядом со своей молодой женой, Прасковьей Салтыковой, с которой он только сегодня обвенчался, – храпел, а она в это время смотрела остановившимися глазами в темноту и думала, что жизнь ее теперь кончена, спасенья нет, а ждет ее во веки вечные один только позор и заточение где-нибудь в глухом, ужасном, убогом монастыре.
Ибо нынче… ибо нынче первая брачная ночь боярышни Салтыковой, а она… а она-то, голубица непорочная….
А у нее ни сорочка, ни простыни кровями девичьими не запачканы!
Прасковья осторожно повернула голову на подушке и поглядела на мужа. Тот спал, приоткрыв рот и сладко всхрапывая. Лицо его было безмятежным, детским, и борода чудилась не бородой, а каким-то цыплячьим пухом, облепившим пухлые щеки. Кажется, супруг так ничего и не понял… Ну где ему понять, он ведь прост, словно дитятко малое! Всего лишь на два года моложе Прасковьи, а чудится, на все пять. А то и десять!
Прасковьюшка отлично знала, что муженек ей достался умом не просто не блещущий, но даже и вовсе скорбный головою. К тому же еще косноязычный, болезный… Зато царь-государь Иван Алексеевич!
Не суть важно, что он делит престол со сводным братом, мальчишкой Петром, не суть важно, что вся власть в стране принадлежит старшей сестре, правительнице Софье Алексеевне. Софье на троне долго не засидеться: где это видано, чтобы верховодила державой баба, а вернее – девица незамужняя?! Хотя насчет ейного девичества – это еще вилами на воде писано: ходят слухи, будто избыточно часто навещают ее светлицу то князь Василий Васильевич Голицын, ее постоянный амант, галант, любовник, то стрелецкий голова Федор Шакловитый, то молодые да пригожие певчие. Взятые в хоромы из черкесов да поляков… А впрочем, сейчас Прасковье не до Софьиных тайн, со своими бы разобраться!
Муж ничего не сообразил, мужа ей вокруг пальца обвести – раз плюнуть. Да кабы в нем только была закавыка! Вся беда в бабах… Бабы, ближние боярыни, поведут их с мужем наутро в мыльню, опытные бабы, которые станут разглядывать сорочку и простыни, придирчиво разыскивая знаки нарушенного девства молодой, – и ничего не отыщут… О, эти бабы мигом подымут тако-ой шум! И никому ведь ничего не объяснишь, не расскажешь, никто ничего и слушать не станет. Позор, Господи, какой позор свалится на ее семью, на батюшку Федора Федоровича[3], на матушку Катерину Федоровну, на меньшую сестрицу Натальюшку, на весь древний род Салтыковых! То-то посмеются завистники! То-то обхохочутся многочисленные девы, дочери бояр и родословных московских людей, коих свезли недавно в царские терема и поставили пред оком царя Ивана Алексеевича, дабы он из числа этих красавиц: светленьких да темненьких, высоких да маленьких, румяных да белоликих, пухленьких да худышек, едва заневестившихся и уже малость засидевшихся в девках – избрал бы себе жену и назвал ее царицею. Долго хаживал Иван Алексеевич меж замерших, трепещущих, едва дышащих от волнения девиц, пока не остановился перед Прасковьей и не взял из ее дрожащей руки голубой платочек. Приложил платочек к щеке, восторженно глядя своими светлыми, слезящимися неопределенного цвета глазами в ее глаза – перепуганные, большие, черные, что сбрызнутая дождем спелая смородина, – а потом робко оглянулся на стоящую за его спиной сестру Софью Алексеевну, правительницу.
Царевна Софья, невысокая, полная, с мрачноватым, неулыбчивым лицом, придирчиво оглядела Прасковью – та стояла вовсе уж ни жива ни мертва, – спросила отрывисто:
– Чья?
– Салтыковых, – шепнул кто-то из подоспевших царедворцев.
Софья поджала губы и тихонько хмыкнула. У Прасковьи подкосились ноги. Может статься, хмыканье царевны к ней не имело отношения, и Софья, которая знала родословие всех своих подданных, хмыкала, вспомнив, что прадед девушки, Михаил Глебович Салтыков, в смутное время стоял за поляков, а по воцарении Романовых переселился в Польшу, и только когда под натиском войск Алексея Михайловича пал Смоленск, Салтыковы вновь стали русскими подданными.
Может быть, конечно, и так. Однако Прасковье чудилось, будто Софья весьма насмешливо оценивает возраст невесты. Что и говорить, ей уже двадцать, первая молодость прошла, можно уже и встревожиться: не засидеться бы в девках, не остаться бы перестарком! С другой стороны, самой-то Софье сколько? Да небось за тридцать! Кто же здесь перестарок, а?
От этой мысли Прасковья малость приободрилась, тем паче что царь Иван продолжал торчать рядом и смотреть на нее восторженно, словно на икону. И когда под венцом стояли (Прасковья была в платье из белой объяри[4], красоты неописуемой, словно бы снегом искристым припорошенной!), и когда покров с невесты сняли, и когда бабьей кикой увенчали ее заплетенные по-новому косы, он все так же таращился на Прасковью, все так же блаженно улыбался, и когда его привели в новобрачный покой, он все с той же безмятежной, влюбленной улыбкою потянулся к молодой жене – и…
Господи! А теперь-то что будет?!
Прасковья всхлипнула раз, другой, но испугалась, что разбудит царя, и зажала рот рукой. Однако рыдания душили ее, она соскочила с высокой постели, постланной по обычаю в холодной подклети[5], и босиком, поджимаясь на стылом полу, побежала к двери.
Замерла, затаила дыхание, прислушалась, потом решилась – выглянула…
И едва не умерла от ужаса, увидав перед собой темно мерцающие глаза какого-то высокого мужчины.
Батюшки-матушки, пресвятые угодники, гора Елеонская! Да ведь она совсем забыла, что дружки должны караулить молодых, а потом, по истечении времени, спросить, свершилось ли меж ними «доброе», то есть стала ли невеста женою, и сообщить об этом гостям, чей пьяный, бестолковый гомон доносился из пиршественной залы. И это перед ней один из дружек.
– Ты чего босиком бегаешь, невестушка, милая? – насмешливо спросил дружка, и тут Прасковья узнала его. Узнала – и едва не грянулась без памяти. Ведь это был не кто иной, как ее новоиспеченный деверь – тринадцатилетний царь Петр Алексеевич, младший брат и соправитель Ивана. Высоченный, румяный, кудрявый – с виду не меньше шестнадцати годков ему, никогда не скажешь, что он по сравнению с Прасковьей дитя малое! – А я, вишь ты, вас с братцем Ванюшею стерегу от злого глазу. Дружки-то не высидели – выпить побежали, ну а я остался. Ничего, успею еще напиться!
Прасковья отчего-то первым делом удивилась, что мальчишка говорит о том, что непременно напьется. Не рано ли?! Потом вспомнила, что про Петра она уже ох как много чего слышала. Ему ничто не рано: ни вино пить, ни табак курить, ни девок портить. Посмотрела в его очень темные, очень быстрые, очень веселые и очень круглые глаза, которые делали его похожим на дерзкого кота, посмотрела – и затряслась от страха. Петр – он ведь крови Нарышкиных, буянов да наглецов, вот и сам наглец: отчих и дедовых свычаев и обычаев не чтит, занятие у него одно – марсовы потехи, то есть игрища военные. Затевает потешные стрельбы, с иноземцами водится побольше, чем со своими, русскими. Потеху огнестрельную учинил для него какой-то немец Зоммер, он же свел его с другими обитателями Иноземной слободы, приучил курить трубку, носить кургузое немецкое платьишко, башмаки с пряжками и чулки до колен. Сказывали также, что главный немецкий раздорник, гуляка и пьяница Лефорт – Петру наипервейший друг. Да, еще сказывали, будто приближает Петр к себе кого ни попадя, не считаясь ни с чинами, ни с родословием. Самый ближний ему человек, Алексашка Меншиков, происхождения настолько незначительного, что никто даже и не знает толком, кто его отец. Одно известно: сущее ничтожество! Не зря люди именитые Петра недолюбливают и чёртушкой называют.
– Да ты чего дрожишь-то? – вдруг достиг ее слуха голос Петра. – Боишься меня? – спросил он с досадой. – Или замерзла?
Прасковья сцепила зубы, чтоб не стучали. Дрожь ее пробирала до самых костей, но холод здесь был ни при чем. Конечно, она боялась Петра! Ведь до нее дошли слухи, зачем Софье понадобилось столь срочно женить несмышленого Ивана: чтобы у него поскорей появился наследник. Тогда младший его брат Петр будет вовсе отодвинут от престола. Наверняка Петр тоже знал о замыслах Софьи и не может не ненавидеть ту, которая должна будет родить брату этого самого наследника.
И тут Прасковья вспомнила, что приключилось с ней нынче ночью.
Наследника родить? Держи карман шире! Не бывает у монахинь детей, а ее участь теперь…
И, вообразив свои темно-русые, необычайно густые, вьющиеся на висках волосы грубо остриженными и покрытыми монашеским черным платом, а то и клобуком, вообразив свои тугие, румяные, с веселыми ямочками щеки исхудалыми и побледнелыми от бесконечных постов и умерщвлений плоти, коим обязаны предаваться сестры Христовы, Прасковья не выдержала. Всхлипнула раз, другой – и залилась слезами. Забыв об осторожности, она рыдала чуть ли не в голос.
Петр мгновение смотрел на нее, еще пуще расширив от изумления свои и без того большие глаза, а потом приобнял невестку за плечи и прижал к себе, уткнув в шитый шелком кафтан:
– Тише! Да тише ты, говорю! Услышат, набегут – а ты в одной рубахе. Хочешь, чтобы слух дурной прошел? А ну, пошли обратно! Пошли!
И он не то втолкнул, не то внес Прасковью в опочивальню, где безмятежно спал его брат, царь Иван.
– Чего ревешь? – спросил, посадив девушку на постель рядом с мужем. – Ванечка обидел? Ни в жисть не поверю, он и мухи не обидит. Или не сладко спать с ним было? Ну так что ж, небось знала, на что шла. Ничего, главное дело, ты теперь государева жена!
В голосе его отчетливо прозвучало ехидство, и тут Прасковья не выдержала.
– Никакая я не жена! – не то простонала, не то прошептала она. – Он меня и не тронул, а ты говоришь: сладко ли с ним спать? Это ему сладко спать, как лег, так и захрапел, а меня… меня…
У нее перехватило дыхание. А Петр заморгал со смешным, мальчишеским, изумленным выражением и спросил недоверчиво:
– Неужто не е…л ни разочку?
Прасковья Салтыкова была девушка скромная, изнеженная, от отца-матери отродясь словца грубого не слышала, а когда дворовые мужики начинали неприкрыто свариться, она ушки пальчиками затыкала. Но от простого, грубого вопроса Петра ей отчего-то стало полегче. С другой стороны, сейчас не до стеснительности было!
Она с ожесточением кивнула:
– Говорю ж, не тронул. Чмокнул разик – и уснул. А ведь скоро бабы придут простыни да сорочку глядеть. И в мыльню поведут утром… и… а я как была девкою, так и осталась!
Может, деверь ее и был истинным чёртушкой и по возрасту мальчишкою, но уж дураком он точно не был. Прасковья, глядя в его блестящие глаза своими – заплаканными, несчастными, просто-таки видела, как у него в голове мелькают, кружатся какие-то мысли. Петр мигом все понял, мигом сообразил, в какую беду попала Прасковья: беду бедучую, неразрешимую!
– Вот же холера, а? – наконец пробормотал Петр. – Подумают, что ты не девка, что тебя кто-то иной распочал… Да полно, Прасковья, не врешь ли ты? Неужто и в самом деле белая голубица? Или все же согрешила, а теперь морочишь мне голову?
– Больно надо! – с досадой огрызнулась Прасковья. – Мне свою голову спасать надо, а не твою морочить!
Глаза Петра вдруг перестали блестеть и таращиться, а вместо этого напряженно сузились.
– Ну что ж, – сказал он быстро, – сейчас все и распознается, врешь ты или правду говоришь.
И вслед за этими словами он вдруг подхватил Прасковью под мышки, приподнял, так что лицо ее оказалось вровень с его лицом, легко усмехнулся и впился губами в ее губы. А потом, после поцелуя, мгновенного, но столь крепкого, что у Прасковьи дыханье занялось, швырнул ее на постель и упал сверху.
Потом все происходило так быстро и непонятно, что Прасковья запомнила только резкий удар боли в межножье – и нетерпеливое содроганье Петрова тела. Высокий, худющий, он оказался неожиданно тяжелым и горячим, таким горячим, что Прасковья вся взопрела за те минуты, пока Петр вжимал ее в постель, и дышал тяжело, и впивался губами в ее шею, и колол усами грудь, и расталкивал коленями ее ноги, и наполнял все ее тело этой жгучей болью… То ли от изумления, то ли от страха, но она не противилась, не рвалась, не орала – Боже спаси! – на помощь не звала, и когда Петр вдруг перевел дыхание, довольно усмехнулся, а потом пружинисто вскочил и начал застегиваться, Прасковья так и лежала – растелешенная да врастопырку, к тому ж ошеломленная до последней степени.
Да он же мальчишка!
Ого, ничего себе мальчишка. Молодой, да ранний! Ого-го, какой ранний!
Петр поглядел на нее сверху, одобрительно похлопал по голому вспотевшему животу и сказал:
– Ишь ты, не обманула! Девица была… была, да вся вышла! Ну, теперь тебе тревожиться не об чем. Главное, дурой не будь, брата Ванюшу не печаль – и сама в веселье век проживешь. Я о тебе позабочусь! Все будет по пословице – деверь невестке обычный друг!
И, подмигнув огненным глазом, улыбнулся из-под мальчишеских усиков – ох как они кололи Прасковье грудь да шею! – и порскнул за дверь. Словно его и не было!
Прасковья села, натягивая рубаху на дрожащие колени. Больно было чреслам, а особенно – меж ними. Попыталась было встать, и тут увидела…
Отцы-святители! Девы непорочны! Гора Елеонская!!! Да простынь-то вся в алой россыпи пятен! И по сорочке пятна!
Ох, мамыньки!..
Прасковья покосилась на мужа. Иван спал как убитый, он даже и не заметил того, что только что содеял меньшой братец с его женою. А ведь Петр всего-навсего спас ее честь… а может, и жизнь!
Ой грех-то какой! С деверем, с мальчишкою…
Грех? Разве спасение безвинного – это грех? Воистину, пути Господни неисповедимы, а деверя не иначе послал к Прасковье ее ангел-хранитель.
«Ну да, – вдруг мелькнула скоромная мысль, – самому-то ангелу с таким делом нипочем не справиться, где ему, бесполому… вот и пришлось чёртушке поручить. Им, бесам, блудное дело – привычное!»
Прасковья хихикнула – и тотчас же широко, сладко зевнула. Она не чувствовала теперь ни стыда, ни страха, даже боль отошла – осталась одна только огромная, блаженная усталость.
Свернулась клубочком, подкатилась под мужнин теплый бок, прижалась покрепче, чувствуя умиленную, почти материнскую жалость к Ивану. Правду сказал этот чёртушка, спаситель богоданный: ни слова мужу, ни единого! А теперь – а теперь можно спокойно поспать. До утра. До тех пор, пока ее с песнями не разбудят ближние боярыни, чтобы вести в мыльню. И пусть хоть до вечера разглядывают простыни молодых – Прасковье теперь ничто не страшно! Она теперь истинная царица и… баба! Мужняя жена!
Прасковья блаженно вздохнула. Деверь невестке – обычный друг, гласит пословица? Да уж, народ зря не молвит!
И новоиспеченная мужняя жена уснула, улыбаясь от счастья.
* * *
Рядом послышался вдруг тяжкий вздох, и Катерина очнулась от дум, в которые погрузилась так глубоко, что даже не сразу вспомнила, где она вообще-то находится.
Ах да. У старухи, к которой она пришла истолковать свой сон и испросить советов на будущее, потому что донимают ее предчувствия недобрые… заигралась она в опасные игры и без всякого гадания понимает, что очень скоро ей может показаться небо с овчинку. На самом деле хочет она услышать от старухи не просто ответ, но ответ успокоительный – ничего-де страшного не происходит, ничего дурного с тобой не случится, будешь ты по-прежнему жить-поживать и добра наживать.
Охохошеньки, добра-то и так нажито непомерно сколько, а вот пожить хотелось бы подольше…
Рядом снова послышался прерывистый, страдальческий вздох.
– Это ты, Анх… Аннушка? – напряженно спросила Катерина. – Что так тяжко вздыхаешь?
– Ох, ваше… Ох, Катя, мне что-то дурно, – проговорила Анна Крамер слабым голосом. – Сердце падает, дыхание спирает, руки вон какие ледяные стали. – И она в подтверждение коснулась ладони Катерины своими пальцами, настолько холодными и влажными, что та брезгливо передернулась. – Дозвольте мне выйти на воздух, хоть чуть-чуть продышаться, а не то сомлею тут.
Конечно, что и говорить, духота в подземном старухином жилище царила ужасающая, небось не только нежненькая с виду Анна Крамер сомлеет и глаза закатит, но и мужик здоровый, окажись он каким-то чудом здесь, начнет воздух ртом хватать, будто рыба, на берег выброшенная. Сама Катерина чувствовала себя, впрочем, вполне хорошо.
– Катя, Катерина! – послышался испуганный оклик хозяйки. – Аннушка-то у нас еле живая. Дозволь, я ее на двор выведу, а то еще обомрет, волоки ее потом на руках. Хоть она слабенькая да хлипенькая, а мне все не по силам.
Катерина привстала:
– Погоди, я помогу.
– Ничего-ничего, – зашамкала старуха. – Я сама. Ты посиди пока. Я ей сначала питья дам холодненького… тут у меня отвар листьев малинных сушеных… Может, сама хочешь глотнуть? Ох как полегчает сразу!
– Нет, не надобно, – отказалась Катерина, брезгливо передернувшись.
Она ненавидела малину. Такая вкуснота, а Катерине нельзя даже одну ягодку в рот взять – немедля покрывается лицо и тело красными пятнами, которые ужасно чешутся. То же происходит, когда она случайно глотнет травяного чаю, в сбор которого попали листья малины. Если Катерина попьет сейчас старухиного чайку, то станет себя чувствовать хуже Анхен.
– Дай мне… – простонала Аннушка слабо.
– Попей, дитятко, – бормотала старуха, – попей, да пошли на воздух. Провожу тебя… Да еще дровишек нужно прихватить, а то костоньки мои старенькие ноют, кровушка уже остыла, я-то иззябла вся, вот и натопила так сильно, а все мерзну, мерзну… Заодно принесу еще дровец, а то ни полешка, ни сучка не осталось. Вернусь через миг единый, ты подожди.
Послышались шаркающие шаги, и Катерина, которая была столь же жалостлива, сколь безжалостна, чуть не всхлипнула, представив бледную, обмякшую Аннушку, повисшую на старухиных руках.
Уродятся же такие слабосильные создания! Как еще Аннушка умудрилась прожить свои двадцать семь годков?! У нее иной раз такой вид, будто она каждую минуту помереть готова. Не то что Катерина! Она вообще была выносливее любого мужика и даже не боялась войны. В свое время именно из-за войны судьба ее чудесно изменилась, поэтому в ней бывшая солдатская подстилка видела нечто вроде феи-крестной с волшебной палочкой (подобной той, которая чудесно переменила грустную участь в старинной сказке про Ашхенбрёдель)[6], и готова была отблагодарить благодетельницу, как могла. Отплатить войне добром за добро!
Сделать это удалось в июне 1711 года, во время войны с турками. Петр намеревался отправить свою супругу и других дам в надежный город в Польше, чтобы оградить их от тягот, не соответствующих их полу. Но Катерина так настоятельно умоляла разрешить ей остаться с армией, что Петр вынужден был ей разрешить. Потом он возблагодарит Бога за это решение! С этого времени царица следовала за ним во всех его военных походах.
Отважно выступив навстречу туркам, Петр надеялся, что его поддержат поляки, христиане Востока, а также господари Молдавии и Валахии. Ничуть не бывало! Все они бросили русского царя на произвол судьбы, не желая подвергать себя опасностям, но в то же время держа наготове свои загребущие руки, чтобы, в случае удачи, загребать ими жар. Но до удачи было далеко, зато до поражения близко. Ведь только один Кантемир, господарь Молдавии, ответил на призыв Петра, да и он отправил на помощь русским всего-навсего пятитысячный отряд всадников, вооруженных луками и короткими пиками. Это была капля в море, при таком-то допотопном вооружении! А армия неприятеля уже прошла Дануб. Часть генералов Петра (среди которых все были иностранцы) полагали, что войска должны расположиться вдоль Днестра и ждать атаки турок, так как было бы неосторожностью выходить к ним в пустыню, не имея достаточного снабжения.
Вот где царила жарища и духотища! Именно тогда Катерина впервые остригла волосы так коротко, что короче не бывает. Воды у них было совсем мало – жажду утолять приходилось токайским, запасы коего были очень велики, ну а волосы им небось не слишком помоешь!
Она тогда ходила чуть не полуголая, чуть ли не в одной сорочке и юбке – совершенно как в те былые приснопамятные времена, когда русские солдаты наперебой валяли ее под телегами на соломе. Но сейчас даже ее растелешенный вид никого вокруг не соблазнял, хотя солдатам было дозволено снять мундиры и двигаться в исподних рубахах. Кто решался их снять, мигом обгорал на солнце и ужасно мучился от ожогов. От сухости гудело в ушах, шла кровь из носу. Лошади падали – траву пожрала саранча. Вот так и вышло, что русские солдаты, привыкшие к холодным туманам Балтики, были измотаны еще до того, как началось сражение. Не только бои уменьшили численность русской армии до тридцати восьми тысяч человек, которые на берегу Прута оказались окруженными турками, которых было под двести тысяч – то есть в пять раз больше, чем русских… Орудий у неприятеля тоже было втрое больше, и вот уж три дня в русском лагере не было никакой еды. Гибель армии и самого государя казалась неминуемой.
Катерина чуть ли не впервые видела тогда мужа испуганным – он боялся унизительного поражения, которое приведет к турецкому гнету на западных границах России, страшился за судьбу своей жены… Он начал размышлять, как скрыться через неприятельские кордоны под прикрытием казаков. Но Катерина отговорила его от этого рискованного и позорного шага.
Казалось, она одна тогда владела собой и сохраняла рассудок – все вокруг словно бы сдвинулись умом от горя и страха. Петр предложил пойти на мировую. Он готов был отдать туркам все взятые у них города, вернуть их союзникам шведам Лифляндию и даже Псков! Кроме того, Петр обещал уплатить визирю Махмет-паше сто пятьдесят тысяч рублей, а другим военачальникам – более восьмидесяти тысяч.
Однако откуда взяться таким деньгам в армейской казне?! И тогда Катерина, которая, кажется, одна сохраняла холодный рассудок в этом горячем аду, отдала все свои драгоценности (в том числе и убранную алмазами сетку, которой прикрывала свою остриженную голову) для подкупа великого визиря. Ее бриллианты стоили десятки тысяч рублей!
Граф Борис Шереметев, известный своими способностями даже черта склонить к чему угодно, отправился в лагерь противника, чтобы обсудить условия заключения мира. Что же, как говорят игроки, у русских были еще кое-какие козыри в рукаве, и великий визирь знал об этом. Он знал, что русская кавалерия, которая на подходе, отрежет пути к отступлению. Подарок Катерины решил дело. При виде этих драгоценностей турки, словно зачарованные, подписали мирный договор на условиях, которые Петру даже и во сне не могли присниться. Они потребовали возвращения только Азова, Таганрога, еще двух городов. Также Петр должен был пропустить в Швецию царские войска, а взамен турки выпустили русскую армию из кольца. И тогда Петр поверил, что Катерина истинно приносит ему счастье. Он учредил в ее честь орден, назвал его орденом Святой Екатерины и возложил на жену. На нем значилось: «За любовь и Отечество». Потом именем Катерины был назван шестидесятипушечный корабль и ради нее выстроен Царскосельский дворец. Но главное – Петр старался брать ее на войну всегда, когда она изъявляла охоту.
Катерина вздохнула, потянулась. У нее затекли ноги от сидения на очень низкой и жесткой лавке. Что-то очень долго не идет старуха. Может, там Аннушке совсем худо стало? Не выйти ли, не спросить, что и как?
Катерина поднялась, потопала, разминая ноги, и сделала несколько шагов. Лучинка догорела, да и огонь в печурке играл не столь жарко. Права старуха, что решила принести еще дров.
А это что лежит на полу, что за кучка? При тусклом свете, пробивающемся между дверцей и стенками печи, в тусклом свете, пляшущем по полу, она разглядела… целую кучу поленьев и сучьев. Это были дрова, много дров! Их надолго хватит! А как же старуха сказала, ни полешка-де, ни сучка не осталось?
Соврала? Зачем? Почему?
Катерина шагнула к двери, пошарила по ней, нашла засов, потянула за него, отодвинула… но дверь все же не открылась… Ах, да что же это она, дверь открывалась же наружу! Налегла всей тяжестью, а тяжесть была немалая таки… Но дверь ходила туда-сюда, по-прежнему не открываясь.
Катерину нелегко было испугать, но тут ее вдруг начала бить дрожь.
А ведь там, с той стороны, тоже задвинут засов. Она заперта снаружи… И не может выйти!
– Эй, бабка! – крикнула она властно, но не слишком удивилась, когда не услышала в ответ ни звука.
Ударила кулаками раз и два, прильнула ухом… За дверью царила тишина.
Да что приключилось-то?!
У нее вдруг ослабели ноги.
Зачем ее заперли?!
Ничего не понимая, Катерина побрела к лавке. Тяжело оперлась на нее, садясь, да так и взвилась с безумным криком, когда ее рука уперлась во что-то ледяное, скользкое – и оно шевельнулось под ее рукой, зашипев.
Так вот что старуха звала Васькой! Это была змея!
История Анны Крамер
Скоро Розмари хорошо узнала всех в доме Монсов. Это было добропорядочное, благочестивое, но довольно скупое семейство. Служанки ворчали на скудный стол и придирчивость хозяев, однако Розмари жаловаться было не на что. Ее нежное личико, голубые глазки, чуть что наполнявшиеся слезами, и сами эти слезки, катившиеся по бледно-розовым щекам, словно бриллианты, преисполняли всех умилением – и хозяев, и слуг. Все наперебой ласкали Розмари и благодарили Анхен, которая привела в дом «этого ангелочка». Все наперебой говорили, что Розмари – вылитая Анхен, когда та была еще ребенком. «Невинным ребенком!» – со вздохом прибавляла фрау Монс (глава семейства уже несколько лет лежал в могиле), а этому вздоху непременно вторили и Филимон с Матроной, старшие дети, и Виллим, бывший всего несколькими годами старше Розмари, и даже сама Анхен порой вздыхала при словах о невинном ребенке…
Монсы были самыми важными поселенцами слободы, а дом их, заново отстроенный, ломился от всякого добра, которое валилось на них, что с неба. Но со временем Розмари поняла, что они жалеют о тех временах, когда были просто добропорядочной, добродетельной немецкой семьей, прижившейся в России, в Иноземной слободе, и жили себе да жили, ничем не отличаясь от других, а Анхен звалась фрейлейной Монс, а не Монсихой или кукуйской царицей…
Розмари, девочка не только слезливая, ласковая и тихая, но и очень наблюдательная, с цепким, быстрым, приметливым, совсем даже не детским умом, очень скоро приметила все это и немало про себя удивлялась тому, что про русского царя, который одаривал Анхен своей любовью, ласками и сделал ее одной из самых богатых женщин своей страны, в доме никогда не говорили почтительно. Но как только он появлялся, перед ним заискивали, лебезили, ходили на цыпочках, не знали, куда посадить и чем угостить. Анхен не сводила с него прельстительных взоров и то и дело вздыхала так глубоко, что груди ее выскакивали из корсета, и это необычайно восхищало царя. Розмари знала: для этого в корсет Анхен, как раз под грудями, вшиты две стальные изогнутые пластиночки. Стоило вздохнуть чуть глубже – они поворачивались и выталкивали груди из очень низко вырезанного декольте. Анхен сама показала Розмари эту маленькую хитрость и долго смеялась, глядя на изумление в голубых глазах девочки.
Вообще Анхен, которая посулила, что маленький приемыш будет, как и все прочие в доме, трудиться день и ночь, не слишком-то перегружала ее работой. Скоро Розмари догадалась, что Анхен видит в ней не столько служанку, сколько подружку, а потому была с ней очень откровенна и любила вспоминать те времена, когда была еще невинной девушкой. Слушая ее, Розмари порой недоумевала: почему Анхен жалеет о своей невинности, с которой рассталась по собственной воле? Да ведь она все время лжет!
Лжет, притворяется, хитрит… А раз так, то не заслуживает благодарности и преданности Розмари, значит, ее тоже можно и даже нужно обманывать, что Розмари и делала неустанно.
Конечно, если бы Анхен подозревала об этих ее мыслях, она бы и слова лишнего не сказала, но она ведь думала, что перед ней обыкновенная семилетняя девочка, и не подозревала, что в голове Розмари словно крутится день и ночь колесо прялки, которая прядет тонкую, стремительную нить мыслей, а девочка наматывает ее аккуратными пасмами[7], ничего не забывая и в свободную минуту с удовольствием возвращаясь к тому или иному «мотку», чтобы снова и снова осмотреть его с разных сторон. Еще отец с матерью диву давались ее недетской разумности, рассудительности, но тогда Розмари не слишком давала ей волю, потому что была еще сущим ребенком. Теперь же потеря семьи, страх, тяготы путешествия и жизнь по чужим людям обострили ее разум, заставив до срока повзрослеть, хотя внешне она была все такой же нежненькой, слабенькой, слезливой, тихой голубоглазой девочкой, которая ластилась ко всякой норовившей ее приласкать руке, словно приблудный котенок… И никто не подозревал, что в ее бархатных лапках спрятаны очень даже недетские коготки.
«Коготками» было то, что она постепенно узнавала об этой семье и о самой кукуйской царице – Анне Монс. А узнала она, что ее хозяйка украдкой изменяет государю и имеет любовника, в которого истинно влюблена и женой которого очень хочет стать.
Анхен не единожды обмолвилась, что раньше судьба добропорядочной жены своего добропорядочного мужа казалась ей невыносимо скучна. Теперь же она только об этом и мечтает.
Постепенно Розмари поняла, что хозяйка ее из тех, кто всю жизнь желает лишь недостижимого. А значит, счастья она никогда не достигнет.
* * *
Катерина едва не оглохла от собственного крика.
Метнулась туда-сюда, дважды налетела на стену и наконец так и врезалась в печь. Искра попала на юбку. Катерина поспешно сжала руками затлевший подол и попыталась разогнать дым. Потом подняла с полу щепку, сунула в щелку печи и, когда огонек разгорелся, кое-как огляделась.
Конечно, первым делом она посмотрела на лавку. Змеюки там не было. Уползла, зараза!
Страху сразу стало поменьше, а на смену ему пришла рассудительность. Конечно, зря она так перепугалась. Только сумасшедшая – а старуха отнюдь не казалась сумасшедшей! – станет держать в своей избе ядовитую змею. С ними не задружишь: гадина самую ласковую руку цапнет – и виноватой себя не сочтет. К тому же змеи сейчас, в начале ноября, уже спят. Скорее всего, это был безобидный ужака. Они, слышала Катерина, если живут в домах, у людей, то спать заползают куда поздней, чем на Вознесеньев день, а иные и всю зиму, полусонные, вялые, то ползают по углам, то там и засыпают на недолгое время. Конечно-конечно, это был уж!
На душе стало полегче. Катерина быстренько перекрестилась (справа налево, как и положено православной душе) и принялась думать дальше.
Мысли в голову полезли самые черные. Недавно пошел по Питеру слух, будто завелись где-то на окраине Васильевского острова человекоядцы. Каким-то обманом, а может, колдовством заманивают они к себе доверчивых людей, а потом, спустя несколько дней, под окнами того дома, где жили несчастные, отыскиваются либо кости, либо черепа, сваренные и обглоданные дочиста, а что самое страшное – со следами человеческих зубов.
Уж не к такой ли человекоядице угодили и они с Аннушкой?! А что, если там, на дворе, разрубленное тело несчастной девицы Крамер уже запихивают в какой-нибудь кипящий котел, чтобы сварить и съесть, а потом…
Потом настанет очередь и другой жертвы!
Катерина мигом вообразила себе собственный череп, подкинутый под окна царского дворца, представила любимого супруга, нашедшего этот череп, а еще страшнее – своих дочек, Аннушку да Лизоньку, на череп матушки наткнувшихся, да так и залилась слезами.
Впрочем, очень скоро она вспомнила, что череп ее далеко еще даже не обглодан, и вообще голова крепко держится на плечах, а самое главное – вокруг нет никаких злоумышленников, и старуха, которая – это же ясно, как самый что ни есть светлый Божий день, – злодейка и разбойница, вышла на двор, словно нарочно дав Катерине время подумать и собраться с силами. Участь Аннушки, конечно, ужасна… Неведомо, увидит ли Катерина свою верную служанку живой. Но погоревать еще время будет, если ей удастся отсюда выбраться. Надобно пока поискать, нет ли здесь другого выхода…
Сначала Катерина пыталась освещать углы, однако лучинка то и дело гасла, поэтому в конце концов она швырнула ее под печку и доверилась собственным рукам – маленьким, цепким, хватким, ловким и умелым. Вдруг вспомнилось, каким криком кричал Петруша, когда она, бывало, давала своим рукам волю и принималась гладить и трогать его везде, где только могла достать. Стыда Катерина отродясь никакого не ведала – ни в бытность свою воспитанницей и прислугой пастора Глюка, ни в последующем статусе солдатской полонянки, утехи, забавы – и вообще полковой жены.





