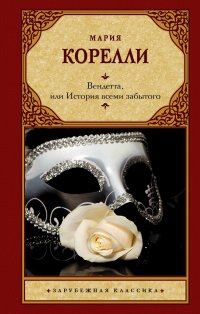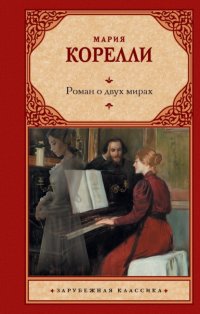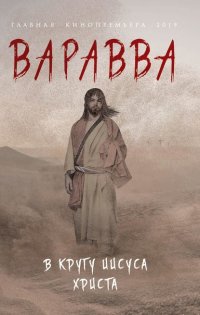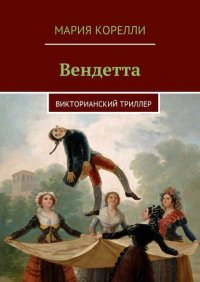
Читать онлайн Вендетта. Викторианский триллер бесплатно
- Все книги автора: Мария Корелли
© Мария Корелли, 2016
© А. В. Боронина, перевод, 2016
ISBN 978-5-4474-4501-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Чтобы тот, кто прочтет следующие страницы, не счел эту историю совершенно невероятной, возможно есть необходимость сообщить, что ее ключевые моменты основаны на реальных событиях, которые имели место в Неаполе во время опустошительной эпидемии холеры в 1884 году. Нам достоверно известно из хроник ежедневной прессы, что неверность жен, к несчастью, принимает повсеместное распространение и становится даже слишком частой для миролюбивого общества с хорошей репутацией. Не так широко известны случаи мести оскорбленного мужа, нечасто он смеет взять правосудие в собственные руки, поскольку, в Англии по крайней мере, подобная смелость с его стороны несомненно была бы воспринята, как еще худшее преступление, чем то, которым лично он был обречен на страдания. Однако в Италии дело обстоит иначе: многословие, бюрократия и нерешительные вердикты присяжных там не считаются достаточно эффективными средствами для того, чтобы восстановить поруганную честь и опозоренное имя мужчины. И, таким образом, правильно это или нет, но часто там происходят странные и ужасные случаи, о которых мир обычно ничего не знает и которые, когда выплывают наружу, принимаются с удивлением и недоверием. И все же любовные истории, созданные фантазией романиста или драматурга, бледны в сравнении с реальной жизнью, с жизнью, которую ошибочно называют банальной, но которая фактически изобилует трагедиями, столь же грандиозными мрачными и мучительными для души, как и любая созданная Софоклом или Шекспиром пьеса. Ничто не может быть удивительнее истины и ничто порой – ужаснее!
Мария Корелли,Август, 1886 г.
Глава 1
Я, пишущий эти строки, мертвый человек. Мертвый официально и в полном соответствии с законом, мертвый и давно похороненный. Если вы спросите в моем родном городе, то местные жители расскажут, что я стал одной из многочисленных жертв холеры, которая свирепствовала в Неаполе в 1884 году и что мои бренные останки покоятся в фамильном склепе моих предков. Итак, я мертв, но в то же время я живу! Я чувствую горячую кровь, бегущую по моим венам, – кровь тридцатилетнего сильного мужчины в самом расцвете молодости, которая поддерживает во мне жизнь и придает глазам яркость и остроту, мускулам – стальную силу, рукам – железную хватку, – и все это составляет мое крепкое тело, которым я счастлив обладать. Да! Я жив, хоть и объявлен мертвым; жив и исполнен человеческой силы; и даже скорбь не оставила на мне значительных отметин, за исключением одной. Мои волосы, бывшие когда-то эбеново-черными, стали теперь белыми, словно снег Альпийских гор, хотя тугие кудри и продолжают виться, как прежде.
«Наследственность?» – удивился один из врачей, когда осматривал мои матовые локоны.
«Внезапный шок?» – предположил другой.
«Последствие воздействия сильного жара?» – сказал третий.
И ни один из них не ответил верно. Вот что я сделал однажды. Я поведал свою историю одному человеку, с которым познакомился случайно, – одному известному своими медицинскими познаниями и добротой. Он выслушал меня до конца с очевидным недоверием и даже тревогой, предположив, что я, возможно, сумасшедший. С тех пор я никогда и никому больше об этом не рассказывал.
Однако сейчас я пишу. Я далек от всех преследований, так что могу откровенно изложить всю правду. Я опущу перо в свою собственную кровь, если захочу, и ни один человек не сможет помешать мне! Зеленая тишина обширного южноамериканского леса окружает меня – это величественная тишина девственной природы, почти нетронутой безжалостной цивилизацией, приют тихого спокойствия, деликатно нарушаемого лишь трепетом крыльев да мягкими голосами птиц, а также нежным или бурным ропотом свободнорожденных небесных ветров. Внутри этого зачарованного круга я живу, здесь я снимаю груз тяжести со своего сердца, изливая переполненную чашу моей злобы и опустошая ее до последней капли. Мир должен узнать мою историю.
Жив – и в то же время мертв! Как же это возможно, спросите вы. Ах, друзья мои! Если вы хотите окончательно избавиться от своих умерших родственников, то для этого следует прибегнуть к кремации. А иначе, всякое может произойти! Кремация – самый лучший и единственно верный способ. Он чист и безопасен. И почему против него бытует столько предрассудков? Определенно лучше предать останки тех, кого мы любили (или делали вид, что любили) очищающему огню и свежему воздуху, чем засунуть их в холодный камень или опустить в сырую землю. Поскольку она скрывает жуткие вещи, неприятные, о которых обычно не говорят: длинных червей, осклизлых существ со слепыми глазами и бесполезными крыльями, – этих уродливых выкидышей мира насекомых, рожденных посреди ядовитых испарений, – тех существ, чей один только вид может привести вас, о нежная женщина, в жуткую истерику, и вызовет у вас, о сильный мужчина, дрожь и отвращение! Однако есть кое-что и похуже, чем эти чисто физические явления, которые сопутствуют так называемым Христианским похоронам, и это – страшная неуверенность. Что если после того, как мы опустили ящик с останками нашего умершего родственника в землю или поставили его в склеп; что если после того, как мы носили приличную траурную одежду и натягивали на лица выражение нежной и смиренной печали; что, говорю я, если после всех предпринятых мер, призванных обеспечить уверенность в смерти, – их окажется фактически недостаточно? Что если в той тюрьме, куда мы запрятали покойника, двери окажутся не столь прочными, как мы воображали? Что если крепкому гробу предстоит быть вывернутым невероятно крепкими и сильными пальцами, что если наш покойный дорогой друг не окажется мертвым, но, подобно Лазарю, ему предстоит воскреснуть, чтобы бросить вызов нашей привязанности снова? Разве в этом случае не придется нам сильно пожалеть о том, что мы не воспользовались безопасным и классическим методом кремации? Особенно если мы собирались унаследовать материальные богатства или немалую сумму денег, оставленные нам горько оплакиваемым родственником! Все мы – обманывающие себя лицемеры, ведь лишь немногие из нас действительно сожалеют о мертвых, немногие из нас поминают их с истинной нежностью и привязанностью. Но, видит Бог, эти люди заслуживают большего уважения, чем мы думаем.
Но позвольте мне вернуться к своему делу. Я, Фабио Романи, в последнее время покойный, собираюсь вести хронику событий одного короткого года – года, в котором уместились муки и пытки, которых бы хватило на целую жизнь! Один небольшой год! Один стремительный удар кинжала Времени! Он пронзил мое сердце, а рана все еще зияет и кровоточит, и каждая капля падающей крови – полна яда.
Одного страдания, столь близкого многим, я никогда не знал – бедности. Я родился богатым. Когда мой отец, граф Филиппо Романи, умер, оставив меня, тогда еще семнадцатилетнего парня, единственным наследником огромного состояния и главой известной фамилии, то у меня появилось множество искренних друзей, которые с их обычной добротой пророчили худшие перспективы моему будущему. Нет, были даже такие, которые с нетерпением ждали моей физической и умственной гибели с определенной степенью злорадного предвкушения, и они даже называли себя почтенными людьми. Они пользовались уважением и располагали связями, их слово имело значительный вес, и на некоторое время я стал объектом их злонамеренных страхов. Я был рожден, согласно их ожиданиям, для того, чтобы стать игроком, расточителем, алкоголиком, неисправимым ловеласом самого распутного характера. Тем не менее, странно признать, но я таким не стал. Хоть я и был неаполитанцем со всеми пламенными страстями и вспыльчивостью моей породы, однако я испытывал врожденное презрение к низменным порокам и необузданным вульгарным страстям. Азартная игра казалась мне верхом безумия, выпивка – разрушением здоровья и разума, а чрезмерная расточительность – оскорблением для бедняков. Я выбрал свой собственный образ жизни – средний курс между простотой и роскошью, разумное смешение уютного мира с увеселениями, отвечающими социальному положению, что обеспечивало мне ровное существование, которое не повреждало ни ума и ни тела.
Я жил тогда на вилле своего отца, в миниатюрном дворце из белого мрамора, расположенном на лесистой возвышенности, которая выходила на Неаполитанский залив. Моя территория удовольствия окаймлялась ароматными рощами апельсина и мирта, где сотни сладкоголосых соловьев насвистывали свои любовные мелодии золотой луне. Сверкающие фонтаны поднимались и падали в огромных каменных бассейнах, украшенных причудливой резьбой, и их прохладный шепчущий плеск освежал тишину горячего летнего воздуха. В этом тихом приюте я мирно прожил несколько счастливых лет в окружении книг и картин, где меня нередко навещали друзья: молодые люди, чьи вкусы более или менее совпадали с моими, а также те, кто был способен по достоинству оценить аромат и глубину цвета старинного вина.
О женщинах я знал мало или почти ничего. По правде сказать, я инстинктивно их избегал. Родители дочерей, достигших брачного возраста, часто приглашали меня в свои дома, но обычно я такие приглашения отклонял. Любимые книги предупреждали меня относительно женского общества, и я им верил и следовал их предупреждениям. Такая особенность подвергала меня насмешкам со стороны тех товарищей, которые имели склонность к любовным похождениям, но их веселые шутки о том, что они назвали моей «слабостью», никогда меня не затрагивали. Я доверял дружбе, а не любви, и у меня был настоящий друг – один, за кого в то время я с удовольствием отдал бы свою жизнь, тот, кто внушал мне самое глубокое уважение. Он, Гуидо Феррари, также иногда присоединялся к другим в добродушном осмеянии, которое я снискал к себе моей неприязнью к женщинам.
«Фи на вас, Фабио! – восклицал он. – Вы не почувствуете вкуса жизни, пока не испробуете нектара пары прелестных розовых губок! Вы не разгадаете тайны звезд, пока не погрузитесь в бездонную глубину глаз юной девы. Вы не познаете удовольствия, пока не сомкнете нетерпеливых объятий вокруг тонкой талии и не услышите биения страстного сердца около вашего собственного. Оставьте свои заплесневелые взгляды на жизнь! Поверьте, в ваших древних занудных философах не было ни капли мужества: по их венам текла жидкая вода вместо крови, а вся их клевета на женщин происходила из раздражения от собственных заслуженных разочарований. Те, кто упустил главный приз жизни, охотно убедили бы других, что его вовсе не стоит иметь. Неужели вы – человек с отточенным остроумием, горящими глазами, веселой улыбкой, чувственным телом, – не пополните собой списки влюбленных? Что там говорил Вольтер о слепом боге?
- «Кто б ни был ты, о человек,
- Он твой наставник, и навек».
Когда мой друг говорил таким образом, я лишь улыбался, но ничего ему не отвечал. Его аргументы не убеждали меня. И все же я любил слушать подобные речи: его голос был мягок, как пение дрозда, а выражение глаз говорило красноречивее слов. Бог знает, как я любил моего друга! Бескорыстно, искренне, с той редкой нежностью, которую иногда чувствуют друг к другу школьники, но которая редко проявляется у взрослых мужчин. Я был счастлив в его обществе, как и он, казалось, в моем. Мы проводили большую часть времени вместе, он, как и я, пережил тяжкую потерю родителей в ранней юности, из-за чего и покинул родные места, чтобы найти собственный путь в жизни, который отвечал бы его вкусам и желаниям. Он выбрал искусство в качестве профессии и, хотя и прослыл довольно успешным живописцем, но оставался при этом настолько же бедным, насколько я был богатым. Я всячески старался исправить это пренебрежение фортуны с должной предусмотрительностью и деликатностью и давал ему столько комиссионных, сколько было уместно, чтобы не возбуждать его подозрений или не ранить его гордости. Он сильно меня привлекал, поскольку наши вкусы совпадали и мы имели общие ценности; короче говоря, я не желал ничего большего, чем только всегда пользоваться его расположением, дружбой и преданностью.
В этом мире никому не позволено постоянно пребывать счастливым. Судьба – или чья-то злая прихоть – не может вынести того, чтобы мы находились в постоянном покое. Достаточно одного тривиального взгляда, слова, прикосновения – и вот, крепкие узы давней дружбы разорваны на куски, и мир, который представлялся таким глубоким и нерушимым, внезапно рушится. Это случилось со мной, точно также как и с другими. Однажды – как хорошо я помню это! – в один душный вечер в конце мая 1881 года я находился в Неаполе. Я провел день на своей яхте, неспешно плавающей по заливу, подгоняемой дуновениями слабого попутного ветра. Отсутствие Гуидо (он отбыл тогда в Рим на несколько недель с каким-то визитом), обеспечивало мне некое уединение, и когда мое легкое судно уже заходило в гавань, я находился в задумчивом, каком-то неуверенном настроении, вслед за которым вскоре пришла и депрессия. Несколько матросов, которые управляли моим судном, разбежались в разные стороны, как только мы высадились на берег, – каждый в соответствии с собственными предпочтениями в области удовольствий или разврата, – но я был не в том настроении, чтобы веселиться. И хотя у меня имелось много знакомств в городе, я мало интересовался теми развлечениями, что они могли предложить мне. Когда я прогуливался вперед по одной из основных улиц, раздумывая о том, стоит ли возвращаться пешком к моему дому, стоявшему на высокой горе, то услышал звук пения и заметил вдалеке мерцание белых одежд. Тогда шел месяц май, и я сразу догадался, что ко мне приближалась процессия в честь Пресвятой Мадонны. Наполовину от безделья, наполовину из любопытства, я остановился и стал ждать. Поющие голоса приближались, я уже видел священников, прислужников, раскачивающиеся золотые кадила, наполненные благовониями, мерцающие свечи, белоснежные одеяния детей – и затем, внезапно вся живописная красота этой сцены закружилась в моих глазах в одном пятне блеска и цвета, среди которого я увидел одно лицо! Одно лицо, сиявшее, словно звезда в обрамлении янтарных локонов; одно лицо, окрашенное нежным цветом искреннего очарования, совершенно прекрасное, освещенное двумя яркими глазами, большими и черными как ночь; одно лицо, на котором таяла полудразнящяя, полусладкая улыбка. Я пристально смотрел на него, не отводя глаз, ослепленный и взволнованный, ведь красота делает всех нас такими глупцами! Это была женщина – представительница того пола, которому я не доверял и избегал, – женщина в самой ранней весне ее юности, девушка пятнадцати или самое большее шестнадцати лет. Ее вуаль была отброшена назад случайно или по задумке модельера, и на один краткий миг я окунулся в этот соблазняющий душу взгляд, в эту чарующую улыбку. Процессия прошла, видение исчезло, но в тот краткий отрывок времени одна эпоха моей жизни завершилась навсегда и началась новая.
Я, конечно же, на ней женился. Ведь мы, неаполитанцы, в таких делах времени не теряем. Нам не достает благоразумия. В отличие от холодной крови англичан, наша стремительно мчится по венам, при этом она горяча словно солнце и вино и не нуждается ни в каких дополнительных стимуляторах. Мы страстно любим, мы желаем, мы обладаем – а затем? «Мы также быстро пресыщаемся, – скажете вы, – ведь эти южане столь непостоянны». Нет! На самом деле мы пресыщаемся гораздо меньше, чем вы думаете! А разве англичане не пресыщаются? Разве у них не появляется время от времени скрытая скука, когда они сидят в укромном уголке возле очага их «дома, милого дома», с их растолстевшими женами и в окружении всегда многочисленного семейства? На самом деле, да. Однако они слишком осторожны, чтобы это признать.
Не стану рассказывать здесь историю своего ухаживания, ведь она была краткой и сладостной, как прекрасно исполненная песня. У нас не возникло никаких препятствий. Девушка, которую я желал, была единственной дочерью разорившегося флорентийского дворянина самого развратного характера, который добывал свое пропитание за игровым столом. Его дочь воспитывалась в женском монастыре, известном строгой дисциплиной, так что девушка не ведала почти ничего мирского. Она была, как он уверял меня с умиленными слезами на глазах, «столь же невинной, как цветок на алтаре Мадонны». И я верил ему: ну что могла эта прекрасная, юная, дева с тихим голоском знать хотя бы о тени зла? Я так стремился скорее сорвать эту прекрасную лилию для гордого единоличного обладания, что ее отец с удовольствием мне ее отдал, несомненно, внутренне поздравив себя со столь удачной партией, которая выпала на долю его обнищавшей дочери.
Мы поженились в конце июня, и Гуидо Феррари украсил нашу свадьбу своим великолепным присутствием.
«Во имя бога Бахуса! – восклицал он после окончания брачной церемонии. – Вы превзошли меня, как учителя, Фабио! В тихом омуте черти водятся! Вы вытащили лучший драгоценный камень из шкатулки Венеры, отыскав прекраснейшую девушку в Королевстве Обеих Сицилий».
Я пожал его руку, и легкое раскаяние укололо меня, поскольку отныне он перестал быть первым человеком в моей жизни. И я почти пожалел об этом. В мое первое утро после женитьбы я оглянулся назад, к былым временам – таким далеким теперь, хоть и столь недавним – и вздохнул, думая, что они закончились навсегда. Но я взглянул на Нину, мою жену. И одного этого было достаточно! Ее красота ослепила меня и пересилила все сомнения. Тающая нежность ее больших прозрачных глаз взбудоражила мою кровь, и я забыл обо всем на свете. Я находился в том высоком бреду всепоглощающей страсти, когда любовь и только любовь, кажется смыслом существования. Я достиг тогда самого верхнего пика счастья, когда каждый день был словно праздник в волшебной стране, а ночь возносила на вершины блаженства. Нет, я так никогда и не пресытился ею! Красота моей жены не надоедала мне, а только возрастала с каждым днем обладания ею. Я никогда не замечал иных граней ее личности, кроме красоты, так что в течение нескольких месяцев она сумела досконально изучить все глубины моего характера. Так она осознала, что особенно нежными взглядами своих прекрасных глаз могла легко превратить меня в преданного раба и научилась управлять этой моей слабостью, превратив ее в собственную власть надо мной и получив возможность вертеть мною, как ей было угодно. Я мучаю себя этими глупыми воспоминаниями. Все мужчины, перешагнувшие тридцатилетний рубеж, обычно уже успевают изучить различные женские уловки: эти игривые полунамеки, которые ослабляют волю и останавливают даже самого сильного героя. Любила ли она меня? О да, я так предполагаю! Оглянувшись назад на те дни, я могу откровенно сказать, что, скорее всего, она любила меня, как девятьсот жен из тысячи любят своих мужей, а именно, ради того, что они могут получить от них. А я ничего не жалел для нее. И если я сам принял решение боготворить ее и возносить до ангельских высот, тогда как она находилась на самом низком уровне простой женщины, то это оказалось лишь моим собственным безумием, а не ее ошибкой.
Двери нашего дома были всегда открыты. Наша вилла стала центром веселья для самых знатных членов высшего общества во всем Неаполе и в его округе. Моей женой восхищались все, а ее прекрасное лицо и изящные манеры стали предметом обсуждения повсюду. Гуидо Феррари, мой друг, был одним из тех, кто громче всех восхвалял ее достоинства и оказывал ей самое галантное уважение, что еще более расположило его ко мне. Я доверял ему как брату; он приходил и уходил, когда ему было угодно, он преподносил Нине многочисленные цветы и причудливые безделушки, приходившиеся ей по вкусу, и относился к ней с братской добротой. Чаша моего счастья была преисполнена любовью, богатством и дружбой, а чего же более мог желать человек?
И вскоре еще одна капля меда добавилась в чашу моей сладкой жизни. Утром первого мая 1882 года родился наш ребенок – девочка-младенец, прелестная, словно один из белых цветов анемонов, которые в тот сезон густо росли в лесах, окружавших наш дом. Малышку принесли ко мне на тенистую веранду, где я сидел за завтраком с Гуидо. Она была крошечная, бесформенная в пеленках, завернутая в мягкое кашемировое старое кружево. Я взял этот хрупкий комочек в руки с нежным благоговением, она открыла свои глазки, которые оказались большими и темными, как у Нины, и свет голубого неба, казалось, отражался в их чистых глубинах. Я поцеловал крошечное личико; Гуидо сделал то же самое, и ясные тихие глазки осмотрели нас обоих со странной полувопросительной торжественностью. В это время птичка, сидевшая на ветвях жасмина, затянула тихую, нежную песню, и мягкий ветерок унес и рассеял лепестки белой розы у наших ног. Я отдал девочку служанке, которая ждала, чтобы забрать ее, и проговорил с улыбкой: «Скажите моей жене, что мы поприветствовали ее Майский цветок».
Гуидо положил свою ладонь на мое плечо, когда прислуга вышла, его лицо было необычно бледным.
«Вы отличный парень, Фабио!» – сказал он неожиданно.
«Так оно и есть! А что? – спросил я полунасмешливо. – Чем я лучше других?»
«Вы гораздо менее подозрительны, чем большинство», – он отвернулся от меня, поигрывая невзначай веточкой клематиса, который тянулся по одному из столбов веранды.
Я взглянул на него с удивлением: «Что вы имеете в виду, друг мой? У меня есть причина подозревать кого-то?»
Он засмеялся и вновь занял свое место за обеденным столом.
«Да нет же! – ответил он, искренне глядя на меня. – Но в Неаполе сам воздух наполнен подозрением, кинжал ревности всегда готов ударить, и неважно, справедливо или нет, здесь даже дети уже изощрены в пороках. Кающиеся грешники исповедаются священникам, которые хуже, чем кающиеся грешники, Боже мой! В нынешнем состоянии общества супружеская преданность – это просто фарс, – он сделал краткую паузу и затем продолжил. – Не прекрасно ли знаться с таким человеком, как вы, Фабио? С вами, человеком счастливым в семейной жизни, не имеющим даже тени облака на небе своего доверия».
«У меня нет причин для недоверия, – сказал я, – Нина невинна как дитя, которому нынче она стала матерью».
«Правда! – воскликнул Феррари. – Чистая правда! – и он взглянул на меня улыбающимися глазами. – Она чиста словно девственный снег на вершине Монблан, чище первосортного алмаза и недоступная, как самая далекая звезда! Не правда ли?»
Я кивнул с ощущением странного беспокойства: что-то в его поведении озадачило меня. Однако наш разговор скоро перешел на другие темы, и я больше не возвращался к этому вопросу. Но пришло время – и очень скоро – когда у меня появилась серьезная причина вспомнить каждое слово, сказанное им тогда.
Глава 2
Неаполитанцы хорошо помнят лето 1884 года. Все местные газеты пестрели описаниями его ужасов. Холера проносилась над нами подобно опустошающему демону, от чьего смертельного дыхания множество людей, молодых и старых, были брошены умирать прямо на улицах. Смертельная болезнь, порожденная грязью и преступным пренебрежением элементарными мерами санитарной предосторожности, выкашивала город с ужасной скоростью и хуже чумы сеяла всеобщую панику. Незабвенный героизм короля Хумберта возымел свой эффект лишь на образованные классы, но среди низкого неаполитанского населения безраздельно властвовали презренный страх, грубое суеверие и крайний эгоизм. Один случай может послужить наглядным примером. Один рыбак, хорошо известный в своей округе, красивый молодой человек, был схвачен во время работы на своей лодке первыми симптомами холеры. Его понесли к материнскому дому. Старуха с внешностью истинной ведьмы наблюдала издалека за небольшой процессией, поскольку та не сразу приблизилась к ее жилью и, поняв в чем дело, она быстро забаррикадировала дверь и никого не впустила.
«Пресвятая Дева Мария! – кричала старуха визгливо через полуоткрытое окно. – Оставьте этого презренного несчастного на улице! Неблагодарная свинья! Он собирался принести чуму в дом его собственной уважаемой матери! Святой Иосиф! Кому нужны такие дети! Оставьте его на улице, говорю вам!»
Было бесполезно убеждать в чем-либо это старое чучело в женском обличье. Ее сын был, к счастью для себя, без сознания, и после некоторых пререканий его уложили на пороге, где он вскоре и умер, а его тело позже было увезено труповозкой, подобно куче мусора.
Жара в городе стояла просто невыносимая. Небо представляло собой горящий купол, а залив – гладкое блестящее стекло. Тонкий столб дыма, поднимавшийся от кратера Везувия, еще более усиливал ощущение всепроникающего жара, который, казалось, окружил город кольцом огня. Даже поздними вечерами не слышно было голоса ни одной певчей птицы, в то время как в моих садах, находившихся на высоте среди лесов, где было сравнительно прохладно, соловьи разразились булькающими потоками мелодии, наполовину радостной, наполовину печальной. Я принял все меры предосторожности, необходимые, чтобы инфекция не проникла в нашу усадьбу. Фактически, я бы вообще покинул эти места, если бы не знал наверняка, что поспешное бегство через зараженные районы несет с собой опасность близкого контакта с болезнью в пути. А кроме того, моя жена совсем не нервничала, и я думаю, что очень красивые женщины вообще редко нервничают. Их невероятное тщеславие является превосходным щитом против любого мора, ведь оно помогает им преодолеть основной элемент опасности – страх. Что касается нашей Стелы, переваливающегося с ноги на ногу карапуза двух лет, то она росла здоровым ребенком, относительно которого ни ее мать, ни я не испытывали ни малейшего беспокойства.
Гуидо Феррари приехал и оставался у нас, в то время как холера, словно острая коса среди зрелого зерна, выкашивала целыми сотнями нечистоплотных неаполитанцев. Мы трое с маленькой свитой слуг, никому из которых ни в коем случае не разрешалось посещать город, жили на одной мучной еде и дистиллированной воде, регулярно мылись, вставали и ложились спать рано и находились в самом добром здравии.
Помимо всех прочих достоинств моя жена также обладала очень красивым и хорошо поставленным голосом. Она умела петь с изящным выражением и многими вечерами, когда Гуидо и я сидели в саду и курили после того, как маленькая Стела легла спать, Нина услаждала наш слух соловьиным пением, исполняя песню за песней о людях, исполненных дикой красоты. К этому пению Гуидо часто присоединял свой глубокий баритон, сочетавшийся с ее нежным и чистым сопрано также прекрасно, как шум фонтана с трелью певчей птицы. Я и сейчас слышу эти два голоса, их совместное звучание до сих пор стоит насмешливо в моих ушах; тяжелые духи флердоранжа, смешанного с миртом, плавают в эфире вокруг меня; горит желтая полная луна в синем небе, и снова я вижу две головы, наклонившиеся друг к другу, одну светлую, а другую темную – моя жена и мой друг – те двое, чьи жизни я ценил в миллион раз дороже, чем собственную. Ах! То были счастливые дни, ведь самообман всегда таков. Мы никогда не бываем в достаточной мере благодарны тем искренним людям, которые сумеют пробудить нас от сладкой мечты, однако именно таковые и являются нашими истинными друзьями. Если бы мы только это понимали.
Август всегда был самым кошмарным летним месяцем в Неаполе. Холера распространялась с ужасной быстротой, и люди, казалось, буквально обезумели от ужаса. Некоторые из них, охваченные духом дикого отчаяния, погружались в оргии разврата и несдержанности, опрометчиво игнорируя все вероятные последствия. Одна из таких безумных пирушек имела место в известном кафе. Восемь молодых людей, сопровождаемых восемью девушками замечательной красоты, приехали и заказали отдельную комнату, где им подали роскошный ужин. В конце трапезы один из присутствовавших поднял бокал и произнес тост: «Слава холере!» Он был встречен бурными криками аплодисментов, и все выпили за это с безумным смехом. Той самой ночью все гуляки умерли в ужасных муках, их тела привычно втиснули в наспех сколоченные гробы и похоронили один поверх другого в яме, торопливо вырытой для этой цели. Подобные мрачные истории достигали нашего слуха каждый день, но они нас не слишком печалили. Стела являла собой живое очарование, действовавшее подобно щиту против мора. Ее невинная игривость и детский лепет отвлекали и занимали нас, окружая атмосферой, исцелявшей физически и морально.
Однажды утром – то было одно из самых жарких утр того палящего месяца – я проснулся раньше, чем обычно. Надежда снискать хоть немного прохлады в воздухе заставила меня подняться и прогуляться по саду. Жена крепко спала на моей стороне постели. Я тихо оделся, чтобы не потревожить ее. Когда я собирался покинуть комнату, неясный порыв заставил меня возвратиться, чтобы взглянуть на нее еще раз. Насколько прекрасной она была! Она улыбалась во сне! Мое сердце забилось быстрее, когда я пристально посмотрел на нее, она принадлежала мне уже целых три года! Мне и только мне! Страстное восхищение и любовь к ней увеличивались во мне пропорционально уходящему времени. Я поднял один из рассыпавшихся золотых локонов, лежавший как яркий солнечный луч на подушке, и нежно поцеловал. Затем, не зная еще своей дальнейшей судьбы, я вышел наружу.
Слабый бриз приветствовал меня, когда я медленно прогуливался по садовым дорожкам. Дыхание ветра было недостаточно сильно для того, чтобы заставить листья трепетать, и все же в нем ощущался солоноватый привкус, который несколько освежал после тропически знойной ночи. Я в то время увлекся исследованиями Платона, так что по пути ум мой был занят высокими проблемами и глубокомысленными вопросами, которыми задавался этот великий учитель. Увлеченный потоком своих мыслей я зашел дальше, чем предполагал изначально, и оказался в конце концов на обходном пути, которым уже давно не пользовались в нашем домашнем хозяйстве. Это была вьющаяся дорожка, ведущая вниз в направлении гавани. Место было тенистым и прохладным, и я шел по дороге почти бессознательно, пока мельком не увидел мачты и белые паруса, просвечивающие через листву разросшихся деревьев. Я уже собирался вернуться той же дорогой, когда вдруг услышал внезапный звук. Это был низкий стон, выдававший сильную боль, а точнее придушенный крик, который, казалось, издавало какое-то животное, испытывающее страшные муки. Я повернулся на тот звук и увидел лежащего лицом вниз на траве мальчика, маленького продавца фруктов лет одиннадцати или двенадцати. Его корзина стояла рядом с заманчивой грудой персиков, винограда, гранатов и дынь – очень вкусной, но опасной во времена холеры едой. Я тронул парня за плечо.
«Что с тобой?» – спросил я его. Он конвульсивно скрутился и повернул ко мне лицо: красивое, хотя и мертвенно бледное со следами боли.
«Чума, синьор! – выдавил он. – Чума! Держитесь подальше от меня, ради Бога! Я умираю!»
Я колебался. За себя я не боялся. Но вот за жену и ребенка, – ради их безопасности необходимо было быть осмотрительным. И все же я не мог вот так оставить этого бедного мальчугана. И я решил отправиться в гавань на поиски врача. С такими мыслями я заговорил с ним ободряющим тоном.
«Мужайся, мой мальчик, – сказал я, – не теряй веры! Не всякая болезнь обязательно чума. Отдохни здесь, пока я приведу доктора».
Парень посмотрел на меня с удивлением жалобным взглядом и попытался улыбнуться. Он указал на горло и приложил усилие, чтобы говорить, но безуспешно. Затем он осел на траву и вновь скорчился от боли, как преследуемое смертельно раненное животное. Я оставил его и поскорее пошел вперед. Достигнув гавани, где стояла сильная удушливая жара, я увидел несколько испуганно выглядевших мужчин, стоящих бесцельно, которым я и поведал о мальчишке, призывая на помощь. Но все они отступили от меня, и ни один не согласился пойти даже за все золото, которое я предлагал. Проклиная их трусость, я поспешно продолжил поиски врача в одиночку и наконец его отыскал. То был болезненного вида француз, который выслушал с очевидным нежеланием описание того состояния, в котором я оставил маленького продавца фруктов, и в конце решительно покачал головой и отказался даже сдвинуться с места.
«Парень уже мертвец, – констатировал он с краткой холодностью. – Лучше зайдите в дом милосердия, и братья перенесут его тело».
«Что? – воскликнул я. – Вы даже не попытаетесь спасти его?»
Француз поклонился с насмешливой учтивостью.
«Простите меня, монсиньор! Мое собственное здоровье будет подвержено серьезной опасности, если я прикоснусь к умершему от холеры. Позвольте мне на этом откланяться, монсиньор!»
И он исчез, захлопнув дверь у меня перед носом. Я был крайне раздражен, и хотя высокая температура и зловонные миазмы городской улицы, раскаленной солнцем, заставляли меня чувствовать слабость и болезненность, я позабыл обо всех опасностях и продолжал стоять в зачумленном городе, задаваясь вопросом, что же я должен сделать, чтобы снискать помощь. Вдруг глубокий добрый голос прозвучал рядом с моим ухом.
«Вам нужна помощь, сын мой?»
Я поднял глаза. Высокий монах, чей капюшон частично скрывал его бледные, но решительные черты, стоял на моей стороне улицы. Это был один из тех героев, которые из любви к Христу откликнулись на зов помощи в то ужасное время и встречали мор бесстрашно там, где пустые безбожные хвастуны убегали подальше, словно напуганные зайцы, от одного только запаха опасности. Я приветствовал его с почтением и рассказал о своей проблеме.
«Я отправлюсь немедленно, – сказал он с оттенком сожаления в голосе, – но предполагаю худшее. У меня есть с собой лекарства, возможно, еще не поздно».
«Я пойду с вами, – сказал я нетерпеливо. – Непозволительно даже собаке дать умереть вот так, без всякой помощи. Тем меньше этого заслуживает бедный парень, который кажется совсем одиноким».
Монах внимательно посмотрел на меня, когда мы шагали вместе.
«Вы не живете в Неаполе?» – он спросил.
Я назвал свое имя, за которым закрепилась добрая слава, и описал расположение моей виллы.
«На вершине нашей горы мы пользуемся прекрасным здоровьем, – добавил я. – Не могу понять той паники, что преобладает в городе. Чума распространяется трусостью».
«Естественно! – ответил он спокойно. – Но что поделаешь? Люди здесь любят удовольствия. Их сердца прилеплены исключительно к этой жизни. Когда смерть, свойственная всем, проникает в их среду обитания, то они становятся похожими на младенцев, напуганных темной тенью. Религия сама по себе, – здесь он вздохнул глубоко, – не имеет никакой власти над ними».
«Но вы, отец мой», – начал я и резко остановился, ощутив острую пульсирующую боль в своих висках.
«Я, – отвечал он серьезно, – слуга Христа. Чума не пугает меня. Недостойный вроде меня готов – нет, жаждет! – по призванию своего Владыки подвергнуться угрозам всех смертей».
Он говорил твердо, но при этом без высокомерия. Я смотрел на него с неким восхищением и собирался уже ответить, когда неожиданное головокружение нашло на меня, и я ухватился за его руку, чтобы удержаться от падения. Улица раскачивалась под ногами, как корабль на волнах, и небеса закружились в вихрях голубого пламени. Странное наваждение медленно проходило, и я услышал голос монаха как будто издалека, который спрашивал меня с тревогой, что случилось. Я выдавил улыбку.
«Это тепловой удар, я думаю, – сказал я слабым голосом, словно дряхлый старик. – Я ослаб, и голова закружилась. Вы бы лучше оставили меня здесь и сходили проведать мальчика. О, Боже мой!»
Это последнее восклицание я выдавил из себя чистым мучением. Мои конечности отказывались удерживать меня, и острая боль, холодная и горькая, как будто голую сталь пропустили через мое тело, заставила меня опуститься в конвульсиях на тротуар. Высокий и жилистый монах без колебаний поднял меня и наполовину занес, наполовину втащил в какой-то трактир или ресторан для бедняков. Здесь он уложил мое тело на одну из деревянных скамей и подозвал владельца – человека, который, казалось, его хорошо знал. Хоть и жестоко страдая, я все же оставался в сознании и мог слышать и видеть все происходящее.
«Позаботьтесь о нем хорошенько, Пьетро! Это богатый граф Фабио Романи. Он страдает от боли. А я возвращусь в течение часа».
«Граф Романи! Пресвятая Дева Мария! Он подхватил чуму!»
«Ты дурак! – воскликнул монах в отчаянии. – Как ты можешь такое говорить? У него солнечный удар, а не чума, ты трус! Пригляди за ним или, клянусь ключами Святого Петра, тебе не будет места на небесах!»
Дрожащий владелец гостиницы выглядел испуганным от этой угрозы и покорно приблизился ко мне с подушками, которые подложил мне под голову. Монах между тем поднес стакан к моим губам, содержащий немного лекарственной смеси, которую я механически проглотил.
«Отдохните здесь, сын мой, – сказал он, обратившись ко мне успокаивающим голосом. – Эти люди вполне добродушны и позаботятся о вас. Я скоро вернусь, но сейчас должен спешить к мальчику, для которого вы искали помощь. Меньше, чем через час я буду с вами снова».
Я лежал, удерживая его руку в своей.
«Постойте, – пробормотал я, – скажите мне правду. У меня чума?»
«Надеюсь, что нет! – ответил он с состраданием. – Но что если и так? Вы молоды и достаточно сильны, чтобы мужественно с ней бороться».
«Я не боюсь, – сказал я, – но, святой отец, обещайте мне одну вещь: не говорите ни слова о болезни моей жене! Поклянитесь мне! Даже если я буду без сознания или умру, поклянитесь, что меня не понесут на виллу. Поклянитесь же! Я не успокоюсь, пока у меня не будет вашего слова».
«Торжественно клянусь вам в этом, сын мой, – ответил он, – во имя всего святого я исполню ваше пожелание».
После его клятвы тяжелый камень упал с моих плеч: безопасность тех, кого я любил, была гарантирована, и я поблагодарил его немым жестом, так как был слишком слаб, чтобы сказать больше. Он исчез, и мой мозг погрузился в хаос странных мечтаний. Сделаю попытку воскресить эти смутные видения. Я совершенно явно вижу интерьер комнаты, где лежу. Здесь робкий владелец гостиницы, он полирует свои стаканы и бутылки, бросая изредка испуганные взгляды в моем направлении. Небольшие компании мужчин заглядывают в двери и, видя меня, поспешно уходят прочь. Я наблюдаю все это, осознавая, где нахожусь, и все же одновременно я вижу себя взбирающимся по крутым склонам альпийского ущелья. Холодный снег прилипает к моим ногам, я слышу порыв ветра и рев тысяч ливней. Темно-красное облако плавает над вершиной белого ледника, постепенно его часть отделяется, и в его ярком центре я вижу улыбающееся лицо. «Нина! Моя любовь, моя жена, моя душа!» – кричу я в голос. Я протягиваю руки, сжимаю ее в объятиях, и вдруг бах! Этот проныра – владелец гостиницы – держит меня в своих омерзительных объятиях! Я вступаю с ним в отчаянную борьбу, задыхаясь.
«Глупец! – кричу я ему прямо в ухо. – Дайте мне прикоснуться к ней, к ее губам, созданным для поцелуев, пустите меня!»
И вот еще один человек подбегает и хватает меня. Вдвоем с владельцем гостиницы они заставляют меня лечь обратно на подушки, они одолевают меня, и крайняя слабость от ужасного истощения крадет мои последние силы. Я прекращаю борьбу. Пьетро и его помощник смотрят на меня.
«Умер!» – перешептываются они между собой.
А я слышу их и улыбаюсь. Умер? Только не я! Палящие потоки солнечного света устремляются через открытую дверь гостиницы, настойчиво и монотонно жужжит муха, какие-то голоса поют «Фею Амалфи», и я могу даже различить слова:
- «Chiagnaro la mia sventura
- Si non tuorne chiu, Rosella!
- Tu d’ Amalfi la chiu bella,
- Tu na Fata si pe me!
- Viene, vie, regina mie,
- Viene curre a chisto core,
- Ca non c’e non c’e sciore,
- Non c’e Stella comm’a te!»
Это правдивая песня, о моя Нина! «Non c’e Stella comm’ a te!» Что там говорил Гуидо? «Чище первосортного алмаза и недоступная, как самая далекая звезда!» А этот глупый Пьетро все еще полирует свои бутылки. Я могу его видеть, его маленькое круглое лицо, потное от жары и пыли, но не могу понять, откуда он вообще здесь взялся, поскольку я уже стою на берегу тропической реки, где растут огромные дикие пальмы и сонные аллигаторы лежат, греясь на солнце. Их огромные челюсти раскрыты, а маленькие глазки поблескивают зеленью. По тихой воде скользит легкая лодка, и в ней я замечаю фигуру стоящего индейца. Его черты странным образом напоминают Гуидо. Приблизившись, он достает длинное тонкое стальное лезвие. Этот парень – храбрец! Он хочет в одиночку напасть на жестоких рептилий, которые подстерегают на жарком берегу. Он спрыгивает на землю, а я наблюдаю за ним со странным восхищением. Вот он проходит мимо аллигаторов, так что, кажется, и не замечает их присутствия, идет быстрым решительным шагом прямо ко мне. Так это я – тот, которого он ищет! Это мое сердце он стремительно пронзает кинжалом, затем вытаскивает его со стекающими кровавыми каплями. И снова бьет – раз, второй и третий – а я все никак не умираю! Я корчусь, я стонаю в горьком мучении! И тогда что-то темное застилает от меня яркое солнце, что-то холодное и мрачное, против чего я отчаянно борюсь. И вот два темных глаза пристально глядят на меня и голос произносит:
«Успокойся, сын мой, успокойся! Доверься воле Божьей!»
Это был мой друг – монах. Я обрадовался, узнав его. Он вернулся после своей миссии милосердия. И хотя я едва мог говорить, я все же начал расспрашивать его о мальчике. Божий человек перекрестился.
«Его молодая душа уже обрела покой! Я нашел его мертвым».
Я был поражен этим известием. Умер так скоро! Я не смог осознать этого, и разум вновь уплыл в состояние туманных грез. Теперь я вновь вспоминаю то время и вижу, что не могу четко изложить того, что пережил в дальнейшем. Я помню только, что сильно страдал от невыносимой боли, что подвергался мучительным пыткам отчаяния, но сквозь все это я постоянно слышал монотонное глухое звучание молитвы. Кажется, я даже слышал удары колокола, который сопровождает молебен, но мое сознание дико раскачивалось в эти моменты, так что я не могу быть в этом уверен. Я помню собственные крики среди этой вечности боли: «Только не на виллу, нет, нет, не туда! Вы не можете нести меня туда, я проклинаю того, кто ослушается меня!»
Затем вспоминаю ощущение страха перед глубоким водоворотом, откуда я протягивал свои руки, и глаза монаха, который стоял надо мной. Я тогда увидел проблеск тонущего серебряного распятия, сверкнувшего перед моими глазами, и наконец с громким криком о помощи, я погрузился вниз, в пропасть черной ночи и небытия.
Глава 3
Далее последовал долгий период сонливой неподвижности и темноты. Казалось, я был унесен каким-то чудесным источником глубокого забвения и мрака. Подобные мечтам образы все еще мелькали в моем воображении, но сначала они были размытыми, а спустя некоторое время начали обретать более конкретные формы. Странные трепещущие существа толпились вокруг меня, одинокие глаза пялились из глубокого мрака, длинные белые костлявые пальцы, хватавшие пустоту, делали мне грозные предупреждающие знаки. Затем очень медленно передо мной возникло видение: расстилался кроваво-красный туман, словно яркий закат, и из его середины огромная черная рука приблизилась ко мне. Она толкнула меня в грудь, схватила за горло чудовищной хваткой и придавила к земле, словно стальным прессом. Я отчаянно боролся, пытался закричать, но чудовищное давление не позволяло мне издать ни звука. Я извивался во все стороны, пытаясь выкрутиться, но мой мучитель держал крепко. И все же я продолжал борьбу с той жестокой силой, которая так стремилась сокрушить меня. И постепенно, дюйм за дюймом, в конце концов я одержал победу!
И тогда я проснулся. О, милосердный Бог! Где же я был? В какой ужасной атмосфере, в какой страшной темноте? Постепенно, когда мои чувства возвратились ко мне, я вспомнил недавнюю болезнь, монаха, человека по имени Пьетро, но где же они были? Что сделали со мной? Вскоре я понял, что лежал на спине прямо, диван подо мной был необычайно тверд. Почему они забрали подушки из-под головы? Чувство покалывания устремилось по моим венам, я с любопытством ощупал собственные руки: они были теплыми, а пульс бился сильно, хотя и неровно. Но что-то мешало свободно дышать. Воздух, воздух! Мне был нужен воздух! Я поднял руки и – о, ужас! Они ударились о твердую прочную поверхность прямо надо мной.
И тогда страшная правда озарила яркой вспышкой мой мозг! Я был похоронен! Похоронен заживо, а эта деревянная тюрьма, в которой я оказался заключенным, была гробом! В тот момент звериное безумие овладело мною, и я начал рвать и царапать ногтями проклятые доски, всеми силами своих рук и плеч я стремился вывернуть заколоченную крышку гроба. Но все усилия были напрасны! От ярости и ужаса я обезумел еще больше. Насколько простыми казались все прочие смертельные случаи по сравнению с моим! Я задыхался, я чувствовал, что глаза вылезают из орбит, кровь брызнула из моего рта и ноздрей, и ледяные капли пота стекали с моего лба. Я остановился, задыхаясь. Затем вдруг я напряг все свои силы в еще одной дикой попытке, уперев руки со всей силой отчаяния в одну доску своей узкой тюрьмы. И наконец она треснула и поддалась!
Но вдруг новый страх охватил меня, и я вынужден был отступить, задыхаясь еще больше. Мои мысли быстро заработали, рисуя страшную дальнейшую картину. Ведь коль скоро я был захоронен в холодной и сырой земле, кишащей червями и наполненной костями мертвецов, то что толку открывать гроб, позволив всей этой массе ворваться внутрь и забить мне глаза и рот, навсегда запечатав меня здесь. Мой разум погряз в этой идее, мой мозг висел на грани безумия! Я засмеялся – подумайте только! И этот мой смех прозвучал в ушах, как последний хрип в горле умирающего человека. Но теперь я уже мог дышать более свободно, даже обезумев от страха, я ощутил воздух. Да! Благословенный воздух как-то проник внутрь. Придя в себя и ободрившись осознанием этого факта, я нащупал образовавшуюся щель и с новым чудовищным усилием я стал расшатывать доску, пока вдруг целая сторона моего гроба не поддалась, и я смог наконец откинуть крышку. Я протянул руки, и никакая земля не помешала их движениям. Я чувствовал только воздух, пустой воздух. Поддавшись первому сильному импульсу, я выпрыгнул из ненавистного ящика и упал недалеко, ушибив руки и колени, казалось, о каменную дорожку. А рядом со мной рухнуло что-то тяжелое, разбившись со страшным грохотом.
Тьма стояла непроглядная. Однако атмосфера была прохладной и освежающей. С трудом превозмогая боль, я сумел принять сидячее положение на том самом месте, куда упал. Мои руки оставались непослушными и одеревеневшими, а кроме того, были изранены, и всего меня била сильная лихорадка. Тем не менее чувства мои прояснились, запутанная цепь беспорядочных мыслей соединилась в общую картину, пережитое безумное волнение постепенно улеглось, и я начал оценивать свое положение. Я, очевидно, был похоронен заживо. Сильнейшая боль, я полагаю, привела к тому, что я впал в кому, и люди из той гостиницы, куда меня привели больного, решили, что я умер от холеры. Охваченные паникой они с неприличной поспешностью, характерной всем итальянцам особенно во время чумы, уложили меня в один из тех непрочных гробов, что небрежно и наспех сколачивались из тонких и непрочных досок. Я от всей души благословил их небрежную работу! Ведь если бы я оказался в более прочном ящике, то, кто знает, возможно, что даже самые отчаянные усилия не увенчались бы успехом. При этой мысли я задрожал. Еще один вопрос оставался открытым: где я? Я обдумал свое положение с различных сторон и так и не пришел к конкретному заключению. Хотя, постойте! Я вспомнил, что назвал монаху свое имя, так что он знал, что я был единственным наследником богатой фамилии Романи.
И что же последовало далее? Естественно, что святому отцу только и оставалось, что исполнить свой последний долг перед умершим. Он решил положить меня в фамильный склеп моих предков Романи, который не открывался с тех пор, как тело моего покойного отца несли к месту погребения со всем торжественным великолепием и пышностью, которые присущи похоронам богатого дворянина. Чем больше я об этом думал, тем вероятнее мне все это казалось. Склеп Романи! Его запретный мрак напугал меня как мальчишку, когда я следовал за гробом своего отца к каменной нише, предназначавшейся для него. И я отвел в сторону глаза из-за щемящей боли, когда моему взору предстал тяжелый дубовый ящик с обвисшим изодранным бархатом, украшенный почерневшим серебром, в котором лежало все, что осталось от моей матери, умершей в молодости. Я почувствовал себя больным, слабым, похолодевшим и опомнился только, когда вновь оказался на свежем воздухе под синим куполом небес высоко надо мной. И теперь я оказался заперт в этом самом склепе, и была ли у меня надежда на спасение? Я стал размышлять над этим. Вход в склеп, как я помнил, закрывала тяжелая дверь с кованой железной решеткой, откуда вниз спускался один пролет ступеней, где по всей вероятности я теперь и находился. Предположим, что я смог бы в полной темноте пробраться к тем ступеням и даже поднялся бы до той двери, но что толку? Она ведь закрыта и надежно заперта. И поскольку находилась она в дальней части кладбища, то здешний смотритель скорее всего не проходил мимо нее в течение многих дней, а возможно даже, и многих недель. В таком случае придется ли мне здесь голодать? Или умереть от жажды? Мучимый такими мыслями я поднялся с камня и встал. Мои ноги были босы, и холод от камня, на котором я стоял, пробирал до самых костей. Мне еще повезло, что они похоронили меня, как умершего от холеры и, убоявшись инфекции, на мне оставили часть одежды. Так что я был одет во фланелевую рубашку и свои обычные прогулочные брюки. Я почувствовал, что что-то еще висело у меня на шее, и как только я подумал об этом, на меня накатила волна сладких печальных воспоминаний.
Это была гладкая золотая цепочка, на которой висел медальон с портретом моей жены и ребенка. Я вытащил его в темноте, покрыл страстными поцелуями и оросил слезами, – то были первые слезы после моей смерти, – обжигающие и горькие слезы хлынули из моих глаз. Моя жизнь чего-то стоила, только пока улыбка Нины освещала ее. И я принял решение бороться за жизнь до конца, независимо то того, какие ужасы ожидают меня впереди. Нина – моя любовь, моя красавица! Ее лицо всплыло в памяти посреди ядовитого мрака склепа. Ее глаза призывали меня, эти молодые верные глаза, которые, как я думал, утопали теперь в траурных слезах после моей смерти. Я, казалось, видел, как моя добросердечная любимая рыдает одна в тишине пустой комнаты, хранящей память о тысяче наших объятий. Ее прекрасные волосы растрепаны, ее нежное лицо бледно и измучено тяжестью горя! Малышка Стела тоже, несомненно, будет спрашивать обо мне, бедняжка! Почему я не пришел, чтобы покачать ее, как обычно, под апельсиновыми ветвями. И Гуидо – мой храбрый и преданный друг! Я думал о нем с нежностью. Я чувствовал, как глубока и бесконечна будет его искренняя печаль из-за моей смерти. О, я должен был испробовать все способы, чтобы вырваться оттуда и непременно найти выход из мрачного склепа! Как счастливы будут все они, когда вновь увидят меня, чтобы узнать, что я жив, а не мертв! Какой горячий прием они мне устроят! Как Нина бросится в мои объятия, а маленькая дочка прильнет ко мне. Гуидо горячо пожал бы мне руку! Я улыбнулся, когда представил себе эту сцену радости на доброй старой вилле – в счастливом доме, освященном нежной дружбой и верной любовью!
Глубокий гудящий в пустоте звук внезапно поразил мой слух – один! два! три! Я насчитал двенадцать ударов. Это был церковный колокол, отбивающий положенное время. Мои приятные мечты рассеялись, я снова столкнулся с жестокой действительностью своего положения. Двенадцать часов! Полдень или полночь? Я не мог знать этого. Я начал вычислять. Было раннее утро, когда я встретил больного мальчика, немногим больше восьми, когда впервые увидел монаха и просил его о помощи для бедного маленького продавца фруктов, который в конце концов погиб в своих одиноких страданиях. Теперь, если предположить, что моя болезнь продлилась несколько часов, то я, возможно, впал в кому – умер, как думали окружающие, – где-нибудь к полудню. Тогда бы они, конечно, похоронили меня как можно скорее, во всяком случае до захода солнца. Обдумывая эти пункты один за другим, я пришел к выводу, что колокол, который я только что слышал, должно быть, отбил полночь – первую полночь после моих похорон. Я вздрогнул, какой-то нервный страх овладел мной. Я всегда был храбрым малым, но в то же время, несмотря на мое образование, несколько суеверным, а какой неаполитанец не суеверен? Эта черта – в нашей южной крови. И было нечто невыразимо пугающее в звуке полуночного колокола, звучащего в ушах человека, который живым заперт в склепе с разлагающимися телами его предков на расстоянии вытянутой руки! Я попытался овладеть своими чувствами, призывая всю силу духа, чтобы отыскать наилучший способ спасения. В итоге я решил на ощупь продвигаться, если это возможно, к ступеням склепа и с этой мыслью протянул руки и начал двигаться медленно и с предельной осторожностью. И вдруг, что это было? Я остановился и прислушался, кровь остановилась в моих жилах! Пронзительный крик, длинный и печальный, эхом отозвался в полых арках моей гробницы. Холодный пот выступил у меня по всему телу, сердце билось так громко, что я мог слышать его звук сквозь собственные ребра. Он повторялся снова и снова – этот странный вопль, сопровождаемый шумом и хлопаньем крыльев. Я позволил себе вздохнуть.
«Это сова, – сказал я себе, стыдясь собственного страха, – всего лишь бедная безобидная птица – приятельница и очевидец смерти, вот почему ее голос полон печального сожаления, она вполне безобидна». И я стал красться дальше с удвоенной осторожностью. Внезапно из плотной темноты на меня уставились два больших желтых глаза, блестевшие жестоким голодом и беспощадностью. На мгновение я был поражен и отпрянул назад, но тварь налетела на меня со свирепостью тигра! Она атаковала меня со всех сторон: вертясь вокруг моей головы, она метила мне в лицо и била своими большими крыльями, которые я мог только чувствовать, но не видеть. Одни желтые глаза сияли в плотном мраке, как глаза какого-то мстительного демона! Я сыпал ударами направо и налево, но борьба продолжалась недолго, так как я почувствовал боль и головокружение из-за того, что дрался слишком опрометчиво. Наконец, слава Богу! Огромная сова была побеждена, она отступила, явно измотанная, издав один дикий визг, полный бессильной ярости, и ее ярко горящие глаза исчезли в темноте. Затаив дыхание, не сломленный духом – каждый нерв в моем теле дрожал от волнения – я продолжил свой путь, как я думал, к каменной лестнице, ощупывая воздух вытянутыми руками. Вскоре я встретил преграду, она была твердой и холодной. Несомненно, каменную стену. Я ощупал ее вверх и вниз и обнаружил пустоту. Была ли это первая ступень лестницы, ведущей наверх? Я был озадачен, так как она казалась очень высокой. Я осторожно прикоснулся и внезапно столкнулся с чем-то мягким и липким на ощупь, будто мох или влажный бархат. Перебирая это пальцами с отвращением, я скоро нащупал продолговатую форму гроба. Любопытно, но я не был сильно напуган этим открытием. Я монотонно отсчитывал части приподнятого металла, который служил, как я понял, для его украшения. Восемь продольно, мягкая влажная ткань между ними и четыре выступа поперек. И вдруг острый укол совести пронзил меня, и я быстро отдернул руку. Чей это был гроб? Моего отца? Или я только что прикасался к частицам бархата того тяжелого дубового ящика, в котором покоился священный прах погибшей красоты моей матери? Я очнулся от апатии, в которой до этого пребывал. Все усилия, которые я предпринял, чтобы найти выход, отказались тщетны. Я потерялся в глубоком мраке и не знал, куда возвращаться. Весь ужас моего положения предстал передо мной с удвоенной силой. Меня начала мучить жажда, и я упал на колени и начал стонать вслух.
«Всемилостивый Бог! – кричал я. – Спаситель мира! Ради всех священных душ, покоящихся в этом месте, сжалься надо мною! О мать моя! Если действительно это ваши бренные останки лежат рядом, то презрите на меня, о милый ангел, с высоты тех небес, где вы теперь обрели мир! Помолитесь за меня и спасите или позвольте мне умереть прямо сейчас, не подвергаясь еще большим мучениям!»
Я произносил эти слова вслух, и звук моего стенающего голоса, отзываясь эхом в мрачных арках подземелья, казался жутким и исполненным ужаса даже для моих собственных ушей. Я знал, что если эти муки продлятся и дальше, то я просто сойду с ума. И я боялся рисовать в воображении картины окружавших меня ужасов: разлагавшихся в темноте трупов, которые могли бы заставить умолкнуть даже отъявленного маньяка. Я стоял на коленях, спрятав лицо в ладонях. Усилием воли я заставил себя немного успокоиться, чтобы не потерять остатки воспаленного разума. Но тише! Что это за прекрасный приветственный голос донесся издалека? Я поднял голову и слушал, как зачарованный.
«Тиф, тиф, тиф! Ола, оло-ла! Тиль-тиль-тиль! Свик, свик, свик!»
Это была соловьиная трель. Ангельский голос такой знакомой и прелестной птицы! Как я благословил ее в тот темный час отчаяния! Вознес хвалу Богу за ее невинное существование! Как я воспрянул и засмеялся, и заплакал от радости! Небесный посланник утешения! Даже сейчас я вспоминаю о нем с нежностью, и с тех пор все птицы мира снискали во мне своего страстного поклонника. Человечество стало отвратительным в моих глазах, но певчие обитатели лесов и холмов, столь чистые и нежные, казалось, стояли ближе всего к небесной жизни на этой земле. Прилив силы и храбрости охватил меня тогда. И новая идея родилась в моем мозгу. Я решил следовать за голосом соловья. Он бодро продолжал свою сладкую песнь, и я вновь начал движение сквозь темноту. Мне казалось, что птица сидела на одном из деревьев около входа в склеп и что если я пойду на ее голос, то, скорее всего, таким образом обнаружу ту самую лестницу, которую я до этого мучительно искал. Я медленно продвигался вперед, спотыкаясь. Слабость одолевала, ноги дрожали подо мной. Но на сей раз ничто не препятствовало моему успеху. Текучая трель соловья звучала все ближе и ближе, и почти уже потерянная надежда вновь зародилась в моем сердце. Я едва ощущал свои собственные движения. Я, как во сне, следовал за золотой нитью сладкого пения птицы. Внезапно я споткнулся о камень и сильно упал, но не почувствовал боли, так как мои ноги слишком оцепенели от холода, чтобы воспринимать еще одно страдание. Я поднял тяжелые воспаленные глаза в темноте и, сделав это, испустил благодарственный возглас. Тонкий луч лунного света, не толще древка стрелы, наклонялся вниз ко мне и тем возвестил, что я наконец достиг места, которое искал. Фактически я упал на самую нижнюю ступень каменной лестницы. Я не мог различить в темноте входную дверь склепа, но знал, что она должна быть там – наверху крутого подъема. Но на тот момент я уже слишком устал, чтобы подняться наверх. И я лежал неподвижно там, где был, глядя на одинокий лунный луч и слушая соловья, чьи восторженные трели теперь звучали в моих ушах с полной отчетливостью. Бомм! Тот же колокол, что и прежде, пробил один час с резким сухим лязгом. Близилось утро, и я решил отдохнуть в ожидании рассвета. Крайне истощенный телом и душой я положил голову на холодные камни, как будто они были самыми мягкими подушками и через несколько секунд забылся глубоким сном.
Я, должно быть, проспал некоторое время, когда был внезапно разбужен чувством удушающей слабости и тошноты, сопровождаемой острой болью в шее, как будто какие-то существа жалили меня. Я дотронулся рукой до этого места и, Боже мой! Смогу ли я когда-нибудь забыть ту ужасную вещь, которую схватили мои пальцы. Оно прицепилось к моей коже: крылатый, липкий, дышащий кошмар! И оно цеплялось за меня с упорством, которое почти свело меня с ума, и вне себя от отвращения и ужаса я закричал вслух. Я судорожно сжал обеими руками его толстое мягкое тело и буквально отодрал его от своей плоти и отбросил насколько смог далеко во внутреннюю темноту склепа. И после этого на несколько минут я совсем обезумел: своды подземелья огласились пронзительными воплями, которые я никак не мог сдержать. Замолкнув наконец по причине полного изнеможения, я огляделся вокруг. Луч луны исчез и вместо него виднелся теперь бледно-серый свет, в котором четко выделялся целый пролет лестницы и закрытая дверь наверху. Я бросился вверх с лихорадочной поспешностью сумасшедшего, схватился за железные прутья обеими руками и стал их отчаянно трясти. Дверь была прочна как камень и крепко заперта. Я позвал на помощь. Мертвая тишина была мне ответом. Я глядел сквозь плотно подогнанные прутья. Я видел траву, свисающие ветви деревьев и прямо передо мной виднелась часть благословенного неба, окрашенного опаловым, слабо краснеющим цветом приближающегося восхода солнца. Я упивался сладким свежим воздухом, длинная вьющаяся ветвь с лозой дикого винограда нависала надо мною, а ее листья обильно покрывала утренняя роса. Я протянул одну руку, сорвал несколько ягод и жадно их проглотил. Они показались мне более восхитительным кушаньем, чем все прочее, что я когда-либо пробовал в жизни. Они несколько облегчили горящее жжение моего пересохшего языка и горла. А один только вид деревьев и неба успокаивал и утешал меня. Зазвучал нежный щебет просыпающихся птиц, а мой соловей прекратил свое пение.
Я начал потихоньку оправляться от пережитого нервного потрясения и, прислонившись к мрачной арке моего склепа, набрался храбрости, чтобы поглядеть назад, вниз, на крутую лестницу, которую я преодолел с таким яростным рвением. Что-то белое лежало в углу на седьмой ступени сверху. Заинтересованный этим я осторожно спустился с некоторым нежеланием. Это оказалась половина толстой восковой свечи, одна из тех, которые используются в католическом похоронном ритуале. Несомненно, она была брошена здесь каким-нибудь небрежным помощником священника, чтобы избавить себя от необходимости нести обратно после окончания службы. Я посмотрел на нее задумчиво. Если бы у меня только был огонь! Я машинально засунул руки в карманы брюк, и там что-то зазвенело! Поистине меня хоронили в большой спешке. Мой кошелек, маленькая связка ключей, визитница. Одну за другой я вытаскивал эти вещи и удивленно разглядывал: они выглядели настолько знакомыми и одновременно такими странными! Я стал искать дальше и на сей раз обнаружил нечто действительно полезное в моем положении – маленький коробок спичек. Интересно, оставили ли они мой портсигар? Нет, он пропал. Он был сделан из серебра, несомненно, тот монах, который присматривал за мной в последние часы, взял его вместе с наручными часами и медальоном, чтобы отдать их моей жене.
Что ж, я не мог закурить, однако мог зажечь огонь. И у меня была готовая к употреблению похоронная свеча. Солнце еще не встало. Мне следовало, конечно же, ждать до наступления дня, прежде чем я мог надеяться привлечь моими криками случайного прохожего, идущего через кладбище. Между тем фантастическая идея родилась в моем уме. Я мог бы пойти и посмотреть на свой собственный гроб! Почему бы и нет? Это было что-то новенькое. Чувство страха полностью покинуло меня: обладание одним маленьким коробком спичек вселяло абсолютную смелость. Я взял церковную свечу и зажег. Она дала вначале слабую вспышку, но затем разгорелась ясным устойчивым пламенем. Прикрывая ее с одной стороны от сквозняка, я бросил взгляд на дневной свет, который весело проглядывал через мою тюремную дверь, и затем стал спускаться вниз, обратно в мрачное место, где я провел ночь в неописуемых муках.
Глава 4
Многочисленные ящерицы расползались прочь от моих ног, когда я спускался вниз по ступеням, и если вспышки света моей свечи проникали через темноту, то я слышал стремительное движение крыльев, смешивавшееся с шипящими звуками и дикими криками. Я знал теперь, как никто другой, домом каких странных и отвратительных существ является этот склеп, но при этом чувствовал в себе силу бросить вызов им всем, будучи вооруженным светом. Путь, который казался таким длинным в плотном мраке, был теперь краток и легок, и скоро я оказался в точке моего неожиданного пробуждения ото сна.
Оказалось, что подземелье имело квадратную форму, являя собой небольшую комнату с высокими стенами, в которых были выкопаны ниши. В них-то и помещались узкие гробы, содержащие останки всех покойных членов семьи Романи, один над другим, как товары на полках какого-нибудь склада. Я держал свечу высоко над головой и озирался вокруг с болезненным интересом. Вскоре обнаружилось и то, что я искал – мой собственный гроб. Он стоял там, в углублении, примерно в пяти футах над землей, и его разбитые стенки свидетельствовали о моей отчаянной борьбе за свободу. Я подошел ближе и стал рассматривать гроб. Это была хрупкая скорлупка, неровная и без всяких украшений, представлявшая собой несчастный образец дешевого искусства предпринимателей, но, видит Бог, я не собирался сводить счеты ни за плохое качество исполнения, ни за поспешность в работе. Что-то блеснуло на дне гроба. Это оказалось распятие, выполненное из серебра и дерева. Снова тот добрый монах! Совесть не позволила ему похоронить меня без этого святого символа. Возможно, он положил его на мою грудь, как последнюю дань, которую мог отдать мне. Несомненно, оно упало внутрь, когда я вывалился из своего гроба. Я взял его в руки и почтительно поцеловал, решив, что, если когда-нибудь встречу святого отца снова, то расскажу ему свою историю, и в качестве доказательства ее правдивости покажу этот крест, который он, несомненно, признает. Я задался вопросом, поставили они мое имя на крышке гроба или нет? Да, оно было там, нарисованное грубыми черными буквами имя «Фабио Романи», и далее следовал год моего рождения, затем короткая надпись на латыни, гласившая, что я умер от холеры 15 августа 1884 года. Это было вчера, только вчера! А я, казалось, прожил уже целый век с тех пор.
Я повернулся, чтобы взглянуть на место упокоения моего отца. Бархат свисал трухлявыми лохмотьями с краев его гроба, однако ткань еще окончательно не сгнила от сырости и работы червей. В соседней нише стоял массивный дубовый гроб, обитый почти сгнившей материей, которая еле держалась, а внутри него лежала она. Она, чьи первые теплые объятия ощутил я в своей жизни; она, в чьих любящих глазах я впервые увидел отражение мира.
Когда я был здесь в первый раз, то инстинктивно почувствовал, что мои пальцы нащупали в темноте именно ее останки. Я снова пересчитал металлические украшения – восемь в длину и четыре в ширину – а у гроба моего отца их было десять на пять. Бедная моя мама! Я вспомнил ее портрет, висевший в домашней библиотеке. Он изображал молодую улыбающуюся темноволосую красавицу с нежным лицом цвета созревшего на солнце персика. И во что же теперь превратилась вся эта красота? Я невольно вздрогнул и затем смиренно преклонил колени перед этими двумя печальными нишами в холодном камне и попросил благословения у давно умерших родителей, кому при жизни было небезразлично мое благополучие. Пока я стоял на коленях, свет от моей свечи выхватил из тьмы какой-то маленький блестящий предмет. Я подошел и осмотрел его. Им оказался украшенный драгоценными камнями кулон, выполненный из одной большой грушевидной жемчужины в обрамлении прекрасных розовых бриллиантов! Пораженный этой находкой я огляделся вокруг, чтобы понять, откуда такая ценная вещь могла здесь взяться. Тогда я заметил необычайно большой гроб, лежавший на земле на боку. По окружавшим его обломкам камней можно было заключить, что он свалился откуда-то сверху с огромной силой. Держа огонь низко над землей, я обнаружил, что ниша прямо под тем гробом, в котором лежал я, была пуста, а значительная часть стены в том месте была выломана. Тогда я вспомнил, что когда я так отчаянно выпрыгнул из гроба, то услышал звук какого-то треска позади себя. Так значит вот, что это было: длинный гроб, достаточно вместительный для огромного человека ростом в семь футов. Какого же гигантского предка я столь непочтительно потревожил? И не с его ли шеи слетело драгоценное украшение, которое я теперь держал в руке?
Я заинтересовался и наклонился, чтобы осмотреть крышку этого гроба. На ней не видно было ни имени, ни даже какой-либо отметки, кроме изображения кинжала, нарисованного красным цветом. Это была настоящая тайна! И я положил себе непременно разгадать ее. Я установил свечу в небольшой щели одной из пустых ниш и положил жемчуг и алмазный кулон рядом с ней, таким образом освободив руки. Как я уже говорил, огромный гроб лежал на боку, его верхний угол был расколот, и я обеими руками стал дальше выламывать его треснутые доски. В это время кожаный мешочек или сумка выкатилась и упала к моим ногам. Я поднял и открыл ее – внутри оказалось полно золотых монет! Взволнованный как никогда я схватил большой острый камень и при помощи этого импровизированного инструмента, а также силы рук и ног мне удалось после примерно десяти минут тяжких усилий раскрыть таинственный гроб.
И когда я достиг своей цели, то застыл как вкопанный. Мой взгляд не встретил ни мерзостей разложения, ни побелевших рассыпающихся костей, пустой череп не дразнил меня своей зловещей улыбкой и пустыми глазницами. Я увидел сокровища, достойные зависти императора! Большой гроб был буквально до верха заполнен бесчисленным богатством. Пятьдесят тяжелых кожаных мешочков, перевязанных грубой веревкой, лежали сверху. Более половины из них были полны золотыми монетами, остальные – драгоценными камнями, среди которых виднелись ожерелья, диадемы, браслеты, часы, цепи; другие предметы женских украшений лежали вперемешку с отдельными самоцветами – алмазами, рубинами, изумрудами и опалами. Часть из них были необычайного размера и блеска, некоторые – необработанные, другие – готовые к огранке ювелира. Под этими мешочками лежали упакованными многочисленные куски шелка, бархата и золотой парчи, каждый отрез, отдельно обернутый в промасленную кожу, пропитанную ароматом камфоры и других благовоний. Было также три куска старого кружева, тонкого как паутина, выполненного с несравненным вкусом и в отличном состоянии. Поверх всего этого богатства лежали два больших подноса, сделанных из золота, изящно выгравированных и украшенных, а также четыре золотых кубка необычайных размеров. Там были и другие ценности и любопытные безделушки, такие как статуэтка Психеи из слоновой кости на серебряной опоре, пояс из соединенных монет, расписной веер с янтарной ручкой, великолепный стальной кинжал в украшенных драгоценными камнями ножнах и зеркало в древнем жемчуге. Наконец, что не менее важно, прямо на уровне груди были уложены свертками бумажные деньги, составляющие несколько миллионов франков, что в сумме превышало весь мой собственный денежный доход, которым я ранее располагал.
Я погружал руки глубоко в кожаные сумки, я перебирал дорогие ткани – и все это сокровище было моим! Я нашел его в собственном фамильном склепе! Однако точно ли мог я считать все это своим? Я начал раздумывать над тем, как все это могло попасть сюда без моего ведома. Внезапно ко мне пришел ответ на этот вопрос. Бандиты! Конечно! Что за глупцом я был, не подумав о них сразу! Кинжал, изображенный на крышке гроба, должен был навести меня на решение этой загадки. Красный кинжал был общеизвестной меткой смелого и опасного бандита по имени Кармело Нери, который со своей бесшабашной командой орудовал в области Палермо.
«Итак! – думал я. – Это была одна из ваших хитроумных идей, мой дорогой головорез Кармело! Хитрый жулик! Вы прекрасно все рассчитали! Вы думали, что ни один человек не осмелится потревожить мертвых, и тем более, никогда не полезет в гроб в поисках золота. Превосходно придумано, Кармело! Но на сей раз вы проиграли! Предполагаемый покойник, вновь воскресший, заслуживает кое-какой компенсации за свои страдания, и я был бы круглым дураком, если б отказался от тех благ, которые мне послали сами боги и разбойники. Эти сокровища, конечно, добыты нечестным путем, но лучше они будут в моих руках, чем в ваших, друг Кармело!»
И я размышлял в течение нескольких минут об этом невероятном случае. Если все так и было на самом деле, – а у меня не было причин сомневаться, – то я случайно обнаружил наследство жуткого Нери, а этот большой гроб, должно быть, перевезли сюда морским путем из Палермо. Вероятно, четыре крепких мошенника несли его на плечах в воображаемой похоронной процессии под видом, будто в нем лежит тело их товарища. У этих воров неплохое чувство юмора. И все же один вопрос оставался открытым: как они проникли внутрь моего фамильного склепа, если следов взлома не было видно?
Внезапно я остался в темноте. Моя свеча резко выпала из щели, словно ее вытолкнул порыв воздуха. У меня были с собой спички, чтобы зажечь ее снова, однако я озадачился причиной ее падения. Я озирался вокруг во мраке и заметил, к своему удивлению, луч света в углу той ниши, где я воткнул свечу меж двух камней. Я приблизился и приложил руку к тому месту: сильный сквозняк дул через отверстие, достаточно большое, чтобы просунуть три пальца. Я быстро зажег свечу и, внимательно исследовав отверстие и заднюю стенку ниши, понял, что целых четыре гранитных блока были извлечены из стены, а их место занимали теперь квадратные деревянные плиты, вырезанные из бревен. Эти плиты оказались даже не закрепленными, так что я вынул их легко одну за другой и натолкнулся на груду хвороста. Постепенно я расчистил себе путь, и мне открылся большой проем, достаточно широкий, чтобы без всяких затруднений через него пролез человек. Мое сердце забилось с восторгом от предвкушения свободы. Я выбрался, оглянулся вокруг – слава Богу! Я видел свободу и небо! Через две минуты я уже стоял на мягкой траве, надо мной изгибалась высокая арка небес, и широкий Неаполитанский залив очаровательно блестел перед глазами!
Я захлопал в ладоши и закричал от радости! Я был свободен, чтобы вновь вернуться к своей жизни и упасть в объятия моей дорогой Нины; свободен, чтобы продолжить свое радостное существование на благословенной земле; свободен, чтобы забыть, если смогу, все ужасы моего преждевременного погребения. Если бы душегуб Кармело Нери услыхал тогда те благословения, которые я посылал на его голову, то он счел бы себя святым, а не бандитом. Каких только благ я не пожелал этому разбойнику: и удачи, и свободы! Ведь было очевидно, что тайный ход в склеп Романи проделал он сам или его сообщники ради их личных целей. Редко найдешь человека, столь благодарного своему благодетелю, сколь я тогда был благодарен этому знаменитому вору, за чью голову предлагалась награда в течение многих месяцев. Бедный негодяй находился в бегах. Что ж, власти не получат от меня никакой помощи, решил я. Ведь даже если я и обнаружил его тайник, то не был обязан этого выдавать. Ведь этот разбойник несознательно сделал для меня больше, чем мой лучший друг. Кто знает, когда вам действительно потребуется помощь, найдете ли хоть одного друга на земле? Затроньте только чужой кошелек – и узнаете истинное сердце человека.
Каких воздушных замков я себе понастроил, когда стоял там, наслаждаясь утренним светом и моей вновь обретенной свободой! Что за прекрасные мечты несбыточного счастья витали перед моим взором! Нина и я, мы будем любить друг друга еще сильнее, чем прежде, думал я, ведь наше расставание, что было кратким, но таким ужасным, разожжет нашу любовь с десятикратной силой. А маленькая Стела! Этим же самым вечером я буду снова качать ее под ветвями апельсинового дерева и услышу ее сладкий пронзительный смех! Этим самым вечером я пожму руку Гуидо с радостью, слишком большой, чтобы выразить ее словами. Этой самой ночью прелестная головка моей жены будет покоиться на моей груди в восторженной тишине, нарушаемой лишь только музыкой наших поцелуев. От многочисленных радостных видений у меня закружилась голова.
Солнце уже поднялось, и его длинные прямые лучи, как золотые копья, касались вершин зеленых деревьев и порождали красно-синие проблески на яркой поверхности залива. Я слышал легкое волнение воды и размеренный мягкий плеск весел. С какой-то далекой лодки звучал мелодичный голос моряка, напевающего строки известной неаполитанской песни:
- «Sciore d’amenta
- Sta parolella mia tieul’ ammento
- Zompa llari llira!
- Sciore limone!
- Le voglio fa mori de passione
- Zompa llari llira!»
Я улыбался: «Mori de passione!»1 Мы с Ниной узнаем сегодня значение этих сладостных строк, когда взойдет луна, и соловьи запоют свои песни любви спящим цветам. И полный этих сладких надежд я упивался чистым утренним воздухом еще несколько мгновений, а затем вновь шагнул в темноту склепа.
Глава 5
Первым делом я принялся закладывать обратно все обнаруженные мною сокровища. Эта работа была вскоре завершена, и пока что я удовольствовался тем, что взял с собой только два кожаных мешочка: один с золотыми монетами, а другой с драгоценными камнями. Гроб был сделан на совесть и не слишком сильно повредился от падения и моих насильственных действий. Я закрыл его крышку как можно плотнее и оттащил в самый дальний и темный угол захоронения, где еще и навалил сверху три тяжелых камня. Затем я переложил содержимое обоих кожаных мешочков в карманы своих брюк, заметив при этом, насколько убого выглядела моя одежда. Мог ли я появиться в публичном месте в таком виде? Я заглянул в свой кошелек, который все еще оставался при мне, вместе с ключами и визитницей. Там обнаружились две двадцатифранковых банкноты и немного серебра. Вполне достаточно, чтобы купить приличный костюм. Но где и как я мог купить его? Неужели мне придется ждать до вечера, чтобы выбраться из этого склепа, словно несчастному преступнику? Ну уж нет! Будь что будет, но я не останусь больше ни минуты в этом проклятом склепе. Толпы нищих оборванцев, грязных и жалких, наводняют каждый угол Неаполя, так что в худшем случае меня примут за одного из них. И какие бы трудности не возникли, они в любом случае скоро закончатся.
Довольный тем, как я сумел спрятать гроб, я повесил себе на шею жемчужный кулон, который обнаружил самым первым. Его я решил преподнести в качестве подарка своей жене. Затем, вновь выбравшись через тайный ход, я тщательно прикрыл его деревянными плитами и сухой листвой, как было и прежде. И, придирчиво осмотрев это дело снаружи, я пришел к заключению, что было совершенно невозможно обнаружить вход – так ловко он был спрятан. Теперь мне оставалось только как можно скорее добраться до города, объявить о своей личности, приобрести одежду и еду, а затем со всей возможной быстротой поспешить к дому.
Забравшись на небольшой пригорок, я огляделся вокруг, чтобы понять, в какую сторону двигаться. Кладбище находилось в окрестностях Неаполя, а сам город лежал слева от меня. Я заметил спускающуюся тропу, вьющуюся в том направлении, и решил, что если идти по ней, то она приведет меня к городу. Без дальнейших колебаний я начал свой путь.
У меня в распоряжении был теперь целый день. Босые ноги глубоко утопали в пыли, которая раскалилась, как песок пустыни, а яркое солнце отчаянно пекло мою непокрытую голову, но я не придавал значения ни одной из этих досадных мелочей, мое сердце было слишком полно радости. Я, кажется, даже пел вслух от счастья, что приближался к моему дому и Нине!
Мои ноги отзывались жестокой слабостью, а перед глазами расплывались разноцветные круги, по временам ледяной озноб пробегал по всему телу, заставляя даже зубы стучать. Однако я приписывал все это последствиям моей недавней смертельной болезни и не предавал им большого значения. Несколько недель отдыха под присмотром моей заботливой жены – и я буду здоров, как прежде. Я храбро шагал вперед. Вначале мне никто не встретился, но затем я догнал небольшую тележку, нагруженную свежесобранным виноградом. Возница сонно лежал на своем месте, его пони периодически пощипывал зеленую траву с обочины и встряхивал звенящими колокольчиками, висевшими на его шее, как бы выражая свое довольство предоставленной ему свободой. Сочный виноград выглядел столь соблазнительно, а я так хотел пить и есть. Я положил руку на плечо сонного крестьянина, и он сразу проснулся. Увидев меня, его лицо приобрело выражение величайшего ужаса, он спрыгнул с телеги и упал в пыль на колени, заклиная меня святой Девой Марией, святым Иосифом и всеми святыми, каких он только мог вспомнить. Его страх рассмешил меня. Во мне ведь не было ничего пугающего, кроме плохой одежды.
«Поднимайся, старик! – сказал я ему. – Мне ничего не нужно от тебя, кроме пары гроздей винограда, за которые я готов заплатить». И я протянул ему несколько франков. Он поднялся с пыли, все еще дрожа и поглядывая на меня искоса с очевидным подозрением, взял несколько связок фиолетовых ягод и дал их мне, не говоря ни слова. Затем, схватив деньги, которые я предложил, он прыгнул на тележку и стал яростно стегать своего пони, так что тот поднялся на дыбы от боли и бросился наутек с такой головокружительной скоростью, что я видел только вращающиеся пятна колес, исчезавшие вдалеке.
Я был озадачен нелепым страхом этого человека. За кого он принял меня? За призрака или бандита? Я медленно ел свой виноград, пока шел по дороге, он оказался восхитительно прохладным и освежающим – и пища и сладкое вино в одной ягоде. На пути к городу я встретил еще нескольких человек – рыночных торговцев и продавцов мороженого, которые не обратили на меня внимания, так как я скрылся от их глаз, обойдя стороной. Достигнув пригорода Неаполя, я свернул на первую же улицу, где могли встретиться какие-то магазины. Там было темно и грязно, но вскоре я обнаружил то, что искал – полуразрушенную лачугу с треснутым окном, через которое виднелось множество потертых предметов поношенной одежды, развешенных на грубых веревках.
Это была одна из тех грязных лавок, куда заходили после долгого плавания моряки, чтобы избавиться от различного барахла, которое они притащили из других стран. Среди всего многообразия этого секонд-хенда попадалось немало странных и интересных вещиц, таких как морские раковины, грубые кораллы, нанизанные бусины, чашки и блюдца, вырезанные из кокосового ореха, высушенные тыквы, рога животных, веера, перья длиннохвостых попугаев и старые монеты. И здесь же нелепый деревянный фетиш выглядывал из кармана вытянутых на коленях штанов, как будто он осматривал эту разномастную коллекцию с идиотским изумлением.
Пожилой человек сидел и курил у открытой двери этой многообещающей обители – истинный представитель старшего поколения неаполитанцев. Кожа его лица походила на кусок коричневого пергамента, испещренного глубокими бороздами и морщинами, как будто время, относясь неодобрительно к истории, которую он сам на нем описал, затерло все ее следы, так чтобы никто впредь не смог прочесть того, что когда-то было четким текстом. Единственную живость его лица, казалось, сохранили в себе только глаза, которые казались двумя черными бусинками и бегали из стороны в сторону с беспокойством и подозрительностью. Он меня заметил, но притворился, что все его внимание поглощало глубокое созерцание участка синего неба, который просвечивал между близко стоящими домами узкой улицы. Я обратился к нему, и он быстро перенес свой пристальный взгляд вниз и уставился на меня с острым интересом.
«Я прибыл из долгого путешествия, – сказал я кратко, так как он представлялся мне не тем человеком, кому я мог бы полностью довериться, – и я потерял часть одежды из-за несчастного случая в пути. Вы продадите мне костюм? Мне подойдет любой – я не привереда».
Старик вытащил трубку изо рта.
«Вы боитесь чумы?» – спросил он.
«Я только что оправился от этой болезни», – ответил я холодно.
Он внимательно осмотрел меня с головы до ног и затем разразился низким каркающим смехом.
«Ха! Ха! – говорил он сам себе и одновременно мне. – Хорош, хорош! Он прямо, как и я – не боится, не боится! Мы оба не трусы. Мы не виним святые небеса за то, что они посылают на нас чуму. Ах, эта прекрасная чума! Я ее обожаю! Я скупаю всю одежду, какую только могу достать, снятую с трупов, ведь это всегда прекрасная одежда. И я никогда ее не стираю. А продаю ее снова в том же виде. Да! Да! А почему бы и нет? Люди должны умирать и чем скорее, тем лучше! Я помогаю в этом Господу, как могу». И старый богохульник искренне перекрестился.
Я с неприязнью смотрел на него с высоты своего роста. Он наполнял меня таким же отвращением, как и та мерзкая тварь, которая вцепилась в мою шею во время сна в склепе.
«Ну, так что? – сказал я несколько грубо. – Вы мне продадите костюм или нет?»
«Да, да!» – и он тяжело поднялся со своего места. Старик был очень маленького роста и так сильно сгорбился от времени и старческой немощи, что больше походил на изогнутую корягу, чем на человека, когда шел, хромая впереди меня, внутрь темной лавки.
«Проходите, проходите внутрь! Выбирайте: здесь достаточно всего, чтобы удовлетворить любой вкус. Чего бы вы хотели? Смотрите, вот здесь мужской костюм. Ах, какая красивая ткань, какая прочная шерсть! Сделано в Англии? Да, да! Его носил англичанин, такой крупный сильный милорд, который пил пиво и бренди, как воду, и богатый – о небо! – какой богатый! Но чума унесла его, и он умер, проклиная Бога и храбро требуя еще бренди. Ха, ха! Прекрасная смерть, великолепная смерть! Его одежду мне продали за три франка – один, два, три – но вы должны дать мне шесть. Это справедливая цена, не так ли? Я стар и беден. Я должен как-то выкручиваться, чтобы выживать».
Я отбросил в сторону твидовый костюм, который он мне предлагал. «Нет, – сказал я, – я не боюсь чумы, но считаю себя достойным нечто большего, чем костюм отверженного английского выпивохи. Я скорее надену разноцветный балахон шута с карнавала».
Старый торговец засмеялся каркающим смехом, звучавшим, словно грохот камней в оловянном горшке.
«Ладно, ладно! – хихикал он. – Мне это нравится. Хоть вы и старый, но веселый. Нужно всегда смеяться. А почему бы и нет? Сама смерть смеется; вы никогда не замечали, что черепа всегда торжественно хохочут?»
И он запустил длинные худые пальцы в просторный ящик, полный разных предметов одежды, бормоча все время себе под нос. Я стоял около него молча, размышляя над его словами: «Старый, но веселый. Что он имел виду, называя меня старым? Он должно быть совсем ослеп, – думал я, – или выжил из ума». Внезапно он поднял глаза.
«Выбор чумы не всегда падает на правильного человека, – сказал он, – и не всегда бывает мудрым. Она вчера сделала глупость, очень неправильную вещь. Она забрала одного из самых богатых людей в округе, он был также молодой сильный и храбрый, а выглядел так, будто и не умирал. Чума коснулась его утром, и уже до заката солнца его заколотили в гроб и похоронили в большом семейном склепе: в холодном и менее прекрасном месте, чем его большая мраморная вилла вон там, на высоте. Когда я услышал эту новость, я сказал Мадонне, что она поступила зло. О, да! Я справедливо упрекнул ее. Она женщина, и капризная, хороший выговор привел бы ее в разум. Сами посудите! Я друг и Богу, и чуме, но они оба сделали глупость, когда забрали графа Фабио Романи».
Я уже начал было говорить, но быстро напустил на себя безразличный вид.
«Точно! – сказал я беспечно. – Но кто он был такой, чтобы не умереть, как прочие люди?»
Старик оставил свои льстивые интонации и уставился на меня острыми черными глазами.
«Кто он был такой? Кто он был такой? – вскричал он пронзительным голосом. – Он! Очевидно, что вы ничего не знаете о Неаполе. Вы не слыхали о богатом Романи? Слушайте, вы, я хотел бы, чтобы он жил. Он был умен и смел, но я жалею его не за это, нет! Он был добр к беднякам, он отдавал сотни франков на благотворительность. Я часто видел его, я видел, как он женился». И здесь его пергаментное лицо изобразило выражение самой злостной жестокости. «Тьфу! Я ненавижу его жену – притворная, изворотливая тварь, как белая змея! Я смотрел на них обоих из-за уличных углов, когда они ехали в прекрасном экипаже, и задавался вопросом, чем все это закончится: кто из них одержит победу раньше? Я хотел, чтобы он победил, и я даже помог бы ему убить ее, да! Но на сей раз святые сделали ошибку, поскольку он мертв, а у той чертовки есть все. О, да! Бог и чума сделали глупость на этот раз».
Я слушал старого негодяя с возрастающим отвращением и все же не без любопытства. С чего бы ему так ненавидеть мою жену? Возможно, дело было в том, что он на самом деле ненавидел всех молодых и красивых людей. И если он видел меня так часто, как утверждал, то должен был знать меня в лицо. И отчего же он не признавал меня теперь? Следуя этой мысли, я сказал вслух:
«А как выглядел этот граф Романи? Вы сказали, что он был красив собой, а высокий или низкий, темноволосый или блондин?»
Откинув со лба один из своих седых локонов, торговец простер вперед желтую руку, похожую на клешню, как бы указывая на некое далекое видение.
«Красавец! – воскликнул он. – Человек, на которого приятно смотреть! Высокий, прямой и прекрасно сложенный, как и вы, но ваши глаза – ввалившиеся и тусклые, а его были огромными и сияющими. Ваше лицо – осунувшееся и бледное, а у него оно было круглым и имело здоровый оливковый оттенок. Его волосы – глянцево-черные, даже чернее угля, а ваши, друг мой, белы как снег».
Я подскочил от этих последних слов, как от удара током! Я что, действительно так изменился? Возможно ли, чтобы ужасы одной ночи в склепе произвели на меня такое страшное впечатление? Мои белые волосы? Мои?! Я едва мог поверить этому. Если это – правда, то, возможно, Нина не узнает меня или даже будет в ужасе от моего вида, даже у самого Гуидо могли бы возникнуть сомнения в том, что это я. Хотя в этом случае я смог бы легко доказать, что действительно являюсь графом Фабио Романи, даже если для этого мне придется показать склеп и мой собственный гроб. А в то время как я прокручивал все это в уме, старик, не знавший о моих чувствах, продолжал бормотать без умолку.
«Ах да, да! Он был прекрасным молодым человеком, сильным парнем. Раньше я радовался его силе. Он мог бы двумя пальцами переломить шею своей женушке – вот так! – и она не смогла бы произнести больше ни слова лжи в своей жизни! Я бы очень хотел, чтобы он сделал это, я даже ждал этого. И он несомненно сделал бы это, если бы остался в живых. Вот почему я так сожалею о его смерти».
Сдерживаясь чудовищным усилием воли, я заставил себя спокойно ответить этому проклятому старому мерзавцу.
«Почему вы так ненавидите графиню Романи? – спросил я строго. – Что она вам сделала?»
Он выпрямился, насколько был вообще способен это сделать, и посмотрел на меня округлившимися глазами.
«Что ж, послушайте! – отвечал он со странной ухмылкой в углу рта. – Я расскажу вам, почему я ненавижу ее. Да, я расскажу вам, потому что вы мужчина, и сильный мужчина. Мне нравятся сильные мужчины. Их иногда дурачат женщины – это верно, но они всегда могут отомстить. Я и сам был силен когда-то. Вы стары, но любите хорошую шутку, так что вы все поймете. Графиня Романи не причинила мне никакого вреда. Она только посмеялась однажды. Это случилось, когда ее лошади сбили меня на улице. Мне было очень больно, но я видел, как раздвинулись ее красные губы, показав белизну зубов. У нее детская невинная улыбка, скажут вам другие. Меня подобрали, а ее карета продолжила свой путь, ее мужа тогда не было рядом, – он бы поступил иначе. Но это не имеет значения, я говорю вам, что она смеялась, и тогда я сразу же заметил сходство».
«Сходство? – воскликнул я нетерпеливо, так как его рассказ меня раздражал. – Какое еще сходство?»
«Между нею и моей женой, – ответил торговец, уперев в меня свои жестокие глаза с возраставшим напряжением. – О да! Я знаю, какова любовь. Я знаю также, что Бог имел очень мало отношения к созданию женщины. Это произошло задолго до того, как Он смог отыскать Мадонну. Да, да, я знаю! Я говорю вам, что женился на создании, столь же красивом, как утро в весеннюю пору: с маленькой головкой, которая была похожа на цветок под тяжестью ее волос цвета солнечных лучей. А глаза! Словно у крошечного ребенка, когда тот ждет и просит вашего поцелуя. Однажды я уехал, а когда вернулся, то нашел ее сладко спящей… Да! На груди чернобрового уличного певца из Венеции, красивого парня и храброго, как молодой лев. Он увидел меня и вцепился мне в горло, а я повалил его и наступил коленом на грудь. Она проснулась и смотрела на нас – слишком испуганная, чтобы говорить или кричать – она только дрожала и тихонько стонала, как избалованный маленький ребенок. Я посмотрел вниз в глаза ее обессиленного любовника и улыбнулся. «Я не причиню вам боли, – сказал я. – Если бы она не согласилась, то вы бы не оказались в ее постели. Все о чем я прошу, это задержаться здесь еще ненадолго». Он молча глядел на меня. Я связал ему руку и ногу так, чтобы он не смог пошевелиться.
Затем взял свой нож и подошел к ней. Ее широкие голубые глаза ярко блестели, она умоляюще смотрела ими на меня и, воздев свои маленькие ручки, она дрожала и стонала. Я всадил острое блестящее лезвие глубоко в ее мягкую белую плоть, ее любовник мучительно закричал тогда, кровь из ее сердца хлынула темно-красным потоком, окрасив белую одежду. И, разбросав руки, она упала на подушки замертво. Я достал нож из ее тела и им же разрезал путы венецианского парня. Затем отдал нож ему.
«Возьми его, как напоминание о ней, – сказал я. – Через месяц она бы точно также предала и тебя».
«Он разбушевался, как сумасшедший. Выбежал и позвал жандармов. Конечно, меня судили за убийство, но это не было убийство, – это была справедливость. Судья нашел смягчающие вину обстоятельства. Естественно! У него была собственная жена. Он понял мой случай. Теперь вы знаете, почему я ненавижу ту изящную, украшенную драгоценными камнями женщину с Виллы Романи. Она точно такая же, как та, другая, которую я убил. У нее просто та же улыбка и невинные глаза. Я говорю вам снова, что сожалею о смерти ее мужа, мне тяжело думать об этом. Поскольку он сам убил бы ее со временем. Да! В этом я совершенно уверен!»
Глава 6
Я слушал его рассказ с болью в сердце, и ощущение ледяной дрожи пробегало по венам. Ведь мне казалось, что все, кто видел Нину, должны были любить и восхищаться ею. Правда, когда этот старик был случайно сбит ее лошадьми (обстоятельство, которое она никогда не упоминала при мне), то выглядело небрежным с ее стороны не остановиться и не узнать о его состоянии, но она ведь еще молода и беспечна. В этом случае, конечно, не могло быть преднамеренной жестокости. Я пришел в ужас оттого, что моя жена приобрела себе врага в лице этого старого бедного негодяя, однако я ничего не сказал, не желая выдавать себя. Он ждал реакции на свой рассказ, и мое молчание вызвало его нетерпение.
«Скажи теперь, друг мой! – потребовал он с детским нетерпением. – Неплохо я отомстил? Сам Господь Бог не смог бы сделать лучше!»
«Думаю, что ваша жена заслужила свою судьбу, – ответил я кратко, – но не могу сказать, что восхищаюсь вами, как ее убийцей».
Он стремительно повернулся ко мне, вскинув обе руки над головой в безумном порыве. Его голос повысился до какого-то придушенного вопля.
«Убийцей вы называете меня – ха! ха! – очень хорошо. Нет, нет! Это она убила меня! Я говорю вам, что умер в тот момент, когда я увидел ее спящей в объятиях любовника! Это она убила меня одним ударом. Дьявол вселился в мое тело и совершил быструю месть. Тот самый дьявол находится во мне и теперь: храбрый дьявол, сильный дьявол! Именно поэтому я не боюсь чумы: дьявол внутри меня отпугивает смерть. Когда-нибудь он оставит меня, – здесь его придушенный вопль понизился постепенно до слабого, утомленного тона. – Да, он выйдет из меня, и я найду темное место, где смогу спать. Я ведь немного сплю теперь». Он задумчиво наблюдал за мной.
«Вы знаете, – пояснил он почти мягко, – у меня очень хорошая память, а когда человек много думает, то не может спать. Это произошло много лет назад, но каждую ночь я вижу ее. Она приходит ко мне, протягивает свои маленькие белые ручки, я вижу пристальный взгляд ее голубых глаз, слышу краткие стоны ужаса. Каждую ночь, каждую ночь!» Он замолчал и смущенно провел руками по лбу. Затем, как человек, внезапно пробудившийся, он посмотрел, будто видел меня теперь впервые, и разразился низким хихиканьем.
«Что за штука, что за штука эта память! – он пробормотал. – Чудно, чудно! Знаете, я помнил все это и позабыл о вас! Но я знаю, чего вы хотите – костюм. Да, вам он очень нужен, а мне так же сильно нужны деньги. Ха, ха! И вам не нравится прекрасное пальто милорда Инглезе! Нет, нет! Я понимаю. Я найду вам что-нибудь, терпение, терпение!»
И он начал рыться среди множества вещей, которые были свалены в запутанную кучу в задней части магазина. Во время этого действа он выглядел столь изможденным и мрачным, что напомнил мне старого стервятника, наклоняющегося к падали, и все же было в нем также что-то жалкое. В некотором смысле я его пожалел: бедный слабоумный негодяй, чья жизнь исполнена такой злобой и горечью. Какая разная судьба была у нас с ним, думал я. Я пережил лишь одну короткую ночь мучений, каким же пустяком она выглядела по сравнению с его ежечасным раскаянием и страданием! Он ненавидел Нину за невнимательность. Несомненно, она была не единственной женщиной, существование которой раздражало его, вероятно, он был во вражде со всеми женщинами. Я наблюдал за ним с жалостью, когда он копался среди старой одежды, которая составляла весь его товар, и задавался вопросом, почему Смерть, не щадившая самых сильных людей в городе, таким безжалостным образом обходит стороной этого несчастного страдальца, для которого могила, конечно, стала бы самым желанным приютом. Наконец он обернулся с ликующим жестом.
«Нашел! – закричал он. – Эта вещь вам прекрасно подойдет. Вы случайно не добытчик кораллов? Вам понравится одежда рыбака. Вот она: красный пояс, шляпа – и все в отличном состоянии! Тот, кто носил это, был примерно вашего роста, так что на вас прекрасно сядет, и вы только посмотрите! Чумы здесь больше нет: море полностью смыло ее, и даже пахнет песком и водорослями».
Он расстелил грубую одежду передо мной. Я поглядел на нее безразлично.
«А бывший ее владелец тоже убил свою жену?» – поинтересовался я с милой улыбкой.
Старый тряпичник покачал головой и показал растопыренными пальцами знак полнейшего презрения.
«Только не он! Он был дураком. Убил самого себя».
«Как это произошло? Случайно или умышленно?»
«Хе! Хе! Он прекрасно знал, что делал. Это случилось всего пару месяцев назад. Он покончил с собой по милости одной черноглазой смуглянки, которая живет, здравствует и смеется все дни напролет в верховьях Сорретно. Парень отлучался в долгое плавание, привез ей в подарок жемчужные ожерелья и коралловые заколки для волос. Она обещала выйти за него замуж. Не успел он еще высадиться на пристань, как уже предложил ей свои подарки. Но она возвратила их обратно, сказав, что он ей наскучил. Просто надоел и все. Тогда он попытался образумить ее, но девушка разъярилась, как тигровая кошка. А я стоял среди небольшой толпы на набережной, наблюдая всю эту сцену. Ее черные глаза сверкали, она запечатала свой поцелуй на его щеке, ее грудь вздымалась так высоко, что, казалось, готова была разорвать корсет. Эта девка была всего лишь рыночной торговкой, а вела себя, словно королева. „Я от тебя устала! – говорила она. – Пошел прочь! Не желаю тебя больше видеть!“ Он был высоким и прекрасно сложенным, сильным малым, однако заколебался и побледнел, губы его задрожали. И, опустив голову, прежде чем кто-либо успел остановить его, он сиганул в воду прямо с помоста, и волны сомкнулись над ним, потому что он даже не пытался плыть. Он камнем пошел ко дну. А на следующий день его тело вынесло на берег, и я купил его одежду за два франка. Ну, а вам продаю за четыре».
«А что сталось с девчонкой?» – спросил я.
«О, она смеялась весь день, говорю вам. У нее каждую неделю новый любовник. Такая не станет переживать».
Я вытащил кошелек: «Беру этот костюм. Вы просите четыре франка, а я дам вам шесть, но за эти два дополнительных вы покажете мне укромный уголок, где я смог бы переодеться».
«Да, да, конечно! – старик даже весь задрожал при виде серебра, которое я для него отсчитал и положил на протянутую ладонь. – Все что угодно ради благородного путешественника! Вот комнатка, где я сплю: маленькая, зато здесь есть зеркало – ее зеркало – единственная память о ней, проходите!»
И он заторопился вперед, спотыкаясь и цепляясь за беспорядочные кучи одежды, разбросанные по всем углам, затем открыл маленькую дверь, которая была, казалось, вырезана в стене и привел меня в помещение вроде стенного шкафа с ужасным запахом, предоставив в мое распоряжение убогую кровать и один сломанный стул. Маленькое квадратное окошко пропускало достаточно света, чтобы осмотреть всю обстановку, а рядом с ним висело зеркало, бывшее когда-то красивым, обрамленное в старую серебряную раму немалой стоимости, однако на свое отражение я не осмелился взглянуть в тот момент. Старик показал мне с некоторой гордостью, что дверь в это узкое логово запиралась изнутри.
«Я сделал ключ и сам установил замок, – сказал он. – Смотрите, как красиво и надежно получилось! Да, я отлично знал свое дело – торговлю – до того самого утра, когда обнаружил ее в объятиях венецианского певца. После этого я позабыл все, что раньше знал, оно просто ушло от меня, и я так никогда и не понял почему. Вот ваш рыбацкий костюм. Переодевайтесь не спеша, закройте дверь, – вся комната к вашим услугам».
И старик оставил меня одного, кивнув несколько раз, изображая дружелюбие. Я последовал его совету и сразу же заперся. После этого я медленно подошел к зеркалу, висевшему на стене, и посмотрел на свое собственное отражение. Горькая острая боль пронзила меня. Глаз у торговца был верный, он сказал правду. Я выглядел стариком! Даже двадцать лет тяжелых страданий вряд ли изменили бы меня столь ужасным образом. Болезнь иссушила мое лицо и оставила на нем отметины сильной боли, мои глаза глубоко ввалились, и в то же время некая живость их выражения свидетельствовала о пережитых мною в склепе ужасах; мою голову теперь венчали белоснежно-седые волосы. Я теперь понял причину испуга того человека, который продал мне виноград на дороге этим утром. Мой вид был способен напугать любого. Да я и сам едва узнавал себя! Признают ли меня жена и друг Гуидо? Я в этом сомневался. И эта мысль так больно уколола меня, что слезы подступили к глазам, но я поспешно их отер.
«Фи на вас, Фабио! Будьте же мужчиной! – сказал я сам себе сердито. – Какая разница, в самом деле, черные ли волосы или белые? Кому какое дело до лица, если сердце осталось прежним? На мгновение, возможно, наша любовь померкнет от моего вида, но когда Нина узнает обо всех моих страданиях, не стану ли я тогда ей дороже, чем когда-либо? Одно ее нежное объятие с лихвой компенсирует все прошлые муки и вновь омолодит меня».
И, таким образом подбадривая свой упавший дух, я быстро облачился в костюм неаполитанского рыбака. Брюки оказались очень свободными и имели два огромных кармана, очень удачно пригодившиеся для того, чтобы сложить туда все сокровища. Когда мой поспешный туалет был завершен, я бросил еще один взгляд на зеркало, на сей раз с полуулыбкой. Действительно, я сильно изменился, но, тем не менее, я выглядел не так уж плохо. Яркий рыбацкий костюм отлично подошел мне, алая шляпа небрежно сидела на белоснежных локонах, которые плотно прикрывали мой лоб, и ожидание счастья скорой встречи придавало часть бывшего блеска моим запавшим глазам. Кроме того, я знал, что не останусь надолго в этом измученном жалком виде. Отдых и возможно даже перемена обстановки, несомненно, вернут округлость и свежесть моему лицу, и даже мои побелевшие волосы возвратят свой первозданный оттенок. Но что если они так и останутся седыми? Что ж, найдутся и те, кто оценит столь специфический контраст между лицом молодого человека и волосами старика.
Переодевшись, я открыл дверь душной комнатушки и позвал старого скрягу. Он подошел, как всегда согнувшись, но затем поднял глаза и воскликнул в восхищении.
«О пресвятая Мадонна! Вы просто красавчик, красавчик! О святой Иосиф! Такой широкоплечий и сильный! Немножко, чуточку вы, конечно, староваты, но вы были очень сильным в молодости».
Полушутя, чтобы посмеяться над его замечанием о мужественности, я закатал рукав рубашки, небрежно говоря:
«Что касается силы, то небольшая ее часть все еще со мной».
Он уставился, положив желтые пальцы на мою обнаженную руку с интересом и удивлением, словно вампир, и ощупал мои мышцы с ребяческим, почти плаксивым восхищением.
«Великолепно, великолепно! Как железная, вы только посмотрите! Да вы легко убьете любого. Ах, и я был таким же сильным когда-то. Я отлично умел обращаться с мечом. Хорошим клинком я мог разрезать семикратно сложенный шелк с одного удара, да так, что ни одна нить не выскочит наружу. Да, так же легко, как масло. Вы тоже могли бы сделать это, если бы захотели. Это умение зависит от руки, от сильной руки, которая убивает одним ударом».
И он посмотрел на меня пристально своими маленькими мутными глазками, как будто стремился узнать больше о моем характере. Я резко отвернулся и привлек его внимание к одежде.
«Знаете, – сказал я беззаботно, – у вас может оказаться кое-что еще для меня полезное, хоть и недорогое. Вот еще три франка, мне нужны какие-нибудь носки и обувь, которые, надеюсь, найдутся у вас здесь».
Он исступленно сжал руки и начал изливать потоки похвалы за эту неожиданную дополнительную сумму денег, благодаря всех святых за то, что он и весь его магазин имели честь послужить столь щедрому незнакомцу. Все требуемое он сразу же отыскал. Я обулся и поднялся полностью готовый вернуться домой в любой момент, однако решил не делать этого днем. Ведь мой столь сильно изменившийся облик мог поразить жену при внезапном появлении. Женщины очень чувствительны, а моя новая внешность стала бы нервным потрясением, которое могло дурно повлиять на нее. Мне стоило дождаться заката, затем подойти к дому обходным путем, о котором я знал, и попытаться поговорить с одним из слуг. Я даже мог бы встретить своего друга Гуидо Феррари, чтобы он аккуратно сообщил Нине радостную новость о моем воскресении из мертвых, подготовив ее таким образом к моей новой внешности. И в то время как эти мысли проносились в моей голове, старый барахольщик задумчиво разглядывал меня, словно ворон, склонив голову набок.
«Вы куда-то направляетесь?» – спросил он с некой застенчивостью.
«Да, – ответил я, – направляюсь».
Он положил руку мне на рукав, удерживая его, и сверкнул злобными глазками.
«Скажите мне, я сохраню это в тайне. Вы направляетесь к женщине?»
Я смотрел вниз на него, наполовину презрительно, наполовину весело и отвечал:
«Да, я направляюсь к женщине».
И он тихо рассмеялся отвратительным смехом, который исказил его облик и затряс его тело в конвульсиях.
Я глядел на него с отвращением и, стряхнув его руку, направился к выходу. Старик быстро хромал позади меня, вытирая слезы, которые выступили на его глазах от смеха.
«Идете к женщине! – хихикал он. – Ха, ха! Вы – не первый и не последний! Идете к женщине! Это хорошо, это здорово! Идите же к ней! Вы сильны, рука у вас твердая! Идите к ней, найдите, и убейте! Да, да! Вам это будет проще простого! Идите и убейте ее!»
Он стоял на пороге своей низкой двери и тыкал в меня пальцем, его чахлая фигура и злобное лицо напоминали мне одного из карликовых демонов Генриха Гейне, которые изображались у него изливающими огонь на головы святых. Я пожелал ему хорошего дня безразличным тоном, однако не получил ответа и медленно побрел прочь. Один раз оглянувшись, я видел его все еще стоящим в дверном проеме, продолжавшим говорить и гримасничать, в то время как согнутыми пальцами он делал знаки в воздухе, как будто поймал невидимое существо и душил его. Я вышел на широкую улицу с последними словами старика, звучавшими в моих ушах: «Идите и убейте ее!»
Глава 7
Тот день тянулся бесконечно долго, и я бродил бесцельно по городу, встречая некоторые знакомые лица среди наиболее богатых жителей. Напуганные холерой они или держались группами, или оставались взаперти под защитой своих домов. Куда бы я не шел, везде виднелись ужасные последствия чумы. Почти на каждом углу мне встречалась похоронная процессия. Однажды я набрел на группу людей, которые стояли в открытых дверях дома, пытаясь засунуть тело умершего в гроб, который был слишком мал для него. Было нечто действительно ужасное в их способе обращения: когда они согнули руки и ноги, а затем втиснули плечи покойника внутрь, можно было слышать, как затрещали его кости. Я смотрел с минуту на эту зверскую процедуру и затем сказал вслух:
«Вы бы сначала убедились в том, что он точно мертв».
Гробовщик посмотрел на меня с удивлением, мрачно усмехнувшись, и торжественно произнес: «Клянусь Богом, что если бы это было не так, то я лично свернул бы его проклятую шею ради его же блага! Но холера никогда не терпит неудач, он точно мертв, взгляните сами!» И он постучал головой покойника о стенки гроба с меньшим раскаянием, чем если бы это была деревянная болванка. От этого вида меня передернуло, я повернулся и не прибавил ни слова.
Оказавшись на одном из самых оживленных перекрестков, я заметил несколько отдельных групп людей, которые нетерпеливо и смущенно поглядывали друг на друга, тихонько переговариваясь. Их шепот достиг моих ушей: «Король! Король!» Все головы были повернуты в одном направлении, и я тоже остановился и посмотрел туда же. Важно шагая в окружении нескольких господ с серьезными лицами, я увидел бесстрашного монарха Италии, Хумбрето – того, чья личность не может не восхищать. Он объездил с визитами все самые мерзкие уголки города, где чума бушевала с наибольшей свирепостью, причем у него не было иной защиты от инфекции, кроме сигареты во рту. Он шел легким и уверенным шагом героя, его лицо было несколько печально, как будто страдания подданных сильно давили на его сочувствующее сердце. Я почтительно обнажил голову, когда он проходил мимо, и его острые добрые глаза, остановились на мне с улыбкой.
«Вот субъект, достойный кисти художника, этот беловолосый рыбак!» – услышал я его слова, сказанные одному из сопровождавших лиц. Я чуть было не выдал себя. Мне захотелось выпрыгнуть вперед, броситься ему в ноги и рассказать всю свою историю. Мне показалось одновременно жестоким и несправедливым то обстоятельство, что он – мой король – не признал меня, меня, с кем он говорил так часто и так сердечно. Ведь когда я приезжал в Рим, что случалось ежегодно, то под сводами Королевского Дворца собиралось немного столь почетных и желанных гостей, как граф Фабио Романи. И тогда я задался глупым вопросом: кем же был Фабио Романи? Того галантного весельчака с изысканными манерами, казалось, больше не существовало. «Беловолосый рыбак» узурпировал теперь его место под солнцем. Однако хотя я думал об этих вещах, я все же воздержался от обращения к королю. Повинуясь некому внезапному порыву, я последовал за королем на расстоянии, так же как и многие другие.
Его Величество прогуливался по самым отвратительным улицам с той же беззаботностью, как если бы он наслаждался видами розового сада. Он спокойно заходил в самые грязные лачуги, где лежал мертвец или умирающий; он говорил слова доброжелательной поддержки убитым горем и напуганным скорбящим, которые смотрели на монарха сквозь слезы с удивлением и благодарностью. Серебро и золото деликатно передавалось в руки страдающих бедняков, а самые тяжкие случаи получали личное внимание королевских благотворителей и непосредственную помощь. Матери с младенцами на руках становились на колени, чтобы просить королевского благословения, и чтобы успокоить их, он благословлял со скромным замешательством, как будто не считал себя достойным этого, но все же с родительской нежностью, которая бесконечно трогала сердца людей. Одна девочка с черными волосами и с дикими глазами бросилась на землю прямо перед королем, поцеловала его ноги и затем подпрыгнула с жестом триумфа.
«Я спасена! – кричала она. – Чума не ходит одной дорогой с королем!»
Хумберто улыбнулся ей, как снисходительный отец испорченной дочери, но не сказал ни слова и продолжил свой путь. Группа мужчин и женщин, стоявшая у порога одной бедно выглядевшей лачуги дальше по улице, привлекла внимание монарха. Какой-то бурный спор шел между ними: два или три похоронщика громко ругались друг с другом, какая-то женщина горько плакала, а между ними стоял открытый гроб, будто в ожидании того, кто займет место внутри. Один из королевских сопровождающих объявил о его приближении, вслед за этим многоголосая толпа замолчала, мужчины обнажили головы, а женщины прекратили рыдания.
«Что здесь происходит, друзья мои?» – спросил их монарх чрезвычайно мягко.
На минуту воцарилось молчание, гробовщики выглядели угрюмыми и смущенными. Затем одна женщина с добротным толстым лицом и красными от плача глазами протолкнулась сквозь толпу и выступила вперед.
«Пусть святая Дева Мария и все святые благословят Ваше величество! – вскричала она с чувством. – А что касается происходящего здесь, то было бы отлично, если бы эти бессовестные свиньи, – она указала на похоронщиков, – оставили нас в покое хоть на один час! Девочка мертва, Ваше Величество! И Джованни, бедный парень! Никак не хочет отдавать тело! Он держит ее обеими руками, о Дева Мария! Вы только подумайте! А она умерла от холеры, и что бы мы ни делали, он не хочет отпускать ее, а они приехали забрать тело для похорон. Если мы силой отберем у него тело, то он, бедняжка, наверняка сойдет с ума. Всего лишь один час, Ваше Величество, всего один, и затем придет святой отец, который сумеет убедить Джованни лучше, чем мы».
Король поднял руку в командном жесте, небольшая толпа расступилась перед ним, и он вошел внутрь убогой лачуги, где лежало тело, ставшее причиной спора. Слуги последовали за ним, и я тоже занял угол у самой двери. Открывшаяся сцена была так ужасна, что мало кто мог бы равнодушно смотреть на нее; сам Хумберто, Король Италии, обнажил голову и остановился в молчании. На бедной убогой кровати лежало тело девушки в самом расцвете юности, еще нетронутое следами разрушающей смерти, которая уже унесла ее душу. Ее можно было принять за спящую, если бы не окоченевшие руки и ноги и не восковая бледность ее лица. Прямо поперек ее тела, почти закрывая его собою, лежал человек, словно упавший здесь бездыханно. Он и впрямь мог быть уже мертв, несмотря на то, что его тело все еще выказывало признаки жизни. Его руки крепко сомкнулись на безжизненном теле девушки, лицо скрывалось на ее холодной груди, которая больше никогда не ответит на его нежность. Прямой солнечный луч пробивался через окно, освещая всю эту сцену внутри маленькой темной комнатки: два распростертых тела на кровати, прямую фигуру сострадающего короля и тревожные лица небольшой толпы людей, стоявших вокруг него.
«Видите, вот так он и лежит с прошлой ночи, когда она умерла! – прошептала женщина, которая прежде говорила. – Его руки держат крепко, словно железный обруч, – мы не можем даже разжать пальцы!»
Король подошел. Он тронул плечо несчастного влюбленного. Его голос, исполненный удивительной мягкости, прозвучал в ушах слышавших его людей, как ноты чарующей музыки: «Сын мой!»
Ответа не было. Женщины, тронутые вкрадчивым тоном короля, начали всхлипывать, и даже мужчины обронили несколько слезинок. Монарх заговорил снова: «Сын мой! Я твой король. Ты не поприветствуешь меня?»
Мужчина поднял голову с груди тела любимой девушки и удивленно воззрился на короля. Его измученное лицо, запутанные волосы и дикие глаза производили впечатление, словно он долго блуждал в лабиринте ужасных видений, от которых не было никакого спасения, кроме самоубийства.
«Вашу руку, молодой человек!» – кратко сказал монарх тоном главнокомандующего армии.
Очень медленно и неохотно, как будто его вынуждало к действию какое-то странное магнетическое влияние, которому не было власти противостоять, он отнял правую руку от мертвого тела, которое сжимал так неуступчиво, и протянул ее, подчиняясь своему повелителю. Хумберто крепко пожал ее и удержал на мгновение, сказав бедняге уверенно и просто:
«Любовь не знает смерти, друг мой!»
Глаза молодого человека встретились с его, застывший рот смягчился и, неистово вырвав свою руку, он разразился страстным плачем. Хумберто сразу же обхватил его и с помощью своих слуг оторвал от кровати и увел подальше, словно послушного ребенка, хотя и продолжавшего судорожно рыдать на ходу. Прорвавшиеся слезы спасли его разум и, вероятно, его жизнь. Восторженные аплодисменты приветствовали доброго короля, когда он прошел через небольшую толпу людей, которые стали свидетелями всего происшедшего. Поприветствовав их кратким спокойным поклоном, он покинул дом и подал знак гробовщикам, которые все еще ждали снаружи, что они теперь могли выполнить свой печальный долг. Король тогда пошел дальше по городу, сопровождаемый такими сердечными благословениями и похвалами, какие не смог бы заслужить даже величайший завоеватель, вернувшийся с победой из сотни сражений. Я провожал его фигуру взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Я почувствовал прилив сил от одного только присутствия этого героя, человека, который действительно был королем до мозга костей. И сам я был дворянином королевских кровей, находился под властью патрона, которого мало кто мог превзойти в мудрости и здравомыслии. Однако такие же дворяне, как и я, прилагают руку к свержению достойного монарха, объявляя его тираном, будь он хоть сто раз коронован до этого!
Поистине мало правителей похожи на Хумберто, Короля Италии! Даже сейчас, когда я вспоминаю о нем после всех страданий, мое сердце наполняется теплом, а его образ предстает высшим воплощением той Благотворной Силы, что окружает себя чистым светом бескорыстного совершенства. Он был истинным солнцем Италии, воплощением справедливости, его лицо улыбается сладкой улыбкой самых счастливых и возвышенных дней этой страны. Тех дней, когда ее дети были великими просто потому, что они были искренними и усердными.
Главная ошибка современных людей заключается в том, что мы не прилагаем сердца к тому, что делаем. Мы редко любим нашу работу за сам ее процесс. Мы выполняем ее исключительно ради тех материальных благ, которые за нее получаем. И здесь кроется причина всех неудач. Даже друзья не станут помогать друг другу, если не смогут извлечь из этого собственную выгоду: верность нынче является исключением из правил, а искренних друзей считают слабыми глупцами.
Как только король исчез из виду, я также покинул сцену произошедшей трагедии. У меня появилось намерение заглянуть в небольшую таверну, куда меня принесли заболевшим. После недолгих поисков я нашел ее. Дверь была открыта. Я заметил толстого владельца Пьетро, натиравшего свои стаканы, будто он никогда и не прекращал этой работы. И здесь же, в том же углу стояла деревянная скамья, на которой я лежал и, как считали, умер. Я зашел внутрь. Хозяин поднял глаза и поприветствовал меня. Я возвратил приветствие и заказал кофе с булочкой. Сидя беззаботно за одним из маленьких столиков, я развернул газету, пока он суетился в поспешности, чтобы обслужить меня. Протирая чашку и блюдце для меня, он сказал, оживленно:
«Вы прибыли из долгого плавания, друг мой? Удачная рыбалка?»
На секунду я смутился и не знал, что ответить, но затем призвал свое остроумие на помощь и кивнул положительно.
«А у вас как дела? – сказал я весело. – Что там с холерой?»
Хозяин печально покачал головой.
«О, святой Иосиф! Не говорите мне о ней. Люди мрут как мухи. Вот только вчера, – кто бы мог подумать!»
И он глубоко вздохнул, когда наливал горячий кофе, и покачал головой еще более жалостно, чем до этого.
«Что? Что случилось вчера? – спросил я, хотя и отлично знал, что он мне сейчас расскажет. – Я в Неаполе незнакомец и совсем не знаю новостей».
Вспотевший Пьетро положил свой толстый большой палец на мраморную столешницу и тем самым выказал задумчивость.
«Вы никогда не слышали о богатом графе Романи?» – спросил он.
Я отрицательно покачал головой, опустив взгляд в чашку с кофе.
«А, ну что ж! – продолжил он. – Это уже не важно – ведь его больше нет в живых. Все кончено! Но он был богат, как король, и говорят, что сами святые спустились вниз забрать его душу. Преподобный Чиприано Бенедиктинец принес его сюда вчера утром, пораженного чумой, и через пять часов он был уже мертв, – здесь владелец таверны поймал комара и убил его. – Ах! Так же мертв, как и это насекомое! Да, он лежал вот на этой самой скамье перед вами. Похоронили его еще до заката. Это было как дурной сон!»
Я изо всех сил притворялся полностью увлеченным разрезанием хлеба и масла.
«Не нахожу ничего особенного в этом случае, – сказал я безразлично. – То, что он был богат, еще ничего не значит: и богатые, и бедные одинаково умирают».
«И это – правда, чистая правда, – закивал Пьетро, – и все богатство преподобного Чиприано не спасло его».
Я замер, но быстро овладел собой.
«Что вы хотите этим сказать? – спросил я как можно более беспечно. – Вы говорите о каком-то святом?»
«Ну, если он не был канонизирован в святые, то, несомненно, этого заслуживает, – последовал ответ. – Я говорю о преподобном святом отце Бенедиктинце, который принес сюда умирающего графа Романи. Он не знал тогда, что Господь очень скоро приберет и его самого».
Я почувствовал, что задыхаюсь.
«Он что, умер?» – воскликнул я тогда.
«Умер как мученик! – отвечал Пьетро. – Он заразился чумой, полагаю, от графа, так как оставался при нем до самого конца. О, он еще сбрызгивал святой водой его тело и положил свой собственный серебряный крест в его гроб. Затем он отправился на Виллу Романи, взяв с собой личные вещи графа: часы, кольцо, портсигар. Он не мог оставаться спокойным, пока не передал все это молодой графине и не рассказал ей о смерти мужа».
«Бедная моя Нина!» – подумал я. И затем спросил с праздным любопытством: «Она, должно быть, страшно опечалилась?»
«Откуда мне знать? – ответил хозяин, пожимая большими плечами. – Преподобный отец ничего не сказал, кроме того, что она упала в обморок. Но что из этого? Женщины от всего падают в обморок: и от трупа, и от мыши. Как я сказал, отец Чиприано был на похоронах графа и не успел еще вернуться оттуда, как уже занемог от болезни. И этим утром он умер в монастыре, пусть душа его покоится с миром! Я услышал эту новость только час назад. Ах! Он был святым человеком! Он пообещал мне теплый уголок в Раю, и я знаю, он сдержит свое слово так же верно, как сам Святой Петр».
Я отложил в сторону нетронутую еду. Она в тот момент вызывала у меня отвращение. У меня на глазах стояли слезы по этому благородному человеку, всегда готовому к самопожертвованию. Одним героем стало меньше в этом мире трусливых, малодушных людей! Я молчал, погрузившись в тяжкие мысли. Хозяин таверны смотрел на меня озадаченно.
«Вам не нравится кофе? – сказал он в конце концов. – Или нет аппетита?»
Я заставил себя улыбнуться.
«Нет, ваши слова могут отбить аппетит у любого. В Неаполе что, люди больше ни о чем не говорят, кроме как о смерти и мертвецах?»
Пьетро примирительно отвечал мне:
«Что ж, действительно! Очень мало сейчас других тем. Но что поделать, друг мой? Кругом чума и на все воля Божья».
И когда он еще произносил последние слова, мой взгляд упал на фигуру человека, который спокойно прогуливался мимо двери таверны. Это был Гуидо Феррари – мой друг! Я хотел было выбежать и заговорить с ним, но что-то в его взгляде и манерах остановило меня. Он шел очень медленно, куря сигару, на лице блуждала улыбка, и к его пальто была пришпилена недавно сорванная роза сорта «Слава Франции», подобная тем, которые росли в изобилии на верхней террасе моей виллы. Я уставился на него, когда он прошел мимо, и мои чувства подверглись своего рода шоку. Он выглядел совершенно счастливым и спокойным, даже более счастливым, чем когда-либо, и при всем этом он отлично был осведомлен о том, что я – его лучший друг – умер только вчера! И с этим недавним горем на сердце он мог улыбаться, как человек, идущий на праздник, и носить розу кораллового цвета, чем, конечно, не выказывал никаких признаков траура!
На минуту я почувствовал острую боль, а затем рассмеялся над собственной чувствительностью. В конце концов, что следовало из его улыбки или этой розы! Человек не всегда в ответе за выражение своего лица, а что касается цветка, то он мог взять его на ходу, не задумываясь, или еще более вероятно, что это подарок малышки Стелы, от которого он не мог отказаться. Он не выказывал признаков горя? Это правда, но подумайте сами, я умер только вчера! У него просто не было времени на то, чтобы соблюсти все приличествующие знаки траура, которые нам навязывает общественная традиция, но которые отнюдь не доказывают внутреннего сердечного сочувствия. Удовлетворенный такими рассуждениями я не сделал попытки следовать за Гуидо, позволив ему продолжить свой путь, не подозревая о моем существовании. Подожду до вечера, думал я, тогда все и выяснится.
Я повернулся к хозяину таверны: «Сколько с меня?»
«Ну что вы, друг мой! – ответил он. – Я никогда не был мелочен по отношению к рыбакам, но времена сейчас тяжелые, и в следующий раз мне, возможно, нечего будет предложить вам на завтрак. Долгие годы служил я вашему брату, и преподобный Чиприано, покинувший нас, говорил мне, что Святой Петр мне все это зачтет. Мадонна и правда посылает особое благословение, когда кто-либо делает добро рыбакам, потому что все святые апостолы были рыбаками или торговцами, и я бы не хотел утратить ее доверия. И все же…»
Я засмеялся и дал ему франк. Он быстро сунул его в карман и мигнул глазами.
«А я думал, что у вас за душой и франка не найдется, – он кивнул с честностью, столь редкой среди неаполитанцев, – но святые небеса возместят вам это, не сомневайтесь!»
«Я в этом уверен! – сказал я весело. – До свидания, мой друг! Желаю вам успеха и благоволения святой Покровительницы!»
На это пожелание, бывшее, как я знал, общепринятым среди всех сицилийских моряков, добрый Пьетро ответил с любезной сердечностью, пожелав мне удачи в следующем плавании, и вновь вернулся к полировке стаканов. А я провел оставшуюся часть дня, прогуливаясь по немноголюдным улицам города, нетерпеливо ожидая заката, который, как широкое знамя победы, должен был стать сигналом моего безопасного возвращения к любви и счастью.
Глава 8
Наконец он настал, этот благословенный долгожданный вечер. Мягкий бриз дул, охлаждая раскаленный воздух после дневного зноя, и приносил с собой ароматы тысячи цветов. Небо окрасилось предзакатными красками, безмолвный как зеркало залив отражал все великолепие цветов с невероятным блеском, который удваивал их очарование. Каждая капля крови во мне горела страстным нетерпением, но я все еще сдерживал себя. Я ждал, пока солнце опустится в зеркальные воды, пока его великолепный румянец, сопровождающий закат, не побледнеет в те тусклые эфирные оттенки, которые походят на тонкие драпировки, спадающие с ангельских крыльев. Я ждал, пока желтый круг полной луны не поднимется неспешно из-за края горизонта – и, наконец, неспособный более удерживать себя, я направился хорошо известной мне дорогой, восходящей к Вилле Романи.
Мое сердце бешено колотилось, руки и ноги дрожали от волнения, шаги были нетерпеливыми и поспешными, – никогда этот путь не казался мне таким длинным. Наконец я достиг больших ворот – они были заперты на замок – рельефные львы рассмотрели меня с оскалом. Я слышал плеск и звучание фонтанов во дворе, ароматы роз наполняли каждый мой вздох. Наконец-то я дома! Я улыбнулся, все мое тело дрожало в предвкушении и предвосхищении. Однако я не собирался входить через главные ворота, я лишь довольствовался одним долгим любящим взглядом и затем свернул влево, где были ворота поменьше, ведущие на аллею из дубов и сосен, перемежающихся апельсиновыми деревьями.
Это была моя любимая дорога, отчасти благодаря ее приятной тенистости даже в самый жаркий полдень, а отчасти оттого, что ею редко пользовались другие члены нашего домашнего хозяйства. Гуидо иногда прогуливался со мной там, но чаще я был один, и я любил шагать в тени деревьев, увлекшись чтением какой-нибудь любимой книги или предаваясь восхитительному безделью, погрузившись в собственные мечты. Дорожка огибала виллу по кругу и заканчивалась у ее дальнего крыла. Ступив на нее, я надеялся осторожно приблизиться к дому и там тихонько переговорить с Ассунтой – няней, которая ухаживала за маленькой Стелой и которая также была старой проверенной слугой, на чьих руках моя мать испустила свой последний вздох.
Темные деревья торжественно шелестели, когда я быстро, но мягко ступал по знакомой, поросшей мхом тропе. Вокруг было очень тихо, лишь иногда соловьи разражались переливающимися мелодиями, а затем вдруг затихали, как будто благоговея перед тенями тяжелых сплетающихся ветвей, через которые лунный свет мерцал, рисуя странные и фантастические образы на земле. Облако светлячков отделилось от зарослей лавра и искрилось в воздухе, как драгоценные камни из короны королевы. Нежные ароматы витали в воздухе вокруг, исходящие от апельсиновых деревьев и покачивающихся ветвей белого жасмина.
Я поспешил вперед; мое настроение поднималось по мере приближения к дому. Я был полон сладкого ожидания и томительной тоски, я очень хотел сжать свою любимую Нину в объятиях, встретить прекрасный сияющий взгляд ее нежных глаз. Я спешил крепко пожать руку Гуидо. А что касается Стелы, я знал, что дочка будет в постели в этот час, но, тем не менее, я думал, что ее стоит разбудить ради того, чтобы она увидела меня. Я чувствовал, что мое счастье будет неполным, пока я не поцелую ее маленькое ангельское личико и не приласкаю завитки ее золотых волос.
Но, тише, что это мне послышалось? Я остановил свой быстрый шаг, словно меня удерживала чья-то невидимая рука, и стал напряженно вслушиваться. Этот звук разве не был похож на подрагивающий раскат веселого сладкого смеха? Дрожь потрясла меня с головы до пят. Это был смех моей жены, я отлично знал его серебристый перезвон. Мое сердце похолодело, и я замер в нерешительности. Как могла она так весело смеяться, считая меня погибшим, мертвым и потерянным для нее навсегда. Внезапно я заметил мелькание белой одежды среди деревьев и, повинуясь некоему импульсу, мягко отступил в сторону, скрываясь позади плотной стены листвы, через которую мог видеть все, оставаясь при этом незамеченным.
Четкий смех еще раз прозвучал в тишине, и его звон пронзил мой разум, как острый меч! Она была счастлива, даже весела, она блуждала здесь в лунном свете с радостным сердцем, в то время как я ожидал найти ее взаперти нашей комнаты или стоящей на коленях в часовне перед образом Святой Долороссы, в слезах молящейся об упокоении моей души. Да, я ждал именно этого, ведь мы, мужчины – такие глупцы, когда влюблены! Внезапно ужасная мысль поразила меня. Может, она сошла с ума? Могло ли горе и внезапность моей смерти настолько поразить ее нежный разум? Она бродила о, бедное дитя, как Офелия, не зная, куда направляется, а ее очевидная веселость была на самом деле фантазией воспаленного мозга? Я задрожал от этой мысли и стал всматриваться с тревогой сквозь немного раздвинутые ветви.
Две фигуры медленно приближались: моя жена и мой друг, Гуидо Феррари. Ничего странного, скорее наоборот, все так и должно быть, ведь Гуидо для меня почти как родной брат. Он просто обязан был всеми силами успокоить и поддержать Нину. Но что я вижу? Правильно ли я понимаю, что она просто опирается на его руку, тесно прижимаясь, чтобы не упасть, или… О Боже!
Мучительный крик боли едва не сорвался с моих губ! Отчего я не умер? Лучше бы я вообще не выбирался из того гроба, в котором так мирно покоился! Все ужасы смерти и пережитые страдания в склепе казались мне теперь ничтожным пустяком в сравнении с кошмаром, который открывался моим глазам! Память об этом по сей день терзает мой разум неугасимым пламенем, и моя рука непроизвольно сжимается в тщетной попытке прогнать прочь всю яростную горечь того момента. Я не представляю, каким усилием воли мне удалось обуздать ту убийственную свирепость, которая зародилась внутри меня тогда, как я заставил себя оставаться безмолвным и неподвижным в своем убежище. Однако мне это удалось. Я напряженно ожидал продолжения этой несчастной комедии и молча наблюдал свое предательство! Моя честь получила смертельный удар от тех двух человек, которым я доверял больше всех на свете, и все же я не выдал себя.
Они – Гуидо Феррари и моя жена – подошли так близко к моему убежищу, что я мог заметить каждый жест и расслышать каждое сказанное ими слово. Парочка остановилась буквально в трех шагах: его рука обнимала ее за талию, а она небрежно держала его за шею, положив голову на плечо. Именно так эта женщина тысячу раз прогуливалась и со мной! Она была одета во все белое, за исключением одного пятна насыщенного цвета около ее сердца – красной, как кровь, розы. Она крепилась алмазной булавкой, которая ярко сверкала в лунном свете. Дикая мысль пришла мне в голову: вместо этой розы там должна была быть настоящая кровь, а вместо серебряной булавки – добротная сталь острого кинжала! Но так как у меня не было оружия, то я просто стоял и молча смотрел на нее сухими глазами. Она выглядела великолепно, восхитительно прекрасной! Ни следа горя не омрачило веселости ее лица: ее глаза были так же нежно прозрачны и нежны, как и прежде, ее губы сияли искренней улыбкой, столь сладкой и невинно доверчивой! Она заговорила – о Небо! – и привычное очарование музыки ее голоса заставило мое сердце подпрыгнуть в груди.
«Ах ты глупый Гуидо! – сказала она томным шутливым тоном. – Что бы с нами было, если бы Фабио не умер столь внезапно?»
Я с нетерпением ожидал ответа. Гуидо легко рассмеялся.
«Он бы никогда ни о чем не догадался! Ты была слишком умна для него, малышка. Кроме того, его собственное тщеславие защищало его, ведь он был столь высокого мнения о себе, что никогда бы и не подумал, что ты можешь увлечься другим мужчиной».
Моя жена – безупречный алмаз чистой женственности – вздохнула полубеспечно.
«Я рада, что он мертв! – пробормотала она. – Но, мой Гуидо, ты неблагоразумен. Тебе не стоит так часто появляться здесь – слуги будут болтать! К тому же я должна буду носить траур следующие полгода, и еще много всяких забот предстоит».
Рука Гуидо поиграла с драгоценным колье, которое было на ней, он наклонился и поцеловал то место, где покоился его центральный алмаз. Снова и снова, о Боже! «Не беспокойтесь о назойливых общественных приличиях, пусть они не мешают вашему удовольствию! Не стесняйтесь покрыть эту белую плоть дюжиной нежных поцелуев, ведь это – общественное достояние! Десятком поцелуев больше или меньше – не имеет значения!» – так думал я в безумии, сидя за деревьями, и звериная ярость внутри меня заставляла кровь стучать в висках, как сотню молотков.
«Что ж, любовь моя, – отвечал Гуидо, – мне почти жаль, что Фабио умер! Пока он был жив, то превосходно играл роль защитного экрана: находясь в полном неведении, он был истинным хранителем приличия наших отношений, как никто другой не смог бы лучше!»
Одна ветка, скрывавшая мое присутствие, треснула и надломилась. Моя жена замерла и тревожно оглянулась.
«Тише! – сказала она нервно. – Его только вчера похоронили и говорят, что порою призраки возвращаются. И эта аллея тоже – лучше бы мы вообще сюда не приходили, ведь это было его любимое место для прогулок. Кроме того, – прибавила она с оттенком сожаления в голосе, – он все же отец моего ребенка, тебе следует подумать об этом».
«Ради Бога! – неистово вскричал Гуидо. – Разве я не думаю об этом? Ах, я проклинаю его за каждый поцелуй, который он украл у твоих губ!»
Я ошеломленно слушал. Это уже была какая-то новая статья семейного кодекса! Мужья были ворами, которые крали поцелуи, зато любовники имели право на честные объятия! О, мой дорогой друг, мой почти что брат, вы висели на волоске от смерти в тот момент! Если бы только вы могли видеть мое побледневшее лицо среди ветвей, могли почувствовать всю силу ярости, овладевшую мною тогда, то ваша жизнь показалась бы не стоящей и копейки!
«Зачем ты вышла за него замуж?» – спросил он после небольшой паузы, в течение которой он поигрывал с белокурым локоном, лежавшим на ее груди.
Она подняла глаза в порыве некого протеста и пожала плечами.
«Почему? Потому что я устала от монастыря и от всех этих глупых высокопарных поучений монахинь, а также из-за того, что он был богат, а я – чертовски бедна. Для меня бедность невыносима! К тому же, он любил меня. – И здесь ее глаза сверкнули злобным огоньком. – Да, он был просто без ума от меня и еще…»
«Ты была влюблена в него?» – спросил Гуидо почти яростно.
«Ну, что ты! – прыснула она с выразительным жестом. – Думаю, что я любила первую неделю или даже две. Настолько же, насколько вообще можно любить мужа. Зачем вообще люди женятся? Ради комфорта, денег, положения в обществе – и он давал мне все это, как ты знаешь».
«В таком случае, ты бы ничего не потеряла, выйдя за меня», – сказал он ревниво.
Она рассмеялась, нежно положила свою маленькую белую ручку, поблескивающую кольцами, и прикрыла его губы.
«Конечно же нет! Кроме того, я разве сказала, что собираюсь за тебя замуж? Ты хорош в качестве любовника, но в роли мужа – я не уверена. И теперь я свободна! Могу делать все что захочу, а я хочу насладиться своей свободой и еще…»
Она не успела закончить фразу, так как Феррари схватил ее и прижал к груди и удерживал, словно в тисках. Его лицо загорелось страстью.
«Послушай, Нина! – произнес он хрипло. – Тебе не стоит играть со мной! Видит Бог, не нужно! Я уже достаточно натерпелся от тебя. Когда я впервые тебя увидел в день вашей свадьбы с этим несчастным дураком Фабио, то влюбился в тебя, как сумасшедший, до злости. Но я не раскаиваюсь в этом ни на минуту. Я ведь знал, что ты женщина, а не ангел. И ждал своего часа. И вот, он настал, и я нашел тебя. Я рассказал о своей любви, когда еще не прошло и трех месяцев с твоей свадьбы. И увидел в тебе ответное желание, готовность, даже жажду быть со мной! Ты сама отдалась мне и знаешь об этом! Ты вся трепетала от моего взгляда, прикосновения и слов, ты дала мне все, чего я хотел. Зачем же теперь искать оправданий? Ты принадлежала мне не меньше, чем Фабио, нет, даже больше! Ведь меня ты любишь, как сама только что сказала, так что ты не посмеешь обмануть меня так, как обманывала своего мужа. Говорю, ты не посмеешь! Я никогда не жалел Фабио, никогда: его так легко было обмануть, а женатый мужчина не имеет права на наивность, наоборот, он всегда должен оставаться подозрительным и стоять на страже. Если он на минуту утратит бдительность, то пусть потом винит сам себя за то, что его честь пошла по рукам как детский игрушечный мяч. Я повторяю еще раз, Нина, ты – моя! И клянусь, ты никогда от меня не сбежишь!»
Порывистые слова быстро слетали с его губ, а глубокий музыкальный голос звучал повелительно, утопая в неподвижности вечернего воздуха. Я горько улыбнулся, когда слушал его. Она яростно забилась в его руках.
«Пусти! – крикнула она. – Ты груб, ты делаешь мне больно!»
Он немедленно освободил ее. Насилие его объятий повредило розу, которую она носила, и ее темно-красные лепестки осыпались вниз один за другим, на землю к ее ногам. Глаза Нины вспыхнули обидой, и хмурое выражение перечеркнуло линию прекрасных бровей. Она отвела свой взгляд в молчаливом холодном презрении. Что-то в ее реакции причинило ему боль, поскольку он прыгнул вперед и поймал ее руку, покрыв поцелуями.
«Прости меня, дорогая моя! – вскричал он с раскаянием. – Я не хотел упрекать тебя. Ты не можешь отвечать за последствия своей красоты – это вина Бога или дьявола, что ты такова, и что твоя красота сводит меня с ума. Ты – моя душа, мое сердце! О, моя Нина, не позволяй мне расточать слова в бесполезном гневе. Подумай о своей свободе! Ты свободна превратить свою жизнь в бесконечную цепь удовольствий, более приятных, чем испытывают ангелы! Величайшее счастье, какое только могло выпасть на нашу долю, это смерть Фабио, и теперь мы всецело принадлежим друг другу, не делай же меня своим врагом! Нина, будь со мной милосердна; из всех вещей на свете, любовь, несомненно, самая лучшая!»
Она улыбнулась прелестной обезоруживающей улыбкой молодой императрицы, прощающей своего покорного слугу, и позволила снова заключить себя в еще более нежные объятия. Затем подняла губы, чтобы они встретились с его, а я смотрел на все это как во сне! Я видел их сплетенные тела, и каждый поцелуй, которым они обменялись, ложился свежей раной на мою измученную душу.
«Ты такой глупенький, мой Гуидо! – надулась она, проводя маленькими, украшенными драгоценными камнями пальцами по его волосам с легкой нежностью. – Такой порывистый, такой ревнивый! Я много раз говорила, что люблю тебя! Ты помнишь ту ночь, когда Фабио просидел на балконе, читая своего Платона, бедняга! – здесь она мелодично рассмеялась. – А мы пробовали напевать какие-то песни в комнате для рисования. Не сказала ли я тогда, что люблю тебя сильнее, чем кто-либо в этом мире? Ты знаешь, что так и было! И ты, казалось, удовлетворился этим!»
Гуидо улыбнулся и встряхнул ее сияющие золотом локоны.
«Я удовлетворен, – ответил он без следа бывшего страстного нетерпения. – Полностью удовлетворен. Но не надейся встретить любовь без ревности. Фабио никогда не ревновал тебя, я знаю, что он доверял тебе слишком слепо и ничего не знал о любви, поверь мне. Он больше думал о себе, чем о тебе. Человек, который уезжает на несколько дней на яхте в одиночестве и шатается по экскурсиям, оставляя жену на произвол судьбы; который предпочитает Платона наблюдению за собственной супругой, – сам решает свою судьбу и заслуживает войти в число так называемых „мудрых“, но наивных философов, для которых Женщина навсегда остается загадкой. Что касается меня, то я ревную тебя даже к земле, по которой ты ступаешь, и к воздуху, который тебя окружает. Я ревновал тебя к Фабио, пока он был жив, и клянусь Небом! – его глаза потемнели от гнева. – Если какой-нибудь мужчина теперь осмелится оспаривать твою любовь ко мне, то я не успокоюсь, пока мой меч не войдет в его тело, как в ножны!»
Нина подняла голову с его груди с видом раздраженной усталости.
«Опять! – пробормотала она. – Ты опять начинаешь злиться!»
Он поцеловал ее.
«Нет, сладкая моя! Я буду таким нежным, как ты пожелаешь, пока ты любишь меня, как и я тебя. Пойдем, на этой аллее слишком холодно и влажно для тебя».
Моя жена – или мне стоит сказать, наша жена, ведь мы оба познали ее бесстрастные прелести – согласилась. Взявшись за руки и медленно шагая, они направились к дому. Вдруг они остановились.
«Ты слышишь соловьев?» – спросил Гуидо.
Слышать соловьев! А кто мог не слышать их пения? Потоки мелодии стекали с ветвей деревьев со всех сторон: чистые, сладкие, страстные переливы их пения достигали ушей, как звук маленьких золотых колокольчиков; прекрасные, нежные, вдохновленные Богом птицы выводили свои любовные трели так восторженно и просто. Любовные романы, не испорченные лицемерием, не тронутые преступлением, совсем другие и так сильно отличавшиеся от человеческих романов. Изящная поэтическая идиллия жизни и любви птиц – разве это не повод, чтобы низшие существа заклеймили нас позором? Ибо способны ли мы быть столь же верными своим клятвам, как жаворонок его спутнице? Можем ли наполнить такой же искренностью нашу благодарность солнечному свету, как это делает веселая малиновка, беспечно поющая и на зимнем снегу, и весенним утром, наполненным ароматами цветов? Нет, не можем! Наше существование – это всего лишь один долгий бессильный протест против Бога, наполненный жадным желанием одолеть друг друга в борьбе за фальшивую монету!
Нина прислушалась и вздрогнула, запахнув плотнее шаль на своих плечах.
«Я ненавижу их, – сказала она с отвращением, – их шум способен пронзить уши любого. И он был всегда так восторжен ими. Он любил напевать… Как там было?
- Ti salute, Rosignuolo,
- Nel tuo duolo, il saluto!
- Sei l’amante della rosa
- Che morendo si fa sposa!»
Ее глубокий грудной голос слегка колебался в воздухе, соревнуясь с песнями самих соловьев. Она прервала мелодию с коротким смехом:
«Бедный Фабио! В его пении всегда звучала фальшивая нота. Идем, Гуидо!»
И они спокойно зашагали дальше, как будто их совесть была чиста, как будто возмездие никогда не могло бы настигнуть их, и ни малейшей тени ужасного возмездия не виднелось на небесах их украденного счастья! Я пристально смотрел, как они исчезали вдали, затем даже просунул голову между темными ветвями и следил за ними, пока последнее мерцание белой одежды моей жены не скрылось за плотной листвой. Они ушли и этой ночью больше не вернутся.
Я выпрыгнул из своего убежища, встал на том месте, где были они, и пытался смириться с той фактической правдой, свидетелем которой только что стал. Мой мозг закружился, пятна света свободно плавали в воздухе передо мной, луна казалась кроваво-красной, а твердая земля под ногами – неустойчивой. Я сомневался в том, что был жив, а не являл собой несчастного призрака собственного прошлого, обреченного вернуться из могилы, чтобы беспомощно наблюдать потерю и крушение всей радости дорогих сердцу вещей из прошлой жизни. Великолепная вселенная вокруг не казалась мне более руководимой Богом, ни величественным чудом, а казалась не более чем надутым пузырем пустоты, простым мячом, предназначенным, чтобы дьявол пинал его в пространстве! Какая польза теперь от мерцающих звезд, от этих величественных деревьев, от ароматных чаш, которые мы называем цветами – от всей поражающей взгляд Природы? Что толку от самого Бога, если даже Он не смог сохранить верность одной женщины?
Та, которую я любил, нежное существо, подобная ангелу невеста Христа, – кем оказалась? Существом ниже, чем животное, самой мерзкой негодяйкой, продающейся за деньги любому мужчине, осмеявшая и презревшая самое святое! И она была моей женой, матерью моего ребенка! Она собственноручно бросила этот ком грязи в свою душу, предпочла зло добру, охотно и радостно заклеймила себя позором, замарав честь.
Что же мне было теперь делать? Я мучился этим вопросом. Безучастно я глядел под ноги, возможно, какой-нибудь демон выпрыгнет из-под земли, чтобы дать мне ответ, который я искал? Что сделать с нею и с ним, моим бывшим другом, моим смеющимся предателем? Внезапно мои глаза остановились на упавших лепестках розы, на тех, что осыпались от грубых объятий Гуидо. Они лежали здесь, на дорожке с мягко загнутыми краями, как небольшие темно-красные раковины. Я наклонился и поднял их, положил на голую ладонь и смотрел. Они излучали сладкий аромат, я почти поцеловал их, но нет, нет, я не смог – слишком недавно они покоились на груди воплощения Лжи! Да, именно этим она и была! Ложью, живой, прекрасной, но проклятой ложью! «Пойдите и убейте ее!» – где я это слышал? Я мучительно напряг память и вспомнил, а затем решил, что старый несчастный барахольщик обладал большим мужеством, чем я. Он осуществил свою месть сразу, в то время как я, как дурак, упустил свой шанс. Да, но это еще не конец! Ведь есть много разных способов отомстить, нужно только выбрать лучший, самый удобный из них. Способ, который, прежде всего, причинит самые длинные, самые жестокие муки тем, кто надругался над моей честью. Было бы очень сладко уничтожить грех сразу, еще в процессе его совершения, но тогда граф Романи должен был бы превратиться в убийцу в глазах людей? Нет, не так. Должны быть и другие пути, ведущие к тому же финалу.
Я медленно опустился на ствол поваленного дерева, все еще держа лепестки в руке. В моих ушах нарастал шум, рот исполнился кровавым привкусом, губы пересохли в горящей лихорадке. «Рыбак с белыми волосами». Им я и был! Король сказал так. Механически я смотрел вниз, на одежду, которую носил, – бывшую собственность самоубийцы. «Он был дураком, – сказал торговец, – он убил сам себя».
Без сомнений, он был дураком. Я не последую его примеру, по крайней мере, не сейчас. Сначала я кое-что сделаю, кое-что, что я обязан сделать, если только найду способ. Да, я выполню это быстро, решительно, безжалостно! Мои мысли путались, как у человека в бреду; аромат лепестков розы, которые я держал, вызывал отвращение, но я все же не выбросил их, а решил сохранить, как напоминание об их объятиях! Я нащупал свой кошелек, открыл его и аккуратно сложил внутрь засыхающие красные лепестки.
Засунув кошелек обратно в карман, я вспомнил о заполненных золотом мешочках и о драгоценностях, которые я принес для нее. Мои приключения в склепе вновь всплыли в памяти, и я улыбнулся той страшной борьбе, которую выдержал ради жизни и свободы. Жизнь и свобода! Зачем они мне были теперь нужны, кроме одной только мести? Ведь меня никто не ждал, мое место на земле было занято, а все состояние перешло в руки моей жены в соответствии с моим собственным завещанием, которым она не преминет воспользоваться. Однако у меня оставались еще бандитские сокровища, коих было достаточно, чтобы обеспечить любому человеку безбедное существование до конца дней. Когда я подумал об этом, то некое грустное удовлетворение пробежало по моим венам. Деньги! На них можно осуществить любые планы – за золото покупается даже месть. Но какая?
То, что искал я, должно быть совершенным, полным, неотступным. Я глубоко задумался. Ночной ветер дул со стороны моря, листья качающихся деревьев загадочно перешептывались, соловьи пели неустанно и сладко, и луна, как круглый щит воинственного ангела, ярко сияла на фоне темно-синего неба. Не замечая времени, я сидел, не двигаясь, потерянный в своих мыслях. «В его пении всегда звучала фальшивая нота», – так она сказала, смеясь своим столь же холодным и острым смехом, как прикосновение стали. И она была права, во имя величественных Небес! Действительно была фальшивая нота, противно режущая слух, и не столько нота, сколько вся музыка самой жизни. Нечто внутри нас живет и выстраивается в соответствии с нашими заслугами в простую или величественную гармонию. Но если только раз позволить подобной метеору женской улыбке, женскому прикосновению, женской лжи вмешаться в ее внутреннее напряжение, то все! Фальшивая нота прозвучала, появляется диссонанс, и Сам Бог, великий Композитор, ничего уже не может поделать с этой жизнью, чтобы восстановить спокойное течение мелодии прежних безоблачных дней! Это я познал, и это все должны узнать заранее, еще до того, как вы и ваше горе состаритесь вместе.
«Рыбак с белыми волосами!»
Эти слова короля снова и снова крутились в моем измученном разуме. Да, я очень сильно изменился, выглядел изношенным и старым – никто сейчас не распознал бы прежнего меня. Вместе с такими мыслями внезапная идея пришла мне в голову – план мести, настолько смелый, новый, и, кроме того, настолько ужасный, что я вскочил со своего места, как будто ужаленный змеей. Я беспокойно зашагал туда и обратно с этим размытым светом пугающей мести, наполнявшей каждый укромный уголок моего помутненного рассудка. Откуда только пришел мне в голову этот смелый план? Какой дьявол или скорее, что за ангел возмездия нашептал его моей душе? Я еще смутно задумывался об этом, когда все детали мести уже начали вырисовываться в уме. Я просчитал каждую мелочь, которая, вероятно, могла возникнуть в процессе воплощения моей идеи. Мои застывшие чувства пробуждались от летаргического сна и отчаяния и поднимались, как вооруженные до зубов солдаты. Прошедшая любовь, жалость, прощение, терпение – фу! Теперь все это представлялось мне источником слабости в этом мире. Что мне было до того, что истекающий кровью Христос молил о прощении для своих врагов? Он просто никогда не любил женщину! Сила и решительность возвратились ко мне. Оставьте рядовым морякам и старым барахольщикам самоубийство или банальное преступление, как средство, соответствующее их грубому ревнивому гневу! А что касается меня, то почему я должен марать память нашей фамилии вульгарным убийством?
Нет, уж! Месть потомка Романи должна совершиться со спокойной уверенностью и без всякого риска: никакой поспешности, плебейской злости, женской суеты и волнения. Я медленно переходил с места на место, обдумывая все аспекты той горькой драмы, в которой собирался сыграть главную роль от начала и до самого занавеса черного цвета. Мой разум прояснился, дыхание улеглось, нервы постепенно успокоились, перспектива того, что я собирался сделать, вполне удовлетворяла меня и остужала волнующуюся кровь. Я пришел в состояние полного спокойствия и собранности. Никакое раскаяние о прошлом больше не беспокоило меня – с чего мне было оплакивать любовь, которой я никогда не имел? Они даже не стали дожидаться моей внезапной смерти – нет! Через три месяца моей счастливой семейной жизни они уже начали дурачить меня! В течение трех полных лет они предавались своей преступной любви, в то время как я, слепой мечтатель, ни о чем даже не подозревал. Теперь я осознал глубину свой раны, я оказался человеком, глубоко заблуждавшимся, жестоко обманутым. Справедливость, здравомыслие и самоуважение требовали, чтобы я как можно строже наказал этих злостных обманщиков. Страстная нежность, которую я испытывал к своей жене, исчезла. Я вырвал ее из своего сердца, как шип терновника из плоти, я отбросил прочь с отвращением, как ту мерзкую тварь, что напала на меня в склепе.
Глубокая теплая дружба, которая длилась годами между мною и Гуидо Феррари заледенела до самого основания, а на ее месте расцвела даже не ненависть, а безжалостное и беспощадное презрение. Такое же строгое презрение я испытал к самому себе, вспомнив то беспричинное веселье, с которым я так спешил – как я думал – домой, полный страстного ожидания и горевший любовью, как Ромео. Идиот, весело прыгающий вниз с вершины горной пропасти, выглядел не глупее меня! Но теперь мечта закончилась, заблуждение прошло. Я был полон сил для мести – и не замедлю ее осуществить.
Размышляя таким мрачным образом в течение часа или больше, я поставил перед собой цель, которой собирался достичь. Чтобы принять окончательное решение, я вытащил серебряное распятие, подаренное отцом Чиприано, и, поцеловав, поднял его кверху и поклялся этим святым символом никогда не отступать, не расслабляться и не отдыхать, пока не приду к полному завершению своей мести. Звезды – спокойные свидетели моей присяги, следили за мной со своих постаментов на безмолвном небе, даже соловьи умолкли на минуту, как будто они тоже слушали, ветер вздохнул печально и бросил облачко цветов жасмина, как снег, к моим ногам.
Мне показалось, что таким же образом опали последние светлые дни моей жизни – дни удовольствий, сладких иллюзий, дорогих воспоминаний – несмотря ни на что, пусть они увянут и погибнут навсегда! Поскольку впредь моя жизнь должна стать чем-то другим, чем простая гирлянда цветов: она должна превратиться в цепь из закаленной стали – жесткой, холодной и прочной, звенья которой будут достаточно крепкими, чтобы развеять по ветру две лживые жизни и заточить их в такую глубокую темницу, из которой они уже не смогут выбраться. Вот что я должен был сделать и на что окончательно решился. И, повернувшись, твердым быстрым шагом я покинул аллею. Я открыл небольшую калитку и вышел на пыльную дорогу. Лязгающий звук заставил меня оглянуться, когда я миновал главный вход Виллы Романи. Слуга – мой собственный слуга, кстати, – запирал большие ворота на ночь. Я слышал, как он задвинул засов и повернул ключ.
Я помнил, что те ворота были крепко заперты прежде, когда я подходил к ним дорогой, ведущей из Неаполя. Почему же тогда они были открыты теперь? Чтобы выпустить посетителя? Конечно! Я мрачно улыбнулся хитрости моей жены! Она, очевидно, знала, что делала. Визиты гостей обязаны отвечать приличиям: слуга должен показательно проводить синьора Феррари до главного входа. Естественно! Ничто не вызывает подозрений и вполне соответствует правилам поведения! Значит, Гуидо только уехал от нее?
Я шагал, размеренно и не торопясь спускаясь вниз к городу, и по пути его нагнал. Он лениво прогуливался, покуривая как обычно, и нес в руке веточку стефанотиса, которую я знал, кто ему подарил! Я прошел мимо, и он лишь бросил небрежный взгляд, его красивое лицо четко было видно в ярком лунном свете, однако в простом рыбаке он не нашел ничего, заслуживающего внимания, так что его взгляд только коснулся меня на секунду и немедленно покинул. Мною овладело тогда безумное желание повернуться и вцепиться ему в горло, чтобы повергнуть в пыль к своим ногам, оплевать его, затоптать – но я подавил эти жестокие и опасные эмоции. Я затеял более достойную игру, подготовив изящную пытку, по сравнению с которой рукопашная схватка представлялась вульгарной возней. Месть должна медленно выплавляться в горниле горящего гнева, а если снять ее слишком рано, то она будет, как недозревший фрукт – несладкой и противной на вкус.
Таким образом, я позволил моему дорогому другу – утешителю моей жены – прогуливаться дальше его беспечным шагом. Я прошел мимо, позволив наслаждаться любовными воспоминаниями в его лживом сердце. Я вошел в Неаполь и нашел себе ночлег в одной из обычных гостиниц, предназначенных для людей моего воображаемого ремесла, где, как ни странно, заснул крепким сном без сновидений. Недавняя болезнь, усталость, страх и горе – все это бросило меня, словно уставшего ребенка, на грудь тихой дремоты, но возможно, что наиболее опьяняющее действие на мой мозг оказало сознание того, что у меня был готов практический план возмездия. Возможно, более ужасный, чем какое-либо человеческое существо создавало до меня. Вы назовете меня нехристианином? Я отвечу вам снова, что Христос никогда не любил женщину! В противном случае Он оставил бы нам некий особый кодекс справедливости.
Глава 9
На следующее утро я поднялся очень рано, как никогда уверенный в своем вчерашнем решении; мой план полностью сформировался, и мне оставалось только приняться за дело. Никем не замеченный я вновь направился к семейному склепу, захватив с собой маленький фонарь, молоток и несколько крепких гвоздей. Придя на место, я внимательно огляделся по сторонам, убедившись, что никакой случайный скорбящий или любопытный посетитель не бродил поблизости. Но вокруг не было ни души. Воспользовавшись тайным ходом, я вскоре оказался на арене моих недавних ужасов и страданий, которые теперь казались мне такими незначительными в сравнении с душевными муками прошлой ночи. Я прямиком направился к тому месту, где припрятал гроб с сокровищами, и присвоил все бывшие там свертки бумажных денег, рассовав их по всем карманам и за подкладку одежды, таким образом стоимость моей персоны возросла на несколько тысяч франков. Затем при помощи принесенных инструментов я заделал пробоины в огромном гробе, появившиеся в результате взлома крышки, и заколотил его гвоздями так плотно, что казалось, будто к нему никто даже не прикасался. Я торопился, поэтому не тратил времени зря. Я намеревался уехать из Неаполя на пару недель и назначил отъезд уже на сегодня. Перед тем как покинуть склеп, я бросил взгляд на гроб, в котором меня похоронили. Может, стоит и его тоже починить и забить крышку, словно мое тело все еще оставалось внутри? Нет, лучше оставить его как есть – грубо поломанным и открытым, в таком виде он мне еще пригодится.
Закончив все дела здесь, я выполз через бандитский проход, закрыв его за собой с чрезвычайным тщанием и осторожностью, и затем направил свои шаги прямиком к пристани Моло. Я поспрашивал среди моряков, которые там околачивались, и узнал, что один небольшой бриг как раз готовился к отплытию в Палермо. Палермо подходило мне как нельзя лучше, так что я отыскал капитана судна. Это был темнолицый моряк с веселыми глазами, который обнажил свои белоснежные сияющие зубы в самой любезной улыбке, когда я изъявил свое желание отправиться с ним, и немедленно согласился на очень умеренную сумму, которая, однако, как я позже узнал, составляла тройной размер стандартной оплаты. Но прекрасный жулик обманул меня с такой легкой и изящной любезностью, что я едва ли об этом догадался бы, не признайся он в этом сам. Я слышал до этого об открытой и глупой честности англичан. Осмелюсь признать, что некоторая правда в этом есть, но для меня лучше оказаться обманутым дружелюбным товарищем, который подарит и веселую шутку, и яркий взгляд, чем оплатить настоящую цену неотесанному хаму, которому редко достает вежливости даже на то, чтобы пожелать вам доброго дня.
Мы отправились в плавание примерно в девять часов. Утро было ярким, и воздух для Неаполя казался почти холодным. Вода слегка колыхалась вдоль бортов нашего маленького корабля, издавая булькающий болтливый ропот, как будто оживленно рассказывала обо всех приятных вещах, которые встречала между рассветом и закатом солнца. О кораллах и переплетающихся морских водорослях, которые росли в синих глубинах; о маленьких сверкающих рыбках, прыгающих в разные стороны между волнами; о тонких раковинах, внутри которых обитают еще более нежные существа: фантастические маленькие создания, прекрасные, как тонкое кружево, которые выглядывают из розовых и белых дверей своих прозрачных домиков и с интересом смотрят на мерцание сине-зеленого и вечно движущегося вокруг них элемента так же, как и мы смотрим на широкий купол неба, плотно усеянный звездами. Обо всех этих вещах и еще о многом странном и приятном, сплетничала вода, нескончаемо лепетавшая вдоль бортов, думаю, у нее даже было что поведать мне о женщине и женской любви. Она радостно рассказывала мне о том, сколько прекрасных женских тел она видела, поглощенных холодными объятиями воинственного моря; тел, изящных и мягких, как мечты поэта, но брошенных, несмотря на всю их изящную красоту, в жестокую пучину неистовых волн, упавших на галечное дно на съедение подводным монстрам.
Когда я сидел сложа руки на палубе корабля и смотрел вниз, на ясное Средиземное море, блестяще-синее, как озеро из расплавленных сапфиров, то мне казалось, что я видел ее – Далилу моей жизни, лежащей на золотом песке, в то время как ее роскошные волосы расплываются вокруг, как желтые сорняки, ее руки скрючены в предсмертной агонии, ее губы смеются, синие от проникающего холода омывающих их потоков, – она бессильна двигаться и вновь улыбаться. Я подумал, что она бы прекрасно так смотрелась, намного лучше, чем вчера вечером она выглядела в руках ее возлюбленного. Я так глубоко погрузился в свои мысли, что чье-то внезапное прикосновение к плечу заставило меня вздрогнуть. Я поднял глаза: рядом стоял капитан брига. Он улыбнулся и протянул сигарету.
«Синьор не желает закурить?» – спросил он учтиво.
Я машинально взял скрученную ароматную гаванскую сигару.
«Почему вы назвали меня синьором? – резко спросил я. – Я простой коралловый рыбак.
Маленький человек пожал плечами и безразлично кивнул, однако веселая улыбка все еще плясала в его глазах, покрывая складками его оливковые щеки.
«О, ну конечно! Как будет угодно синьору, но все же…» – и он закончил фразу другим выразительным пожатием плеч и поклонился.
Я пристально посмотрел на него и спросил с некоторой строгостью: «Что вы имеете в виду?»
С той птичьей легкостью и быстротой, которая сквозила в его манерах, сицилийский шкипер склонился вперед и положил коричневый палец на мое запястье.
«Прошу меня извинить! Но это не руки рыбака!»
Я взглянул на них. Действительно, их гладкость и изящная форма выдавала мой обман, и веселый маленький капитан оказался достаточно проницательным, чтобы заметить несоответствие между моими руками и грубым костюмом, который я носил, хотя никто другой из тех, с кем я контактировал до этого, не проявил подобной наблюдательности. Сначала я был немного смущен таким замечанием, но после минутной паузы я встретил его пристальный взгляд откровенно и, зажигая сигарету, небрежно бросил:
«Это верно! Ну и что же из этого, друг мой?»
Он поднял руки в примирительном жесте.
«Ничего более, только это. Синьор должен знать, что он в полной безопасности со мной. У меня короткий язык: я говорю только о самом себе. У синьора должны быть свои причины на то, что он делает, я уверен в этом. Синьор подвергся страданиям – достаточно одного взгляда на его лицо, чтобы это заметить. Ох, Боже, в этом мире столько печалей! Есть любовь, – он быстро перебирал пальцами, – есть еще ревность, ссоры, денежные потери – любая из этих вещей способна заставить человека сдвинуться с места в любое время и в любую погоду. Да, поистине это так, уж я-то знаю! Синьор доверил мне свою жизнь на этом корабле, и я смею заверить его в своей преданности».
И он поднял свою красную шляпу с таким очарованием и искренностью, которые в моем одиноком и угрюмом состоянии тронули меня до глубины души. Я молча протянул ему руку, и он пожал ее с выражением, в котором смешалось уважение, симпатия и искреннее дружелюбие. И после этого вы скажете, что я переплатил за билет? Да, но он бы не предал меня и за двадцатикратную переплату! Вы не можете понять этой противоречивости итальянского характера? Нет, осмелюсь сказать, что нет. Политика меркантильного англичанина при тех же обстоятельствах заключалась бы в том, чтобы получить с меня как можно больше посредством различных хитростей и уловок, а затем пойти со спокойной совестью и холодным самообладанием в ближайший полицейский участок и описать там мою подозрительную внешность и поведение, таким образом создав мне новые проблемы, не считая душевного расстройства. С редким тактом, который отличает южан, капитан сменил тему разговора, переведя ее на табак, которым мы оба наслаждались.
«Прекрасный, не так ли?» – спросил он.
«Превосходный!» – ответил я, ведь поистине так оно и было.
Его белоснежная улыбка сверкнула веселым задором.
«Он должен быть высшего сорта, ведь это подарок человека, который курит исключительно лучшие сигары. Ах, Боже мой, что за прекрасный человек так безнадежно испорчен – этот Кармело Нери!»
Я не мог подавить разгоревшееся удивление. Какой каприз Судьбы связал меня с этим известным бандитом? Я фактически курил его табак и был обязан всем своим нынешним богатствам его украденным сокровищам, спрятанным в моем семейном склепе!
«Так вы его знаете?» – поинтересовался я с любопытством.
«Знаю его? Так же хорошо, как самого себя. Дайте вспомнить, ровно два месяца назад, да, два месяца прошло с тех пор, как он стоял со мной вот на этом самом корабле. Вот как все было: я шел на Гаэту, а он пришел ко мне и сказал, что его преследуют жандармы. Он предложил мне больше золота, чем я когда-либо видел в жизни за то, чтобы я отвез его в Термини, откуда он смог бы пробраться к одному из своих убежищ на Монтемаджорре. И с ним была Тереза. Он нашел меня одиноко стоящим на бриге, когда мои люди сошли на берег. Он сказал: „Отвези нас на Термини и я дам тебе кучу денег, а если откажешься, то я перережу твою глотку“. Ха, ха, ха! Это было здорово! Я рассмеялся над ним. Я поставил стул для Терезы на палубе и дал ей несколько больших персиков. Я сказал: „Да, мой Кармело! Не нужно никаких угроз! Вы не убьете меня, а я не предам вас. Вы вор, и очень плохой вор, клянусь всеми святыми! Но, смею сказать, что вы будете не более опасным, чем владелец гостиницы, если уберете руку с ножа“. (Как вы уже знаете, синьор, однажды войдя в гостиницу, вам придется заплатить чуть ли не выкуп, чтобы оттуда выйти!) Да, я говорил с Кармело на его языке. Я сказал ему: „Я не возьму большой платы за вашу с Терезой поездку до Термини. Дайте мне обычную плату за проезд, и мы расстанемся друзьями, я сделаю это ради Терезы“. Он был удивлен и улыбнулся своей мрачной улыбкой, которая могла означать как расположение, так и смертный приговор. Он взглянул на Терезу. А она подпрыгнула со своего стула, рассыпав персики по палубе, затем положила свои маленькие ручки на мои ладони, и слезы выступили на ее прелестных голубых глазах. „Вы добрый человек, – сказала она. – Должно быть, у вас есть женщина, которая вас очень любит!“ Да, так она и сказала. И она была права, да благословит ее Пресвятая Мария!»
И его темные глаза поднялись к небу с набожным благодарственным выражением. Я смотрел на него со своего рода ревнивым голодом, грызущим мое сердце. Передо мной стоял еще один заблуждающийся глупец, самодовольный дурак, упивающийся несбыточной мечтой, бедный простофиля, который поверил в искренность женщины!
«Вы счастливчик, – сказал я с вымученной улыбкой, – вы обладаете путеводной звездой своей жизни, подобной той, что светит вашему кораблю, женщиной, которая любит вас и верна вам! Не правда ли?»
Он ответил мне прямо и просто, как обычно немного приподняв шляпу.
«Да, синьор, это моя мать».
Я был глубоко тронут его наивным и неожиданным ответом – намного глубже, чем старался это показать. Горькое сожаление поднялось в моей душе: почему, ну почему моя мать умерла такой молодой! Отчего я никогда не знал священной радости, которая, казалось, исходила от всей фигуры и искрилась в глазах этого простого моряка! Почему я вынужден навсегда остаться одиноким с проклятием женской лжи, лежащим на моей жизни и повергающим меня лицом в пыль и пепел безутешного отчаяния! Нечто в выражении моего лица, должно быть, выдало мои мысли, потому что капитан деликатно сказал:
«Синьор потерял мать?»
«Она умерла, когда я был еще совсем ребенком», – ответил я кратко.
Сицилиец тихонько пыхтел сигарой в молчании – молчании искреннего сострадания. Чтобы избавить его от этого замешательства, я сказал:
«Вы говорили о Терезе? Кто такая Тереза?»
«Ах, вы можете спросить, синьор! Но никто не знает, кто она. Она любит Кармело Нери – и этим все сказано. Любовь – столь деликатная вещь, словно гребешок пены на волнах. А Кармело – вы видели Кармело, синьор?»
Я отрицательно покачал головой.
«Кармело – здоров, груб и мрачен, как лесной волк от волос до клыков. А Тереза? Вы видели маленькое облачно на ночном небе, которое блуждает около луны, отражая ее золотой блеск? Тереза именно такая. Она маленькая и хрупкая, как ребенок, у нее вьющиеся волосы и мягкие молящие глаза, нежные, слабые, белые ручки, которые не переломят и ветки. И все же она может делать с Кармело, что хочет, ведь она – его слабое место».
«Сомневаюсь, что она верна ему», – пробормотал я себе под нос.
Капитан уловил мои слова с оттенком удивления.
«Верна ему? Ах, Боже мой! Но синьор ее совсем не знает. Был один человек из банды Кармело, один из самых смелых и красивых головорезов, кто когда-либо жил. Он был без ума от Терезы и повсюду следовал за ней, как побитая злая собака. Однажды он подкараулил ее одну и попытался овладеть ею, а она выхватила нож с его собственного пояса и нанесла удар, как яростная фурия! Она не убила его тогда, но Кармело сделал это позже. Вы только представьте себе, столь маленькая хрупкая женщина с таким дьяволом внутри! Она сама любит хвастать, что ни один мужчина в мире, кроме Кармело, не касался даже локона ее волос. Так что, да – она ему верна, но тем более жаль!»
«Ну и что, почему бы ей не обманывать его?» – спросил я.
«Нет, нет, неверная женщина заслуживает смерти, но мне жаль Терезу, потому что она остановила свой выбор на Кармело. На таком человеке! Однажды жандармы доберутся до него, и его сошлют на каторгу до конца дней, а она умрет. Да, вы можете не сомневаться! Если горе не убьет ее на месте, то она покончит с собой – это точно! Она кажется маленькой и нежной, когда на нее смотришь, но ее душа крепка как сталь. И она пойдет своим путем в смерти, равно как и в любви; некоторые женщины таковы, и в большинстве случаев самые отважные из них кажутся очень слабыми снаружи».
Наш разговор был прерван на этом месте одним из матросов, который пришел получить распоряжения капитана. Разговорчивый шкипер с извиняющейся улыбкой и поклоном поставил свою коробку сигар за моей спиной и предоставил меня собственным размышлениям.
Я не расстроился, что остался один. Мне требовался перерыв, небольшой отдых, чтобы подумать, хотя мои мысли, словно новая солнечная система, вращались вокруг красной планеты центральной идеи – мести. «Неверная женщина заслуживает смерти». Даже этот простой сицилийский моряк подтвердил это. «Идите и убейте ее! Идите и убейте ее!» Эти слова снова и снова звучали у меня в ушах, пока я не обнаружил, что уже почти кричу их вслух. В моей душе возникало отвращение при мысли о женщине по имени Тереза – повелительнице несчастного бандита, чье имя связывали с кошмарами – было просто ужасно, что даже она могла сохранить чистоту от оскверняющих нежных ласк других мужчин. Она гордилась верностью своему лесному зверю, чье поведение было непредсказуемым и подлым, она законно похвалялась преданностью своему замаранному кровью возлюбленному, в то время как Нина – законная супруга благородного человека, чье происхождение было высоким и незапятнанным, – смогла отбросить венец честного замужества и втоптать его в грязь, смогла взять честь и достоинство древней фамилии и растоптать, смогла опуститься до такой низменной мерзости, что даже эта плебейка Тереза, узнав об этом, скорее всего, отказалась бы прикасаться к ее руке, посчитав ее слишком грязной.
Боже мой! Чем Кармело Нери заслужил этот бесценный алмаз верного женского сердца? И чем заслужил я такой грязный обман, за который теперь был призван отомстить? Вдруг я подумал о своей дочери. Воспоминание о ней пришло, как луч солнечного света, а я ведь почти позабыл ее. Несчастный маленький цветок! Горячие слезы навернулись на мои глаза, когда я вызвал из памяти образ ее нежного детского личика, молодые беспечные глазки, маленький болтливый ротик, всегда цветущий невинными поцелуями. Что мне с ней делать? Когда мой план возмездия, который я вынашивал в уме, будет доведен до конца, то должен ли я взять дочку и увезти далеко отсюда, в какой-нибудь тихий уголок, чтобы посвятить ей всю свою жизнь?
Увы! Увы! Она ведь тоже станет красивой женщиной, она – цветок, рожденный на отравленном дереве, и кто может быть уверен в том, что внутри ее сердца также не скрывается червь, который ждет наступления зрелого возраста, чтобы начать свое разрушительное действие?
О, мужчины! На ваши шеи наматываются змеи неверных женщин в образе целомудрия, и если Бог одаривает вас детьми через них, то двойное проклятие спускается на ваши головы! Скрывайте это под маской общественных приличий, которые все мы вынуждены носить; вы знаете, что нет ничего более мучительного, чем видеть, как невинные младенцы смотрят доверчиво в обманчивые глаза неверной жены и зовут ее священным именем Мать. Съешьте пепел и запейте настоем полыни – и вам этот напиток покажется слаще, чем противная горечь измены!
Оставшуюся часть дня я провел в одиночестве. Капитан брига рад был поговорить со мной время от времени, но легкий встречный ветер, задувший в пути, требовал его постоянного присутствия и внимания к управлению судном, так что он не мог позволить себе поддаться страсти к сплетням, которая была у него врожденной. Погода стояла прекрасная, и несмотря на наше постоянное виляние в попытке поймать попутный бриз, веселый маленький бриг быстро двигался по сверкающему Средиземному морю, обещая прибытие в Палермо уже на закате следующего дня. С наступлением вечера ветер посвежел, и к тому времени, когда луна взлетела в небо, как огромная птица, мы неслись вперед, а борт нашего корабля целовали льнущие к нему волны, которые мерцали серебром и позолотой, испещренные тут и там фосфоресцирующим пламенем.
Мы проскользнули почти под носом у великолепной яхты – английский флаг развевался на ее мачте – ее паруса блестели чистой белизной в лучах луны, и она прыгала по воде, как чайка. Высокая фигура атлетически сложенного человека показалась на ее палубе, одетая в костюм яхтсмена, который подчеркивал ее достоинства. Его рука обнимала за талию девушку рядом с ним. Всего минута или две нам понадобилась, чтобы миновать неподвижную яхту, но мне хватило и этого, чтобы заметить влюбленных, и тогда я пожалел парня! Почему? Он несомненно был англичанином – сыном страны, где сама земля, как считается, благоухает достоинством – поэтому, женщина около него должна воплощать прекрасную жемчужину чистоты. Англичанин никогда не ошибается в женщинах! Никогда? Вы уверены? Ах, верьте мне, нет большого различия в наше время между женщинами разных народов. Раньше она существовала, я это допускаю.
Когда-то, по общепринятому мнению, английская роза являла собой достойный символ англичанки, но сегодня, когда мир так поумнел и преуспел в искусстве падать под откос, даже британский аристократ смотрит довольно снисходительно на поведение своей жены. Может ли он спокойно предоставить жене свободу? Можно ли назвать мужчинами тех хвастунов своей «голубой кровью», которые готовы поддаться обманным уловкам того, кто входит в их дом с собственным ключом в их отсутствие и крадет любовь их жен? А как назвать женщину, которая хоть и мать троих или четверых детей, но все же готова принимать у себя того, кто крадет честь и права ее мужа? Прочтите лондонскую газету за любой день и вы поймете, что когда-то высоконравственная Англия бежит теперь ноздря в ноздрю в гонке с другими, менее лицемерными странами за расширение общественных пороков. Барьеры, которые когда-то существовали, сломаны; «жрицы любви» принимаются в высших кругах, где раньше их присутствие становилось сигналом для всех почтенных женщин немедленно удалиться; титулованные дамы услаждаются кривлянием на театральной сцене в костюмах, которые представляют их формы максимально явно глазам усмехающейся общественности, или они поют в концертных залах, стараясь представить себя в выгодном цвете, а фактически принимают вульгарные аплодисменты немытых толп с улыбкой и поклоном благодарности!
О Боже! Что случилось с превосходной гордостью былых времен, той гордостью, которая презирала всю показную роскошь и соблюдалась более ревностно, чем сама жизнь! Какое поразительное знамение времени: позвольте женщине утратить честь ПЕРЕД браком, и она никогда не будет прощена – ее грех никогда не забудется; но если она сделает это, когда у нее уже есть фамилия мужа, прикрывающая ее, то общество закроет глаза на все преступления. Соедините этот факт с общим духом осмеяния, который преобладает в модных кругах: осмеяние религии, осмеяние чувств, осмеяние всего, что является лучшим и самым благородным в человеческом сердце; добавьте к этому, общее распространение «свободно мыслящих» и отсюда конфликтующих и неустойчивых во мнении; позвольте всем этим вещам вместе поработать в течение нескольких лет, – и Англия будет смотреть на родственные страны, как смелая женщина за игрой в домино: ее черты частично скрыты от явного позора, но глаза блестят холодно сквозь маску, показывая всем смотрящим на нее, как она тайно упивается своим новым кодексом беззакония и жадностью. А поскольку она всегда будет жадной, а ее характер – корыстным, то в женщине не останется уже никакого изящества, сохраняющего ее былое очарование. Франция достаточно недобродетельна, Бог знает, и все же есть солнечная улыбка на ее губах, которая радует сердце. Италия также порочна, но все же ее голос исполнен мелодиями, похожими на пение птиц, а ее лицо – это прекрасная мечта поэта! Но развратная Англия станет похожей на мелочную сварливую матрону, одержимую неестественной и неуместной игривостью без смеха, без песни, без улыбки, с единственным богом по имени Золото и только одной заповедью под номером одиннадцать: «Не попадайтесь!».
Я спал этой ночью на палубе. Капитан предложил к моим услугам его маленькую каюту и был в своем добросердечии искренне расстроен моим отказом занять ее.
«Нехорошо спать под лунным светом, синьор, – сказал он обеспокоено. – Говорят, что от этого сходят с ума».
Я улыбнулся, подумав, что если бы мне суждено было сойти с ума, то это случилось бы прошлой ночью!
«Не бойтесь! – ответил я вежливо. – Лунный свет для меня приятен и не оказывает иного эффекта, кроме умиротворения. Я здесь прекрасно отдохну, друг мой, не беспокойтесь за меня».
Он замешкался, а потом вдруг ушел, чтобы вновь появиться через две-три минуты с толстым куском овчины. Он так настаивал на том, чтобы я взял его для защиты от ночного холода, что ради него я поддался уговорам и улегся, завернувшись в теплый мех. Добродушный парень пожелал мне тогда приятного отдыха и спустился в свою каюту, насвистывая веселую мелодию. Лежа на палубе, я смотрел вверх на мириады звезд, мягко сиявших на нежно-фиолетовом небе; я смотрел долго и пристально, пока мне не начало казаться, что наш корабль также превратился в звезду и плыл через пространство с его сверкающими товарищами. Я думал о том, какие создания населяли их? Простые мужчины и женщины, которые жили, влюблялись и лгали друг другу, как и мы? Или высшие существа, для которых даже малейшая фальшь невозможна? Был ли среди всех этих звезд хоть один мир, где не рождалась ни одна женщина? Неопределенные мечты и странные теории мелькали в моем мозгу.
Я вновь переживал агонию своего заключения в склепе, снова заставлял себя наблюдать сцену между моей женой и ее любовником, коей стал свидетелем в саду, снова обдумывал каждую мелочь, касавшуюся той страшной мести, которую задумал. Я часто удивлялся тому, каким образом в тех странах, где развод дозволяется, обиженный супруг может удовлетвориться столь скудной компенсацией за свои раны, как простое расставание с женщиной, которая обманула его. Для нее не следовало никакого наказания – она лишь получала желаемое! В этом даже нет никакого особенного позора, так как соответствует принятому стандарту социального поведения. Если бы общество назначило более суровые наказания за женскую измену, то меньше было бы и подобных скандалов и последующих разводов. Изящное женское существо подумало бы дважды, нет, пятьдесят раз, прежде чем подвергла бы свое тонкое тело риску оказаться отхлестанным кнутами в руках пары беспощадных представительниц ее же пола. Такая перспектива унижения, боли, позора и задетого тщеславия помогла бы более эффективно подавить в ней скотские инстинкты, чем все пышные судебные заседания, действующие по нормам общественного права, и присяжные заседатели.
Подумайте об этом, короли, лорды и свободное городское население! Когда-то официальным юридическим наказанием было бичевание привязанной к телеге преступницы. Если вы хотите остановить растущую безнравственность и бесстыдные пороки женщины, то вам лучше возобновить эту традицию, расширив ее применение от бедных слоев общества до самых богатых, потому что, вполне вероятно, что праздные герцогини и графини еще острее нуждаются в ней, чем занятые работой жены трудолюбивых мужчин. Роскошь, безделье и любовь к платью – вот рассадники для греха, так ищите же их! И не столько в лачугах голодающих и бедных, как в окрашенных в розовый цвет, ароматизированных мускусом будуарах аристократии. Найдите грех и ваши храбрые врачи обнаружат семена тех моровых болезней, что угрожают истребить целые города, – и тогда растопчите его, если вы сможете и если желаете сохранить добрые имена своих стран в глазах будущих поколений.
Не жалейте прутов ради правды! Не верьте ее роскошным волосам, ниспадающим в прекрасной беспорядочности, ее слезным глазами, взывающим к вашему милосердию. За ее богатство и положение она заслуживает меньше жалости, чем изгой, который не знает, где достать кусок хлеба. Высокое положение обязывает к высокой ответственности! Но я говорю дикие вещи. С бичеванием женщин мы покончили навсегда, и теперь оно вызывает у нас привычную дрожь отвращения. Но когда мы дрожим с таким же отвращением от всей чудовищности нашего общественного разврата? В очень редких случаях. Между тем, в случае измены мужья и жены могут развестись и продолжить свои раздельные пути в сравнительном мире. Да, некоторые могут это сделать, но я – не один из них. Никакой закон во всем мире не может исправить разодранного флага моей чести, поэтому я должен сам стать законом, а также адвокатом, присяжным, судьей – всеми в одном, и мой приговор не подлежит обжалованию!
И тогда я буду действовать, как палач, и какая пытка была столь совершенна и уникальна, как та, которую я изобрел? Таким образом я размышлял, лежа без сна, с лицом, повернутым к небесам, наблюдая свет луны, изливающей себя в океан, как золотой душ, в то время как вода билась с мягким бульканьем о борта брига и разлеталась белой пеной, когда мы неслись вперед.
Глава 10
Весь последующий день нам дул попутный ветер, и в Палермо мы прибыли за час до заката. Мы едва успели зайти в гавань, как небольшой отряд полицейских, или жандармов, вооруженных до зубов пистолетами и карабинами, поднялся на борт и командир предъявил нам документ, дающий полномочия обыскать бриг на предмет наличия на его борту Кармело Нери. Я слегка забеспокоился за безопасность моего друга капитана, но сам он вовсе не был встревожен: он улыбнулся и приветствовал вооруженных эмиссаров, как будто они были его лучшими друзьями.
«Откровенно говоря, мое мнение таково, – сказал он, открывая для них бутылку кьянти, – что злодей Кармело сейчас где-нибудь на Гаэте. Я бы не стал вам врать, зачем мне это? За его голову предлагается награда, а я вовсе не богат. Подумайте сами, я приложил бы все усилия, чтобы оказать помощь!»
Один из жандармов бросил на него подозрительный взгляд.
«Мы получили информацию, – начал он четким деловым тоном, – что Нери бежал с Гаэты два месяца назад при содействии некого Андреа Лучиани, владельца прибрежного брига „Лаура“, который курсирует с торговыми целями между Неаполем и Палермо. Вы – Андреа Лучиани, а этот бриг называется „Лаура“, в этом мы не ошибаемся, не так ли?»
«Как будто вы можете когда-нибудь ошибаться, сэр! – вскричал капитан с прежней веселостью, хлопая его по плечу. – Даже если у Святого Петра оказалось бы плохое настроение и он закрыл бы для вас небеса, то у вас хватило бы изобретательности, чтобы найти другой, лучший вход! Ах, Бог мой! Да, вы правы о моем имени и названии моего брига, но в других вещах, – здесь он поднял пальцы в выразительном жесте опровержения, – вы не правы, совсем не правы! – Он разразился веселым смехом. – Нет, не правы, но мы не будем ссориться из-за этого! Выпейте еще кьянти! Поиск бандитов так изнуряет жаждой. Наполняйте стаканы, друзья, не жалейте – еще двадцать бутылок стоит под лестницей!»
Офицеры невольно заулыбались, когда выпили предложенное вино, и самый молодой из них, подвижный, красивый парень, тоже развеселился вслед за капитаном, хотя он, очевидно, собирался заманить его в ловушку и выудить признание неожиданной показной небрежностью и дружелюбием своего поведения.
«Браво, Андреа! – воскликнул он. – Так давайте же будем добрыми друзьями! Кроме того, что за преступление в том, чтобы взять на борт одного пассажира? Несомненно, он заплатил вам лучше большинства торговцев!»
Но Андреа не был столь наивен, наоборот, он поднял руки и глаза с поразительным притворным выражением потрясения и испуга.
«Да простит вас Дева Мария и все святые! – воскликнул он набожно. – За то, что вы могли подумать, будто я, честнейший моряк, возьму хоть копейку у проклятого разбойника! Несчастья будут преследовать меня всю жизнь после этого! Нет, нет, это ошибка! Я ничего не знаю о Кармело Нери и надеюсь, что Господь избавит от встречи с ним!»
Он говорил с такой очевидной искренностью, что офицеры казались озадаченными, хотя это обстоятельство и не помешало им продолжить полный обыск брига. Разочарованные в своих ожиданиях, они расспрашивали всех подряд на борту, включая и меня, но, конечно, не добились удовлетворительных ответов. К счастью, они сочли мой костюм подобающим профессии и, хотя с интересом поглядывали на мои седые волосы, все же не нашли ничего подозрительного. После нескольких еще более эмоциональных поздравлений и любезностей со стороны капитана они удалились, полностью расстроенные и вполне убежденные, что полученная информация была так или иначе ошибочной. Как только они скрылись из поля зрения, веселый Андреа начал скакать по палубе, как ребенок на детской площадке, вызывающе прищелкивая пальцами.
«Черт возьми! – кричал он в экстазе. – Они скорее заставят священника выдать тайну исповеди, чем меня, честного Андреа Лучиани, предать человека, который дал мне хорошие сигары! Пусть они теперь едут обратно на Гаэту и вынюхивают там по всем углам! Ах, синьор! Настало время нам с вами проститься. Мне действительно жаль расставаться с вашей приятной компанией! Вы ведь не вините меня за то, что я помог бедному разбойнику, который доверился мне?»
«Только не я! – сердечно ответил я ему. – Наоборот, этим вы еще больше мне нравитесь. До свидания! А с этим, – здесь я вручил ему деньги за проезд, – примите мою благодарность. Я не забуду вашей доброты и, если когда-нибудь вам понадобится друг, найдите меня!»
«Но, – сказал он с наивным смешением любопытства и неловкости, – как же я это сделаю, если синьор не открыл мне своего имени?»
Я уже думал об этом прошлой ночью. Я знал, что мне потребуется новое имя, и принял решение присвоить фамилию одного школьного товарища – мальчика, к которому я был сердечно привязан в ранней юности и который затем утонул на моих глазах в воде Венецианского открытого плавательного бассейна. Так что я ответил на вопрос Андреа сразу же, без раздумий.
«Ищите графа Чезаре Олива, – сказал я. – Я вскоре возвращусь в Неаполь, и если я вам понадоблюсь, то там вы меня и найдете».
Сицилиец снял шляпу и сердечно отсалютовал мне.
«Я догадывался, что руки синьора графа принадлежат вовсе не коралловому рыбаку. О да! Я всегда узнаю джентльмена, если встречаю его, хотя про нас, сицилийцев, говорят, что все мы джентльмены. Это все хвастовство и – увы! – не каждый раз является правдой! До свидания, синьор. Я всегда к вашим услугам!»
Пожав его руку, я легко спрыгнул с брига на набережную.
«До свидания! – ответил я ему. – И тысячу раз спасибо!»
«Не за что, синьор, не за что!» И на том мы расстались, а он стоял все еще без шляпы на борту своего маленького корабля с добрым выражением на загорелом лице, как будто на нем отражался солнечный луч. Добродушный веселый мужик! Его понятия о добре и зле были странно перемешаны, и все же его обман был намного лучше многих истин, открываемых нам нашими сердечными друзьями. И можно быть уверенным, что Великий Ангел-Летописец отлично видит разницу между спасительной ложью и убивающей правдой и соответственно отмеряет каждому награду или проклятие небес.
Моей первой задачей в Палермо было приобретение одежды самых лучших тканей и выделки, подходящей джентльмену. Я объяснил портному, к которому зашел с этой целью, что присоединился к одному празднику коралловых рыбаков ради развлечения и на время одолжил их костюм. Он с готовностью поверил в мою историю, так как я заказал у него сразу несколько костюмов, назвавшись графом Чезаре Олива и дав адрес лучшего отеля в городе. Он обслужил меня с подобострастным смирением и предоставил в мое распоряжение заднюю комнату, где я сменил свой рыбацкий наряд на платье богатого господина, купленное готовым здесь же и неплохо сидевшее на мне. Таким образом приведя себя в порядок, я арендовал комнаты в лучшей гостинице Палермо на несколько недель. Недель, заполненных для меня тщательными приготовлениями к делу жестокого возмездия, которое ждало впереди. Одной из важнейших забот было надежное размещение имеющихся у меня денег. Я отыскал лучшего банкира в Палермо и, представившись вымышленным именем, заявил, что недавно возвратился на Сицилию после нескольких лет отсутствия. Он доброжелательно принял меня, хотя и был поражен той огромной суммой, что у меня имелась, но оказался достаточно предприимчивым, чтобы все устроить для безопасного хранения средств, включая и драгоценные камни; кое-какие из них своими необычайными размерами и блеском привели его в полное восхищение. Видя это, я настоял на его согласии принять отличный изумруд и два больших бриллианта и порекомендовал заказать подходящую оправу для собственного использования. Пораженный моей щедростью он вначале отказывался, но в конце концов его природная страсть к обладанию редкими камнями победила, и он взял их, осыпая меня благодарностями. А я в свою очередь был крайне доволен тем, что приобрел своей драгоценной взяткой такое искреннее расположение, что он даже забыл – или не счел нужным – спросить о моих личных данных, что в моем положении могло бы вызвать крайние затруднения, если бы я вообще смог таковые предоставить.
Когда эта сделка была полностью завершена, я стал раздумывать о том, как замаскироваться настолько надежно, чтобы никто не смог заметить даже малейшего сходства с прежним Фабио Романи ни в моем виде, ни в голосе, ни в манерах. Я всегда носил усы, которые поседели вместе с моими волосами. Теперь я отпустил бороду, которая тоже оказалась белой. Но в контрасте с этими возрастными признаками мое лицо снова начало поправляться и помолодело; мои глаза, всегда большие и темные, вновь обрели былой блеск и несколько бунтарский взгляд, который, как мне казалось, мог выдать меня тем, кто знал меня до смерти. Да, они выражали то, что должно было быть забыто и о чем нужно молчать. Что же мне было делать с этими моими предательским глазами?
Я подумал и скоро принял решение. Не было ничего проще, чем симулировать плохое зрение – зрение человека, ослепленного жарой и ярким светом южного солнца – я буду носить очки с затемненными стеклами. И я купил их, как только эта идея пришла мне в голову, и в одиночестве в своей комнате перед зеркалом я проверил их эффект. Я остался доволен: они прекрасно выполняли свою задачу. В очках, с белыми волосами и бородой я выглядел, как неплохо сохранившийся пятидесятилетний мужчина, чьим единственным физическим недостатком было плохое зрение.
Следующим пунктом моего преображения был голос. Я обладал от природы особенно мягким голосом и быстрым, но все же четким выговором, и подобно всем итальянцам у меня была привычка сопровождать слова выразительной жестикуляцией. Я принялся тренироваться, словно актер перед выдающейся ролью. Я выработал резкие интонации и говорил теперь неторопливо и неприветливо, иногда с несколько злым сарказмом, тщательно избегая малейших движений рук или головы во время речи.
Это давалось мне чрезвычайно трудно и тренировки заняли кучу времени. В качестве модели для подражания я использовал одного англичанина средних лет, который остановился в том же самом отеле и чья накрахмаленная флегматичность не расслаблялась ни на минуту.
Он был человеком-айсбергом крайне значительного вида с оттенком почтенной мрачности, которая свойственна всем британцам, пребывающим в чужой стране. Я скопировал его манеры максимально достоверно: я держал рот на замке с тем же оттенком страха прослыть непосвященным упрямцем; я ходил с такой же прямой спиной; я рассматривал пейзажи с тем же превосходным презрением. Я понял, что преуспел в своих упражнениях, когда подслушал слова официанта обо мне, обращенные к его другу: «Белый медведь!».
Я сделал и еще кое-что. Я написал учтивую записку главному редактору самой популярной газеты, выходившей в Неаполе, – газеты, которую, как я знал, всегда читали на Вилле Романи – и, приложив пятьдесят франков, попросил добавить лично для меня одну статью в следующий выпуск. Эта статья заключалось в общих чертах в следующем: