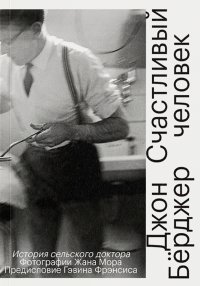Читать онлайн Фотография и ее предназначения бесплатно
- Все книги автора: Джон Бёрджер
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»
Издательство выражает признательность Павлу Владьевичу Хорошилову за подбор фотоматериалов к настоящему изданию
© А. Асланян, перевод с английского, 2014
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Art Foundation, 2014
Как меняется образ человека на портрете
Мне представляется маловероятным, чтобы в будущем появились какие-либо новые значительные портреты. Речь идет о портретной живописи как мы понимаем ее сегодня. Могу представить себе некие мультимедийные композиции, посвященные тому или иному персонажу. Но они не будут иметь никакого отношения к тем работам, что висят нынче в Национальной портретной галерее.
Не вижу причин оплакивать уход портрета – талант, некогда задействованный в написании портретов, может быть использован по-другому, поставлен на службу более актуальным, более современным целям. Однако стоит задаться вопросом, почему портретная живопись устарела; это поможет нам более ясно понять современную историческую ситуацию.
Начало упадка портретной живописи, говоря приблизительно, совпало с подъемом фотографии, а значит, самый первый ответ на наш вопрос – которым задавались уже в конце ХIХ века, – состоит в том, что место художника-портретиста занял фотограф. Фотография оказалась точнее, быстрее и куда дешевле; благодаря ей портретное искусство стало доступным для всего общества – прежде такая возможность была привилегией очень малочисленной элиты.
Желая противопоставить что-то ясной логике этого довода, художники и их покровители изобрели ряд загадочных, метафизических качеств, которые призваны были доказать, что в портрете, написанном художником, есть нечто ни с чем не сравнимое. Душу модели способен интерпретировать лишь человек, не машина (фотоаппарат). Художник имеет дело с судьбой модели, фотоаппарат – лишь со светом и тенью. Художник выносит суждения, фотограф фиксирует. И так далее, и тому подобное.
Все это не соответствует истине по двум причинам. Во-первых, отрицается роль фотографа как интерпретатора, а она существенна. Во-вторых, утверждается, будто портретам свойственна некая психологическая глубина, которой девяносто девять процентов из них совершенно не обладают. Если уж рассматривать портрет как жанр, следует вспоминать не горстку выдающихся полотен, но бесконечные портреты местной аристократии и знати в бесчисленных провинциальных музеях и ратушах. Даже средний портрет эпохи Возрождения – пусть он и подразумевает существенное присутствие личности – обладает крайне малым психологическим содержанием. Древнеримские и египетские портреты удивляют нас не потому, что им присуща глубина, но потому, что они очень ярко демонстрируют нам, как мало изменилось человеческое лицо. Способность всякого портретиста обнажить душу – миф. Есть ли качественная разница между тем, как Веласкес писал лицо, и тем, как он писал зад? Те сравнительно немногочисленные портреты, где действительно видна психологическая проницательность (некоторые работы Рафаэля, Рембрандта, Давида, Гойи), предполагают личный, граничащий с одержимостью интерес со стороны художника, такой, который попросту не укладывается в профессиональную роль портретиста. По сути, эти работы – результат поисков самого себя.
Задайте себе следующий гипотетический вопрос. Допустим, существует какая-то фигура второй половины ХIХ века, которая вас интересует, но изображения лица которой вы ни разу не видели. Что вам больше хочется: найти портрет этого человека или фотографию? Ответ на вопрос, таким образом сформулированный, склоняется в пользу живописи. Логичнее спросить так: что вам больше хочется: найти портрет этого человека или целый альбом фотографий?
Неизвестный фотограф. Фотохроника ТАСС. 1950-е гг.
До изобретения фотографии портретная живопись (или скульптура) была единственным средством зафиксировать и представить внешность человека. Фотография перехватила у живописи эту роль и одновременно сделала нас более разборчивыми в суждениях о том, что должно включать в себя информативное внешнее сходство.
Я не хочу сказать, что фотография во всех отношениях стоит выше портретной живописи. Она более информативна, более показательна в психологическом смысле, в целом более точна. Однако в ней нет столь тесного единства. Единство в произведении искусства достигается в результате ограничений, налагаемых способом изображения. Необходимо преобразовать каждый элемент, чтобы найти ему нужное место в рамках этих ограничений. В фотографии это преобразование в значительной степени осуществляется механически. В живописи каждое преобразование – как правило, результат сознательного решения художника. Таким образом, единство, свойственное живописи, в куда большей степени проникнуто намерениями автора. Полный эффект, производимый картиной (в отличие от ее правдоподобия), менее произволен, чем эффект фотографии; конструкция ее лучше вписана в социальный контекст, поскольку она основывается на большем количестве решений, принимаемых человеком. Фотопортрет может обнажать больше, точнее передавать сходство и характер модели; однако он, скорее всего, будет менее убедителен, менее окончателен (в строжайшем смысле этого слова). Например, если художник намерен льстить или идеализировать, он сможет сделать это куда убедительнее с помощью картины, чем с помощью фотографии.
Этот факт позволяет нам яснее разглядеть настоящую функцию портретной живописи во времена ее расцвета – функцию, которую мы обычно сбрасываем со счетов, когда сосредоточиваемся на небольшом числе выдающихся «непрофессиональных» портретов работы Рафаэля, Рембрандта, Давида, Гойи и других. Функцией портретной живописи было подтверждать и идеализировать избранную социальную роль модели. Представлять модель не как «личность», но как личность монарха, епископа, землевладельца, купца и так далее. У каждой роли были свои общепринятые качества и свой допустимый предел расхождений. (Монарх или папа мог быть куда более характерным, нежели обычный джентльмен или придворный.) Роль подчеркивалась позой, жестами, одеждой и фоном. Тот факт, что ни модель, ни преуспевающий профессиональный художник почти не были вовлечены в написание этих деталей, нельзя целиком объяснять экономией времени; их считали общепринятыми атрибутами данного социального стереотипа, по замыслу они так и должны были прочитываться.
В. Явно. Сын Иосифа Сталина Василий. 1929 г.
Поденщики от живописи никогда особенно не выходили за пределы стереотипа; крепкие профессионалы (Мемлинг, Кранах, Тициан, Рубенс, Ван Дейк, Веласкес, Хальс, Филипп де Шампань) писали личностей, но это все-таки были люди, чей характер и выражение лица воспринимались и обсуждались исключительно в свете уготованной им социальной роли. Портрет должен быть человеку впору, как пара туфель, однако каких именно туфель – такой вопрос никогда не возникал.
Удовлетворение от того, что с тебя написали портрет, было удовлетворением, какое дает личное признание и утверждение тебя в твоем статусе; это не имело никакого отношения к современному желанию одиночки, чтобы его признали «как он есть на самом деле».
Если бы нужно было назвать момент, когда упадок портрета стал неизбежным, приведя в качестве примера произведение того или иного художника, я бы выбрал два-три выдающихся портрета безумцев работы Жерико, написанные в первый период романтического разочарования и протеста, последовавших за поражением Наполеона и жалким триумфом французской буржуазии. Эти картины не были ни моральными повествованиями, ни символическими работами – обычные портреты, написанные в традиционном стиле. И все же у их моделей не было никакой социальной роли, предполагалось, что они не способны ее выполнять. На других полотнах Жерико – отрубленные человеческие головы и конечности, какие можно найти на прозекторском столе в анатомическом театре. Его отношение к предмету было горечью критика; решение писать лишенных всего безумцев представляло собой комментарий в адрес людей, владевших имуществом и обладавших властью; но было тут еще и стремление заявить, что человеческий дух по сути своей не зависит от роли, навязанной ему обществом. Общество в глазах Жерико было столь негативным, что он, хотя сам и был нормален, находил в изоляции безумных больше смысла, чем в социальных почестях, отдаваемых преуспевающим людям. Он был первым и в некотором смысле последним глубоко антисоциальным портретистом. В этом термине заключено неразрешимое противоречие.
После Жерико профессиональная портретная живопись выродилась в подобострастную, ничем не прикрытую лесть, за которую брались с цинизмом. Стало невозможно и дальше верить в значимость социальных ролей, избранных или доставшихся человеку. Искренние художники написали ряд «интимных» портретов своих друзей или натурщиков (Коро, Курбе, Дега, Сезанн, Ван Гог), однако на них социальная роль модели сводится к роли того, кого пишут. Подразумеваемая социальная значимость определяется либо личной дружбой (близостью), либо тем, как видит человека («обращается» с ним) именно этот художник. В любом случае модель, подобно предметам, расставленным в особом порядке для натюрморта, покорна живописцу. В конце концов, впечатление на нас производит не личность или роль модели, а видение художника.
Единственным важным исключением из этого общего правила, появившимся позже, был Тулуз-Лотрек. Он написал ряд портретов шлюх и кабареточных персонажей. В то время как мы разглядываем их, они разглядывают нас. Социальный взаимообмен устанавливается тут благодаря посредничеству художника. Перед нами предстает не личина, как бывает в случае официальных портретов; с другой стороны, это не просто создания, возникшие в воображении художника. Из написанных в XIX веке одни лишь портреты Тулуз-Лотрека способны убеждать и обладают окончательностью в том смысле, что был определен выше. Это единственные из портретов, в чье социальное свидетельство мы можем поверить. При виде их на ум приходит не студия художника, а «мир Тулуз-Лотрека» – иными словами, особый, сложный социальный круг. Почему Тулуз-Лотрек был таким исключением? Потому что он – в своей эксцентричной, обращенной наружу манере – верил в социальные роли своих моделей. Он писал актеров кабаре, потому что восхищался их игрой; он писал шлюх, потому что признавал важность их профессии.
За последние сто с лишним лет в капиталистическом обществе становится все меньше и меньше людей, способных поверить в социальную значимость предлагаемых им социальных ролей. В этом – второй ответ на наш первоначальный вопрос об упадке портретной живописи.
Впрочем, этот второй ответ предполагает, что в более уверенном, менее разобщенном обществе портретная живопись может возродиться. А это представляется маловероятным. Чтобы понять почему, нам следует обратиться к третьему ответу.
Мерки нынешней жизни, перемены ее масштабов изменили природу индивидуальной идентичности. Сегодня, столкнувшись с другим человеком и глядя на него, мы видим силы, действующие в направлениях, которые до начала века невозможно было себе представить и которые стали понятны относительно недавно. Эти перемены трудно описать кратко. Тут может помочь аналогия.
Неизвестный фотограф. Фотохроника ТАСС. Начало 1950-х гг.
Мы часто слышим о кризисе современного романа. По сути говоря, это включает в себя изменение способа повествования. Теперь уже практически невозможно рассказать простую историю, последовательно развивающуюся во времени. И это потому, что мы не можем избавиться от знания о тех вещах, которые постоянно пересекают сюжетную линию. Иными словами, вместо того чтобы воспринимать точку как бесконечно малую часть прямой, мы воспринимаем ее как бесконечно малую часть бесконечного числа прямых, как центр, где сходятся лучи прямых. Подобное восприятие – результат того, что нам постоянно приходится принимать во внимание одновременность и протяженность событий, происходящих и возможных.
Тому есть множество причин: спектр современных средств коммуникации; масштаб современной власти; степень личной политической ответственности за все происходящее в мире, которую следует принимать на себя; тот факт, что мир стал неразделимым; неравномерность экономического развития в этом мире; масштаб эксплуатации. Все это играет свою роль. В наши дни предвидение включает в себя проекцию географическую, а не историческую; последствия тех или иных событий от нас скрывает не время, а пространство. Чтобы пророчествовать в наши дни, необходимо лишь знать людей такими, каковы они повсюду в мире, во всем их неравенстве. Всякое современное повествование, не берущее в расчет важности этого измерения, неполно и приобретает чересчур упрощенный характер, характер басни.
Нечто похожее, пусть не столь явное, применимо к портретной живописи. Теперь для нас неприемлемо считать, что личность человека можно адекватным образом установить, сохранив и зафиксировав его внешность, увиденную с одной-единственной точки зрения, расположенной в одном месте. (Можно возразить, что это ограничение применимо и к фотографии, однако, как отмечалось, от фотографии мы не ждем той же окончательности, что от картины.) Со времен расцвета портретной живописи наши показатели распознавания изменились. Мы по-прежнему можем полагаться на «сходство» для идентификации человека, но для того чтобы разъяснить или классифицировать его личность – уже нет. Сосредоточиваться на «сходстве» означает обосабливать по ложному принципу. Это означает предполагать, что человек или предмет весь содержится во внешней оболочке; мы же прекрасно сознаем тот факт, что ничто не может содержаться в себе целиком.
Существует несколько кубистских портретов 1911 года, где Пикассо и Брак явно осознают этот факт, однако на этих «портретах» идентифицировать модель невозможно, а потому эти полотна уже не являются тем, что мы называем портретом.
Видимо, требования, которые предъявляет современное видение, несовместимы с обособленностью точки зрения, которая является обязательным условием «сходства», написанного статичным образом. Эта несовместимость связана с более общим кризисом, затрагивающим значение индивидуальности. Индивидуальность больше не может содержаться внутри определения явно выраженных черт личности. В мире переходных состояний и революций индивидуальность превратилась в проблему исторических и социальных взаимоотношений, таких, которые не обнажить путем обычной характеризации уже установившегося социального стереотипа. Теперь каждый род индивидуальности связан со всем миром.
1967
О чем сообщает фотография
Уже больше века фотографы и их апологеты утверждают: фотография заслуживает того, чтобы считаться изобразительным искусством. Трудно понять, насколько они в этом преуспели. Подавляющее большинство людей заведомо не считают фотографию искусством, даже когда занимаются ею, любят ее, используют и ценят. Доводы апологетов (я и сам к ним принадлежу) остаются несколько академическими.
Теперь нам ясно: фотография заслуживает, чтобы к ней подходили так, словно изобразительным искусством она не является. Кажется, будто фотографии (каким бы родом деятельности она ни была) предстоит пережить живопись и скульптуру – понимаемые в том смысле, в каком они представляются нам со времен Возрождения. Как теперь видно, оно, возможно, и к лучшему, что немногие музеи проявили инициативу и открыли у себя отдел фотографии. Ведь это означает, что большинство фотографий не хранятся в священном уединении, это означает, что публика не привыкла считать, будто до фотографий ей не дотянуться. (Музеи выполняют функцию домов знати, куда в определенные часы допускают плебс. Классовый характер «знати» может быть разным, но стоит какой-либо работе оказаться в музее, как она приобретает налет тайны, связанной с образом жизни, в котором нет места массам.)
Позвольте мне высказаться ясно. Живописи и скульптуре – таким, какими мы их знаем, – не грозит смерть ни от стилистического недомогания, ни от какого-либо другого, диагностированного людьми, охваченными профессиональным ужасом, например такого, как культурный декаданс; смерть им грозит потому, что в мире как он есть ни одно произведение искусства не способно выжить не превратившись в ценный объект собственности. А это влечет за собой смерть живописи и скульптуры, поскольку сегодня – так было не всегда – собственность неизбежно противостоит всем остальным ценностям. Люди верят в собственность, однако, по сути, они верят лишь в иллюзию защиты, которую собственность обеспечивает. Все произведения изобразительного искусства, независимо от их содержания, независимо от восприимчивости конкретного зрителя, теперь положено считать не более чем подспорьем, придающим уверенности мировому духу консерватизма.
Фотографии по природе своей не обладают ценностью как объекты собственности, а если обладают, то невысокой, поскольку это – не ценность раритета. Сам принцип фотографии состоит в том, что получившееся изображение не уникально; напротив, его можно бесконечно воспроизводить. Таким образом, исходя из понятий ХХ столетия, фотографии – записи об увиденном. Давайте считать, что они – такие же произведения искусства, как кардиограммы. Это поможет нам освободиться от иллюзий. Наша ошибка в том, что мы включаем вещи в категорию искусства, рассматривая определенные фазы процесса созидания. Но если рассуждать логически, тогда все предметы, сделанные руками человека, можно считать искусством. Более целесообразно подразделять искусство на категории по тому, что стало его социальной функцией. Оно выполняет функцию собственности. Соответственно, фотографии в большинстве своем лежат за пределами этой категории.
Фотография – свидетельство о выборе человека, осуществляемом в той или иной ситуации. Снимок – результат решения фотографа, сказавшего себе: тот факт, что данное событие или данный объект были увидены, стоит запечатлеть. Если бы всё существующее постоянно фотографировали, все снимки обессмыслились бы. Фотография не воспевает ни само событие, ни саму по себе способность видеть. Фотография есть сообщение о событии, которое на ней зафиксировано. Злободневность этого сообщения не вполне зависит от злободневности события, но и быть совершенно независимой от нее она не может. В самом простом случае это сообщение, будучи расшифрованным, гласит: «Я решил: тот факт, что это увидено, стоит запечатлеть».
Это в одинаковой степени можно отнести и к запоминающимся фотографиям, и к самым банальным снимкам. Первые от вторых отличаются тем, насколько снимок способен разъяснить сообщение, насколько он способен сделать решение фотографа ясным и доступным для понимания. Таким образом мы приходим к парадоксу фотографии, далеко не до конца понятому. Фотография – автоматически сделанная с помощью света запись о данном событии; и все-таки она использует данное событие, чтобы разъяснить, как оно было запечатлено. Фотография – процесс, при котором наблюдение обладает собственным сознанием.
Нам следует избавиться от путаницы, вызываемой постоянным сравнением фотографии с изобразительными искусствами. В каждом пособии по фотографии говорится о композиции. Без грамотно выстроенной композиции невозможно сделать хороший снимок. И все же это верно лишь постольку, поскольку фотографические изображения имитируют в наших глазах живописные. Живопись – искусство размещения; следовательно, разумно требовать, чтобы в размещаемом присутствовал некий порядок. Всякое взаимоотношение форм в живописи возможно до некоторой степени приспособить к цели художника. С фотографией дело обстоит не так. (Разве что включить сюда те абсурдные работы, сделанные в студии, где фотограф сам размещает предметы – все до мельчайших деталей – перед тем как сделать снимок.) Композиция в глубоком, созидательном смысле этого слова в фотографию не входит.
Формальное расположение объектов на снимке никаких разъяснений не дает. Изображенные события сами по себе таинственны или объяснимы в зависимости от того, что известно о них зрителю до момента, когда он увидит фотографию. Что же тогда придает фотографии смысл? Что позволяет ее кратчайшему сообщению – «Я решил: тот факт, что это увидено, стоит запечатлеть» – сделаться крупным и ярким?
Подлинное содержание снимка невидимо, ибо вытекает из игры – не с формой, но со временем. Можно сказать, что фотография столь же близка к музыке, сколь и к живописи. Я уже говорил, что фотография – свидетельство об осуществляемом человеком выборе. Речь идет не о выборе между тем, чтобы снять х или у, но о выборе между тем, чтобы снять что-то в момент х или в момент у. Объекты, запечатленные на любом снимке (от самых сильнодействующих до самых обыденных), обладают приблизительно одним и тем же весом, одной и той же уверенностью. Разница в той интенсивности, с которой нам сообщают о полюсах отсутствия и присутствия. Свой настоящий смысл фотография обретает между этими двумя полюсами. (Наиболее распространенное предназначение фотоснимка – напоминание о чем-то отсутствующем.)
Фотография – попытка запечатлеть увиденное, но в то же время она, в силу своей природы, всегда отсылает к тому, чего не видно. Она изолирует, сохраняет и представляет на обозрение момент, выхваченный из континуума. Сила фотографии определяется ее внутренними отсылками. Ее отсылка к естественному миру за пределами раскрашенной поверхности никогда не бывает прямой – она оперирует с эквивалентами. Иначе говоря, живопись интерпретирует мир, переводит его на свой собственный язык. У фотографии же собственного языка нет. Фотоснимки учишься читать, как учишься читать следы или кардиограммы. Язык, которым оперирует фотография, – язык событий. Все его отсылки являются по отношению к нему внешними. Отсюда и континуум.
Режиссер фильма может манипулировать временем, а художник может манипулировать последовательностью событий, которые он изображает. Фотограф, делающий снимки, на это не способен. Единственное решение, которое он может принять, касается того, какой момент выбрать для обособления. И все-таки это кажущееся ограничение придает фотографии ее уникальную силу. Показанное на снимке наводит на мысли о том, что на нем не показано. Чтобы оценить справедливость данного утверждения, достаточно взглянуть на любую фотографию. Непосредственная связь между присутствующим и отсутствующим для каждого снимка особая: это может быть связь между льдом и солнцем, горем и трагедией, улыбкой и удовольствием, телом и любовью, лошадью, выигравшей на скачках, и забегом, в котором она участвовала.
Фотография действенна, когда выбранный момент, запечатленный на ней, содержит частичку истины, которая применима в целом, которая обнажает то, что на фотографии отсутствует, в степени не меньшей, чем то, что на ней присутствует. Природа этой частички истины бывает самая разная, как и способы ее различения. Ее можно обнаружить в выражении лица, действии, наслоении, визуальной двусмысленности, конфигурации. Притом эта истина непременно зависит от зрителя. Для мужчины с любительским снимком его девушки в кармане частичка истины в какой-нибудь фотографии «безличного характера» все равно будет зависеть от общих категорий, уже имеющихся в его зрительском сознании.
Неизвестный фотограф. Фотохроника ТАСС.1950-е гг.
Все это, как может показаться, тесно связано со старым положением о том, что искусство преобразует частное в универсальное. Однако фотография не оперирует конструктами. В фотографии преобразования нет. Есть одно решение, один фокус. Быть может, кратчайшее сообщение фотографии не столь просто, как нам показалось поначалу. Вместо прежнего «Я решил: тот факт, что это увидено, стоит запечатлеть» теперь мы можем расшифровать его так: «О степени моей уверенности в том, что на это стоит смотреть, можно судить по всему тому, что я намеренно не показываю, поскольку все уже содержится на снимке».
К чему подобным образом усложнять то, что мы испытываем по нескольку раз на дню, – опыт рассматривания фотоснимка? Дело в том, что простота, с какой мы к этому опыту обычно относимся, лишена рационализма и вызывает путаницу. Фотографии представляются нам произведениями искусства, свидетельствами конкретной истины, изображениями, где присутствует сходство, новостными материалами. На деле каждая фотография – средство проверки, подтверждения и построения самодостаточного суждения о реальности. Отсюда и важнейшая роль фотографии в идеологической борьбе. Отсюда и необходимость понимания нами оружия, которое можем использовать мы и которое может использоваться против нас.
1968
Фотография и ее предназначения
Посвящается Сьюзен Сонтаг
Я хочу записать некоторые из своих откликов на книгу Сьюзен Сонтаг «О фотографии». Все используемые мною цитаты взяты из ее текста. Часть мыслей – мои собственные, но все они порождены опытом чтения ее книги.
Фотоаппарат изобрел Фокс Талбот в 1839 году. Не прошло и тридцати лет с момента возникновения фотографии – в качестве технической игрушки для элиты, – как ее стали использовать для полицейских досье, репортажей с мест боевых действий, военной рекогносцировки, порнографии, документации к энциклопедиям, семейных альбомов, почтовых открыток, антропологических записей (часто сопровождавшихся, как это произошло с индейцами в Соединенных Штатах, геноцидом), сентиментального морализаторства, удовлетворения любопытства (что получило не вполне верное название «съемки скрытой камерой»), эстетических эффектов, новостных репортажей и официальных портретов. Первая недорогая массовая камера появилась на рынке чуть позже, в 1888-м. Быстрота, с которой накинулись на фотографию в ее возможных изводах, несомненно указывает на применимость к индустриальному капитализму, лежащую в ее основе. Взросление Маркса пришлось на год изобретения фотокамеры.
Однако основным и наиболее «естественным» способом указания на внешнюю сторону дел фотография стала лишь в ХХ веке, в период между двумя мировыми войнами. Именно тогда она пришла на смену окружающему миру в качестве непосредственного свидетельства. То было время, когда фотография считалась наиболее понятным средством, дающим доступ к реальности, – время великих мастеров-свидетелей, работавших в этом жанре, таких как Пол Стрэнд и Уокер Эванс. В тот момент фотография в капиталистических странах обладала наибольшей свободой; освобожденная от ограничений изобразительного искусства, она стала жанром общественным, который возможно было использовать демократическим образом.
Впрочем, этот момент быстро прошел. Сама «правдивость» нового жанра поощряла его намеренное применение в качестве средства пропаганды. Одними из первых систематически использовать фотопропаганду начали нацисты.
«Фотографии – возможно, самые загадочные из всех предметов, создающих и уплотняющих окружение, которое мы оцениваем как современное. Фотография – это зафиксированный опыт, а камера – идеальное орудие сознания, настроенного приобретательски»[1].
В начальный период своего существования фотография предоставляла новую техническую возможность; она была инструментом. Затем, когда новизна была исчерпана, ее использование и «прочтение» начали становиться привычными вещами, неизученной частью современного восприятия. Этому преобразованию способствовало появление множества новшеств. Новая киноиндустрия. Изобретение легкой фотокамеры, в результате чего фотографирование из ритуального действия превратилось в «рефлекс». Открытие фотожурналистики – где текст следует за иллюстрациями, а не наоборот. Появление рекламы как важнейшей экономической силы.
Неизвестный фотограф. Фотохроника ТАСС.1950-е гг.
«В фотографиях мир предстает множеством несвязанных, самостоятельных частиц, а история, прошлая и сегодняшняя, – серией эпизодов и faits divers[2]. Камера делает реальность атомарной, податливой – и непрозрачной. Этот взгляд на мир лишает его взаимосвязей, непрерывности, но придает каждому моменту характер загадочности».
Первый массмедийный журнал был создан в Соединенных Штатах в 1936 году. Запуску журнала Life сопутствовали по меньшей мере два пророческих обстоятельства, и пророчествам этим предстояло полностью сбыться в послевоенный век телевидения. Новый иллюстрированный журнал финансировался не за счет продаж, а за счет публикуемой в нем рекламы. Изображения были на треть посвящены паблисити. Второе пророчество заключалось в названии журнала («Жизнь»). Оно двусмысленно. Возможное его значение: иллюстрации внутри – о жизни. Однако тут, видимо, присутствует обещание большего: эти иллюстрации и есть жизнь. Первая фотография в первом номере обыгрывала эту двусмысленность. На ней был изображен новорожденный младенец. Подпись внизу гласила: «Жизнь начинается…».
Что выполняло роль фотографий до изобретения фотоаппарата? Ожидаемый ответ: гравюра, рисунок, живопись. Более полный ответ, возможно, таков: память. То, что выполняют там, в пространстве, фотографии, раньше происходило в рамках рефлексии.
«Видя в фотографиях только инструмент памяти, Пруст толкует их не совсем правильно: они не столько служат памяти, сколько придумывают ее или же заменяют собой».
Неизвестный фотограф. Фотохроника ТАСС.1950-е гг.
В отличие от любого другого визуального образа, фотография – не трактовка, не имитация, не интерпретация данного предмета, но, по сути, оставленный им след. Ни одна картина или рисунок, как бы натуралистичны они ни были, не является частью предмета в той степени, в какой это свойственно фотографии.
«…Фотоснимок не только изображение (в отличие от картины), интерпретация реальности; он также и след, прямо отпечатанный на реальности, – вроде следа ноги или посмертной маски».
Человеческое восприятие – процесс куда более сложный и избирательный, нежели тот, которому следует пленка при запечатлении изображений. Тем не менее и объектив фотоаппарата, и глаз регистрируют происходящее – вследствие своей чувствительности к свету – с высокой скоростью, при этом непосредственно присутствуя при событии. Однако есть вещь, которую умеет делать фотоаппарат, а глаз сделать никогда не сможет: фиксация происходящего события. Изымая происходящее из потока событий, он сохраняет его – возможно, не навсегда, но на время, пока существует пленка. Суть характера данного сохранения не зависит от статичности изображения – кадры из фильма до монтажа сохраняют изображение, по сути, таким же образом. Фотоаппарат предохраняет происходящее от исчезновения, неизбежного в других случаях. Он удерживает их неизменными. А до изобретения фотоаппарата такое было под силу лишь одному – памяти, которой дано работать в воображении.
Я не хочу сказать, что память – своего рода фотопленка. Это банальная аналогия. Сравнивая фотопленку с памятью, мы не узнаем ничего о последней. Узнаем же мы о том, насколько странен и беспрецедентен был фотографический процесс.
И все же, в отличие от памяти, фотографии сами по себе не сохраняют смысл. Они изображают внешнюю сторону дел – со всеми достоверностью и важностью, которые мы обычно приписываем внешним признакам, – оторванную от смысла. Смысл есть результат понимания функций. «А функционирование происходит во времени, и для объяснения его требуется время. К пониманию нас приводит только то, что повествует». Сами по себе фотографии источником повествования не являются. Фотографии сохраняют внешние признаки, существующие в данный момент. Нынче привычка защищает нас от потрясений, с которыми подобное сохранение связано. Сравним время экспозиции пленки со временем жизни отпечатка и предположим, что отпечаток хранится всего десять лет; в случае среднестатистического снимка наших дней соотношение будет приблизительно 20 000 000 000:1. Возможно, это послужит напоминанием о силе раскола, при котором внешние признаки отделяются от своих функций с помощью фотоаппарата.