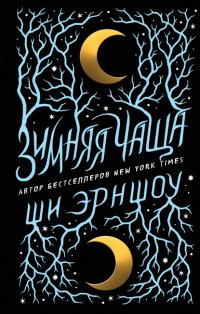Читать онлайн Мрачные сказки бесплатно
- Все книги автора: Ши Эрншоу
Shea Ernshaw
A HISTORY OF WILD PLACES
Перевод с английского Ирины Павловой
Оригинальное название: A History of Wild Places Text Copyright
© 2021 by Shea Ernshaw Изображения на обложке использованы по лицензии © Shutterstock
© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2022
Лисы и музеи
Отрывок из книги первой в цикле «Элоиза и Лисий Хвост»
Загадочный лис хитрыми зелеными глазами впился в окно Элоизиной спальни. Была среда, солнце уже опустилось за ели, о чем-то тихо шептавшиеся с соснами. И Элоизе давно пора было спать, но девочка все думала и думала о лесе. А еще о крепости с односкатным навесом, которую она с младшим братиком соорудила у основания сосны: насколько прочно их убежище? Выдержит ли сильные снежные бури?
А те зеленые глаза за стеклом… Они, конечно же, ей снились. Как и снежинки, что кружились в хороводе за окном, припорашивая острую рыжую мордочку. Лисы редко забредали так далеко в горы. Впрочем, сны Элоизе теперь снились нечасто. Она больше не видела ярких и четких образов, когда спала. Мир красочных детских грез как будто стал закрытым для нее. Скудные сновидения поражали своей странностью. И даже ночные кошмары случались редко.
Часть первая
Амбар
Смерть обычно оставляет следы, маленькие частицы прошлого, отчаянно цепляющиеся за настоящее, оседающие, прилипающие, окропляющие его мелкими крапинками. Один-единственный каштановый волос с медным отливом – с корнем вырванный из черепа, застрявший в дверной петле или стиснутый похолодевшими, сжатыми в кулак пальцами. Капля крови или крошечный кусочек содранной кожи, небрежно забытые в раковине ванной комнаты, которые следовало смыть или стереть.
Подсказками служат и личные вещи: браслет со сломанной застежкой, оброненный в красный суглинок; ботинок, слетевший с ноги во время борьбы и придавленный задней шиной грузовика; контактная линза, выпавшая из глаза, когда ее владелец отчаянно звал на помощь в темной лесной глухомани, где его некому было услышать…
Эти артефакты рассказывают мне о том, где находилась та или иная жертва. И о ее последних шагах и действиях. Только не так, как вы, возможно, подумали.
Прошлое пронзает меня всего, образы отражаются на роговицах, демонстрируя напряжение и ужас, искажавшие лица пропавших. Тех, кто исчез. Ушел из дома и так и не вернулся. Сцены сменяются перед глазами в четкой последовательности – как слайды или кадры старого черно-белого фильма в театре Никеля.
Это поистине ужасный дар – брать в руки предмет и видеть его прежнего владельца, наблюдать его последние минуты и ощущать, как твое тело отзывается на них дрожью и содроганием, словно ты в тот момент находился с ним рядом, был свидетелем мрачного, чудовищного окончания человеческой жизни. Увы, подобные вещи, точнее способности, вернуть дарителю невозможно.
Падая на лобовое стекло, снежинки покрывают его тончайшей наледью, похожей на изящное белое кружево. Печка в пикапе отказала еще три дня назад, и руки дрожат даже в карманах утепленной куртки. Я остановился у заправки «Тимбер-Крик», рядом с минимаркетом – крошечным, освещенным неоновыми огнями магазинчиком на окраине безымянного горного поселка. Напряженно всматриваюсь вперед. Но все, что мне позволяет разглядеть порывистая снежная круговерть, – это скопление домиков, утопающих в куще скрученных пушистых сосен, да несколько лавчонок, давным-давно заколоченных досками. Работают лишь небольшая пожарная часть, служба эвакуации автомобилей и бензоколонка. Вывеска над кучей дров перед ней гласит: «5 ДОЛЛАРОВ ЗА ВЯЗАНКУ, САМООБСЛУЖИВАНИЕ». Ниже, уже мельче, приписано: «Лучшая цена на всей горе». Этот поселок – не более чем ничтожный нарост, рискующий в любой момент оказаться снесенным с лица земли сильным ветром или неудержимым лесным пожаром.
Распахнув дверцу пикапа, под тягучий скрип застонавших на холоде ржавых петель я выхожу из машины в беззвездную ночь. И пока пересекаю парковку, мои ботинки оставляют в двухдюймовом слое выпавшего снега глубокие отпечатки; уши и ноздри успевают окоченеть на морозном воздухе, а каждый выдох превращается в белое облачко.
Но едва открываю дверь минимаркета, меня окутывает волна теплого спертого воздуха, пропитанного запахами моторных масел и пригоревших корн-догов. На мгновение я даже испытываю головокружение, а придя в себя, пробегаю глазами полки. На них царит почти апокалиптическое запустение. Единичные товары на запыленных поверхностях – явно зачерствевшие батоны, печенье «Поп-тартс» и крошечные коробочки хлопьев в дорогу, все со старомодными и выцветшими логотипами – походят на реквизиты из другой эпохи, собранные для киносъемок. В жужжащем у дальней стены кулере сиротливо ютятся банки с пивом, тетрапаки с молоком и энергетики.
Это место не призрачное (с чем я привык сталкиваться). Оно, словно парализованное, застыло во времени. За прилавком, угнездившись на табурете под вызывающими головную боль люминесцентными лампами, сидит женщина с волосами, пестрящими серыми прядками, с еще более серой кожей. Она барабанит пальцами по деревянной столешнице – словно постукивает по пачке сигарет. Я направляюсь через магазин прямиком к ней.
Слева от кассового аппарата стоит кофеварка, покрытая толстенным слоем пыли; меня так и подмывает взять из пирамидки бумажный стаканчик и наполнить его застоявшейся и, скорее всего, едва теплой жидкостью. Но меня удерживает подозрение: как бы этот кофе на вкус не оказался таким, каким выглядит. А выглядит он как отработанное машинное масло. В итоге – стиснув кулаки в карманах куртки и ощущая, как к кончикам пальцев снова приливает согревшаяся кровь, – я позволяю своему взгляду вернуться к женщине, продавщице и кассирше в одном лице.
Она смотрит на меня с тем нервным нетерпением, за которым зачастую скрывается подозрительность. Мне хорошо знаком такой взгляд. Я этой женщине не понравился сразу. Отросшая за последний месяц борода совершенно не украшает мою физиономию. Она не только старит меня лет на десять, но и придает неухоженный, запущенный вид шелудивого бездомного пса. Я даже после душа похожу на дикаря-бродягу – того, кому не следует доверять.
Стараясь показаться неконфликтным и безобидным, я улыбаюсь кассирше; как будто ее может переубедить оскал моих крепких зубов. Нет, не переубеждает. Угрюмое лицо незнакомки только мрачнеет.
– Добрый вечер, – начинаю я, но голос звучит грубо и дребезжит от волнения – сказывается недосып.
Кассирша не произносит ни слова, лишь сосредоточивает на мне цепкий взгляд. Может, ждет, что я потребую деньги из кассы?
– Вы не слышали о женщине по имени Мэгги Сент-Джеймс? – спрашиваю я.
Когда-то у меня отлично получалось вызывать к себе доверие людей таким способом – сообщая им детали, которые они бы никогда не раскрыли полиции, демонстрируя осведомленность в том, что хранила их память. Однако этот дар давно исчез, словно в воду канул.
Мне удается вызвать интерес кассирши. Она фыркает, и из ее пор выделяется запах сигаретного дыма. Солоноватый, пепельный душок напоминает мне о деле трехлетней давности – поиске в Огайо пропавшего мальчика. Мне удалось разыскать ребенка; он прятался в заброшенном двухэтажном доме за запустелой стоянкой для автоприцепов. И стены в том доме имели похожий душок – запах соли и дыма, такой стойкий, словно его источали нарциссы и папоротники на обоях.
– Здесь все слышали о Мэгги Сент-Джеймс, – наморщив курносый нос и выпучив на меня пожелтевшие от никотина белки глаз, отвечает женщина (не слишком приветливо). – Вы из газеты?
Я мотаю головой.
– Коп?
Я снова мотаю головой. Но, похоже, кассиршу особо не волнует, коп я или репортер. Она продолжает говорить:
– Женщина пропала, и началась свистопляска; вся округа будто стала сценой для съемок телесериала: вертолеты в небе, поисковые собаки в лесу… Копы обрыскали все гаражи, все мусорные баки, да только ни шиша не нашли. А народ они опрашивали так, словно считали, будто мы тут все заодно. Будто знаем, что случилось с пропавшей, только не хотим говорить, – кассирша скрещивает руки, и из-под ее дряблой, сморщенной кожи выпячиваются костлявые, угловатые формы – как у змеи, медленно сбрасывающей старую кожу со скелета. – А мы тут люди честные! И скажем все, что думаем, даже если вы не спросите. Но где уж это понять копам! Шныряли повсюду с фонариками, заглядывали в окна порядочных людей, сделали из нас параноиков. Большинство даже на улицу перестали выходить, сидели неделями по домам; копы нам внушили, что убийца бродит рядом, только и жаждет, как бы еще кого порешить. Да только все было впустую. Они так ни черта и не выяснили. И все это из-за какой-то женщины, которую мы даже не знали, – акцентирует кассирша свое последнее утверждение кивком и поджиманием губ.
Местные жители, возможно, и не знали, кем была Мэгги Сент-Джеймс, нежданно появившаяся в их общине и тут же внезапно исчезнувшая. Но множеству людей за пределами этого поселка ее имя было знакомо. Мэгги Сент-Джеймс получила известность лет десять назад, написав для детей книжку под названием «Элоиза и Лисий Хвост: лисы и музеи». За ней последовали еще четыре книги, вызвавшие у части публики свирепо-негативную реакцию. Писательницу обвиняли в том, что ее повести слишком мрачные, страшные и зловещие, что они побуждают ребят убегать из дома в близлежащий лес ради рискованных поисков подземной сферической обители (вымышленного места, которое Сент-Джеймс описала в своих книгах и которое якобы превращало обычных детей в сверхъестественных созданий – темных злодейских сущностей). Один из авторов известного литературного журнала уподобил истории Сент-Джеймс ночным кошмарам, не имевшим ничего общего со старыми добрыми волшебными сказками. «Они заставляют детей бояться не только темноты, но и дневного света. Я не стал бы их читать даже серийному убийце, не то что своему ребенку», – заявил критик.
Вскоре после выхода пятой книги четырнадцатилетний подросток по имени Маркус Соренсен в поисках колдовской подземной сферы слишком далеко углубился в дремучий аляскинский лес и умер от переохлаждения. Его тело обнаружили через семь суток. Я хорошо помню то дело – мне позвонил детектив из Анкориджа с просьбой приехать и оказать содействие в поисках пропавшего. Но Маркуса нашли уже на следующий день, у входа в маленькую скальную пещеру – с кожей белее лежавшего вокруг снега. «Как знать, – подумал я тогда, – быть может, на пороге смерти, в горячечном бреду от холода у мальчика развились галлюцинации, и он решил, что все-таки нашел подземную сферу?»
После гибели подростка Мэгги Сент-Джеймс канула в безвестность, чтобы не сказать – в небытие. Хотя и так можно выразиться. Согласно «Википедии», в цикле «Элоиза и Лисий Хвост» планировалась шестая книга. Но она не вышла в свет и даже не была написана, потому что ее автор, Мэгги Сент-Джеймс, исчезла.
– Вы помните, она сюда заезжала? – спрашиваю я кассиршу, и ее бледно-голубые вены под восковой кожей горла вмиг напрягаются.
Женщина приподнимает бровь, как будто я оскорбил ее своим предположением: да разве она могла позабыть о таком по прошествии пяти лет?! О том, что Мэгги Сент-Джеймс заезжала на бензоколонку «Тимбер-Крик» и заходила в минимаркет, мне известно из полицейского отчета и показаний некоей кассирши, не упомянутой в нем по имени.
– Она была незапоминающейся, вернее, малоприметной, – отвечает кассирша; остатки ее истонченных ресниц прикрывают белки, но тут же снова взмывают вверх, а в уголках глаз застревают крошечные сгустки черной туши. – Но, к счастью и для полицейских, и для вас, я помню всех! – Взгляд кассирши скользит по маслянистым стеклам витрин, за которыми кружится снег, будто видит там незнакомку, как сейчас меня. – Она заправилась и купила клубничную жвачку, развернула ее и сразу начала жевать, прямо здесь, даже не успев оплатить. Потом спросила про красный амбар – не знаю ли я, где в округе такой. Я, конечно, рассказала ей о старом амбаре Кеттеринга, он стоит в нескольких милях отсюда, выше по дороге. Правда, не использовался по назначению лет двадцать, пришел в полное запустение, и теперь там собирается молодежь, чтобы выпить. Я поинтересовалась, к чему ей эта старая развалюха, но она не ответила. И, не сказав даже спасибо, уехала. А на следующее утро нашли ее брошенную машину.
Замолкнув, кассирша отворачивается, и у меня возникает ощущение, будто ей очень хочется поделиться со мной соображениями о том, насколько грубыми и невежливыми бывают порой горожане. Но она сдерживается. На всякий случай – а вдруг я тоже из города. Хотя это не так. И, судя по тому, что мне известно о Мэгги Сент-Джеймс, она также не была горожанкой.
Я откашливаюсь и не теряю надежды: вдруг кассирша припомнит не только их встречу? Главное – правильно сформулировать и задать вопрос.
– А вы не слышали, о ней никто не упоминал за прошедшие годы? – осторожно избегаю я прямого вопроса, который так и вертится на языке. – Может, кто-то ее все-таки видел или что-то помнит?
– Помнит, как ее убил? Вы это имеете в виду? – Кассирша, скривив набок рот, расцепляет скрещенные руки.
В том, что в округе орудовал серийный убийца, я сомневаюсь. Рапортов об исчезновении других людей не подавалось. Но я вполне допускаю, что Мэгги Сент-Джеймс стала жертвой местного отшельника – человека малообщительного, живущего в одиночестве в лесу, который прежде, может, и не убивал никого, но лишь потому, что ему не представлялась удобная возможность… пока в поселок не приехала незнакомка. Возможен и другой вариант: кто-то пошел в лес поохотиться на оленя или кролика, и его случайный выстрел сразил наповал приезжую блондинку с короткой стрижкой – женщину, от тела которой ему пришлось потом избавиться: сжечь или закопать. Несчастные случаи порой превращают людей в могильщиков…
– Не могу поручиться, что у нас тут все нормальные… Кое у кого мозги и вправду набекрень, но они не убийцы, – качает головой кассирша. – И уж точно не умеют держать язык за зубами. Убей кто-нибудь из них ту девушку, он бы быстро проболтался. И скоро об этом прознала бы вся община. У нас здесь все тайное рано или поздно становится явным.
Я отворачиваюсь от собеседницы; глаза опять задерживаются на кофеварке и пирамидке из бумажных стаканчиков. «Может, рискнуть?» Но кассирша, многозначительно приподняв остроконечную бровь, снова заговаривает. Так, словно решилась приоткрыть мне сокровенную тайну:
– Возможно, девушка надумала исчезнуть, начать совершенно новую жизнь. В этом нет преступления.
Взгляд женщины устремляется к пачке сигарет, лежащей у кассы вместе с фиолетовой зажигалкой. Ей явно хочется закурить.
Я киваю: вполне рабочая версия. Уж мне ли не знать, что люди иногда пропадают не потому, что их похитили или убили, а просто потому, что сами захотели исчезнуть. У Мэгги были основания покончить с прежней жизнью, начать все с чистого листа, затерявшись на бескрайних просторах страны, в бесконечных странствиях по провинциальным дорогам, городкам и весям, где ее никогда бы не стали искать. И, возможно, я разыскиваю женщину, которая не желает быть найденной…
Кассирша наконец дотягивается до сигарет; заскользив по прилавку, пачка останавливается на самом краешке.
– Может, лучше не вмешиваться, оставить эту женщину в покое? Позволить ей исчезнуть, раз ей так хочется…
Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза, сознавая: мы и сами хоть раз в жизни испытывали этот беспокойный зуд – желание скрыться, спрятаться от всех, исчезнуть. Но затем выражение лица кассирши меняется: кожа у рта собирается морщинками, губы превращаются в сушеные абрикосы, а во взгляде вспыхивает недоверие. Как будто она внезапно озадачивается вопросами: кто я, собственно, такой на самом деле? Зачем пожаловал в ее общину спустя столько лет? И почему завел подобный разговор?
– Вы частный детектив? – спрашивает кассирша, выбивая пальцем из пачки сигарету.
– Нет.
Я почесываю бороду; мне делается слишком жарко в этом маленьком магазинчике, ставшем вдруг тесным и душным.
– Тогда зачем вы приехали сюда зимой и расспрашиваете о той женщине? Вы ее хахаль или приятель?
Я трясу головой; в глазах мелькают вспышки, появляется резь – та самая, хорошо знакомая боль, что пытается увлечь меня в прошлое. Я подбираюсь к Мэгги все ближе. Я это чувствую!
Губы кассирши вытягиваются в строгую линию; похоже, она заметила, что мне не по себе. Я поспешно отступаю от прилавка, не дожидаясь, когда она поинтересуется, в чем дело.
– Спасибо, что уделили мне время, – сопровождаю я свою благодарность легким кивком.
Рот женщины остается открытым, как пасть дикого зверя, ждущего корма. Она не сводит с меня взгляда, пока я ретируюсь к двери и выныриваю из магазина на улицу.
Порыв холодного воздуха приносит мне странное облегчение. Снег и ветер остужают перегревшуюся плоть. Но в висках все еще стучит, а затылок ломит от острой потребности в кофе и сне и от свербящей уверенности: цель близка. Эта бензоколонка была последним местом, где Мэгги Сент-Джеймс видели перед исчезновением, и звон в ушах сигнализирует мне: я на верном пути.
Снова сев в пикап, я прижимаю руку к виску. Мне не помешали бы сейчас горсть аспирина да мягкая постель, не пахнущая дешевой прачечной замшелого мотеля. А еще – тепло чего-то знакомого, чего-то, что уже позабыл. Быть может, старой жизни?
Да, так и есть: я испытываю острую потребность в том, что давным-давно утратил. Потребность в нормальной, размеренной жизни без той адской, мучительной боли, что живет внутри меня и разъедает.
Колеса пикапа прокручиваются на льду, дворники шаркают по лобовому стеклу, я выруливаю с парковки обратно на дорогу. В зеркале заднего вида отражается лицо кассирши, наблюдающей за мной сквозь стеклянную стену минимаркета; неоновый свет окрашивает его в неестественный голубоватый оттенок. А в моей голове мелькает вопрос: не это ли лицо видела и Мэгги Сент-Джеймс, отъезжая от заправки пять лет назад? Может такая же дрожь пробегала по ее спине?
Мэгги понимала, что скоро исчезнет?
Передние фары пикапа прорезают темноту лишь на несколько ярдов вперед, освещая обледеневшее дорожное полотно, похожее на чернеющую под безлунным небом реку, и отбрасывая желтоватые блики на согбенные под снегом деревья.
Примерно час я еду по той же дороге, по которой следовала Мэгги, мимо хаотично рассеянных ветхих домишек. И за это время мне попалась всего одна машина, промчавшаяся в обратном направлении. Наконец за высокими, стоящими, как часовые, соснами и снежными валами на обочине проглядывает красный амбар. Вернее, то, что от него осталось.
Кассирша с заправки была права – его левая стена полностью обвалилась, и куча сломанных досок, щепок и старых гвоздей теперь погребена под снегом. Но металлический флюгер все еще венчает острие крыши, а подвижные части постройки удерживаются на месте, скованные морозом или ржавчиной. Именно этот амбар я видел на сделанной полицейскими фотографии, которую мне показали родители Мэгги. Но на переднем плане того снимка был запечатлен и светло-зеленый четырехдверный «Вольво» новейшей модели – автомобиль их дочери. Она припарковалась на бровке дороги, покинула салон с водительского сиденья, забрала с собой сумочку и мобильник, а затем… исчезла.
Притормозив, я съезжаю на обочину и останавливаюсь на том же самом месте, что и Мэгги. Она была здесь в середине лета, когда на деревьях зеленела здоровая и свежая листва, над головой бодряще и ослепительно сияло солнце, которое, должно быть, хорошо прогрело автомобиль. Наверное, Мэгги опустила стекла и вдохнула сладкий запах полевых цветов и кустиков толокнянки, выстилавших кювет. Возможно, она – еще сидя в машине – на мгновение прикрыла глаза, взвешивая свои возможности и варианты. И, быть может, даже прокрутила в памяти все то, что привело ее в это место: обрывки прошлого, фрагментарные события из жизни, которые воскрешаются в памяти и завладевают твоим вниманием лишь в такие – поворотные – моменты.
Мэгги придумывала в голове историю под стать тем сказкам, что уже написала. Только теперь это была ее собственная история, с еще не сочиненной концовкой. Или с уже предугаданной?
Перед моими глазами – горная дорога, резко заворачивающая влево, и одинокий домик. Единственный на несколько милей в округе, он стоит, спрятавшись за соснами; и лампочка на крыльце высвечивает серую входную дверь. Здесь живут мистер и миссис Александеры. В этом приземистом одноэтажном домишке они провели сорок три года – большую часть своей жизни – и были в нем, когда полицейские обнаружили автомобиль Мэгги. Дознаватели потратили много времени на допросы Александеров. Судя по полицейскому отчету, мистер Александер явно попал под подозрение следователей, которые даже перекопали весь задний двор в поисках улик: бедренной кости, сережки, любых доказательств того, что Мэгги нашла свою погибель именно здесь. По одной из версий полиции, машина Мэгги сломалась (хотя завелась она сразу, как только подъехал тягач для буксировки); в надежде на приют и помощь молодая женщина постучалась в дом Александеров. Но вместо этого мистер Александер затащил ее в свой гараж, запятнанный каплями крови. Правда, впоследствии выяснилось, что это кровь грызунов: мистер Александер обрывал страдания мышей, угодивших в мышеловку, увесистым молотком. Однако мнение полицейских не изменилось; для них он остался главным – и единственным – подозреваемым.
В деле Сент-Джеймс не было множества зацепок, и местные следаки, истоптавшие этот участок дороги вдоль и поперек, никуда не продвинулись. Такие дела зачастую не раскрываются, повисают «глухарями». Чем больше времени проходит, тем меньше шансов их раскрыть. Без тела, без следов крови или признаков борьбы… Быть может, Мэгги Сент-Джеймс просто решила исчезнуть, как предположила кассирша с заправки. И преступления в этом действительно нет…
Сунув руку в рюкзак на пассажирском сиденье, я достаю крошечный серебряный амулет. В ушах усиливается звон. Амулет выполнен в виде миниатюрной книги с узким корешком и тонкими металлическими страницами; по размеру он не больше ногтя на моем мизинце. Эту вещицу мне отдали родители Мэгги, объяснив, что дочь носила ее на цепочке, которую никогда не снимала. На цепочке было пять амулетов-подвесок – пять крошечных серебряных книжечек (по числу книг цикла «Лисий Хвост»). И на каждой подвеске был выгравирован номер. На той, что лежит в моей ладони, значится цифра 3.
Этот амулет – единственный намек на возможную борьбу – полицейские нашли в нескольких футах от багажника «Вольво». Кто-то мог силой вытаскивать девушку из машины, а она сопротивлялась как могла – брыкалась, лягалась, царапалась. И во время драки подвеска слетела с цепочки и упала на гравий дорожной обочины. Но никаких улик в подтверждение этой версии найдено не было. Ни волос, ни сломанных ногтей, ни волокон ткани. Ничего…
Амулет очень легкий, почти невесомый. Закрыв глаза, я сжимаю подвеску в руке, ощущаю ее острые уголки и представляю, как она, стиснутая четырьмя другими схожими амулетами, свешивалась с серебряной цепочки Мэгги – в ауре тепла, исходившего от ее груди. Воздух вокруг меня начинает вибрировать: уши закладывает, горло сдавливает. Еще миг – и я сижу в зеленом «Вольво» Мэгги, в точности так, как сидела она, и ленивый летний ветерок просачивается в открытое окно внутрь салона.
Приемник включен; по радио транслируют старую кантри-песню в исполнении Уэйлона Дженнингса: «Она славная, добрая женщина. Полюбила мужчину, охочего до развлечений. И продолжает его любить, хотя и пребывает в недоумении – по причине его поведения». Музыка разносится из трескучих динамиков, вырывается из салона наружу в открытые окна; и с ней вместе из глубинных недр моего сознания на поверхность всплывает воспоминание. Только принадлежит оно не мне и походит на слайд-шоу из искаженных, деформированных образов-изображений со старой кинопленки, воспроизводимой барахлящим проектором.
Открыв дверь пикапа, я ступаю на снег. И хотя меня окутывает холод, я ощущаю кожей теплое послеполуденное солнце, а под ботинками – жар, поднимающийся от раскаленного асфальта. Я чувствую то же, что и Мэгги. Прошло пять лет с тех пор, как она здесь была, но воспоминания оживляются и воссоздаются в моем мозгу так, словно в тот тихий день я стоял рядом с ней.
Мы все – мертвые или живые – оставляем после себя следы: визуальные, тактильные, вибрационные. Где бы человек ни находился, за ним повсюду тянется не только энергетическая аура, но и его материальные эманации, трасосфера – помеченное пространство, которое сохраняет память о нем даже после смерти. Если знать, как различить эти знаки, можно проследить весь путь человека.
Но, как и все прочие вещи, эти остаточные следы блекнут со временем, становятся менее ясными, менее четкими, менее ощущаемыми и в конечном итоге исчезают, замещенные следами других людей, прошедших тем же путем и пометивших его своими эманациями. Я способен видеть послеобраз человека и воспоминания, хранимые о нем предметами.
Хрустнув костяшками заиндевевших на холоде пальцев, я сжимаю кулак. Стараюсь воскресить в маленьком амулете память о Мэгги, которая привела меня сюда. Пыль и яркое полуденное солнце заставляют прикрыть глаза. Воспоминания сотрясают все мое тело; я прохожу несколько шагов вперед – до того места, где Мэгги остановилась. На растущей поблизости сосне щебечет птица, перелетая с ветки на ветку и назад, к своему гнезду. Но когда я открываю глаза, птицы нет. Дерево все облеплено снегом. И никаких гнезд. Никаких высиживающих яйца соек и зябликов. Они все улетели зимовать на юг.
Я перевожу взгляд с сосны на дорогу – мой пикап припаркован в снегу у самой обочины. Других автомобилей нет. И грузовиков, вывозящих бревна из леса, – тоже. Но летом здесь наверняка царило большее оживление. Какая-нибудь семья направлялась на уик-энд в горы – в турпоход по берегам одного из отдаленных озер; местные жители ехали в поселок, чтобы заправиться бензином и затовариться пивом.
И тем не менее никто из тех людей не видел женщины, вылезающей из своего автомобиля. Или они ее видели, да только не говорят. Молчание может хранить сотни нерассказанных историй.
Лампочка на крыльце Александеров мигает, расцвечивая блестками снег на перилах и старых ступенях. А сам дом будто бы намеренно врос в землю, изо всех сил пытаясь не разрушиться до основания. Я слышу дыхание Мэгги, биение ее сердца – она не испытывала ни страха, ни паники. Ее машина не сломалась вопреки версии, изложенной в полицейском отчете.
Остановившись в стороне от дорожного полотна, Мэгги вытянула руки над головой – похоже, только для того, чтобы снять напряжение в ногах и убрать скованность в суставах после длительной езды. Прищурив от солнца глаза и сделав глубокий долгий вдох, она запрокинула лицо к небу.
Мэгги хотела здесь оказаться! Она приехала сюда намеренно. Но к дому Александеров девушка не пошла. Возможно, она бросила на него мимолетный взгляд, как и я сейчас, а потом переключила все внимание на амбар, стараясь лучше его рассмотреть. Впрочем, амбар тоже не был ее целью, а только шагом к ней. Мэгги была на верном пути; она подступала к цели своего путешествия все ближе и ближе.
Я повторяю ее путь; хранимая амулетом память о Мэгги увлекает меня обратно к ее машине. Подойдя снова к «Вольво», молодая женщина открыла багажник и под скрип металлических петель наклонилась, чтобы заглянуть внутрь. А потом вытащила из багажника рюкзак и запихнула в него две бутылки воды, толстовку с капюшоном и новую пару носков. В ее переднем кармане остались пачка клубничной жвачки, которую Мэгги купила в минимаркете, и мобильник. При каждом резком движении пять подвесок-амулетов на серебряной цепочке, обвивавшей ее шею, тихо позвякивали.
Перекинув рюкзак за спину, Мэгги заперла автомобиль и забрала с собой ключи. Она планировала возвратиться, а не убегала отсюда прочь и навсегда. Мэгги думала, что вернется к машине.
Вот трасосфера Мэгги отклоняется от «Вольво» в сторону на несколько шагов. Она идет по обочине, и, когда проводит рукой по волосам, подвеска за что-то цепляется. Возможно, лямки рюкзака задели серебряную цепочку; а может, Мэгги просто прикоснулась к ней пальцами. Как бы там ни было, но амулет срывается с цепочки и падает на гравий у ее ног. Мэгги не замечает и не слышит его падения, она продолжает идти дальше.
Вовсе не борьба с напавшим стала причиной потери подвески: она просто слетела с цепочки. Я вижу, как послеобраз Мэгги движется по насыпи к амбару; ее поступь легкая и уверенная. Запасов у Мэгги было всего на один день. Ни спального мешка, ни палатки, ни продуктов, которые можно было бы приготовить в походных условиях, она с собой не взяла. Мэгги не собиралась исчезать. Либо рассчитывала найти и кров, и еду там, куда направлялась. Она ожидала от своего похода чего-то другого, но никак не того, что с ней случилось.
* * *
Чуть больше месяца назад я сидел в своем пикапе на стоянке для грузовиков у северной границы Монтаны. Я планировал попасть в Канаду и посмотреть, как далеко на север удастся проехать, прежде чем дороги закончатся и не останется ничего, кроме вечной мерзлоты и моря вечнозеленой растительности. В мои планы вмешался звонок мобильника. Надоедливый, досадный щебет. Чирик-чирик-чирик…
Я редко отвечал тогда на звонки, да и телефон звонил нечасто. Уровень заряда батареи все время оставался низким: я подзаряжал ее ровно настолько, чтобы телефон не разрядился. На всякий пожарный. Вдруг у меня спустит колесо или захочется кому-то позвонить (хотя такого желания у меня не возникало никогда).
Недолго думая, я все-таки взял телефон с приборной панели. Прочитал имя, высветившееся на экране: Бен Такаяма, мой сосед по комнате в общежитии колледжа. С этим парнем мы однажды распили бутылку марочного бурбона, а потом всю ночь рулили поочередно к «Рено» только для того, чтобы под утро заснуть в кузове его дряхлого пикапа, пропотеть под полуденным солнцем алкогольными парами, сочившимися изо всех наших пор, а ближе к вечеру проблеваться в кустах рядом с вожделенным казино, утопавшим в неоновом свете. Никто и глазом не повел в нашу сторону, даже охранники. Мы с Беном пережили немало глупых, безбашенных приключений. И большинство авантюр, в которые мы с ним пускались, заканчивались плохо: украденными бумажниками, утопленным в писсуарах (лицом вниз) чувством собственного достоинства, синяками, ссадинами и колото-резаными ранами на теле. Бен был одним из немногих людей, кого я продолжал называть и считать своим другом. И, пожалуй, единственным человеком, на чей звонок я готов был ответить в тот самый момент. Момент осознанной тоски по домашней еде и чему-то знакомому, привычному, хотя бы звонку Бена.
– Тревис? – произнес он, едва я нажал на «Ответить».
Но я только замер. Недвижно и безмолвно. Как долго я не разговаривал ни с кем из прошлой жизни? Сколько дней и недель провел в дороге, колеся по штатам, пересекая их границы, держа курс сначала на восток, а затем на север? Два месяца? Три?
Я прокашлялся:
– Привет.
– Давненько ты ни с кем не выходил на связь. – Голос Бена прозвучал странно, обеспокоенно, необычно для него.
Мне не понравилось возникшее следом за ним ощущение, словно Бен пытался заглянуть под покров, за которым я прятался. А потом он выдохнул, как будто понял, что я в его сочувствии не нуждался. Да, я ностальгировал по прошлому, каким оно было до того, как все полетело к чертям. По дешевому пиву и пятничным вечеринкам в нашей общежитской комнате, неудачным романам и болезненным расставаниям, по прогулянным занятиям и несданным экзаменам. Я скучал по тем дням так же, как скучают по своей студенческой поре многие люди. Это во время учебы ты не сознаешь, что проживаешь годы, о которых потом будешь всем рассказывать взахлеб. Годы, когда ты порой бывал на такой мели, что вынужден был воровать рулон туалетной бумаги в уборной дешевого кабака в двух кварталах от кампуса, где в «счастливый час», раз в неделю, можно было поживиться пивом и куском пирога всего за четыре бакса. Ты скучаешь по тем годам, но вернуться в прошлое не желал бы.
А еще в те годы я стишком много пил, потому что алкоголь притуплял способности, которыми я обладал благодаря необычному дару. Пьяный или страдающий с жуткого похмелья, я мог прикасаться к предметам и ничего не испытывать. Никаких вспышек воспоминаний или захлестывающих разум образов прошлого. Когда мое сознание затуманивал алкоголь, я практически ничего не ощущал, поэтому я пил. И так — заливая свой дар вином – я продержался все годы учебы в колледже. Я и сейчас иногда выпиваю, чтобы избегать видений, которые мне не хочется наблюдать, и не будоражить память воспоминаниями, воскрешать которые совсем не хочется..
– Я тащусь от того, что ты решил уподобиться Джеку Керуаку и наплевать на социальные устои и нормы, пожить в дороге дикарем-бродягой, – снова заговорил Бен. – Но тебе все же следует проявляться время от времени.
Я скосил взгляд на недоеденный картофель фри; масло уже просочилось сквозь тонкое донце картонного подноса на приборную панель. Я был голоден, но не смог осилить всю порцию из-за снова возникшей тошноты.
– Признавайся, где ты. Может, я воспользуюсь длинным уик-эндом и присоединюсь к тебе, – выдал Бен искренне, с такой дрожью в голосе, словно жаждал вырваться из тисков нормальности своей идеальной, стерильной жизни, сбежать подальше от двоих детей, корги по кличке Скотч и жены, которая прилежно пекла по четвергам сладкие печенюшки в форме разных цветочков и сердечек.
«Каждый треклятый четверг!» – воскликнул как-то Бен. Как будто и любил, и ненавидел это одновременно. Он тоже ностальгировал – по грязным гостиничным номерам и дерьмовой еде в придорожных забегаловках, по пропахшим табачным чадом барам и прокуренным телкам, которые почему-то всегда именовались одинаково и думали, что ты лучше, чем есть на самом деле. Бен хотел того, что имелось с лихвой у меня.
Только в обычной – нормальной – жизни Бена было то, что отсутствовало в моей. Дом. Кров. Прибежище. Место, куда он мог прийти после долгого, нелегкого дня и ощутить себя в тепле, уюте и безопасности. Защищенным от всего, что таилось, подстерегало и угрожало ему за входной дверью. А у меня, в отличие от Бена, был только старый пикап, который хрипел и задыхался всякий раз, когда я пытался его завести, да лишь на четверть заправленный бак. Такие вот дела…
Увы, не заслужил я безопасной и «нормальной» жизни. Такие вещи даруются хорошим, адекватным людям. А я не был ни хорошим, ни адекватным. Я стал воплощением деструктивности – разрушения, направленного на самого себя, – и упустил те моменты и шансы, когда еще мог что-либо изменить и исправить.
– Тебе не захочется сюда приезжать, – ответил я Бену. – Поверь мне. Керуак бы не сидел на парковке в пикапе, не давился бы вчерашним фри и не размышлял над тем, как далеко удастся углубиться в Канаду прежде, чем иссякнут последние бабки, – мой голос прозвучал угрюмо и безрадостно, и эта безысходность мне не понравилась.
– Ты прав, приятель, – хмыкнул Бен. – Керуак свой обед пропил бы. Быть может, в этом твоя проблема.
– Возможно, – улыбнулся я.
В телефоне повисло молчание; я даже расслышал дыхание Бена. А ведь он мне позвонил не просто так. Не для того чтобы проведать и убедиться, что я не помер. Он позвонил еще с какой-то целью!
– У меня тут появилось кое-что. Тебя могло бы это заинтересовать.
Сглотнув, я перевел глаза на закусочную для водил недалеко от парковки. Двое мужчин вошли в двойную дверь, и я успел разглядеть вытянутую барную стойку с металлическими табуретами по всей длине заведения и несколько кабинок под окнами с унылой зеленовато-оливковой обивкой. Большинство табуретов и столиков были заняты. Закусочная хорошо освещалась, призванная всю ночь потчевать водителей кофе, чтобы те не заснули за рулем, какой бы долгий путь ни ждал их впереди.
– О чем ты? – спросил я Бена.
– Да есть одно дельце.
– Я больше этим не занимаюсь.
– Знаю, – выдохнул в телефон Бен. – Но это может принести тебе пользу, позволит сконцентрироваться.
Ага! Бен вовсе не думал, будто я прельстился жизнью Керуака. Он пытался заманить меня в прежнюю жизнь. Бен уже стал детективом. Отработав восемь лет рядовым копом, он наконец дождался повышения. Но теперь проводит большую часть времени за рабочим столом и ненавидит этот вынужденный сидячий образ жизни всей своей неугомонной, деятельной натурой. «Это медленная смерть», – признался мне Бен однажды.
На протяжении нескольких лет он привлекал меня к расследованиям, направлял ко мне людей, потерявших надежду. И я уже понял, к чему клонился наш дальнейший разговор: Бен стал бы убеждать меня взяться за новое дело – об исчезновении еще одного человека. Похоже, он и вправду думал, что это могло меня воскресить.
– Не проси, – буркнул я.
Ведь именно от этих дел, от этой работы я пытался убежать. Снова сделав глубокий вдох, Бен звучно выдохнул. Похоже, подбирал слова, способные меня убедить.
– Ты окажешь мне большую услугу – добавил он, искусно играя на чувстве вины.
Разве закадычный приятель откажется помочь? Только конченый говнюк останется глухим к просьбе друга.
– О чем речь? – настороженно полюбопытствовал я.
– О друзьях моей семьи. Я знаю их всю жизнь. У них пропала дочь.
И сердце у меня в груди заколотилось. «Пропала дочь…» Сколько же раз за минувшие годы я слышал эту страшную фразу! И почему-то чаще всего пропадали именно чьи-то дочери. Меня подобные дела всегда бросали в дрожь. Так произошло и в тот раз. Жалость, скорбь и тошнотворный страх мгновенно накатили на меня, захлестнули, и я едва не задохнулся от волны воспоминаний, которые так силился забыть.
– Ты, возможно, слышал о ней, – продолжил Бен. – Ее зовут Мэгги Сент-Джеймс. Она писательница. Исчезла пять лет назад, полиция прекратила поиски. Родные Мэгги в отчаянии.
«Родные в отчаянии…» Еще одна типичная фраза. И находят меня чьи-то родные после того, как кто-то предлагает им обратиться к Тревису Рену – он сможет помочь. Я их последняя надежда.
– Пять лет – большой срок, – заметил я.
Хотя и знал, что это не так. Однажды я нашел подростка, которого похитили семнадцать лет назад, когда ему было всего полгода. Но я разыскал мальчика: он жил с семьей в Род-Айленде. Только не со своей кровной семьей, а с похитившими его людьми. Они так отчаянно хотели ребенка, что решились выкрасть его из коляски на парковке «Крогер», пока его мать загружала пакеты с продуктами и собачьим кормом на заднее сиденье своей серебристой «Хонды».
– Срок большой, но не для тебя, – возразил Бен.
Он был в курсе большинства моих дел. Но, скорее всего, он также понимал: я попросту искал оправдание, причину ответить отказом на то, о чем он собирался меня попросить.
– Сент-Джеймсы нуждаются в твоей помощи, – сказал Бен и поспешно добавил: – Сделай одолжение, пойди мне навстречу, Тревис. Я бы не стал тебя просить, если бы не знал этих людей. Они живут в том же районе, что и мои родители. Помнишь Эстер-Хайтс со старым кладбищем Роттинг-Хилл на восточной окраине?
В действительности кладбище называлось Рустер-Хилл – «Петушиный холм». Но мы с Беном не без оснований прозвали его «Роттинг-Хилл» – «Холм Могильного Тлена». На том кладбище была погребена моя сестра, слишком рано преданная земле, – с широко раскрытыми голубыми глазами под едва опущенными ресницами, словно она продолжала искать, высматривать меня ими. Словно все еще ждала…
Едва ли Бен помнил, что Рут похоронили именно там, но упомянутое им кладбище вызвало в моей памяти целый рой воспоминаний, отозвавшихся тупой болью в затылке, будто кто-то огрел меня обухом.
Не скажи Бен этих простых слов, не произнеси он «Роттинг-Хилл», я бы точно ему отказал. А теперь «нет» застряло комом в глотке. И я обреченно скользнул взглядом по небу, затянувшемуся вдруг мрачной, грязно-серой пеленой. А потом молча уставился на лобовое стекло, по которому забарабанили огромные капли дождя.
– Хотя бы навести ее родителей, – надавил Бен. – Узнай все подробности дела. Мне кажется, тебе захочется за него взяться.
Вздохнув в телефон, я перевел взгляд на парковку и темную шеренгу деревьев за ней. Отличное место, чтобы спрятать труп, скрыть то, что хотел бы забыть. Мне хорошо известны такие места. Я не раз находил в подобных лесополосах пропавших людей – наспех прикопанных, с сосновыми иголками в спутанных волосах, с влажными листьями, застлавшими глаза, с засохшей под ногтями кровью.
– Ладно, – пообещал я приятелю.
* * *
И вот я стою на обочине горной дороги, передо мной ветшающий красный амбар, и легкие ленивые снежинки, падающие с молочно-белого неба, придают окрестной местности обманчивое спокойствие, как в мизансцене из фильма нуар.
Сжимая в кулаке серебряную подвеску-книжечку, я пытаюсь выжать из нее воспоминания, как сок из перезрелого лимона. Закрыв машину, Мэгги Сент-Джеймс шагала по скользкому склону дороги к старому амбару. Ее короткие светлые волосы пахли свежесрезанными цветами, сиренью и ванилью. Она выглядела скорее уставшей, чем нездоровой, – как женщина, не приспособленная к длительным вылазкам на дикую природу. Мэгги явно были более привычны кофейни с круассанами без глютена да неспешно-праздные прогулки в городском парке, а никак не подобные походы.
В сети мелькали версии о том, что исчезновение писательницы было просто трюком, пиар-ходом перед выходом в свет ее последней книги из цикла «Лисий Хвост». Наблюдая за ее послеобразом, удаляющимся от машины, и попутно обозревая лежавшую перед ней местность, я невольно задаюсь вопросом: а что, если это действительно так? Что, если Мэгги удумала сымитировать то, что приключалось с ребятишками, которые, начитавшись ее книжек, сбегали из дома? Она сама пожелала пропасть?
Возможно, именно поэтому ее исчезновение никогда не воспринималось серьезно даже полицией… Но неужели она и правда скрывается без малого пять лет в ожидании идеального момента для возвращения? «Крибле-крабле-бумс!» – и Мэгги Сент-Джеймс, как по волшебству, выступает на сцену из ниоткуда, готовая представить публике свою шестую и последнюю книгу серии. Неужели все это срежиссировано ее хитроумным рекламным агентом? Или с ней все-таки что-то случилось?
Мэгги было двадцать шесть, когда она пропала. Сейчас ей уже тридцать два… если она, конечно, жива. Всего лишь еще одна исчезнувшая женщина… Слова формулируют и рассеивают мои мысли: всего лишь еще одна пропавшая женщина. Одна из многих. Как и та, что не дает мне ни сна, ни покоя, – с черными бесстрастными зрачками и застывшими веками, отказывающимися смыкаться.
Я делаю шаг вперед, к крутому оврагу кювета; скрип деревьев, прогибающихся под порывами ветра над ледяной поверхностью дороги, напоминает мне: я все еще стою у опушки зимнего леса. Воспоминания о Мэгги мерцают и блекнут, но проходит несколько секунд, и я снова вижу ее, точнее, ее послеобраз. Обойдя амбар, Мэгги углубляется в лес по едва заметной, узкой и изрытой колдобинами подъездной дороге. Такую дорогу легко не заметить, если не искать специально, если ничего о ней не знать. Но Мэгги Сент-Джеймс идет по ней уверенно, целенаправленно. Она знала, куда шла!
Я возвращаюсь к своему пикапу, залезаю в салон; тающий снег быстро окропляет каплями резиновый коврик под ногами. Фыркнув, стартер проворачивает коленчатый вал, мотор заводится, и я выруливаю с обочины на шоссе, а с него на заснеженную подъездную дорогу. Шлагбаум, блокировавший путь, когда здесь проезжала Мэгги, теперь приоткрыт и клюет носом, зарывшись в сугроб. Машина едва проскальзывает в брешь – зеркало с пассажирской стороны царапает по металлическому столбу, но тот, заиндевев, не отклоняется в сторону. Колеса вязнут в колее, скрытой под снегом, но пикап настырно движется вперед. Дорога огибает красный амбар, петляет среди деревьев и выводит меня на большую поляну, не заметную от шоссе. Передо мной дом, вернее, то, что от него осталось. Лишь печная труба тянется к тяжелому ночному небу – одинокая веха того, что находилось здесь прежде.
Припарковавшись, я вылезаю из пикапа и направляюсь по снегу к трубе, блестящей под светом передних фар. Прикладываю к кирпичу руку. Труба на ощупь холодная, но перед глазами мелькает вибрирующая картинка с качелями; маленькая девочка в резиновых серо-зеленых сапожках усердно вытягивает ноги при движении вперед и так же старательно поджимает их при возвращении качелей назад; она взлетает все выше и выше, а теплый летний ветерок игриво треплет ее волосы. Следом вспыхивает другое воспоминание – вопли и плач; какая-то женщина кричит и стонет в спальне на втором этаже, а по ее горящим красным щекам потоками струятся слезы. Эта женщина умерла при родах, оставив дочь без матери. Новые образы проносятся, как быстрое слайд-шоу. Десятки лет умещаются в пару секунд: мужчина, машущий кому-то с крыльца на прощание; его руки натружены и дрожат… Занавеска, развевающаяся на окне, в котором тихо плачущая девчушка пишет за обеденным столом письмо… Мальчик с золотисто-каштановыми волосами и глубоко посаженными глазами, прыгающий с крыши и ломающий при приземлении руку в локте; после этого он уже не мог ни написать свое имя, ни согнуть руку без жуткой боли…
Несколько семейств обитали в этом доме, несколько жизней протекли в его стенах. Тик-ток, тик-ток, тик-ток… А потом все закончилось, дома не стало… Я отдергиваю руку от кирпича. Не хочу терять фокус. К чему отслеживать все эти образы и узнавать подробности их жизней? Мне важен только один: образ Мэгги. Отвожу глаза от крошащейся трубы, вглядываюсь в деревья за домом. Мэгги тут не останавливалась; она не столкнулась – как героиня одной из ее историй – со злодеем, вынырнувшим из темноты и отнявшим у нее жизнь. И она не лежит – тихая и неподвижная – под обломками кирпичей и ошметками сажи, усеявшими почву вокруг трубы.
Мэгги пошла дальше. Она скользила между деревьями, углубляясь все больше и больше в лес. При иных обстоятельствах я бы в этот момент позвонил родным Мэгги (как делал обычно). Сообщил бы им о возможной зацепке. Мэгги не заходила к Александерам, как предполагала полиция. Она приехала сюда намеренно – к этому старому амбару, к этому сгоревшему дотла дому в горах Три-Риверса в Северной Калифорнии. Это во-первых. А во-вторых, она взяла с собой рюкзак и провиант, заперла свою машину и пошла с в лес. Мэгги знала, куда направлялась, – у нее был план.
В местную полицию я звоню редко; как правило, предоставляю это сделать нанявшим меня родственникам пропавшего человека – пусть сами убеждают копов, что им необходимо ко мне прислушаться, выехать посреди ночи из теплого дома или полицейского участка и последовать за мной в темный, почти непроглядный лес. Я лично звоню в полицию лишь в одном случае – если нахожу весомую улику. Не хочу оставлять отпечатков. И не желаю давать кому-то повод подозревать меня в том, что я нашел эту улику только потому, что сам когда-то «наследил». «Держи руки чистыми», – наказал мне несколько лет назад Бен. С той поры я следую его заповеди.
А сейчас я вообще никому не звоню – ни родителям Мэгги, ни полицейским. Потому что уже несколько часов мой мобильник не ловит сигнал – с того момента, как я съехал с автострады 86. И ни одной веской улики мне пока обнаружить не удалось. Ни брошенного в выгоревшем доме сапога 7-го размера (как у Мэгги). Ни клока волос, вырванного из ее бледно-белого черепа. Никаких материальных подтверждений того, что Мэгги здесь проходила! Я «считываю» только память места и предметов о ней – о молодой женщине, зашедшей в лес и не вышедшей из него. Но доказательств у меня пока нет.
Когда я взялся за это дело, то сказал себе: окажу услугу Бену. В очередной и последний раз! А еще я очень нуждался в деньгах. Отец Мэгги Сент-Джеймс выписал мне персональный чек на половину суммы авансом (это моя стандартная практика). Оставшуюся часть я получу только в том случае, если найду Мэгги, живую или мертвую. Но есть еще одна причина, по которой я согласился провести собственное расследование.
Моя сестра… Эта постоянная ноющая боль в области солнечного сплетения, черный гнойник в глубине брюшной полости… Найти Мэгги для меня равноценно спасению сестры, чего я сделать в свое время не успел. Возможно, это заполнит ту пустоту, что норовит поглотить меня изнутри, и я смогу наконец спать спокойно – не видя ее мертвенно-бледных рук, вывернутых ладонями к потолку, ее слегка приоткрытого рта… Как будто Рут пыталась сказать что-то в момент кончины, но ее время вышло прежде, чем она успела озвучить последнюю мысль. Найти Мэгги для меня – все равно что найти Рут. И тогда у меня все поправится, все непременно наладится.
А еще, принимаясь за это дело, я себе пообещал: если в этой глуши мне не удастся обнаружить ни следов живой Мэгги, ни ее останков, я позвоню Бену и попрошу его оповестить ее родителей, что я зашел в тупик. Да-да! Я поведу себя как малодушный трус. У меня не хватит мужества признаться в том, что потерпел неудачу. А потом я и сам пропаду для всех. Продолжу свой путь в Канаду, а оттуда на Аляску. Пропаду и, возможно, никогда не вернусь…
Снова сидя в пикапе, я вглядываюсь в ряды деревьев, пытаюсь сконцентрироваться только на Мэгги. Но мое внимание привлекает кое-что там… в темноте. Подавшись резко вперед, я почти ложусь на рулевое колесо. Передние фары освещают ствол высокой ели. В коре зияют три прямые прорези – три глубокие выемки. Возможно, их сделал какой-нибудь зверь, к примеру медведь, располосовавший когтями наружную оболочку кадмия. И все-таки… эти выемки выглядят до странности прямыми и чистыми. Как будто в твердую еловую плоть трижды вонзалось острое лезвие ножа. Метка, знак – предостережение.
Запах сирени снова заполняет мне ноздри. Вот где Мэгги вошла в лес. Спустя пять лет я мог найти ее живой и здоровой, живущей в этом гористом уголке штата. Или обнаружить ее тело, скрюченное у основания дерева: окоченевший труп заблудившейся женщины с застывшими открытыми глазами и коленками, торчащими из толстого слоя снега – ее единственного погребального покрова. Но я нахожу нечто худшее.
Снег уже сыплет огромными хлопьями, застилая лобовое стекло белым саваном. Я подруливаю на пикапе поближе к отметинам, вырезанным на дереве, и обнаруживаю еще одну дорогу – возможно, старую лесовозную просеку, сохранившуюся с той поры, когда на этом горном склоне заготовители леса валили деревья. И она убегает, петляя, вглубь леса. А я опять ощущаю зуд в позвоночнике. Неизвестность. Неуверенность. Потребность в искуплении. Я обязан довести до конца это дело. Я должен отыскать Мэгги Сент-Джеймс!
* * *
Мой дар можно считать наследственным заболеванием, передающимся в семье из поколения в поколение на протяжении всей истории нашего рода. О моих предках ходили разные истории и слухи. Тетя Миртл носила длинные, до плеч серьги из раковин морских ушек и имела привычку зажигать за обеденным столом спички, дабы спровадить из комнаты любопытных, назойливых призраков, которые так и норовили задержаться в ней подольше. А когда тетя Миртл дотрагивалась до предметов, ей являлись видения. Как до нее – дяде Флойду. И моей прапрабабке, иммигрировавшей из ирландского Дандолка. Мы были семейством исключительных, отличных от других людей.
Лет в девять-десять я осознал, что вижу тени-блики мертвых – бледные перемещающиеся формы, образы, следы тех, кого уже давным-давно предали земле. Эта вероятность увидеть призрачные изображения во всем, к чему я прикасался, порядком напугала меня. Но дед (всегда знавший, когда и что сказать), понаблюдав пару месяцев за моим тихим, отстраненным взглядом и тем, как озадаченно я замирал всякий раз, когда дотрагивался до разных вещей в доме, однажды утром погладил меня по голове, склоненной над миской с остывшей кукурузной кашей, и произнес: «У тебя, внучок, особый дар. Доля незавидная, ну да что уж там. Мой тебе совет: постарайся его заглушить. Так будет лучше. И не болтай о нем никому, не показывай. Иначе люди сочтут тебя ненормальным».
Так я и делал какое-то время, прилежно избегая браться за то, что принадлежало не мне. При малейшем искушении я спешил засунуть руки в карманы. Но иногда случались осечки, досадные моменты, когда мои пальцы непреднамеренно касались чужих вещей: заколки в форме единорога, слетевшей с медовых волос девочки, что сидела передо мной на уроке истории; очков для чтения, которые отец забыл на кухонном столе и попросил меня принести.
В такие мгновения мое тело сотрясала дрожь, и перед глазами проносились сцены из прошлого – только не моего, а чужого. Я видел, как та девочка, расчесав утром, перед школой, свои золотистые волосы, пыталась заколоть их единорогом, но вздрагивала при каждом громком раздраженном выкрике родителей, ссорившихся внизу. Я видел, как отец снимал очки и клал их на оливковую плитку столешницы, а какая-то женщина (не моя мать, другая – с округлыми бедрами и веснушчатым лицом), встав рядом с ним, прижималась губами к отцовскому рту.
Я видел то, чего не хотел видеть. Это был дар, которого я не желал, способность, о которой не просил.
Но вернуть назад этот дар я не мог. Лишь по прошествии лет я научился им управлять, использовать для поиска утерянных предметов и пропавших людей. Если я знал, что искать, если улавливал после-образы людей, которых требовалось найти, то мог определить город или угол улицы, на котором они в последний раз сели в автобус или машину с незнакомым водителем. Я мог увидеть их ссору с мужем или женой, нож, выхваченный кем-то из ящика кухонного стола, мог разглядеть, что они делали, пока еще были живы, пока не умерли.
В колледже Бен, возомнивший себя частным детективом, не раз давал мне шанс «подработать» – помочь ему в расследовании разных дел: поиске украденных домашних питомцев, уведенных любовников и любовниц и нескольких сворованных кредитных карт. Это была дерьмовая работенка – рулить по городу ночами напролет, копаться в чужом белье, делать размытые, нечеткие фотографии.
Но по окончании колледжа Бен свел меня с одним своим знакомым из полицейского управления Сиэтла, и там меня попросили о помощи в розыске пропавшего человека. Поначалу полицейские были не слишком словоохотливы со мной; они мне попросту не доверяли, и я не могу их за это винить. Мне было двадцать с небольшим. И внешне я вполне походил на типчика, способного на преступления, предупреждать и раскрывать которые входило в их обязанности. Но когда я нашел четырнадцатилетнего мальчонку, сбежавшего из дома неделей раньше и ночевавшего в палатке в лесопарке за школой, копы сами отдали мне несколько «висяков».
А через год мне уже отовсюду звонили рыдающие, снедаемые тревогой и отчаявшиеся родственники, прослышавшие о том, что я способен найти их исчезнувшую «кровиночку». Кем бы она ни была – братом, сгинувшим среди белого дня с парковки круглосуточного магазина; дочерью, улизнувшей из своей спальни на втором этаже и не потрудившейся закрыть окно, из-за чего косой дождь промочил ковролин цвета жженого сахара; или племянницей, отправившейся на пробежку по скалистому берегу Порт-Ладлоу и не вернувшейся домой, чьи кроссовки со шнурками были обнаружены днем позже в пенистой воде, прибитые к берегу приливом.
Я стал искателем пропавших людей. Но не всегда находил их живыми…
* * *
Старая лесовозная дорога, узкая и заросшая: по ней не ездили как минимум лет десять. Я направляю пикап через небольшой овраг – скорее всего, это русло пересохшего ручья, теперь погребенное под несколькими футами снега. Колеса рискуют утонуть в глубоком слое непролазной грязи.
Мэгги переходила ручей, перескакивая с камня на камень, и ноги ей оросили холодные брызги – я услышал память воды и слабое звучание детской песенки, которую она напевала (похоже, какой-то колыбельной, только я ее не узнал). Возможно, Мэгги, углубляясь в лес все дальше, хотела себя успокоить, почувствовать, что не так одинока.
Лучи передних фар скачут между деревьями. Снег продолжает сыпать с неба. Дворники со скрипом мечутся по лобовому стеклу, с трудом успевая его очищать, а печка обдает меня струей даже не тепловатого, а скорее прохладного воздуха. И через три часа я теряю послеобраз Мэгги. Он блекнет в снежном мареве среди хвойных деревьев, а потом исчезает совсем. Быть может, Мэгги вильнула с прежнего пути за какой-нибудь елью, а я пропустил это место. Возможно, обессилев, она упала на подстилку из сосновых иголок – решила отдохнуть и больше не проснулась. Или же повернула назад. Вернее всего, я просто устал и не могу сконцентрироваться, удерживать ее остаточный образ в сознании. Доехав до пересечения лесовозной просеки с еще одной маленькой проселочной дорогой, я останавливаю пикап. Мне необходимо подумать, решить, стоит ли на нее сворачивать. Или я окончательно потерял Мэгги, оказался в тупике.
Сжав в левой руке подвеску-книжечку, я пытаюсь «считать» память перекрестка. Если Мэгги дошла до него, ей тоже предстояло решить: по какой дороге двигаться дальше. Но, вглядываясь в заснеженное пространство, я не вижу никаких следов и признаков девушки – только темнота между деревьями и блекнущие в ней лучи фар.
Пожалуй, надо возвратиться. Вернуться на три часа назад – к старой печной трубе и полуразрушенному амбару. И повторить попытку утром, с восходом солнца. А, может, мне больше не стоит пытаться? Доехать до автострады 89 и мчать на север, пока мой пикап не пересечет канадскую границу. Я попытался найти Мэгги, разве не так? Я проделал большой путь, чтобы оказаться в этом чертовом лесу, но теперь след оборвался. Послеобраз Мэгги то ли стерся, то ли поблек со временем. Но в любом случае я не в силах установить, куда она делась, какую дорогу выбрала.
В шее снова пульсирует старая знакомая боль. В голову закрадывается сомнение: а не слишком ли поздно? Шансы найти Мэгги живой по прошествии пяти лет невелики. С большой вероятностью она уже мертва… Я включаю заднюю передачу; колеса немного пробуксовывают, но почти сразу восстанавливают сцепление с дорогой. Пикап неуверенно сдает назад, задний бампер задевает небольшое деревце, и, когда я поворачиваю руль, свет передних фар, сместившись, озаряет высокие сосны.
…Там что-то есть. Нога резко давит на педаль тормоза. Я всматриваюсь вперед сквозь падающий снег. В коре вырезаны три отметины. Точно такие же, как на стволе у сгоревшего дома. Еще одна веха. Указатель. Дорожная карта. Мэгги повернула здесь налево! Она ориентировалась по отметинам на деревьях: именно по ним она определяла, куда идти дальше!
Снова переключив передачу, я уверенно выруливаю на новую, более узкую дорогу. А потом раз пять торможу – перед очередной развилкой или просекой, пересекающей путь. Пытаюсь угадать, куда ехать. И каждый раз я обнаруживаю на каком-нибудь дереве три характерные метки. Мэгги не бесцельно бродила по темному лесу. Это была не простая прогулка ради прогулки. Она следовала по маршруту, проложенному кем-то другим.
Я рулю еще часа два – поднимаясь на гребни крутых холмов, пробираясь сквозь лабиринт низко свисающих ветвей. Внезапно впереди возникает преграда: поперек дороги лежит огромная упавшая сосна, раскинувшая в стороны поломанные лапы, как дикий подстреленный зверь. Но между деревьями слева маячит узкая просека. И я направляю свой пикап в эту брешь.
При попытке слегка разогнаться мотор жалобно ноет, машина подпрыгивает на большом камне или пне дерева, а через миг я слышу звук – визг движка, а за ним завывание шин, зарывающихся в снег. Всё! Доездился! Застрял…
Я вылезаю из салона; после нескольких попыток мне удается утрамбовать снег перед всеми колесами. Пробую выехать на медленном ходу из ловушки, но, услышав натужное верещание шин, прокручивающихся на одном месте, удрученно осознаю: пикап не может сдвинуться ни на дюйм; он словно врос в утрамбованный снег. Без лебедки или тягача мне не выбраться. Черт-черт-черт!
Я глушу мотор; фары темнеют. Проверяю мобильник, но сигнал и не думает появляться на экране. Не смогу позвонить ни Бену, ни в ту маленькую компанию по буксировке автомобилей, которую я видел в горном поселке. Слишком уж далеко я углубился в лесную глушь, помощи ждать неоткуда. Я подхватываю с пассажирского сиденья рюкзак с провиантом, фонарь и блокнот для путевых записей, который собирался по окончании поисков передать родителям Мэгги или полиции. Подтянув лямки рюкзака и опустив в карман ключи от машины и маленький серебряный амулет, ступаю на снег. Придется следовать за Мэгги пешком. И как ни странно, но уход от этого поганого, допотопного пикапа я почему-то воспринимаю как полный крах своей жизни. Дно…
Я достиг крайней черты. Мне больше нечего терять. Ветви деревьев нависают над головой, как скелеты мертвецов. Но снег закончился. Покров из туч, застилавший небо, разошелся по швам, и в один из них проглянул лунный серп. «Космический рогалик» – так называла его моя сестра, когда мы были маленькими. Рут делала вид, будто дотягивается рукой до неба и срывает «рогалик» своими грязными, липкими от леденцов пальцами, а потом – под стать настоящему миму – изображала, как откусывает от него большущий кусок, и закатывала глаза от чрезмерно наигранного наслаждения. Моя маленькая сестренка любила вызывать у меня смех.
Вот такие воспоминания о Рут мне по душе и согревают озябшее сердце, а не то, что запечатлелось в моей памяти позднее, когда я нашел ее скрюченной в углу убогой комнатушки мотеля в пригороде Дулута (города на востоке штата Миннесота), на берегу озера Верхнее.
* * *
Рут пропала за месяц до того, как я наконец-то решил заняться ее поисками. Целый месяц был мною потерян! Но Рут и раньше пропадала, выбирая себе никудышных бойфрендов и бесперспективную работенку официантки в грязных, прокуренных барах. Она звонила раз в несколько месяцев, заверяла меня, что у нее все хорошо, и снова девалась невесть куда. В нашу последнюю встречу Рут показалась мне необычно взвинченной. Я даже встревожился: не подсела ли она на что-нибудь похуже алкоголя? Непрекращавшееся пощелкивание в ушах подсказывало мне: на этот раз что-то реально не так. Сестра держалась и выглядела хуже обычного.
Я не знаю, когда именно жизнь Рут скатилась под откос. Она всегда была упрямой, толстокожей и тупоголовой. А после смерти наших родителей, ушедших друг за другом с разницей в пару месяцев, у нее окончательно сорвало резьбу. Сестре было всего двадцать, когда не стало родителей, но она быстро превратилась в девушку «не-доставай-меня-или-получишь-по-морде». Хотя это тоже нравилось мне в ней. Ее стойкость – жизнеспособность. Ее твердая позиция: «Я-в-состоянии-сама-о-себе-позаботиться». Увы, такое жизненное кредо мешало Рут просить меня о помощи, не позволяло ей признаться в том, что она нуждалась в своем старшем брате.
Я полторы недели следовал за ее послеобразом. По стопам сестры меня вела сколотая ракушка, которую я обнаружил в коробке с вещами, отданной мне Рут на хранение месяцем ранее. Роясь в той картонной коробке в поисках какого-нибудь подходящего предмета, я узнал ракушку, привезенную сестрой из нашей поездки в Пасифик-Сити (штат Орегон); мне тогда было двенадцать, а Рут – только семь. Но все эти годы она хранила ракушку, спрятав в коробке. Кусочек нашего детства. Надломанную, как она сама.
Я сжимал эту ракушку в руке, когда подошел к номеру в мотеле и распахнул настежь дверь, по какой-то причине оставленную приоткрытой. Было четыре часа утра. При виде Рут я замер как вкопанный на пороге, потому что узнал это отсутствующее выражение на ее лице, ссутулившиеся плечи, странные полузакрытые глаза. Мне уже доводилось видеть раньше такой взгляд. И сразу понял: сестра умерла.
Я пересек комнату, опустился рядом с ней на колени и сжал ее ладонь в своей руке, как сжимал в детстве, когда ей было всего семь лет. Когда мы оба были детьми и она, проснувшись от ночного кошмара, заползла ко мне в кровать. А еще я заплакал – рыдания сотрясли мою грудную клетку так, словно внутри разбился хрупкий, но емкий сосуд и его содержимое выплеснулось наружу. Это было леденящее, тяжелое осознание: я нашел Рут слишком поздно. Родители уже давно покоились в земле, и вот теперь не стало сестры. Я почти физически ощутил боль одиночества.
Полиция установила, что сестра умерла той самой ночью, за несколько часов до того, как я ее нашел. Портье сказала, что Рут взяла номер в мотеле накануне, около десяти вечера. Еще одна постоялица, чей подбородок перекашивался вправо, когда она говорила, а глаза были неспособны ни на чем сфокусироваться дольше, чем на несколько секунд, заявила, что из номера Рут никто не входил и не выходил. Это не было убийство. Смерть сестры была тем, на что и походила: самоубийством.
Пустой пузырек с сильнодействующими таблетками, валявшийся возле раковины, и токсикологическая экспертиза подтвердили предварительную версию – передоз. Точнее, оксикодон вкупе с мышечными релаксантами. Рут выпила не три-четыре таблетки, а два десятка. Достаточно для того, чтобы лишить себя шансов на выживание.
Следователь допускал несчастный случай. Возможно, Рут ненамеренно выпила столько таблеток. Она не собиралась кончать с жизнью. Но я-то знал, что это неправда, потому что увидел послеобраз сестры. Она стояла возле раковины в ванной со светло-коричневым линолеумом на полу и потрескавшимся зеркалом (предыдущий постоялец ударил по нему кулаком, и от эпицентра удара по его поверхности расползлась паутина трещин). Я увидел, как сестра поднесла к губам пузырек и проглотила все таблетки, даже не подумав их пересчитать. А затем склонилась над раковиной и запила их водой прямо из-под крана. Быстро и эффективно. В том затхлом номере дешевого мотеля не оказалось даже примитивного стакана для воды. Это засело в моей голове и до сих пор не дает мне покоя – бесчеловечность, негуманность того обстоятельства, что даже свой последний глоток Рут не смогла испить из нормального стакана.
Я знал, что она пребывала в депрессии в последние годы, но даже не подозревал, насколько все было плохо, насколько глубоко упала Рут в ту чертову яму – головой вперед, как Алиса в кроличью нору. Я должен был догадаться! Я должен был это понять – по уже наполовину отсутствующему выражению ее глаз! Но не догадался, не понял…
Рут даже не оставила записки. Лишь заглотнула таблетки и отключилась. Наверное, предполагала, что я ее найду. Возможно, сознавала, что я увижу ее остаточный образ и тут же пойму, что она сотворила. Без всякой записки – она была лишней. Рут знала, что ее брат увидит все сразу, как только приедет: это жуткое слайдшоу быстро сменяющихся сцен. И, быть может, именно поэтому она, выпив воды из-под крана, посмотрела в разбитое зеркало и… подмигнула. Рут подмигнула мне! Прощальный жест, последнее «Прощай!».
«Когда-нибудь увидимся, мой старший братец…»
Рут понимала, что я все увижу. Но не это меня ночью лишает сна, а те минуты, те часы, что разделили миг, когда я мог застать сестру живой, и то мгновение, когда я обнаружил ее мертвой.
Если бы я ехал быстрее, если бы не остановился в нескольких милях от Дулута, чтобы выпить в дерьмовом придорожном баре черный кофе… Если бы не съехал с трассы на обочину и не проспал до четырех утра на южной границе Дакоты… Я приехал бы в мотель вскоре после сестры и застал бы ее в номере, переключающей телеканалы и роющейся в дорожной сумке. Я нашел бы Рут прежде, чем она отыскала в ней пузырек с таблетками, зажатый между босоножками и нестираными футболками. Я схватил бы ее за руку и выволок из номера, а потом отвез в круглосуточный ресторанчик, мимо которого проехал по дороге. «Мировые блинчики» – гласила его вывеска. Мы бы съели по две порции хорошо промасленных, уложенных аппетитной горкой блинчиков с яблоками. Выпили бы несколько чашек жженого, немерено подслащенного кофе, и я бы показал Рут ракушку, приведшую меня к ней. Вспоминая тот день на пляже, мы бы оба заулыбались. И я бы предложил: «А давай туда вернемся? Махнем опять в Пасифик-Сити?» Рут помотала бы головой и обозвала меня сумасшедшим, но мы все равно бы туда поехали. Сели бы в мой пикап и мчались всю ночь напролет, пока на рассвете нового дня не увидели широкое сверкающее побережье Тихого океана. Мы встали бы с сестрой у самой воды – уставшие, но счастливые. Соленый ветер обдувал бы нам лица и трепал волосы. И Рут была бы жива.
Я должен был ее спасти. Я мог это сделать… Но вместо этого приехал слишком поздно и, стоя в дверях, наблюдал, как Рут, мою маленькую сестричку, облачили в черный трупный мешок и вынесли на утреннее солнце. Ну разве жизнь не дерьмо?
Вот почему я выпал из реальности. Вот почему прекратил отвечать на звонки. Вот почему стал ночевать в пикапе на парковках для грузового транспорта. А потом решил отправиться в Канаду – уехать от места гибели сестры как можно дальше, куда бы только довезла меня машина. Я целый год бежал от него, от этого страшного чувства вины. Оно – как зверь, как чудище, способное тебя убить, если ты это только позволишь.
И именно поэтому я сейчас заставляю себя идти вперед – по заснеженной дороге, с этим чудовищным бременем, придавливающим меня к земле и сковывающим движения пудовыми кандалами на ногах. Потому что для меня это дорога к спасению, потому что искупление где-то там – в темном, холодном лесу. Мне лишь надо его найти. Если я успею спасти эту женщину, если отвезу ее к родителям, верну ей прежнюю жизнь… Тогда, возможно, я заполню пустоту, что расщепила меня изнутри в тот самый миг, когда я замер на пороге номера в мотеле. Возможно…
* * *
Я не отошел далеко от пикапа: он все еще просматривался за моей спиной, когда я снова увидел мерцающий послеобраз. Мэгги Сент-Джеймс плетется впереди меня по дороге; ее уставшие ноги переступают медленно, рюкзак болтается на уровне талии, плечи ссутулились под тяжестью ноши.
Зайдя за поворот, Мэгги замирает; ее подбородок приподнимается. Я тоже останавливаюсь, стараюсь удержать память пространства о девушке, не упустить ее образ перед глазами. Мой взгляд затуманивается, в груди разливается холод. Мэгги что-то замечает впереди. А потом и я вижу это: деревянную изгородь между скал. Но в этой изгороди нет ни сломанных досок, ни провисших со временем прожилин. Она в отличном состоянии, и к одной из стоек косо прибита гвоздями табличка: ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ.
Совершенно неожиданно, у черта на куличках, углубившись далеко в лес за семь часов пешей ходьбы (скоро, похоже, начнет рассветать), я обнаруживаю в дикой глухомани признаки жизни. Там что-то есть. Вне всякого сомнения! Меня пробирает дрожь, сродни ощущению зудящего-покалывания-по-коже-перед-тем-как-тебе-спуститься-в-подвал. Я испытывал такое и прежде – множество раз. И это значит: я близок к цели.
Послеобраз Мэгги мерцает на дороге впереди меня, всего в нескольких шагах от изгороди. И впервые за все время она оглядывается через плечо: я вижу ее светло-голубые глаза и разрумянившиеся от холода щеки; на веснушчатом носу бликуют лучи солнца, пробивающиеся сквозь ветви деревьев. Мое сердце ударяется о ребра. Такое впечатление, будто Мэгги смотрит прямо на меня – застывшим, безучастным взглядом. А затем в ее глазах на долю секунды появляется неуверенность. Словно девушка что-то обдумывает. Задается вопросом: может, ей не следует так далеко заходить в дикий лес в одиночку? Я наблюдал и раньше подобный взгляд. Мгновение, когда человек чувствует, подозревает: что-то не так. В этот момент Мэгги могла развернуться и пойти назад. И тогда точно спаслась бы. Но она моргает, встряхивает головой, будто пытается избавиться от сомнения, вытряхнуть кольнувшее ей грудь дурное предчувствие, и тут же громко говорит себе: «Пути назад уже нет».
Взгляд Мэгги в этот миг холодный и твердый. Такой же, как у ее матери, с которой я повидался две недели назад, после того как пересек на пароме залив Пьюджет-Саунд и оказался на острове Уитби, в стороне от материкового берега штата Вашингтон.
* * *
Дом детства Мэгги пах отсыревшей шерстью, по крыше барабанил дождь, я сидел на слишком мягком диване и слушал, как мистер Сент-Джеймс излагал дело пропавшей дочери, цитируя полицейские отчеты, приводя факты, упомянутые репортерами в новостных выпусках, и описывая вещи, оставленные в ее автомобиле. Отец Мэгги показался мне очень приятным человеком с теплыми печальными глазами, а когда он опустил руку в карман и достал из него маленький амулет-книжечку, найденный полицейскими возле брошенной машины дочери, его голос сорвался.
Его жена, миссис Сент-Джеймс, наблюдала все это время за мной с откровенным сомнением. Я сразу понял: она не хотела привлекать меня к поискам, нанимать вместо настоящего частного детектива человека с экстраординарными способностями. С этой идеей выступил мистер Сент-Джеймс. Супруги не пришли к согласию. Но в конце нашей встречи мать Мэгги встала, пожала мне руку и вручила чек на половину гонорара и фотографию дочери – с такими же чеканными чертами лица и выразительным профилем, как у нее самой.
Покинув дом Сент-Джеймсов, я за десять минут доехал до паромной станции и припарковал автомобиль в хвосте недлинной очереди из машин, ожидавших следующего парома. До его подачи оставалось полчаса. Мне надо было как-то убить это время. Я вылез из машины, подошел к краю пристани и устремил взгляд на залив. Стоило немного напрячь зрение, и я смог разглядеть материковую сушу по ту сторону канала: над протянувшейся вдоль берега вереницей домов витал неприветливый серый туман.
В груди появилась знакомая ноющая боль, предчувствие попыталось меня убедить: не берись за это дело! Сойдешь с парома – и езжай сразу на север, вернись в темный мрак своих мыслей. На несколько секунд я позволил сомнениям завладеть разумом, как вдруг за спиной прозвучал женский голос, словно воззвавший ко мне из холодного моря:
– Мистер Рен!
Я обернулся. Она стояла в нескольких шагах от меня, одетая теперь в длинное серое шерстяное пальто, с клетчатым шарфом на шее, сочетавшим в своей гамме глубокий темно-зеленый цвет с оттенком берлинской лазури. Но смотрела на меня миссис Сент-Джеймс с таким же недовольным выражением лица, как и дома. И я невольно подумал: а знал ли муж, куда направилась его супруга, когда она выскочила из дома и последовала за мной? Или миссис Сент-Джеймс солгала ему, сказала, что поехала в магазин купить что-нибудь к ужину. Быть может, бутылку вина. Быстрая, легкая ложь…
Руки женщины оставались в карманах, плечи развернуты.
– Вас нанял мой муж, а не я, – произнесла она так резко и надрывно, словно ей пришлось для этого сильно поднатужиться.
Поначалу мне подумалось, что мать Мэгги догнала меня только для того, чтобы сказать, что они больше не нуждаются в моих услугах, и попросить вернуть чек.
– Я знаю, вам трудно поверить в мои способности, – сказал я, потому что понимал ее опасения. Большинство людей относились к моему дару сдержанно, даже скептически, пока я не находил их родного или любимого человека; и лишь когда я сообщал им об этом, их скепсис моментально замещали благодарные всхлипывания. – Но вам и не требуется в это верить. Я и без этого справлюсь. Я разыщу вашу дочь.
Миссис Сент-Джеймс покосилась на воду. Над нашими головами кружились чайки. Крикливые птицы выискивали на причалах рыбные отходы, оставшиеся после рыболовецких шхун.
– Возможно, Мэгги не желает, чтобы ее нашли, – выговорила миссис Сент-Джеймс, явно не желая встретиться со мной взглядом и упорно наблюдая за тем, как рассекали туман проходившие мимо суда.
Я нашел множество пропавших членов семей – жен, мужей, братьев. Тех, кто сел на автобус или в самолет либо просто шагнул из своей старой жизни в новую. Иногда люди исчезали и выстраивали себе лучшую, ничем не омраченную и не запятнанную жизнь – с новым банковским счетом, новой собакой, новыми рубашками из натурального хлопка и ежемесячным счетом за воду под вымышленным именем. Именно так не раз пыталась поступить моя сестра до того, как свела счеты с жизнью.
Короче, я знал, что такое случается.
– Вы не хотите, чтобы я нашел Мэгги? – спросил я миссис Сент-Джеймс.
Та лишь пожала плечами. Странный жест! Как будто она сомневалась в том, что думала.
– Некоторые вещи должны оставаться скрытыми.
Внезапно налетевший с залива ветер закружил над пристанью, подхватил шарф женщины и, сорвав с шеи, понес к воде. Она потянулась за ним, но подхватить не успела, а шарф, не желая намокнуть, зацепился за перемычку ограды. Я снял его с деревянной рейки и на пару секунд задержал в руке – меня тут же захлестнул ураганный поток скоротечных видений. Это были «сломанные», деформированные образы миссис Сент-Джеймс. Сцена из прошлого, когда она была гораздо моложе и носила под сердцем Мэгги. Она стояла на кухне, только не на той, что я увидел в ее доме получасом ранее.
– Вы жили в другом месте, когда вынашивали Мэгги, – громко сказал я.
Глаза миссис Сент-Джеймс широко распахнулись; сделав шаг вперед, она выхватила у меня шарф, снова обмотала им шею и скрестила на груди руки. Но ее взгляд изменился: теперь она смотрела на меня не то чтобы настороженно – скорее с интересом.
– Вы знаете, где Мэгги? – спросил я без обиняков.
Миссис Сент-Джеймс покачала головой, но опять отвела глаза на залив. Словно приехала на пристань, чтобы что-то сказать, но забыла, как выразить это «что-то» словами. Она выстроила внутри себя стену, крепость из твердых скул и жестких взглядов. Лишь бы огородиться от тягостной скорби, изводившей ее на протяжении последних пяти лет. Это было типично, черт побери! После кончины Рут я повел себя точно так же…
– Если вам известно, где Мэгги, – надавил я, – вы могли бы избавить своего мужа от мучительных страданий.
– Я никогда не была близка с дочерью. – В голосе моей собеседницы засквозила неуверенность; он перестал быть ровным и текучим, как туман, сделался вдруг хрупким и надтреснутым, как будто мог в любой миг оборваться под слишком тяжелым, невыносимым бременем. – Мы не враждовали. Просто мы с ней не похожи. Два абсолютно разных человека. Я не хочу притворяться, будто была ей хорошей матерью. Но Мэгги пропала, и теперь…
Я попробовал установить причину того, что пыталась донести до меня миссис Сент-Джеймс. Тщетно… Эх, мне бы еще раз прикоснуться к ее шарфу, сжать его в своем кулаке! Тогда я смог бы уловить проблеск правды, украдкой увидеть ее истинное прошлое.
– Если вы уверены, что вашей дочери ничто не угрожает, если вы знаете, что Мэгги не желает быть найденной, тогда я не стану ее искать.
Миссис Сент-Джеймс моргнула – очень быстро, даже нервно. И расцепила скрещенные руки.
– Я больше не уверена, – призналась она, и это были ее первые искренние слова, не преследующие цель отвлечь внимание или ввести в заблуждение.
Я подошел к матери Мэгги вплотную; ее глаза наконец встретились с моими.
– Если вы допускаете, что после стольких лет Мэгги могла оказаться в беде, тогда скажите мне, где ее искать. По крайней мере, я удостоверюсь, что она в безопасности. И если это так, не стану возвращать ее назад, а оставлю там, где найду.
Ресницы миссис Сент-Джеймс завибрировали, глаза забегали, как будто дрожь, поднявшись по ее спине вверх, окончательно поколебала ее прежнюю позицию и заставила вымолвить второе признание. Одно-единственное слово:
– Пастораль.
Едва оно слетело с ее губ, миссис Сент-Джеймс засунула руки в карманы пальто, приподняла плечи, словно это могло ее уберечь от влажного ветра, повернулась ко мне спиной и быстро зашагала к серебристому седану, припаркованному у тротуара. А потом нырнула в него и – ни разу не оглянувшись – уехала.
Сев в свой автомобиль уже на пароме, я вытащил из полиэтиленового пакета серебряную подвеску-книжечку и сжал ее в ладони. Закрыл глаза и ощутил мерное, размашистое покачивание парома, устремившегося через залив к противоположному берегу. В голове опять заискрились вспышки «битых» картинок: Мэгги вела машину, за окнами шумели высокие ели и сосны, а из динамиков в салоне громыхала ритмичная музыка; Мэгги громко пела. Но потом образы распались, превратились в хаотичную мозаику – я находился слишком далеко от Мэгги.
Мне нужно было подобраться к ней ближе – оказаться на том месте, где полиция обнаружила ее брошенный «Вольво». Опустив серебряный амулет-книжечку в полиэтиленовый пакет, я достал мобильник, забил в браузер слово «Пастораль», и на экране высветилось множество разрозненных ссылок: пиццерия «Пастораль» в Бостоне, винокурня «Пастораль» в Южной Италии, пасторальные поздравительные открытки. На страничке Википедии я прочел: «… идиллическое изображение блаженной жизни пастухов и пастушек, перегоняющих стада с места на место в зависимости от времени года. Дало название жанру литературы, музыки и живописи, поэтизирующему простую и умиротворенную сельскую жизнь на лоне безмятежной природы в противопоставление суете развращенной городской цивилизации». Сузив поиски до ссылок на Национальный лес Кламат, в котором была найдена машина Мэгги, я просмотрел массу блогерских сайтов и страниц, но никаких подсказок не нашел. И еще долго бы копался в бездонной сети, если бы не наткнулся на одном генеалогическом сайте на кое-что интересное. Мое внимание привлекала родословная некоего Генри Уотсона и его жены, Лили Мэй Уотсон. Чета Уотсонов пропала в 1972 году, но к крайне скудной информации о супругах прилагалась статья, опубликованная 5 сентября 1973 года в еженедельной местной газете «Сейдж Ривер Ревью».
Статья была старой, частично отсканированной, а ее заголовок заляпан пятнами и слегка смещен, как если бы газетную страницу складывали несколько раз. Название статьи гласило: «Коммуна покупает землю в горах Три-Риверс».
Неподалеку от того места, где нашли пустой автомобиль Мэгги, находился маленький городок со своей местной газетой, которая – как я выяснил после быстрого поиска – уже не издавалась. Но в свое время в той газете была напечатана статья о коммуне под названием «Пастораль». Члены этой общины приобрели участок никем не востребованной земли в окрестных горах.
В статье говорилось, что еще раньше, в 1902 году, в этой лесной глуши появилась группа иммигрантов из Германии. Бывшие старателями, исследовавшими русла рек и их притоков, они продвигались по Калифорнии на север. Когда поползли слухи о прокладке через лес железной дороги, они основали в горах поселение – в надежде на то, что железная дорога пройдет прямо через их землю. Но уже через несколько лет, когда стало ясно, что дорога не будет построена, они покинули свое поселение, бросив и дома, и пастбища, и несколько скотных дворов с амбарами. Минули десятилетия, и большинство местных жителей забыли даже о его существовании.
И лишь в 1972 году группа битников, хиппи и других «нежелательных элементов» (как посетовала репортерша) прикатила на старом школьном автобусе в эту далекую от цивилизации глухомань и выкупила «забытую землю».
Новопоселенцы окрестили ее Пасторалью; себя же они называли частью движения, ищущего цель и «новый-а-на-самом-деле-старый-только-хорошо-забытый» образ жизни – процитировала их журналистка. Один из местных жителей, некто Берт Аллингтон, назвал в интервью Пастораль сектой порока, местом дикой, необузданной развращенности. Но надо отдать должное журналистке: она также отметила, что эти люди бежали от социальных норм и устоев общества в такую глушь, чтобы жить с земли и основать коммуну, построенную на принципах сельской общинности и равномерного распределения нагрузки на всех ее членов. В конце статьи журналистка обратилась к читателям: «Легко бояться того, что нам неведомо; но, возможно, эти новопоселенцы хотят того же, чего и все мы, – места, которое они могли бы называть своим домом».
Я прочитал статью дважды. Затем поискал в той же газете другие статьи о Пасторали, но больше ничего не нашел. Ни одного упоминания о той коммуне. Либо она с годами распалась и ее члены, рассеявшись по разным уголкам страны, вернулись к прежней жизни, либо случилось что-то еще.
Похоже, Мэгги, оставляя свой автомобиль на обочине, верила, что отыщет Пастораль, и похоже, она думала, что близка к цели. Возможно, она ошибалась. А может, и нет…
* * *
Деревянная изгородь тянется вдоль левой стороны дороги – прямая и низкая. У каждой стойки наметены сугробы. Я окидываю взглядом деревья, весь обозримый участок дороги, но не вижу никаких признаков обитания: ни дома, ни почтового ящика, ни огней хотя бы в отдалении.
Послеобраз Мэгги теряет плотность, блекнет, словно растворяется в снежной белизне. Но я продолжаю идти по дороге, поднимающейся на небольшой холм. Лес постепенно редеет, теперь по обе стороны изгороди простирается открытое пространство. Поле, в более теплые месяцы года – пастбище, где щиплют высокую луговую траву лошади, коровы или овцы.
Я ускоряю шаг, хотя дается мне это уже нелегко: от холода суставы сделались малоподвижными. И моя «фокусировка» слегка сбивается. Но я чувствую, что нахожусь уже совсем близко от Мэгги. Об этом мне сигнализируют занывшие зубы и стреляющая пульсация в барабанных перепонках.
Покачиваясь, я ставлю правую ногу перед левой, левую перед правой, поочередно, взбираюсь по склону наверх. И там, сквозь снежную пелену, блокирующую путь, различаю кое-что впереди. Ворота! А еще – надворное строение справа от дороги, с одним оконцем на переднем фасаде. Небольшое, но достаточно вместительное, чтобы внутри мог сидеть сторож или охранник, наблюдающий за дорогой. Этакий контрольно-пропускной пункт.
Я делаю несколько осторожных шагов в его сторону; сердце в груди бешено колотится, ударяя по ребрам под стать кулаку. Меня сюда никто не приглашал. Я здесь незваный гость. А незваный гость, как известно, хуже… Впрочем, шансы на то, что эта лачуга – в такой глуши – окажется посреди ночи пустой, остаются. Похоже, она сохранилась от лагеря лесорубов, на границе бывшей лесосеки. И совершенно очевидно, что никакие машины здесь не проезжали очень давно – снег не дороге не утрамбован. Да и туристы вряд ли забираются так далеко в горы. Так что оставлять в этой лачуге человека, чтобы вести за дорогой наблюдение, надобности нет.
Но когда меня отделяют от нее всего несколько ярдов, я замечаю внутри движение. Из маленького домика выходит высокий худощавый человек; прикрыв рукой глаза от лунного света, он явно старается разглядеть меня лучше. Судя по виду, он поражен и насторожен не меньше меня. А за спиной мужчины проглядывает прибитое гвоздями к воротам полено с вырезанными в нем косыми буквами. Порезка неглубокая, попорчена непогодой, буквы едва читаются, но я в состоянии их различить. Каждая – доказательство того, что я нашел ее: забытую на пятьдесят лет коммуну. Легенду, сокрытую в лесной глухомани.
На полене вырезано слово – приветствие для того, кто сдюжил добраться так далеко: ПАСТОРАЛЬ. Однако человек, стоящий передо мной, не выглядит обрадованным. Готов побиться об заклад… Он сильно напуган.
Лисы и музеи
Отрывок из книги первой цикла «Элоиза и Лисий Хвост»
Элоиза выползла из-под вышитого подсолнечниками одеяла, встала с деревянной кровати и на цыпочках прошла по полу. Лис явно испугался; острая мордочка пропала за стеклом. Но девочка высмотрела его. Стрелой промчавшись по двору мимо качелей, которые еще два лета назад установил ее папа, Лис устремился к кромке леса. У шеренги остроконечных деревьев он на мгновение замер и повел носом, словно поманил ее за собой. Пронзительные глаза Лиса сверкнули задорной хитринкой.
Элоиза покосилась на вишнево-красные резиновые сапожки, стоявшие у двери в спальню. Ей внезапно овладело сильное, почти неодолимое желание погнаться за Лисом. Но когда девочка вновь выглянула во двор, тот исчез. Как сквозь землю провалился. Или растворился в темноте…
Часть вторая
Фермерский дом
Тео
Мне нравится смотреть на ее голову, покоящуюся на подушке. Твердый белый овал с каскадом каштановых волос, низвергающимся по загорелым плечам. Когда она спит, я порой не узнаю ее. Она – незнакомка в постели рядом со мной. Дышит ровно и тихо, ее грудь расширяется, как птица, сдавленная клеткой. Она – редкая диковинка, существо вымирающего вида. Женщина, которой я не заслуживаю.
В открытое окно старого фермерского дома задувает летний ветерок; в отдалении виднеется ряд раскидистых старых дубов, вставших строем вдоль границы нашей общины – линии, которую мы никогда не пересекаем.
Калла пробуждается, на левой щеке появляется милая впадинка-ямочка; жемчужные глаза – кристально чистые в утреннем свете – навевают образы, связанные с океаном: искры света, мерцающие на перекатывающейся волнами поверхности воды. Я непроизвольно подгибаю пальцы на ногах, словно погружаю ступни во влажный песок. Увы, это ощущение я могу себе лишь представить…
– Ты опять не спал ночью? – спрашивает Калла, проводя рукой по моим волосам.
Она делает это с неторопливой нежностью жены, не способной услышать мысли, бренчащие в моей черепушке: идеи, которые я никогда бы не высказал вслух, картины мест за пределами Пасторали, которые я иногда себе воображаю.
– Я думал о зиме, о снеге, – отвечаю я.
Чуждая мне маленькая ложь. Но моей жене не нравится, когда я завожу разговор о внешнем мире. Такие разговоры раздражают Каллу, она сникает, брови сдвигаются к переносице, разделяя лоб надвое заломом морщинки. Так что проще солгать. Ложь порой дается гораздо легче, чем правда.
– До зимы еще несколько месяцев, – мягко подсказывает мне Калла.
Впереди масса времени, чтобы заготовить дрова и заполнить погреб запасами на грядущие холодные месяцы.
– Я знаю.
Выскользнув из постели, Калла направляется к шкафу; старые половицы постанывают даже под ее легчайшей поступью. Моя жена необыкновенно красива в свете начинающегося дня. Выглядит моложе своего истинного возраста. Натянув обрезанные джинсы с карманами, протертыми до дыр за время бесчисленных стирок, Калла надевает тонкую хлопчатобумажную футболку. Нам постоянно приходится латать и штопать свои вещи в попытках продлить срок их службы на новый сезон. Другой одежды кроме той, которой мы располагаем сейчас, у нас уже не будет никогда.
Калла выглядывает в окно на поля, простирающиеся за домом, на плодовые деревья, с которых предстоит снять урожай, на развешанное на веревке белье, которое надо собрать и занести в дом, – рутинные дела ждут нас обоих. Уперев руки в бока, жена разворачивается и снова пересекает комнату, возвращаясь к кровати. Ее движения легки и изящны – Калла чувствует себя комфортно в этом доме, внутри этих стен. Я вглядываюсь в лицо жены. Поначалу его выражение нейтральное, ничего не отражающее, но уже через пару секунд ее верхняя губа изгибается в слабой улыбке. Словно Калла простила мне молчание. Простила все шальные мысли, блуждающие в моей голове. Она крепко целует меня в губы, проводит по виску пальцем, наматывает на него колечком прядь моих черных волос.
– Я все еще тебя люблю, – напоминает мне Калла.
Временами, в долгие вечерние часы у меня возникает ощущение, будто мы с ней проживаем жизнь, делить которую договорились, а почему – вспомнить не можем. Подозреваю, что подобное чувство испытывают многие семейные пары по прошествии нескольких лет. Но в такие моменты, как сейчас, – на рассвете – моя жена кажется мне настолько близкой и родной, что сердце щемит боль. Слабая, глухая боль, описать которую трудно.
– И я тебя по-прежнему люблю, – говорю я Калле.
– Я встречаюсь в саду с Би, – отняв от моего лица руку, жена устремляется к двери спальни.
Я киваю. Пожалуй, мы походим на старика и старуху, проживших вместе слишком долго – целую жизнь длиною в сотню лет или более. Наши суставы срощены тенетами мелкой лжи, ребра сплетены паутиной из маленьких хитростей. Мы сами выстроили свою совместную жизнь на этих мизерных обманах – настолько малых, что не в состоянии их все упомнить. Однако они есть, и они нас связывают. Но вместе с тем и разделяют.
Я слышу, как Калла спускается вниз по ступенькам, надевает запачканные грязью сапоги и выходит из дома через заднюю дверь. Сетка с шумом возвращается на место. И шлейф ее запаха тоже – целый букет из ароматов сирени, базилика, земли и глубокой любви-преданности. Калла лучше, чем я заслуживаю. И все-таки… в ее движениях, в том взгляде, который она бросает на меня с порога, есть нечто для меня недостижимое. Нечто, что живет скрытно в ее голове: неведомые мне помыслы, навязчивые идеи, которыми она не хочет со мной делиться. Под стать мне, не желающему раскрывать ей свои думы и чаяния.
Калла любит меня, я знаю. Но она также неискренна со мной: таит секреты под ногтями пальцев, обман в щелке прикрытых ресниц. Моя жена – лгунья.
Калла
Моя младшая сестра – ночное создание. Она всегда предпочитала ночь; даже будучи ребенком, Би пряталась в темных закутках кладовки или под скрипевшими досками лестницы, собирая клубочки паутины на спутанных, непричесанных волосах. А они у нее необыкновенно красивые – цвета кленового сиропа, с легкой, неназойливой рыжинкой.
Би всегда предпочитала теплу яркого солнца мрак всепоглощающих теней. А теперь она все время в нем пребывает, не в силах выбраться из тьмы.
– Последнее время он сам не свой, – говорю я сестре.
Мы с ней ползаем на коленях под орешниками, растущими вдоль ручья; воздух полон мелодичного журчания воды, плещущейся по камням и ласкающей берег. Мы методично собираем орехи, нападавшие за ночь на землю, и я наблюдаю за Би с восхищением, которое всегда к ней испытывала. Даже теперь, когда мы стали взрослыми, Би продолжает меня восторгать. Она – чудо! А эта легкость, с которой ее сильные загорелые руки снуют по земле, ловко выуживая круглые плоды из-под листвы, выстлавшей подлесок! Эта удивительная способность к тактильному восприятию, чувствованию того, что она больше не может увидеть…
Би было всего девять лет, когда она потеряла зрение. Я едва помню, как все случилось. Но сестра время от времени сама заговаривает об этом. О том, как странно все произошло. Поначалу она видела едва различимые – на уровне пороговой чувствительности – волны солнечного света, затем яркие цветовые вспышки и причудливые, подвижные тени, а потом… Потом наступила полная слепота, и весь мир для Би сделался черным. И эта тьма, внезапно застившая ей глаза, уже никогда не рассеялась.
Возможно, живи мы в другом месте, по ту сторону границы, Би смогла бы обратиться к врачу, к настоящему специалисту. Тот заглянул бы в ее затуманенные черной пеленой глаза, назначил лечение или операцию и спас бы зрение сестре. Но я старюсь об этом не думать. Мысль о том, что все могло быть иначе, горька. Потому что мы ничего не предприняли. Не могли предпринять. И уже ничего не поделаешь.
Сестра адаптировалась, научилась преодолевать барьеры своей физической ограниченности. И, возможно, это сделало ее такой, какой иначе она бы не стала.
– Времена года сменяются, – отвечает мне Би. – Он всегда становится угрюмым в эту пору.
Она проводит тыльной стороной руки по своей шее; на опаленной летним солнцем коже поблескивают бисеринки пота. Мы втроем – я, мой муж и сестра – живем в старом фермерском доме. С той самой поры, как мы с Тео поженились. В этом же доме мы с сестрой выросли. Би любит поддразнивать Тео. За завтраками она частенько подкалывает его тем, что он слишком высокий, чтобы протиснуться в дверь, и никакой реальной пользы нам от него нет. Разве что вещи легко достает с верхних полок! Но на самом деле Тео ей как старший брат.
– Это другое, – возражаю я.
В последнее время я почему-то все чаще ощущаю ноющую боль, разливающуюся по зубам под взглядом Тео. Он вроде бы и смотрит на меня. Но смотрит так, словно мыслями находится в этот момент далеко-далеко. Между нами – двумя людьми, не способными жить друг без друга, – всегда существовала странная алхимия: искренняя, безусловная любовь. И порой это невероятное, глубокое чувство меня пугает. Как и уязвимая преданность, концентрирующаяся внизу живота, отчаянная нужда в своем муже и безотчетный, подспудный страх, что я могу его однажды потерять.
Распрямив ладонь на земле, я продолжаю:
– Иногда я просыпаюсь ночью, а он стоит у окна и разглядывает деревья…
Би поднимает голову, бледные веки над ее неживыми глазами подрагивают:
– Мы все разглядываем деревья.
– Но он, похоже, их не боится. Наоборот, он как будто что-то высматривает.
Би снова опускает руки на землю и находит еще один круглый орех – в светло-коричневой, пока не растрескавшейся скорлупе. Хороший орех. Сестра кладет его в корзину.
– Стоять по эту сторону не опасно. Быть может, Тео просто выискивает признаки гнили в стволах деревьев, – голос Би звучит ровно, неэмоционально.
И мне хочется ей поверить. Я прикасаюсь к тонкому медному колечку на пальце: обручальному кольцу, которое два года назад подарил мне Тео, попросив выйти за него замуж. Я знала Тео всю свою жизнь, мы вместе выросли в Пасторали. И все же я не обращала на него должного внимания (такого, как следовало) вплоть до одного дня. В тот день я искала около ручья сморчки, как вдруг на тропке появился Тео. «Ты нашла мое тайное место», – заявил он, пристально и оценивающе разглядывая меня. Его черные, нуждавшиеся в стрижке волосы падали на глаза; мы сели рядышком на берегу и просидели так до заката, рассказывая друг другу выдуманные предания о нашей земле и ее истории. И я тогда подумала: почему мы никогда не разговаривали так прежде? Как же вышло, что я так мало знала о нем, а он – обо мне? До той встречи у ручья мы словно скользили мимо, не замечая друг друга.
А уже через несколько месяцев Тео сделал мне предложение – на том самом месте, у ручья, в рассеянных лучах заходящего за деревья солнца, под небом, окрашенным всеми оттенками осени. Я лишь кивнула в ответ. Тео поцеловал меня, и мне показалось, что я уже никогда не почувствую себя такой счастливой, какой ощутила себя в тот момент.
– Тео не глупец, – говорит Би.
Капельки пота собираются на ее верхней губе. Сестра всегда выглядит слегка перегревшейся – как все будущие матери в Пасторали, вынашивающие младенцев; маленькие стучащие сердечки словно опаляют их огнем изнутри.
– Он не станет переступать границу.
Я едва киваю, и несколько минут мы молча продолжаем собирать орехи в корзину. Когда она наполняется до краев, ладонь Би замирает на земле, веки прикрывают глаза: сестра словно чувствует, как пронзают под нами почву корни деревьев, переплетаясь в диковинном узоре.
– Деревья в этом году звучат как пораженные болезнью, – тихо, с хриплым придыханием в голосе произносит сестра.
Я разглядываю их ветви. В скором времени лещины усеют созвездия спелых орехов, а пока мы собираем то, что лежит на земле.
– Пора не приспела, – говорю я. – Попозже мы еще порадуемся урожаю.
Би встает с колен на корточки, нащупывает кончиками пальцев край круглой корзины, бросает в нее горсть орехов. И, словно полагая, что за ней никто не наблюдает, мягко улыбается, обнажая кривоватый клык справа – единственный изъян в идеальном ряду зубов.
Мне хотелось бы слышать то, что способна слышать сестра: близкий гул пчелиных крылышек над лугом; едва уловимое движение летнего воздуха, меняющего направление; грозу, бушующую в отдалении. Однажды Би сказала мне, что может уловить солоноватый привкус Тихого океана в ветре, пролетевшем с запада сотню миль. Она чувствует то, что мне недоступно. Хорошее зрение не позволяет мне ощущать во всей полноте и многообразии мир, вихрящийся, проявляющийся и звучащий вокруг меня.
Рывком встав на ноги, Би протягивает к стволу лещины руку, чтобы сориентироваться.
– Ты думаешь, он хочет отсюда уйти?
Неожиданный вопрос заставляет меня вздрогнуть и резко замотать головой.
– Нет, – спешу я ответить, прежде чем эта идея внедрится в мое сознание. И все-таки невольно обвожу взглядом шеренгу деревьев на западной границе, пруд с недвижной гладью воды, неторопливо текущий ручей и фермерский дом на окраине луга. «А может быть, и правда муж решился все это покинуть?»
Перед фермерским домом тянется деревянная изгородь, и, если повернуть на юг, дорожка приведет тебя к воротам, у которых по ночам несет охрану Тео. А если пойти на север, то окажешься в самом сердце Пасторали. Замыкает его небольшая парковка. Там давно ржавеют два десятка раскуроченных автомобилей. Их спущенные шины оплетают сорняки, у одних задраны капоты, у других нет дверей, у иных растащены детали. Даже старый школьный автобус стоит на ободах – тот самый автобус, на котором основатели Пасторали приехали в этот лес, чтобы уже никогда не вернуться назад. Эта стоянка – кладбище искореженного металла, погнутых рулевых колес и изношенных свечей зажигания с давно выгоревшими или корродированными электродами. Безмолвные напоминания о прежней жизни, теперь уже совершенно бесполезные.
Я убираю со лба пряди, выбившиеся из косы. А золотисто-рыжие волосы Би вихрятся вокруг нее огненным смерчем – длинные и непослушные, легко спутывающиеся и связывающиеся в узелки. Би – редкое, дикое создание. Такое же прекрасное, как цветы у пруда, такое же податливое и кроткое, как деревья, шелестящие листвой при малейшем дуновении вечернего ветра. Но Би бывает и беспечно-безрассудной: порой она чересчур близко подходит к границе, где в ее плоть грозит вселиться ветрянка, способная разъесть изнутри смертной гнилью.
Ветер все сильнее теребит ветви; подобно мириадам бумажных клочков, листья опасливо подрагивают над нашими головами. И я знаю, Би слышит все это: перемену погоды, энергию воздуха, хрупкость, недолговечность момента.
– Гроза, – произносит она, обращая незрячие глаза к западу. – Молния. Я ее чувствую.
Черная завеса из сомкнувшихся дождевых туч все настырнее затмевает голубое небо, подбираясь ближе и ближе к нам. Взяв в руки корзину, я встаю на ноги. Стрела электрического разряда пронзает темные тучи, а через миг гром сотрясает под нами землю.
– Нам нужно в укрытие, – бормочу я.
Но Би колеблется, вздергивая подбородок кверху – как будто уже ощущает капли дождя, окропляющие лоб.
– Би! – уже резче окликаю я сестру.
Оставаться под открытым небом небезопасно: дождь разразится с минуты на минуту. Нам надо укрыться под крышей.
Наконец сестра кивает, и мы поспешно устремляемся к дому по дальнему полю. Ноги рассекают высокую траву, а та дрожит, колеблется, как золотистое море, волнами перекатывающееся под чернеющим небом. Летнее платьице Би хлопает ее на бегу по коленкам, а маленькие белые цветочки на подоле трепещут, словно тоже чуют грозу. Громовой раскат снова взрывает воздух, и наши босые ступни оставляют в темной почве отпечатки.
Мы добегаем до сада, обрамленного низким штакетником; зеленые помидоры и спелые ягодки земляники нервно покачиваются под внезапным порывом усилившегося ветра. Живущие на огороженной делянке куры, возбужденно кудахча, торопливо забиваются в дальний угол птичника. Металлические лопасти ветряка бешено вращаются, поднимая воду из глубокого колодца.
Мы заскакиваем в сетчатую дверь дома, когда капли уже окропляют краешек крыльца. Я опускаю корзину на стол: из перемолотых орехов мы потом сделаем масло, которое будем намазывать на жареные хлебцы или просто есть ложками. Через пару секунд по всему дому разносится ритмичная дробь: дождь забарабанил по металлической крыше.
– Мы слишком долго задержались в поле, – с трудом перевожу я дух.
Би подходит к кухонной раковине и, повернув кран, подставляет руки, покрытые коркой грязи, под струю свежей колодезной воды:
– Мы успели добежать до дома вовремя.
Кое-кто в нашей общине считает, что нам не стоит бояться дождя: он не может занести к нам гниль. Но даже одной болезнетворной молекулы, принесенной грозой, – одной капли зараженного дождя, упавшей на кожу, – может оказаться достаточно, чтобы легкие перестали дышать. Много лет назад Лиам Гарза чинил стойки изгороди вдоль восточной оконечности поля. Стояла осень, мы уже закончили жатву. Внезапно ураганный ветер нагнал в долину страшные тучи. Разразился сильнейший ливень. Но Лиам не собрал инструменты и не поспешил в укрытие. Решив доделать работу, он провел под дождем целый час. А через два дня заболел и слег: глубокий, ужасный кашель не давал ему дышать, кожа стала синюшной, глаза ввалились и почернели. Еще через неделю Лиам умер.
После того случая община постановила: рисковать больше не стоит. Как знать, быть может, это дождь перенес через нашу границу болезнь. Возможно, Лиам пробыл под дождем слишком долго, позволив зараженным каплям пропитать кожу, попасть ему на язык, проникнуть со вдохами в легкие. А может, Ганза сам пересек границу, чтобы побродить по лесу, только нам в этом не признался. Как бы то ни было, но теперь мы всегда пережидаем дождь в доме. На всякий случай.
Би заворачивает кран. Я чувствую на себе яростный взгляд ее серо-голубых глаз (хоть она и не способна меня видеть по-настоящему). Воздух взрывает очередной удар молнии; стены вокруг сотрясаются; флюгер на крыше дико вращается – атмосферное давление падает. Магнолии за задней дверью колышутся, подставляя дождю листья, как люди – руки в молитве.
«Почему мне не хочется жить в другом месте?» – в который раз проносится у меня в голове. В отличие от мужа и Би, меня здесь, в Пасторали, все устраивает.
– Я думаю, Тео от меня что-то скрывает, – признаюсь я в итоге сестре.
Слова быстро поглощает потускневшее пространство. Би вперивает взгляд в окно: на всем горизонте бушует гроза; утробный рык грома вторит яростным вспышкам, пронзающим водопад, низвергающийся с неба.
– Все мужчины лгут, – произносит одними губами сестра.
Би
Моя сестра боится темноты: деревьев на нашей границе, луны, слишком низко висящей на небе; звезд, падающих с него искрометными вертушками; ослепительных молний и громовых раскатов, желающих нас сокрушить. Когда начинается дождь, Калла непременно забегает в дом, а меня так и подмывает остаться на улице, вслушиваться в музыку воды, проливающейся на землю.
Мы с Каллой – туземки. Мы родились в Пасторали. Наши родители приехали сюда осенью 1972 года, когда все своенравные, сумасбродные, безудержные и строптивые хиппи бежали от войны и призыва в армию. Они искали прибежища за границей и в отдаленных землях, где их не могли отыскать.
Наша мама была безработной учительницей начальных классов, папа ремонтировал холодильники. Их профессиональные навыки, как показало время, сослужили обоим в общине хорошую службу. Мама учила здесь детей всех возрастов, а отец следил за техническим состоянием и исправной работой колодезных насосов, ветряных мельниц и дровяных печек. Когда была жива, мама мне рассказывала о том, как они оставили буквально все— родных, соседей, рынок в двух кварталах от дома, – чтобы переехать в эту глушь и построить новую, лучшую жизнь в Пасторали. В этой общине за лесными стенами мама подарила жизнь и мне – без докторов и медикаментов.
Люди утверждают, будто невозможно помнить свое рождение. Но я его помню. Я родилась в этом фермерском доме. В комнате на втором этаже, с открытыми окнами, в которые залетал ветер, колыхая занавески – их края касались деревянного пола. Я помню ощущение закатных лучей, преломлявшихся на моем новорожденном теле, аромат воздуха – такой сладостный в первые мгновения, благоухающий магнолиями! Повитуха, у которой были длинные седые, заплетенные в косу волосы, прижала меня к сердцу, и я до сих пор помню его стук в своем крошечном ушке в форме ракушки. Я помню, что не огласила свое рождение плачем, а оглядела окружавший меня мир с любопытством… Как будто сознавала, что этот мир со мной ненадолго, что однажды у меня его заберут.
Впрочем, теперь я легко ориентируюсь в доме. Я на память знаю все выемки в его деревянном полу, все неровности в стенах и углы дверных косяков. Я чувствовала запах дождя в воздухе, когда мы с Каллой бежали из сада, ощущала его кожей еще до того, как с неба упала первая капля. В своем восприятии мира я руководствуюсь не только осязанием и обонянием. «Видеть» мир мне помогает «компас» памяти – подобный тому, что движет птицей, из года в год перелетающей на юг, а потом возвращающейся обратно. Каждый запах соотносится с определенным цветом. Ароматам маков, что растут за задним крыльцом, присущи оттенки, запечатлевшиеся в моих воспоминаниях; запах лимонных деревьев у пруда ассоциируется с ярким, солнечно-желтым, более насыщенным и глубоким цветом, нежели тот – настоящий – окрас лимона, что запомнился мне с детства. Мир являет себя в выразительных оттенках и расчлененных формах. Это трудно описать словами.
Едва мы с сестрой возвращаемся в свои комнаты, дождь начинается в полную силу. Словно небо, рас-хандрившись, брызжет на наш дом тягучими, унылыми слезами. Порой, в такие вечера, дождь напоминает мне о времени, когда мы с Каллой, совсем юные, остались в фермерском доме одни после смерти родителей.
Но Калла не любит разговаривать о прошлом – воспоминания ранят ее слишком сильно. «Помнишь, как мама прятала в ногах наших кроваток мягкие набивные игрушки? Чтобы мы, забравшись вечером под одеяла, нащупали их пальцами стоп?» – могу спросить я. «Нет, – сразу же ответит сестра, отмахиваясь от воспоминаний, – я не помню того, что помнишь ты». Как будто у нас было разное детство! Как будто она вычеркнула из памяти годы, проведенные с родителями до их кончины. Думаю, Калла сердится на них за то, что они умерли такими молодыми и оставили нас одних. Она предпочла бы забыть о них вовсе, лишь бы не нести в себе боль, разъедающую изнутри под стать гнили. Возможно, Калла ощущает себя преданной не только родителями, но и мной – я ведь отказалась их «отпустить». И иногда это разделение между нами кажется настолько большим, что я тревожусь: как бы оно не сломило нас обеих! Как бы не развело навсегда!
Через час я – не в силах заснуть – выхожу из спальни в коридор. Слышны лишь мои шаги; даже ветер снаружи утих, дождь унялся до редких разрозненных капель. Комната, которую моя сестра делит с Тео, находится через две двери справа по коридору, за душевой, выложенной белой плиткой (там стоит на львиных лапах треснутая ванна, но мы пользуемся ею очень редко; летом мы купаемся в пруду или в металлическом бассейне за задним крыльцом, а потом обсыхаем на солнце).
Я спускаюсь по лестнице в гостиную. Коридор тянется от кухни до прихожей, искривленная, неповоротливая дверь которой открывается в задний двор, заросший травой, убогими кустарниками да несколькими деревцами медовой саранчи, впивающейся своими колючками в обшивку дома и сдирающей с нее старую краску.
Мы редко заходим в заднюю часть дома; она кажется мрачной, отчужденной, из другого времени. Спустившись из коридора вниз по нескольким низким ступенькам, можно попасть в маленькую застекленную террасу, выходящую на южную сторону. Ее высокие окна пропускали внутрь много света, позволяя до конца сезона выращивать пряные травы и овощи-корнеплоды. А сейчас половина окон забита досками, а остальные закрыты тяжелыми льняными занавесками.
Я прикасаюсь к холодной дверной ручке. Ощущаю дуновение затхлости, вырывающейся наружу в щелку под дверью. Когда я была маленькой, эту террасу переделали под временный приют для новых поселенцев Пасторали. Они ожидали в ней церемонию посвящения в члены общины. Я помню измученные лица незнакомых людей, когда они, преодолев труднопроходимый лес и еле волоча ноги, взбирались по ступеням нашего переднего крыльца, уставшие и голодные, с широко раскрытыми глазами, блестевшими от обезвоживания. Или от ожидания чего-то иного?
Иногда новоприбывшие проводили на террасе всего пару дней, иногда задерживались на несколько недель, пока не решался вопрос: стоит ли их оставлять, годятся ли они для жизни в общине. Но отказывали единицам. Теперь мне трудно представить чужих людей в нашем доме. Вот уже больше десяти лет ни один человек не добредает по извилистой дороге до Пасторали. И почти столько же лет никто уже не покидал нашу общину.
Открыв дверь, я вхожу в затемненное помещение; в ноздри ударяет сильный запах почвы, унаследованный им от прежней жизни. В голые ступни вонзаются колючие стебельки травы и мха, проросшие сквозь половые доски, положенные прямо на грунт. Тонкостенная стеклянная «оболочка» террасы сразу вызывает ощущение, будто ты находишься на улице. Несколько лет назад мы нашли одно из окон разбитым – ветка медовой саранчи преодолела стеклянную преграду. Мы заколотили отверстие досками, но сделали это наспех, кое-как. И сейчас я ощущаю дуновение ветра, со свистом просачивающегося внутрь, а плеть глицинии, умудрившаяся пролезть в брешь, уже достигла потолка.
Отыскиваю у стены каркас железной кровати с одним голым матрасом. Провожу рукой по запыленному изножью. У противоположной стены стоит белый кухонный шкаф для посуды. Наверное, его цвет уже поблек, сделался мутным под многолетними наслоениями пыли. Я подхожу к окнам, выходящим на луг и плодовые деревья. Прижав пальцы к стеклу, воображаю лежащий передо мной пейзаж: темное звездное небо и луну, освещающую высокую летнюю траву, которая волнами колышется под порывами юго-восточного ветра.
Меня захлестывают воспоминания. О затхлой террасе. О человеке, стоявшем у окна. У этого самого окна! От незнакомца пахло сосновым бором. Воспоминания до странного свежи. Я слышу биение сердца в его груди: тук-тук-тук-тук… Оно колотилось, как у загнанной лисицы, – быстро, панически, словно хотело найти безопасное место, укрытие. Или убежать.
Отвернувшись от окна, я растираю внезапно озябшие руки. Не могу вспомнить его лицо, его имя. Но он здесь был. Год или два назад. Человек. Мужчина. Пришелец. Чужак.
Тео
К ночи гроза прекратилась. Лунный свет мерцает среди деревьев длинными угловатыми бликами. Я иду по дороге к сторожке. В грязное оконце вижу сидящего внутри Паркера – узкоплечий, с близко посаженными глазами, он как олень, бдительно наблюдающий за всем, что движется, колышется, колеблется и трепыхается вокруг него. Когда я переступаю порог маленькой хижины, Паркер кивает мне и тут же хватает свою кофейную кружку, сделанную кем-то из членов нашей общины, с ручкой в виде ствола дерева. Кофейник на столе теплый – из носика вырывается слабый пар. И кофе в нем еще предостаточно, чтобы помочь мне пережить эту ночь.
Бочком пробравшись мимо меня к двери, Паркер выливает то, что осталось на дне его кружки, в траву у дороги. Его мать каждое утро и каждый вечер заваривает свежий кофе и приносит напиток сыну. А тот оставляет мне все, что не выпил. Это мутноватое пойло со множеством плавающих и не желающих оседать крупинок вполне пригодно для питья. И многие в общине готовы обменять что угодно на чашку этого напитка. Чайные кустики растут у нас в изобилии, а вот кофейных деревьев наперечет. Так что я пью его с благодарностью.
– Чертовски устал, – признается Паркер, запуская руку в свои русые волосы.
– Что-нибудь видел? – интересуюсь я.
– А то! – развернувшись, Паркер прислоняется к дверному косяку, а я сажусь на единственный в сторожке стул возле заляпанного окна, выходящего на дорогу. – Три НЛО и снежного человека. Этот сосунок оказался неплохим бегуном. Я гнался за ним почти десять миль, пока он не сиганул в реку и не залег на дно. Хотя, возможно, это была самка снежного человека. В темноте понять трудно. – Паркер подмигивает мне и улыбается так широко, что я вижу все его кривые зубы.
Он частенько придуривается, а еще любит важничать. Вот и сейчас Паркер постукивает пальцем по револьверу, прицепленному к ремню. Стук-стук-стук. Как будто это придает ему больше авторитета и веса в сравнении с другими членами общины – больше авторитета, чем у меня. Быть может, так оно и есть. Я не знаю, почему Леви позволяет Паркеру хранить у себя пистолет. Он скорее пристрелит себя, чем что-то другое на этой дороге.
Налив себе чашку кофе, я снова присаживаюсь на старый, переделанный офисный стул, опускаю ниже его сиденье. Паркер – малый долговязый, как и большинство двадцатиоднолетних парней. Но все равно он ниже меня, и ему ничего не видно в окно, если сиденье у стула опущено слишком низко.
В дверной проем задувает летний ветер, Паркер тотчас выпрямляется. Как будто этот порыв подгоняет его домой – смена закончилась.
– Увидимся утром, – произносит он с неожиданной скрипучей хрипотцой в голосе, присущей человеку вдвое старше. Долгие часы бдения выматывают парня, старят быстрее, чем следовало бы.
– Эй! – окликаю я Паркера, прежде чем тот пропадает из виду. – Как далеко ты уходил когда-либо по дороге?
Между нами повисает ощутимая, зудящая тишина, и я уже готов усомниться, расслышал ли он мой вопрос. Но тут его нижняя челюсть выступает вперед, а взгляд темных, сонных глаз фиксируется на мне.
– От Пасторали? – уточняет Паркер.
– Ну да, – стараюсь я придать голосу безразличие, как будто мне нечего скрывать. Отпив кофе, я наигранно морщусь от его горечи.
– Черт, мужик, откуда мне знать? Наверное, недалеко.
За все те годы, что мы несли дозор в этой сторожке, – обмениваясь мимолетными фразами по вечерам, когда я приходил, чтобы заступить в ночной караул, и утром, когда Паркер появлялся после восхода солнца, чтобы сменить меня на день, – мы никогда с ним этого не обсуждали. Мы часами всматривались в эту длинную грунтовую дорогу, бегущую вверх-вниз по склонам небольших холмов, чтобы в конечном итоге исчезнуть за деревьями. Дорогу, ведущую во внешний мир, в котором мы с ним оба родились. Паркер жил с матерью в Сакраменто до того, как сюда приехать. Членом общины он стал в три года. «Нам повезло, – сказал мне как-то Паркер. – Мать каким-то непостижимым образом разыскала это место».
А вот я не помню ничего за пределами Пасторали. Меня младенцем подбросили в сторожку, а выходили и выпестовали несколько пожилых женщин, выросших в общине. Впрочем… кто бы ни оставил меня у порога сторожки, он явно думал, что это место лучше внешнего мира.
– Однажды я погнался по дороге за своим псом, – губы парня почти не кривятся и не размыкаются, словно он борется с предостережением, звучащим в голове: «Молчи! Не говори ему об этом!» – По-моему, это был колли, черно-белый. Хороший пес… пусть и никакой на охоте, но очень преданный… до того дня, – Паркер часто моргает, словно перед его глазами мелькают непроизвольно нахлынувшие воспоминания; пальцы нервно подрагивают на рукоятке револьвера. – Мне было всего двенадцать или тринадцать лет, когда это случилось. Пес погнался за кем-то по дороге, может, за кроликом, а там кто его знает. Я пробежал за ним следом примерно с милю – в таком возрасте трудно определить расстояние. Но пес был слишком быстрый. Дорога резко сузилась, я добежал до развилки и там остановился – не понимая, куда он свернул. – Паркер трясет головой и, освободившись от воспоминаний, расправляет плечи. – Больше я своего пса не видел.
Я наклоняюсь на стуле вперед. Паркер выходил за ворота, за нашу границу!
– И ты тогда не заболел? – спрашиваю я.
– Видимо, нет. Я никому не рассказывал о том случае.
Паркер был мальчишкой, когда это произошло; возможно, он удалился от Пасторали не так далеко, как думал. Быть может, отбежал от границы всего на несколько шагов.
– А ты видел что-нибудь еще на дороге? – задаю очередной вопрос.
– Что, например?
– Ты сам знаешь…
Паркер опускает глаза, пинает ком земли, как будто сознает, что сболтнул лишнего.
– Ничего я не видел, – цедит он сквозь зубы.
Нам обоим известно и о наказании, предусмотренном за выход за периметр, и о панике, которую подобный инцидент мог вызвать в общине, и об обряде, который пришлось бы пережить Паркеру, прознай кто-нибудь об этом. Он рисковал своей жизнью, не только перейдя границу. Он рисковал ей, вернувшись назад. И сейчас – рассказав мне о своей погоне за псом.
– Я никому ничего не скажу, – заверяю я парня.
Тот кивает. Веки Паркера полуприкрыты, как будто его одолевает дрема. Мы знаем друг друга давно. Возможно, потому он и рассказал мне эту историю. А, может быть, просто устал и дал волю языку, сам того не желая.
Нас снова разделяет тишина. Стул проседает подо мной, когда я откидываюсь назад и отпиваю еще глоток кофе. Теперь он кажется менее горьким – мои вкусовые рецепторы уже привыкли к его неоднородной, «зернистой» консистенции.
– Почему ты расспрашиваешь о дороге?
Пульс под воздействием кофеина (или паники?) резко ускоряется, отзывается барабанным боем в ушах.
– Так, из любопытства, – уклончиво отвечаю я.
– Ты же знаешь, выходить за ворота нельзя, – приподняв вместо указательного пальца русую бровь, предостерегает меня Паркер. – Пересекать границу никому не дозволено! И никому из нас не выжить по ту сторону.
«Во загнул!» Да нам каждую неделю, на каждом общинном собрании напоминают об опасностях, поджидающих в лесу. И наша с Паркером работа – задача нашего поста на воротах – не дать проникнуть в Пастораль чужакам, которые могут забрести сюда и занести гниль. Мы ведем наблюдение. Мы охраняем Пастораль, защищаем ее. Но за все те годы, что я просидел в сторожке, я ни разу не видел ни одного человека, шагающего по дороге к Пасторали.
Покосившись на сменщика, я выгибаю губы в ухмылке: мой вопрос был только шуткой.
– Не беспокойся. Я не намереваюсь этого делать, – игнорируя тяжесть в желудке, я поудобнее усаживаюсь на стуле. Показываю всем своим видом: мне здесь очень хорошо, я не собираюсь никуда рыпаться. Врать надо легко и непринужденно.
Паркер чуть дольше задерживает на мне свой взгляд, как будто не верит моим непринужденным жестам. Как будто чувствует, что именно занимает мои мысли, о чем я давно уже размышляю: что, если мне удастся уйти по дороге? Что, если я смогу пробраться через лес? В тот мир, что лежит за стеной деревьев?
С губ Паркера слетает тихий протяжный вздох:
– Ладно. Пошел я, пожалуй, домой. Ей нужно поспать. – Парень тыкает в свою голову, а напоследок наставляет: – Следи за курами Оливии и Пайка. Последние несколько дней они так и норовят выбраться из курятника. Если забредут за периметр, их задерут койоты.
Я киваю:
– Мы общинная охрана. Наше дело – быть всегда начеку!
Пренебрежительно махнув рукой, Паркер поворачивается ко мне спиной и выходит за порог на дорогу. Я прислушиваюсь к его шагам. Несколько секунд они вяло отмеряют полумильный путь по грязи в сердце Пасторали, но постепенно их отзвуки блекнут, а затем и вовсе глохнут в темноте.
Мой большой палец вычерчивает круг по ободу кружки. Глаза устремляются на дорогу – путь, уводящий от Пасторали в мир, который я никогда не видел. Поставив кружку на стол, я встаю со стула и выхожу из сторожки. Изъеденные ржавчиной ворота уже давно не распахивались настежь – слишком долго в Пастораль не прибывали новые поселенцы. Или им просто не удавалось добираться до нас целыми и невредимыми?
Я вдыхаю приятный ночной воздух, аромат сирени, цветущей в канаве за дорогой. Вглядываюсь в темноту. В нечто, простирающееся за грунтовкой. И… делаю шаг за ворота. А затем еще один.
Грея руки в карманах, я размышляю над рассказом Паркера – о его погоне за псом за чертой границы. Узнай Калла, о чем я все время думаю, она бы рассердилась. Да я и сам дивлюсь тому, какие мысли блуждают в моих синапсах. И от какой идеи мне никак не удается избавиться. Эта идея будоражит меня весь последний год, а может, и дольше.
Впрочем, Калла тоже многое от меня утаивает, скрывает мысли за веками своих бездонных глаз. Не могу выразить словами ту грань жены, которую она так тщательно старается не обнажать передо мной. Но я все равно ее чувствую.
Оглядываюсь на ворота, на маленькую тесную хижину, в которой проводил почти все ночи на протяжении многих лет и сезонов. Я дежурил в ней и в снегопад, и под порывами шквальных, пронизывающих осенних ветров, и в летнюю жару, когда даже легкий ветерок не просачивался в дверь, чтобы охладить мое перегретое тело. Как много часов я просидел в этой комнатушке, попивая кофе, оставляющее зольное послевкусие, буравя взглядом этот участок дороги и предаваясь раздумьям.
Я подхожу к обочине и там, в камышах, нахожу маленький камушек. Наклонившись, подбираю его, а сердце уже колотится о грудную клетку. Не выпуская из руки камень и стараясь ступать как можно тише, я направляюсь по дороге вниз. Я отхожу все дальше от своего поста. От Пасторали.
* * *
Граница Пасторали обозначена деревянной изгородью; она тянется вдоль правой кромки дороги; к последней вехе гвоздями прибит указатель, на котором вырезана надпись: «Частное владение».
Надобности в этом указателе давно нет – за последний десяток лет сюда никто не являлся. Никто не проходил густой девственный лес. А если и проходил, то непременно заражался гнилью, и мы не могли ему позволить войти в Пастораль. Это было небезопасно, как когда-то. И теперь небезопасно тоже. Но я все же переступаю границу, которую нам строго-настрого запрещено пересекать, и выхожу в мир, существующий за пределами Пасторали. И делаю я это не впервые.
Пройдя пять шагов, останавливаюсь возле уродливого булыжника, лежащего на дороге. Это я его сюда положил, и было это больше года назад. Но я до сих пор помню, как бешено стучало в тот момент мое сердце. А дыхание было таким громким, что я побоялся, как бы меня не услышали в общине. Я присел тогда на корточки и тихо положил булыжник на дорогу – отметив место, до которого дошел. А потом сломя голову помчался к воротам, к безопасной сторожке. После той вылазки я не выходил за ворота неделю – слишком сильно был напуган. И каждое утро, почти прилипнув к зеркалу в душевой, всматривался в свое отражение: изучал глаза, искал в них изменения. Черноту, растекающуюся из зрачков по радужной оболочке и заволакивающую ее, как взбаламученный ил поверхность воды. Я искал признаки болезни. Но болезнь меня не поразила.
И через неделю, при свете почти полной луны, я опять набрался смелости и вышел на дорогу. Мои глаза метались по лесу, уши прислушивались к гулу раскидистых деревьев, треску надломленных веток, хрусту отслаивавшейся коры. Достигнув булыжника величиной с ладонь, я отсчитал от него пять шагов и положил на дорогу у своих ног второй камень.
Такие вылазки я совершал весь прошлый год еженощно. И каждый раз проходил по пять шагов, отмечая свое продвижение по дороге новым камнем. Я рисковал жизнью неведомо зачем. Просто для того, чтобы отойти от Пасторали подальше и посмотреть, что находится за следующим булыжником на дороге.
Так и сегодня: дойдя до последней «вехи» в цепочке камней, я оглядываюсь на ворота и маленькую хижину, все еще различимые в темноте ночи. А впереди меня дорога делает резкий поворот влево, и мне не суждено узнать, что за ним скрывается, если только… Сжав камень, подобранный в высокой траве, я отсчитываю шаги. Про себя. Один, два, три, четыре… Судорожно вдыхаю воздух. Пять… До поворота я не дохожу. И мне не видно, что за ним находится. Но я кладу на землю, у своей ноги, камень. Сердце – как барабан. До поворота так близко! Из кущи деревьев доносится трескучий звук. Как будто кто-то проводит крючковатым когтем по неровной коре, сдирая ее со ствола и обнажая мягкую белую древесину – плоть, ядро дерева, которое видеть не должно.
Деревья расщепляются, растрескиваются. Но я не убегаю. И даже не разворачиваюсь. А делаю еще шаг вперед, за положенный наземь камень. Любопытство делает свое дело: оно будоражит нутро, понуждает подавить страх, толкает умного человека на глупые поступки.
Покосившись через плечо назад, я вижу, как ворота исчезают из поля зрения – я захожу за поворот. Разум отключился, я больше не отсчитываю свои шаги. Ноги упрямо несут меня все дальше. Еще миг – и я замечаю кое-что впереди. На обочине дороги. Машину. Пикап.
* * *
Иногда – когда пробуждаешься от глубокого-глубокого сна и твои глаза резко распахиваются – ты на короткую долю секунды не можешь вспомнить, где находишься. Комната и колыхание занавесок на открытом окне кажутся незнакомыми; словно твое сознание включается не сразу, а остается замутненным сном.
Нечто подобное я ощущаю при взгляде на пикап.
Поперек дороги лежит упавшее дерево, разметав в стороны поломанные ветви и полностью преградив путь. Пикап стоит наискось, глядя носом в брешь между деревьями. Как будто водитель попытался съехать с дороги и направить его в эту брешь, но застрял – в глубокой весенней грязи или еще более глубоком зимнем снегу.
Я подхожу ближе, вопреки страху, воскресшему и больно сдавившему грудь. Мне не следует здесь находиться! Лобовое стекло и капот покрывают пожухлые листья и гниющие сосновые иголки – пикап простоял тут недолго, скорее всего, и года не прошло. Колеса с водительской стороны утоплены в земле, скованы ею. Застряли. Я дотрагиваюсь до дверной ручки, и по шее пробегают мурашки. Холодная дрожь, как от быстрого порыва северного ветра. Но она тут же проходит.
Я открываю дверцу пикапа и сразу отступаю на шаг – из опасения: а вдруг что-то выскочит из салона и набросится на меня? Или я найду на полу окаменевшее тело человека, умершего от холода, голода или гнили. Но трупа в машине нет, как и запаха разлагающейся плоти. Пикап выглядит нетронутым. Нераздельное сиденье, приборная панель, ручки настройки радиоприемника, рулевое колесо – все застилает слой пыли, той сухой летней пыли, что просачивается в щели окон, дверей и пола.
Ничего существенного в салоне нет. Никаких предметов, которые могли бы мне подсказать, как здесь оказался этот пикап. А когда я опускаю солнцезащитный козырек, на пол падают бумаги: страховой полис с истекшим три года назад сроком действия, купон на скидку при замене масла в «Маслах и смазках от Фредди» в Сиэтле (тоже просроченный). Подобрав регистрационную карточку пикапа, изучаю детали: транспортное средство зарегистрировано на имя Тревиса Рена. Это имя ничего мне не говорит.
Протянув руку, открываю бардачок и нахожу внутри шерстяную шапочку с надписью «Ферма Черные дрозды», несколько сложенных долларовых банкнот, зубную щетку, перочинный нож с тупым лезвием, карту дорог Западного побережья (Вашингтон, Орегон, Калифорния) и фотографию.
Посередине снимка след сгиба; похоже, раньше он был сложен пополам. Большая часть изображения размыта, повреждена водой, которая, по всей видимости, попадала в салон в дождливые дни; и цвета на фотографии теперь размыты и искажены неестественными оттенками.
Я выпрямляюсь, пытаюсь разглядеть снимок под лунным светом и провожу большим пальцем по частично поврежденному, но все еще различимому лицу, когда-то смотревшему в камеру. Вода деформировала почти весь образ; нетронутыми остались лишь левый глаз женщины, отвернувшей щеку чуть в сторону (словно она не хотела фотографироваться), да ее коротко стриженные ярко-русые волосы. Судить по такому снимку трудно, но есть в этой женщине некая строгость, непреклонная суровость, которая читается в выражении полузакрытых глаз.
Снова провожу по ее лицу пальцем и ощущаю над левым ухом пульсацию, зуд под кожей. Перевернув фотокарточку, читаю имя, нацарапанное торопливыми буквами. Буквы скачут и натыкаются друг на друга, как будто их писал человек, сидевший за рулем машины, подпрыгивавший на колдобинах и старавшийся не съехать с дороги в кювет.
Имя женщины – Мэгги Сент-Джеймс.
Калла
Я стою в дверях спальни сестры и при свете утреннего солнца, приглушенном занавесками, наблюдаю, как трепещут ее ноздри с каждым выдохом во сне. Ее колени подогнуты к груди поверх потрепанного лоскутного одеяла, как у закрученной в спираль, белой и гладкой «фарфоровой» раковины наутилуса. Я смотрю на Би и вспоминаю, как мы – маленькие – спали вместе в этой же кровати, сцепив руки из страха перед призраками, прятавшимися в шкафу, монстрами под реечным дном и лешими под окном. Увы, картинка эта уже затуманилась, ее яркие краски поблекли с годами, стали акварельными.
Солнечные лучи усеивают щеки Би розовыми «зайчиками», но она не пробуждается, не чувствует на себе мой взгляд. Дождь на дворе закончился, и спертый воздух в ее комнате побуждает открыть окно. Но я не переступаю порог, стою, прислонившись к дверному косяку, как один из призраков, которых мы с ней так боялись, а грудь стесняет щемящее чувство. Между мной и сестрой вздымается и ниспадает океан – бескрайнее море, которое ни мне, ни Би не пересечь. Она предпочитает ворошить прошлое, перебирать в памяти фрагменты нашего детства, тогда как я стараюсь их забыть, загнать подальше – туда, откуда они не смогут причинить мне боль.
И когда я заглядываю в глаза сестры, вижу в них то, чего не понимаю. Женщина, в которую превратилась Би, мне незнакома. Чужая. Внизу громко хлопает входная дверь. За вибрацией, сотрясшей стены дома, следуют звуки шагов, перемещающихся по гостиной. Это вернулся Тео. Прикрыв дверь сестринской спальни (пускай спит!), я быстро спускаюсь по лестнице. Стоя возле мойки на кухне, муж что-то рассматривает. Он даже не снял сапоги; шлейф грязи протянулся за ним по всему деревянному полу. Я замираю на нижней ступеньке. Поза Тео чудная: плечи ссутулены, спина застыла в напряженной неподвижности. И по моей груди – как паук, проникший в тело, – расползается тревога.
– Тео? – окликаю я мужа.
Он быстро оборачивается. Так быстро, что едва не роняет предмет, который держит в руке. Но муж и не пытается спрятать его от меня, не отводит руку за спину, продолжает сжимать что-то пальцами, а с его лица не сходит странный отпечаток замешательства.
– Что это? – спрашиваю я.
– Фотография.
Я захожу на кухню; наши взгляды встречаются, и внезапно я понимаю: я вовсе не уверена, что мне хочется взглянуть на эту фотографию, увидеть то, что повлекло столь неестественную неловкость в глазах Тео.
– Чья?
– Женщины.
Мой взгляд скользит по фото; я вижу русые волосы, пронзительные голубые глаза над резко очерченными скулами. Остальная часть изображения повреждена – снимок явно был сильно подмочен.
– Кто она?
– Ее имя Мэгги Сент-Джеймс.
Тео смотрит так, словно ждет от меня подсказки. Словно я могу знать, кто эта женщина.
– Ты о ней слышала?
– Нет…
Половицы над нами тихо поскрипывают: Би встала с кровати и направляется по коридору в душевую; через пару секунд до нас доносится журчание воды, потекшей по вмонтированным в стены трубам к раковине на втором этаже.
– Где ты ее нашел?
В общине хранится лишь несколько фотокарточек. Их привезли с собой основатели Пасторали, пожелавшие сохранить в памяти тех, кого оставили во внешнем мире: бабушек и дедушек, друзей и подруг. У Руны есть даже фотография ее песика Попая, который умер до ее переселения в Пастораль.
– В пикапе, – отвечает Тео.
– В каком пикапе?
Тео отводит от меня взгляд. Странный взгляд.
– На дороге.
– Что ты хочешь этим сказать? – ноги сами пятятся.
– Я выходил за ворота, – признается Тео; его губы шевелятся вяло, пальцы бегают по снимку.
Воздух покидает мои легкие, перед глазами вспыхивают крошечные искорки.
– Тео! – кошусь я на дверь: а вдруг там кто-то есть, вдруг кто-то нас подслушивает. – О чем ты, черт подери, говоришь?
– Я просто хотел посмотреть, что там находится.
Мои руки начинают дрожать, я отхожу от мужа еще на шаг. Стук сердца бьет по барабанным перепонкам, как дубинкой.
– Там только смерть, – говорю я Тео, а глаза уже блуждают по его лицу, выискивая повреждения, любые признаки того, что он изменился, что принес с собой что-то оттуда.
Мой муж сделал то, что делать не следовало: он переступил границу. Пошел туда, где живут темные сущности, откуда никто не возвращался живым, а если и возвращался, то оставался в живых недолго.
– Я чувствую себя прекрасно, – быстро отвечает Тео; его брови загибаются вниз, уголки рта зеркально повторяют их форму.
Но я продолжаю отступать от мужа. Пятки натыкаются на ножки одного из стульев. И от его жуткого скрипа по деревянному полу у меня сводит зубы. Стул упирается в угол стола. Я хватаюсь руками за стол – мне нужно на что-то опереться; грудь сдавливает так, что дышать становится тяжело.
– Симптомы проявляются через день или два, – с трудом выдавливаю я.
Мне не следует оставаться в доме вместе с Тео. Надо бежать! Позвать Би, предупредить всех остальных!
– Я не болен, – настаивает Тео, подняв руки ладонями ко мне; как будто их натруженная кожа может подтвердить его слова. – Я ничем не заразился.
– Ты не можешь этого знать, – не отводя глаз от мужа, я медленно обхожу стол.
До задней двери всего несколько шагов; я могу выскочить в сетчатую дверь, и не пройдет и минуты, как я уже буду бежать по тропке в Пастораль, оставив мужа одного. Мужа, который может быть заражен. Болезнь уже могла проникнуть в его ткани, в его костный мозг. И часики уже тикают, обратный отсчет его жизни пошел.
Да, я могу убежать. Но я этого не делаю. Потому что боюсь того, чем грозит обернуться мое бегство. Я боюсь последствий. И поэтому прирастаю ногами к полу, ощущая, как в висках пульсирует ужас.
Тео подходит ко мне ближе – но не настолько, чтобы дотронуться до меня и передать мне то, что, быть может, уже вселилось в его нутро и безжалостно разъедает. Муж чувствует страх, растекающийся по моему телу, качающий по венам кровь к ногам, подстрекая их к бегству.
– Уверяю тебя, я не болен, – снова повторяет он и, откашлявшись, опускает руки. – Я не первый раз выходил на дорогу.
Я хмурюсь, сердце бьется чаще.
– Я и раньше это делал, – признается мне Тео, и в каждом его слове звучат спокойствие и невозмутимость, словно он говорит о чем-то обыденном.
Я отрываю пальцы, впившиеся в стол:
– Ты выходил на дорогу не только этой ночью?
Взгляд Тео упирается в пол, он все еще держит фотокарточку, которую теребит руками.
– Я выходил за ворота каждую ночь.
Тео поднимает на меня глаза, и я вижу в них бремя вины, угрызения совести, мучившей его очень долго.
– Я выходил на дорогу весь этот год. Еженощно. И каждый раз проходил по ней все дальше и дальше. Но я не заболел, Калла! Я пересек границу сотни раз и ни разу не подцепил эту заразу.
Так вот что он скрывал от меня! Старался не подавать виду, держался как ни в чем не бывало. Но я-то все равно подозревала обман. Я ощущала ложь в прикосновениях его ладоней, видела ее в глазах мужа, полуприкрытых веками, за которыми, как Тео думал, я не сумею ее разглядеть.
– Возможно, я невосприимчив к этой болезни, – продолжает он. – Быть может, я не могу ей заразиться.
Внезапно его словно озаряет огонь изнутри; глаза мужа широко распахиваются. Похоже, он уже не в силах удерживать в себе тайну и торопится выговориться.
– Я никогда не видел ничего на дороге вплоть до сегодняшней ночи. Там стоит машина… пикап… и, по-моему, стоит он там не очень давно. Самое большее – пару лет, судя по листве на капоте.
Шум в моих ушах становится громче, к страху примешивается боль. Тео мне врал. Хуже того – он рисковал своей жизнью!
– Кто-то оставил пикап на дороге, – добавляет муж, вздернув вверх брови. – Какой-то человек по имени Тревис Рен.
– Мне нет дела до этой машины.
– Он не мог просто взять и исчезнуть, – продолжает Тео, игнорируя обиду, прозвучавшую в моем голосе. – Он либо вернулся назад по дороге, пешком, либо пришел в Пастораль.
Я перевожу взгляд на дверь, прикусывая нижнюю губу; разум захлестывает ужас, лишая способности ясно соображать.
– В общине нет человека по имени Тревис, – говорю я.
Нам вообще не следовало заговаривать об этом. Тео не должен был выходить за ворота и рисковать всем только ради того, чтобы обнаружить на дороге старый никчемный пикап и чью-то фотографию.
Муж чешет затылок:
– Я знаю.
Вверху потрескивают половицы: Би движется по коридору к лестнице. Мне надо бы ей крикнуть: «Не спускайся! Не приближайся к нам! Тео может быть заразен». Но шаги сестры затихают. Наверное, она вернулась в свою комнату.
– За последние десять лет в Пастораль никто не приходил, – напоминаю я мужу.
Да! Никто! С того самого момента, как окрестности стали небезопасными. С той поры, как гниль подобралась к нашей общине настолько близко, что мы вынуждены были обозначить границу, пересекать которую теперь не разрешалось. Иначе мы могли заболеть.
– Возможно… он пришел, а мы… не знали, – предполагает Тео; его голос дрожит и запинается, словно он не до конца верит в то, что сам говорит.
– Если бы какой-то человек пришел к нам по дороге, ты или Паркер заметили бы его у ворот, – резонно возражаю я мужу, и уголки его губ опускаются. – Действительно, явись к нам новичок, – продолжаю я, едва дыша, – Леви созвал бы собрание и мы бы совершили обряд, чтобы выяснить, болен он или нет.
– Я знаю, – повторяет Тео, снова поглядев на фотографию.
– Ты рисковал своей жизнью, ты рисковал всем, выходя за ворота, – укоряю я мужа.
Слезы наворачиваются на глаза, пол уплывает из-под ног. Стоит мне представить, как Тео выходит за пограничную черту Пасторали, как колотится в груди его сердце, а легкие вдыхают ночной воздух, и мне делается муторно. Я не могу отойти за ворота даже на несколько футов; внутри сразу появляется панический страх – тревога под стать черной дыре стремительно нарастает, угрожая поглотить меня всю целиком. В Пасторали нас учили бояться деревьев, но мой страх как будто народился вместе со мной. Он пустил во мне глубокие корни задолго до того, как по общине пронеслись первые слухи о коварной болезни. Я боюсь того, что находится за нашей границей. Словно это пугающее нечто оживает в моих снах и грезах, пытаясь увлечь меня в темноту.
И все же мой муж выходил за пределы общины. Каждую ночь. На протяжении года – целого года! Как будто считал все это пустяком. Как будто это его не страшило.
– Кем бы ни был тот человек, – начинаю я, – он, скорее всего, просто бросил машину и пошел по дороге пешком. Только не в Пастораль, а прочь отсюда. А на фотографии, возможно, его жена или подружка, это, в общем-то, неважно, – мой голос звучит слабо, чуть надтреснуто; руки вытирают со щек слезы.
Тео смотрит в окно над кухонной мойкой и ничего не отвечает. Такое впечатление, что все слова, которые он хотел сказать в свое оправдание, застряли где-то глубоко в его горле, и он никак не может извлечь их оттуда. А меня теперь мучает вопрос: неужели гниль уже проникла в мужа, пробила бреши в его легких, окрасила кровь в цвет черного зимнего неба? Неужели уже слишком поздно?
Резко развернувшись, я устремляюсь к выходу; впопыхах налетаю на обеденный стул, распахиваю сетчатую дверь и выскакиваю в рассветные сумерки. Спускаюсь по ступенькам крыльца и стремительно пересекаю сад, теперь благоухающий базиликом, ромашками и лавандой, в котором куры долбят клювами землю, выуживая из нее червяков и семена растений.
Я почти бегу от дома к пруду – под утреннее пение птиц на деревьях и хоровое кваканье лягушек в мелководье. Мне показалось, или Тео меня окликнул? Может быть, он тоже выскочил из дома следом за мной? Я оглядываюсь. Мужа на крыльце нет.
Би
Я слышала их спор. Не могла не услышать. Резкий голос сестры разносился по старому дому, отскакивая от высоких стен раскатистым эхом. Каждое ее слово по тембру походило на крик черного дрозда, изнывающего на сосне от полуденной жары. А слова Тео увязали, повисали в воздухе, словно он в них не был уверен. Словно он говорил вещи, которые и сам не вполне сознавал.
Тео перешел границу! Вышел за ворота, пошагал по дороге и наткнулся на пикап, брошенный кем-то в лесу. И, возможно, назад он вернулся с болезнью, въевшейся в его кожу, растекшейся по спинному хребту и пропитавшей самые глубокие слои костей и тканей.
Болезнь… Слово, застревающее в горле после того, как ты его выговорил. Слово, слишком часто произносимое в общине. Опасность, которая всегда близко: кровь в животе и легких, а порой и в глазах. Сочащаяся, изливающаяся. Но кровь не алая, как та, что брызжет из пореза на здоровом теле. Она черная – гнилая, ядовитая, заразная и густая, как почва, размокшая от дождя. Жуткое зрелище! Врезающееся в память так, что, однажды став ему свидетелем, ты уже не можешь выкинуть его из головы.
Мы называем это явление болезнью, но его истинное научное определение нам неизвестно. Как неизвестно и то, что его вызывает. Споры? Вирус? Или бактерии? Что бы это ни было, но человека в результате разъедает гниль изнутри. Сначала ей подвергаются деревья – их листья покрываются пятнами, увядают и разлагаются. Следом за листьями поражается кора – она начинает отслаиваться от стволов и сучьев, обнажая еще светлую сердцевину. Из пораженной древесины проступает сок: теряя свою живительную силу, деревья испускают последний крик о помощи. Но их открытым ранам не суждено затянуться. Вырвавшаяся наружу болезнь повисает в воздухе, выжидая момента, чтобы проникнуть в легкие, впиться в голую кожу, переходя от одного организма к другому.
С таким заболеванием растений основатели общины никогда не сталкивались. Это какая-то аномалия. И она поразила лес, окружающий Пастораль. Стала барьером, преодолеть который мы не можем.
«Вязовая ветрянка» – так мы ее называем. А шепотом употребляем другое, более простое название: гниль. Наши ребятишки даже придумали игру, похожую на салочки. Они гоняются друг за другом по полям с криками: «Гниль была моя, стала твоя, умереть тебе теперь от ветрянки!» Саля друг друга касанием руки, они словно передают болезнь остальным участникам игры, и игра эта может продолжаться бесконечно. Пока одна из пожилых жительниц Пасторали, цыкнув на ребят, не разгонит их по домам.
Гниль проникает под кожу, всасывается в легкие и если не за неделю, то за пару недель убивает человека. Мы, конечно, стараемся его вылечить, пока не становится слишком поздно – пока не возникнет угрозы передачи гнили другим членам общины. Но нам редко удается очистить от нее пораженное тело; зараза быстро поедает его.
Стоя на верхней площадке лестницы и слушая спор сестры с мужем, я ощущала, как стучало сердце в груди Тео. Потеряв зрение, я обрела иной дар – способность улавливать мельчайшие оттенки звуков. Я могу слышать биение крылышек мотыльков и натужные вдохи и выдохи легких. Но легкие Тео больными не звучали. Болезнь не пульсирует в его органах, не распространяется по позвоночнику, не убивает его спинной мозг или мягкие ткани, как то заболевание, что ранней осенью уничтожает листву на дубах. В Тео нет гнили. Я ее не услышала.