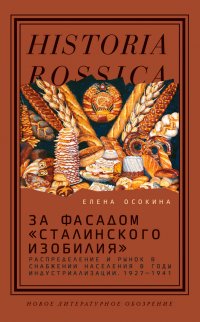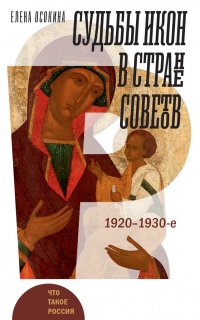Читать онлайн Небесная голубизна ангельских одежд бесплатно
- Все книги автора: Елена Осокина
© Осокина Е. А., 2018
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018
* * *
Памяти историка Андрея Константиновича Соколова (1941–2015)
Предисловие
Вокруг иконы.
Павел Муратов
Эта книга родилась вопреки моим планам и намерениям. Я не собиралась писать о странствиях русских икон. И тем не менее ее появление стало логичным и даже закономерным результатом моих предыдущих исследований истории советской индустриализации и экстраординарных источников ее финансирования. Одним из них были магазины Торгсина, которые в голодные годы первых пятилеток продавали сначала иностранцам, а затем и советским гражданам продукты и товары в обмен на иностранную валюту, царский чекан, бытовое золото, серебро и другие ценности. Торгсин позволил миллионам советских людей выжить, а правительству – собрать средства, чтобы купить иностранное оборудование для промышленных гигантов рождавшейся советской индустрии.
Закончив книгу о Торгсине[1], я собиралась писать вторую часть дилогии об экстраординарных источниках финансирования промышленного рывка – книгу о Всесоюзном обществе «Антиквариат» и о продаже за рубеж национальных художественных и исторических ценностей. В ней предполагалась глава о продаже икон. С этой главы я и начала. Работа шла, глава все не кончалась, стало ясно, что речь идет не о главе, а о полноценной книге. Изменился и первоначальный замысел. История продажи икон обернулась историей музеев и частных коллекций, историей людей, к одним из которых судьба отнеслась благосклонно, к другим – безжалостно. История создания экспортного фонда русских икон потребовала рассказать о том, как было ликвидировано грандиозное иконное собрание Государственного музейного фонда; а рассказ о том, как красные купцы Госторга и «Антиквариата» создавали спрос на русские иконы, в то время еще неизвестный миру антикварный товар, был невозможен без истории первой советской иконной зарубежной выставки. Так, вопреки первоначальной задумке, логика исторических процессов диктовала автору структуру и содержание этой книги.
Сожалений о том, что главным героем книги вместо «Антиквариата» стали иконы, нет. Со времени первых, в СССР, журнальных публикаций о распродаже национального художественного достояния прошло три десятилетия, за это время появилось много работ, но история советской продажи икон оставалась малоизученной. Историков главным образом привлекали и привлекают судьбы произведений западноевропейского искусства из Эрмитажа[2], в то время как исследования иконного собрания Государственного музейного фонда, странствий первой советской зарубежной иконной выставки, судеб проданных икон, некогда принадлежавших Третьяковской галерее, Историческому, Русскому и провинциальным музеям, до появления этой книги были представлены лишь отдельными статьями[3].
Незнание порождает домыслы, мистификации и скандальные лжесенсации. Недостаток серьезных научных исследований о формировании иконного фонда и продаже икон дал простор невнятным спекуляциям то ли о масштабной распродаже фальшивок и иконных шарашках – сталинском ГУЛАГе иконописцев, то ли о распродаже иконных собраний музеев. Эта книга на основе огромного массива архивных документов стремится заполнить провалы, зияющие в современной историографии. Представленный в ней материал призывает исследователей ответственно относиться к своим заявлениям и не забывать в угоду сомнительной популярности и в погоне за сенсациями о том, что ученый должен оперировать доказательствами.
Огромный материал, который был собран для этой книги в архивах России, Европы и США, опровергает голословные декларации о массовой распродаже фальшивых икон. В книге детально и документированно показано, как именно формировался национальный экспортный фонд русских икон, кто отбирал иконы на продажу и какими принципами при этом руководствовался. Исследование свидетельствует о том, что в «Антиквариат» были отданы тысячи икон из Государственного музейного фонда, центральных и провинциальных музеев страны, среди которых были ценные произведения древнерусской живописи, в том числе и иконы из знаменитых собраний Остроухова, Морозова, Зубалова, Третьякова, Рахманова, Егорова… Из икон, отданных в «Антиквариат», сотни не были проданы и после закрытия торговой конторы достойно пополнили коллекции ведущих музеев, хранителей главных иконных собраний России – Третьяковской галереи, Исторического и Русского музеев. На основе российских и зарубежных архивов эта книга опровергает и спекулятивные утверждения о том, что экспонаты первой советской иконной зарубежной выставки 1929–1932 годов, которая преследовала как научно-образовательные, так и коммерческие цели, были проданы за границей. История этой выставки, поистине детективный сюжет, свидетельствует, что, хотя попытки продать предпринимались, все экспонаты вернулись в СССР. В книге приводятся и веские доказательства против «теории продажи фальшивок за копейки». Запрашиваемые цены отражали художественную и историческую ценность икон, но гораздо более жестко они определялись историко-политическими условиями того времени, экономической депрессией и отсутствием мирового рынка русских икон.
На историческом факультете МГУ я получила прекрасное гуманитарное образование. С благодарностью вспоминаю лекции своих профессоров по истории западноевропейского, русского и советского искусства – Глеба Ивановича Соколова и Дмитрия Владимировича Сарабьянова. Однако по основной профессиональной подготовке я не являюсь ни искусствоведом, ни историком искусства. Написав эту книгу, я невольно вторглась в довольно небольшой круг специалистов по древнерусской живописи. В этой связи необходимо заявить, что моя книга является сугубо историческим исследованием. Я не покушаюсь на хлеб искусствоведов и историков искусства и не умаляю важности их исследований. Автор не занимается атрибуцией икон и другими специальными вопросами анализа древнерусской живописи. В этих вопросах в книге использована существующая литература по истории искусства и искусствоведению.
Эта книга – результат огромной научной работы, но она написана популярно и предназначена для широкой читательской аудитории. Ее первые главы, которые посвящены формированию иконных коллекций Исторического музея и Третьяковской галереи, а также их драматичному соперничеству в борьбе за иконы, расскажут специалистам мало нового. Однако историк искусства или искусствовед вряд ли пойдет в архив экономики работать в фондах Госбанка, Наркомфина и Наркомата внешней торговли, а между тем исключительно важные документы о том, как формировался экспортный фонд икон, как и зачем создавалась первая советская зарубежная иконная выставка, и многие другие находятся именно там. Материалы социально-экономических архивов, которые широко используются в этой книге, окажутся полезными и для историков искусства, особенно те, что рассказывают об истории иконного отдела Государственного музейного фонда, о попытках продать музейные экспонаты первой советской выставки икон за рубежом и о судьбе русских икон после их продажи.
Эта книга – вклад историка в изучение бытования музейных и частных иконных коллекций в России и за рубежом, странствований русских икон, а более всего вклад в изучение той роли, которую сыграла политика сталинского руководства в создании мирового антикварного рынка русских икон. Один из наиболее интригующих парадоксов истории, как показывает эта книга, состоит в том, что создатели так называемой нерыночной плановой централизованной экономики являются и основателями мирового рынка русских икон. Их усилиями был собран колоссальный экспортный иконный фонд, проведена грандиозная рекламная кампания – первая советская зарубежная выставка, которая во всем великолепии представила миру новый антикварный товар, установлены связи с мировыми антикварами и организованы продажи крупных коллекций за рубеж. Советским правительством двигала не любовь к искусству, а валютная нужда, но результатом этой деятельности стало если не зарождение, то несомненное развитие мирового интереса к русской иконе, появление новых коллекционеров и антикваров, готовых продавать этот товар. Невольные посланцы и заложники советской индустриализации, русские иконы пополнили частные и музейные собрания за рубежом, и в наши дни они нет-нет да и появляются на аукционах мира.
Эта книга выходит в непростое для музеев время. Русская православная церковь, некогда гонимая, стала одной из наиболее влиятельных сил современной российской жизни. Она успешно добивается возвращения конфискованного у нее после революции движимого и недвижимого имущества – монастырей, соборов, икон[4]. Существует опасность того, что рассказанная в книге история сталинской продажи музейных икон может быть использована против интересов современных российских музеев. В этой связи следует сказать, что обвинять музеи в том, что они не смогли достаточно эффективно противостоять государственному диктату и вынуждены были отдавать произведения искусства на продажу, равносильно столь же абсурдным обвинениям Русской православной церкви в том, что она не смогла остановить государственное насилие и «позволила» советской власти разграбить свои богатства. И музейные работники, и священнослужители самоотверженно сопротивлялись государственному диктату, но не смогли его остановить. Не музеи продавали свои иконы, а советское правительство, то есть те же самые люди, что отдавали приказы разрушать церкви и расстреливать священников. Обвинять музеи в продаже икон не только исторически неверно, но и бесчестно.
Священнослужители видят в иконе прежде всего предмет религиозного культа, но не произведение искусства. До революции существовали церковные музеи, но они были древлехранилищами, а не музеями изобразительного искусства. Иконы в них являлись предметами церковной археологии и выставлялись вперемешку с другими древностями. Научные поисковые экспедиции находили шедевры древнерусской живописи заброшенными в монастырских рухлядных и церковных сараях, на колокольнях под завалами, в пыли и птичьем помете. Так, знаменитые иконы звенигородского чина, которые до недавнего времени считались[5], наравне с «Троицей», наиболее достоверными и лучшими работами Андрея Рублева, были найдены в 1918 году членом Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи в России Г. О. Чириковым в сарае около Успенского собора под грудой дров. Живописный слой был сильно поврежден[6]. Это далеко не единственный пример заброшенных в чуланы и за ненадобностью забытых произведений древнерусской живописи. Лучшие образцы русской иконописи являются национальным художественным достоянием. Они должны оставаться в российских музеях, которые в наши дни имеют все необходимые технические средства и высококвалифицированных специалистов, чтобы обеспечить произведениям древнерусской живописи надлежащие условия хранения и изучения.
События, изложенные в книге, относятся к «злым дням гонения икон»[7], но при выборе ее названия я сознательно отказалась от прямых осуждений и демонизации власти, распродававшей национальное достояние. В стремлении подчеркнуть, что речь в книге идет о судьбе произведений искусства, я использовала поэтический образ, созданный Н. М. Щекотовым в его очерке о художнике и собирателе икон И. С. Остроухове: «…под слоями позднейших записей, пыли и копоти древние доски хранят горячее золото фона, небесный голубец ангельских одежд, невыразимо нежную охру ликов, музыкальную опись фигур и ясность, монументальность композиции…»[8]. Эпиграфом к книге стало название работы Павла Муратова «Вокруг иконы». Оно точно отражает суть книги, в которой именно икона является центром притяжения действий власти, музейных работников, торговцев и покупателей.
Одно из самых больших удовольствий в работе над новой книгой – это встречи с новыми людьми. Всем, кто помог мне написать эту книгу, хочу сказать огромное спасибо за то, что не остались равнодушны, за время, оторванное от собственной работы и отдыха. Без вашей щедрой помощи многие страницы в книге остались бы пустыми, многие важные выводы не были бы сделаны. Орбита этого исследования огромна, она простирается от необъятной России в Европу и далеко за океан, в Америку. Столь же огромен и круг людей, которые заслужили благодарность.
Спасибо директору Исторического музея, моему однокурснику Алексею Константиновичу Левыкину, а также руководителю отдела древнерусской живописи Людмиле Петровне Тарасенко и ее сотрудникам: Любови Александровне Корнюковой, проведшей не один час со мной в душной комнате отдела учета, а также Евгении Сергеевне Охотниковой и Марине Александровне Гамовой за поиск информации. Спасибо, что приняли меня в свой круг, что терпеливо отвечали на мои бесконечные вопросы. Воспоминания о днях, проведенных в вашем отделе, хранят тепло и чувство дружеского внимания. В Историческом музее сердечно благодарю также Ирину Владимировну Клюшкину за помощь в Научно-ведомственном архиве и Елену Михайловну Юхименко, которая помогла мне лучше понять историю моленной Г. К. Рахманова.
Третьяковская галерея и судьба икон, которые были выданы в «Антиквариат» из этого музея, занимают в книге центральное место. Без помощи сотрудников галереи написать об этом было бы невозможно. Благодарю бывшего и нынешнего директоров ГТГ, Ирину Владимировну Лебедеву и Зельфиру Исмаиловну Трегулову, а также главного хранителя галереи Татьяну Семеновну Городкову за то, что не клали мои письма-запросы под сукно, что давали им ход. В поиске информации о поступлении икон в ГТГ и выдаче их в «Антиквариат» по заданию руководства мне помогала научный сотрудник отдела учета Маргарита Михайловна Корнилина. Благодарю ее за труд многих дней. Огромное спасибо Елене Валерьевне Буренковой, старшему научному сотруднику отдела древнерусского искусства ГТГ, которая по душевной доброте и отзывчивости откликнулась на мою просьбу и помогла с поиском информации. Благодарю и начальника отдела Наталию Николаевну Шередегу за то, что не препятствовала этому.
Работа над этой книгой подарила мне незабываемые летние поездки в Санкт-Петербург. В Русском музее мне помогали руководитель отдела древнерусского искусства Ирина Дмитриевна Соловьева и ведущий научный сотрудник отдела Надежда Валерьевна Пивоварова. Благодарю их за помощь в поиске места нахождения экспонатов первой советской иконной зарубежной выставки 1929–1932 годов, а также за ответы на многие другие мои вопросы. Хочу также сказать огромное спасибо главному хранителю Русского музея Ивану Ивановичу Карлову и сотрудникам отдела учета Елене Анатольевне Швецовой и Юлии Леонидовне Полищук. Благодаря им я смогла найти сведения о поступлениях и выдачах икон из Русского музея. В Санкт-Петербурге удалось мне поработать и в архиве Эрмитажа. С последующими вопросами и уточнениями я обращалась к заместителю заведующего отделом рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа Елене Юрьевне Соломахе и старшему научному сотруднику и хранителю византийских икон Юрию Александровичу Пятницкому, которых также сердечно благодарю. Благодарю и старшего научного сотрудника Музея истории религии в Санкт-Петербурге Марину Владимировну Басову за помощь в расследовании странствования факсимильных копий древних икон, побывавших на советской иконной выставке 1929–1932 годов. В этом же мне помогла советом и Наталья Игнатьевна Комашко из Музея имени Андрея Рублева в Москве, за что я ей благодарна.
Сердечно благодарю Елену Витальевну Гувакову и Марину Львовну Харлову за десятки писем, которые они прислали мне, отвечая на мои вопросы.
В поисках современного места нахождения экспонатов выставки 1929–1932 годов я посылала запросы в провинциальные музеи. Меня приятно удивили их прекрасные сайты и быстрота связи. Благодарю сотрудников, которые ответили на мои письма: Юлию Борисовну Комарову, хранителя фонда древнерусской живописи в Новгородском музее-заповеднике; Ирину Валентиновну Соколову, главного хранителя, и Елену Анатольевну Виноградову, хранителя коллекции древнерусской живописи в Вологодском музее-заповеднике; Татьяну Михайловну Кольцову, заведующую отделом древнерусского искусства в Государственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск); Раису Александровну Дунаеву, главного хранителя Архангельского краевого музея; старшего научного сотрудника Татьяну Валерьевну Кузнецову и директора филиала «Ризница Троице-Сергиевой Лавры» Людмилу Михайловну Воронцову; заведующую отделом древнерусского искусства Марину Алексеевну Быкову и заведующую отделом изобразительного и прикладного искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника Татьяну Николаевну Меркулову.
Исследуя легенду о происхождении некоторых проданных икон из Киево-Печерской лавры, я консультировалась с научными сотрудниками Лаврского заповедника. Хочу их всех поблагодарить за помощь, но особенно – ведущего сотрудника Евгения Павловича Кабанца за ценные советы и предоставленные материалы на украинском языке.
Для меня, социально-экономического историка, привыкшего работать в глухих архивных «бункерах» РГАЭ, ГАРФ и РГАСПИ, работа в музейных архивах была новым опытом и огромным удовольствием. Прекрасно было после часов, проведенных в уютном маленьком читальном зале, спуститься на этаж и оказаться в лоджиях Рафаэля в Эрмитаже, или зайти на выставку Михаила Шемякина в Мраморный дворец, или пройтись по любимым еще со школьных времен залам Третьяковки. Не меньше радости принесла и встреча со старыми друзьями и коллегами в моих базовых архивах по социально-экономической и политической истории, где прошли десятилетия работы. Особая благодарность – директору РГАСПИ Андрею Константиновичу Сорокину и начальнику отдела специальных фондов РГАЭ Ирине Валентиновне Сазонкиной, с которыми меня связывают годы творческой дружбы, а также сотрудникам читального зала ГАРФ – Элеоноре Алексеевне Болотиной и Вере Алексеевне Хамидовой. Невозможно назвать всех поименно, но благодарю всех руководителей, сотрудников хранилищ и читальных залов российских архивов – РГАЭ, ГАРФ, РГАСПИ, РГАЛИ, ЦГАЛИ, Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ) за их труд и помощь в данном исследовании.
Спасибо моим дорогим университетским друзьям Татьяне Юрловой и Елене Филипповой (Кузнецовой) за часы, проведенные со мной в музейных архивах и библиотеках, а Антону Горскому – за готовность помочь в многочисленных проблемах, с которыми я обращалась к нему все эти годы.
Во Франции живет и учится в Школе практических исследований (Ecole pratique des hautes études) прекрасная русская девушка Анастасия Залозина. Она пишет диссертацию о восприятии иконы во французской культуре XX века и о месте иконы на рынке искусства Франции. Она очень помогла мне с информацией о французских музейных и частных коллекциях. Выражаю ей сердечную благодарность.
В архиве Музея Виктории и Альберта в Лондоне, где в 1929 году побывала первая советская иконная выставка, хранится большой фонд документов, который в этой книге стал одним из основных источников для написания истории выставки. Многие западные архивы позволяют исследователям бесплатно фотографировать материалы. Благодарю Петра Юрьевича Бугославского за то, что сфотографировал для меня весь фонд и в тот же день прислал электронный файл с документами.
Спасибо работникам архивов и библиотек, кураторам музеев в Европе и США, которые помогали мне в поиске материалов для этой книги: Maria Saffiotti Dale (Chazen Museum of Art University of Wisconsin-Madison); Kirsten Simister (Ferens Art Gallery, Kingston-upon-Hull, England); Susan Hernandez (Cleveland Museum of Art); Jane Glover (De Young Museum, Fine Arts Museums of San Francisco); Hee-Gwone Yoo (New York Public Library); Anne Buening, Jay Brennan Pattison, Jennifer Hardin (Сincinnati Art Museum); Christine Clayton (Worcester Art Museum); Deborah Barlow Smedstad (Museum of Fine Arts, Boston); Scott Ruby, Marla Di Vietro, Kristen Regina (Hillwood Estate, Museum & Gardens); Irina Lukka (Slavonic Library, National Library of Finland); Ira Westergård (Sinebrychoff Art Museum, Finnish National Gallery); Laura Garrity-Arquitt (Museum of Russian Icons, Clinton); Katharine Baetjer, Vittoria Vignone, Gretchen Wold, Denny Stone, Patrice Mattia, Jim Moske, Margaret Samu (Metropolitan Museum of Art); Marielle Martiniani-Reber, Brigittе Monti (Musées d’Art et d’Histoire de Genève); Clare Elliott, Margaret C. McKee (Menil Collection, Houston); John Wilson (Timken Museum, San Diego); Serda Yalkin (Brooklyn Museum); Louise Cooling (Victoria and Albert Museum, London); Alexandra Neubauer (Ikonen-Museum, Frankfurt). Благодарю музеи, которые предоставили фотографии для моей книги.
В поисках проданных икон и их покупателей я обращалась в аукционный дом Кристи, фирму «A La Vieille Russie» и к другим мировым антикварам, которые занимаются продажей русских икон. Понимала, что ответов, скорее всего, не будет. Тем ценнее интервью с антикварами Ричардом Темплом (Richard Temple, the Temple Gallery, London) и Хайди Бетц (Heidе Van Doren Betz), активными участниками аукциона Кристи 1980 года, на котором было распродано иконное собрание Джорджа Ханна, купленное через «Антиквариат». Искренне благодарю Ричарда Темпла и Хайди Бетц за то, что поделились со мной воспоминаниями о тех годах. Хочу поблагодарить и Владимира Тетерятникова, ныне покойного, за то, что сохранил в своем архиве материалы об аукционе 1980 года, данные о проданных иконах и их западных покупателях.
В заключение хочу сказать слова особой благодарности двум прекрасным женщинам, историкам искусства в России и США, Ирине Леонидовне Кызласовой и Венди Салмонд (Wendy R. Salmond) за щедрость, с которой они делились со мной своими знаниями, научными открытиями, временем, дружеским вниманием, и за поддержку.
Работа над книгой требует времени и денег. Поездки и архивные исследования в России и за рубежом стали возможны благодаря грантам и стипендиям европейских и американских организаций: Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland (2012); Kennan Institute, Woodrow Wilson Center, Washington, D. C.(2010); Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington, D. C. (Ailsa Mellon Bruce Visiting Senior Fellowship, 2009), а также благодаря исследовательскому гранту Университета Южной Каролины (Advanced Support for Innovative Research Excellence, 2013–2014) и неизменной финансовой поддержке моего факультета. В 2015 году проект этой книги получил грант Американского совета научных обществ (American Council of Learned Societies). Он на целый год освободил меня от преподавания и позволил завершить книгу.
Эту книгу я хотела посвятить двум прекрасным талантливым девушкам, моим дочерям Анне и Клио, однако судьба распорядилась по-иному. Когда работа над книгой уже близилась к концу, не стало Андрея Константиновича Соколова. Этот человек когда-то решил мою профессиональную судьбу. После защиты кандидатской диссертации на историческом факультете МГУ в 1987 году я несколько лет не могла найти работу по специальности, мои знания и энергия, казалось, никому не были нужны. Андрей Константинович, когда-то бывший моим профессором, пригласил меня на работу в свой отдел в Институт отечественной истории Академии наук. Он много работал сам и дал творческую свободу своим сотрудникам. Если бы не он, мои книги, включая и эту, не были бы написаны. Наступает то время жизни, когда надо отдавать долги. Эту книгу я с благодарностью и грустью посвящаю ему.
Пролог. Скандал в доме Кристи
В апреле 1980 года с торгов аукционного дома Кристи[9] в Нью-Йорке разлетелась по всему свету коллекция древнерусского искусства, собранная авиапромышленником из Питтсбурга Джорджем Р. Ханном[10]. Хозяин коллекции умер, и его наследники, видимо, решили пополнить свое состояние. Аукционный дом Кристи выставил на торги 223 предмета из коллекции Ханна, в том числе оклады, церковные утварь и одежду, митры, венчальные короны, кресты, панагии[11], а также русский фарфор и предметы из серебра европейской работы. Но главное внимание было приковано к произведениям древнерусской живописи. Собрание Ханна было внушительным – 91 икона. Вопреки обычному порядку ведения аукционов Кристи, иконы не вносили в зал по отдельности. Все они были развешены на стенах, специально для этого события обитых красным бархатом, дабы подчеркнуть позолоту икон. Более трехсот потенциальных покупателей, среди них много европейцев, собрались в зале Кристи, чтобы принять участие в торгах.
Аукционная распродажа коллекции Ханна с успехом шла два дня – непроданными остались только 14 предметов – и принесла его наследникам более 3 млн долларов, из них 2,8 млн пришлось на продажу икон. Иконы всего за два часа все ушли с молотка. Ставки в несколько раз превысили ожидаемые цены. Мировой рекорд, поставленный всего лишь год назад, – 75 тыс. долларов за отдельную икону – был побит семь раз и стал выглядеть вполне обыденно. Икона «Вознесение» XVI века московской школы из коллекции Ханна (лот 56) ушла с аукциона Кристи за 170 тыс., за новгородскую икону XVI века «Страшный суд» (лот 90) покупатель заплатил 150 тыс., за новгородское «Рождество» XV века (лот 74) – 140 тыс. долларов; московское «Успение» XVI века (лот 55) и икона «Святой Василий, с клеймами», датированная концом XV – началом XVI века (лот 85), были проданы за 130 тыс. долларов каждая[12]. Современным коллекционерам эти цены могут показаться низкими, но для 1980 года они были рекордными[13].
Продажа коллекции Ханна не была первым или единственным в период холодной войны аукционом древнерусского искусства на Западе. Советское правительство, продолжая начатое Лениным и Сталиным дело, продавало художественные ценности. Газета «Вашингтон пост» в январе 1970 года сообщала, что Советский Союз прислал в Лондон 162 иконы, в основном XVII века, для продажи на аукционе Кристи, назначенном на 24 февраля. «Лица мадонн, святых и патриархов похожи на лица русских… добропорядочные, но грустные и все со следами страдания», – писал американский журналист[14]. Советское правительство требовало от западных аукционеров не выставлять иконы, вывезенные из СССР контрабандой. Официальным поставщиком русских икон на Запад при Брежневе была советская торговая организация «Новоэкспорт» – продолжатель бесславного дела сталинского «Антиквариата». На Западе продавали и частные иконные коллекции. Так, в июне 1973 года с торгов Кристи в Дюссельдорфе было распродано собрание икон Жана Эрбетта (Jean Herbette), которое он собрал в 1924–1930 годах в бытность послом Франции в СССР[15].
Распродажа коллекции Ханна, однако, стала гораздо более заметным событием, чем распродажа собрания Эрбетта. Иконы Ханна, которые он купил через «Антиквариат» в 1935 и 1936 годах, были знамениты на Западе. Считалось, что Ханну посчастливилось заполучить шедевры древнерусского искусства из Третьяковской галереи, Исторического и Румянцевского музеев, в том числе и иконы из прославленных еще с дореволюционных времен коллекций. В подобном поверье не было ничего невероятного или неправдоподобного, так как к тому времени западные коллекционеры и рядовая публика получили неоспоримые доказательства того, что советское руководство, находясь в тяжелом финансовом положении, в 1930‐е годы действительно продавало музейные шедевры. Знаменитые полотна Эрмитажа теперь висели в нью-йоркском музее Метрополитен, Национальной галерее искусств в Вашингтоне, Музее искусств в Филадельфии, а также в музеях Европы. Логика обывателя была проста: если на продажу шли лучшие картины Эрмитажа, то правительство могло продать и иконные шедевры Третьяковской галереи, тем более что воинственное отношение советской власти к религии и церкви в первые послереволюционные десятилетия было печально известно.
За 45 лет своего существования на Западе коллекция Ханна десятки раз выставлялась в музеях мира, включая блистательный Метрополитен – крупнейший и наиболее посещаемый американский музей[16], а также ведущий иконный музей в Европе – немецкий Реклингхаузен. Иконы Ханна были воспроизведены в книгах и стали предметом специальной монографии[17]. Немалую роль в создании мировой репутации коллекции сыграл каталог, который в 1944 году составил русский по происхождению директор Музея естественной истории Института Карнеги в Питтсбурге Андрей Авинов[18].
За все время существования коллекции Ханна никто ни на Западе, ни в СССР публично не ставил под сомнение происхождение, подлинность и значимость составлявших ее икон. На иконы Ханна зарились многие западные антиквары и коллекционеры, завидуя удаче счастливчика, как в свое время собиратели полотен старых европейских мастеров наверняка завидовали Эндрю Меллону, не упустившему уникальный шанс заполучить шедевры Эрмитажа[19]. И вдруг негаданная удача! По смерти владельца коллекция не завещана музею, а отправлена на торги. Неудивительно, что иконы с аукциона Кристи расхватали как горячие пирожки на воскресном базаре. Однако не успели новые владельцы насладиться и нагордиться своими приобретениями, как разразился скандал. В 1981 году в Нью-Йорке на английском языке вышла книга, в которой иконы Ханна были объявлены фальшивками[20]. Книга была авторским самиздатом, так как ни одно издательство на Западе не решилось вступить в конфликт и неизбежную судебную тяжбу с домом Кристи[21]. Автором этой печатной бомбы был русский эмигрант Владимир Тетерятников. Вопрос о компетентности Тетерятникова как эксперта древнерусской живописи вызывает споры, однако опыт реставратора у него был[22].
Досталось всем. Ханну – за то, что якобы сохранил в тайне свои сомнения в подлинности икон, которые, как считал Тетерятников, у него окрепли или по крайней мере появились после первой и единственной поездки в 1972 году в Советский Союз, где коллекционер-авиапромышленник увидел шедевры Третьяковской галереи. Не случайно же, писал Тетерятников, по возвращении Ханн перестал выставлять свои иконы и не завещал их музею[23]. Автору каталога 1944 года Авинову, «самоучке, никогда не видавшему подлинной иконы», досталось за дилетантство и излишнее стремление угодить богатому и влиятельному покровителю. По мнению Тетерятникова, именно Авинов, который провел немало счастливых часов в имении Ханна в Пенсильвании, создал миф о величии этой «коллекции призраков», отплатив Ханну за гостеприимство, благосклонность, а возможно, и щедрость. Западным специалистам, которые реставрировали иконы Ханна, досталось за непрофессионализм, а более всего за сознательную и якобы не без участия самого Ханна дальнейшую фальсификацию икон. Тетерятников обвинил и аукционный дом Кристи за то, что тот выставил на торги произведения искусства без надлежащей экспертизы[24].
Десятки экземпляров самиздата Тетерятникова разошлись по цене от 75 до 500 долларов. Даже Центральное разведывательное управление (ЦРУ) купило книгу[25]. Сам автор приобрел репутацию скандального детектива, принципиального и хитроумного следователя, этакого Порфирия Петровича от искусствоведения[26], а то и вовсе главного инквизитора в борьбе за чистоту презентации русской культуры на Западе, способного довести до апоплексического удара антикваров и подорвать основы иконного бизнеса. Последствия скандала, действительно, были серьезными. Тетерятникову пришлось пережить тяжбу с домом Кристи, который, пытаясь остановить публикацию книги, обвинил его в клевете и нарушении авторских прав в использовании материалов аукционного каталога[27]. Консультанты по иконам лондонского и нью-йоркского офисов Кристи, Элвира Купер и Бронислав Дворский, потеряли работу[28]. Иконный отдел Кристи в Нью-Йорке был закрыт, а сама фирма на время отказалась от аукционов древнерусского искусства, проводя лишь продажи единичных икон, затерявшихся среди других художественных ценностей[29]. Едва взлетев, цены на мировом иконном рынке рухнули. Доверие коллекционеров к антикварам и экспертам было серьезно подорвано, да и сами продавцы стали бояться связываться с товаром, атрибуцию которого, как стали считать, провести было очень сложно, если вообще возможно. Кто-то из разочарованных покупателей икон Ханна попытался вернуть их назад Кристи, но без успеха[30]. Кто-то спрятал подозрительные иконы в темных хранилищах с глаз долой. Кто-то решил не связываться с судами и не плакать о потраченных деньгах, повесил иконы в своих домах и прожил с ними до конца жизни. Другим пришлось изрядно потратиться, чтобы провести экспертизу и восстановить репутацию своих приобретений. Скандал затянулся на годы. Со времени торгов прошло уже семь лет, когда трое из клиентов Кристи, купившие иконы на злополучном аукционе, предъявили иск аукционному дому за сознательный обман покупателей. Заплатив за три иконы немногим более 62 тыс. долларов, они потребовали возмещения ущерба на 23 миллиона[31]. Благодаря этому иску мир узнал, где именно оказались некоторые из бывших икон Ханна, но об этом позже. Кристи пришлось принимать энергичные меры, включая угрозы подать встречные иски за клевету[32].
Владимир Тетерятников считал, что практически все иконы из коллекции Ханна, большинство которых до его разоблачений относили к XV–XVI векам, являются новоделом – живописью начала XX века, в основном на досках XVIII–XIX, в редких случаях XVII века[33]. В своей книге он писал, что одни иконы были сознательно изготовлены в начале ХХ столетия с целью обмана покупателя, но многие появились на свет не как подделки. Тетерятников утверждал, что иконы Ханна как цельная группа являлись детищем Серебряного века, или, как он выразился в другой своей публикации, «серебристых имитаторов»[34]. По его мнению, они были продуктом творческого переосмысления русского средневекового искусства модернистами, своеобразным воплощением «Ballet Russe» в иконных образах Древней Руси. Совсем не случайно, пишет Тетерятников, именно основатель «Ballet Russe» Сергей Дягилев, устроив в 1906 году выставку икон в Париже, познакомил европейскую публику с древнерусским искусством. По мнению Тетерятникова, художники, имитируя известные шедевры древнерусской живописи и сознательно привнося в нее элементы нового, утверждали право на творческую свободу. Яркие краски, сюрреалистические архитектурные ландшафты и неестественность ракурсов на иконах Ханна, согласно гипотезе Тетерятникова, были результатом влияния как Рублева, так и Стравинского, Матисса и Врубеля[35].
Тетерятников, безусловно, был прав, утверждая, что аукционному дому Кристи следовало провести обстоятельную экспертизу икон до того, как объявлять их шедеврами древнерусской живописи, но в разгар холодной войны советское руководство вряд ли бы разрешило экспертам Третьяковской галереи ехать в Нью-Йорк изучать проданное Сталиным национальное достояние. Однако в оценке выводов Тетерятникова следует принимать во внимание и то, что и он сам был лишен возможности провести серьезный анализ икон Ханна. Он осматривал их вместе с остальной публикой «на глаз» в дни предаукционного показа. По собственному признанию Тетерятникова, «…никаких ультрахимических или экстратехнических, атомных, карбонных и вообще трансцендентальных анализов в моей книге нет. Во-первых, потому, что никто никогда мне ничего не разрешал и не давал исследовать в этих иконах. Все, что я увидел, это то, что мог увидеть рядовой посетитель выставки – то есть я смотрел на глазах публики 10 дней[36]. А все сотрудники Кристи стояли рядом и угрожали – не трожь, не переворачивай, не записывай, не фотографируй. У тебя есть только глаза – это разрешается даром и свободно. Остальное запрещено. И никто никакой информации мне не давал…»[37]. Тетерятников посчитал такой осмотр достаточным для вынесения убийственного приговора целой коллекции икон[38].
По мнению Тетерятникова, живопись на иконах Ханна находилась в чересчур идеальном состоянии[39], а «искусственно состаренные доски» были слишком толстые и гладкие, чтобы иконы можно было датировать XV–XVI веками. Якобы идентичный стиль и цвет живописи большинства икон Ханна, считал он, противоречили утверждению, что они написаны в разных землях Древней Руси, и слишком явно отражали вкусы и предпочтения начала ХХ века. Якобы «почти точное» сходство ряда икон Ханна с шедеврами в собрании Третьяковской галереи стало для Тетерятникова основанием утверждать, что они скопированы со знаменитых оригиналов с применением новомодного в начале прошлого столетия проектора. Однако основной повод для сомнений в их подлинности, по признанию Тетерятникова, дали этикетки и инвентарные номера на обратной стороне икон. Он пишет: «Как эксперт, я должен признаться, что эти номера дали главную подсказку, которая послужила причиной сомневаться в аутентичности ряда работ, исполненных с необыкновенным мастерством. Только тогда, когда я осознал, что эти номера словно говорят „посмотри, посмотри, здесь что-то есть“, я пустил в дело свои знания и интуицию»[40].
Тетерятникову показалось подозрительным, что икона в коллекции Ханна могла иметь сразу несколько этикеток разных музеев и владельцев – Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея фарфора, Румянцевского музея, А. В. Морозова. Бессмысленным показался ему и несколько раз встречавшийся на обратной стороне икон адрес – «Мертвый пер., 9». Он посчитал, что эти этикетки, не зная меры, наклеивали советские продавцы, дабы придать иконам больше солидности. «Большинство этикеток, – писал Тетерятников, – на вид кажутся подлинными, хотя невозможно гарантировать, что каждая из них прикреплена именно к той иконе, для которой эта этикетка была сделана. Других этикеток явно не должно было быть на произведении искусства; на одной из них читаем: „Краткое описание; отдел второй; № 18“. Вероятнее всего, это были этикетки от ящиков некоего каталога карточек. Они, вероятно, были приклеены на иконы потому, что кто-то считал, что любой официального вида кусочек бумаги на русском языке придаст иконам видимость подлинности. Однако наличие обеих, „подлинных“ (в кавычках! – Е. О.) и фиктивных этикеток, в одной коллекции неизбежно заставляет сомневаться в аутентичности и тех и других»[41]. Далее по поводу икон, предположительно принадлежавших некогда коллекции А. В. Морозова, Тетерятников пишет: «Нужно помнить, однако, что не сами Морозовы прикрепляли эти этикетки, а советская торговая организация [сделала это] в 1936 году, когда иконы были проданы Ханну»[42]. Основанием для такого утверждения для Тетерятникова служил тот факт, что коллекция Морозова была национализирована задолго до продажи икон Ханну.
На протяжении всей книги Тетерятников вновь и вновь возвращается к «подозрительным» инвентарным номерам и этикеткам и не находит ответа на вопросы: почему на иконе Ханна может быть несколько разномастных номеров или два разных номера с одной и той же аббревиатурой ГТГ – Государственная Третьяковская галерея? Почему сразу несколько икон могли иметь один и тот же номер, например 5666 ГТГ? Инвентарные номера казались ему выдуманными, ложными, лишенными смысла и логики. Не найдя внятного объяснения, Тетерятников посчитал, что тот, кто ставил эти номера на обратной стороне икон, просто хотел посмеяться над западными покупателями, неучами и простофилями. Тетерятников писал: «К тому же это фальшивые инвентарные номера. Понятно, что можно было придумать любые числа или, при отсутствии воображения, случайно выдергивать номера из таблиц. Но даже если бы кто-то доверил ребенку составить список [номеров], он не смог бы получить группы [столь несуразные], подобно тем, что на этих иконах. Очевидно, мастеру надоело продолжать работу с той серьезностью, с которой он ее начал, и он решил состряпать эти мистические номера, несомненно к развлечению своих коллег»[43].
Инвентарные номера, регистрация, учет. Казалось бы, ску-ко-ти-ща. Но не нужно торопиться с выводами. Знающий исследователь по инвентарным номерам прочитает историю странствования иконы. Аукцион Кристи 1980 года был последней возможностью увидеть всю коллекцию Ханна целиком. После торгов иконы разлетелись по разным владельцам, как стулья из-под носа Остапа и Кисы в знаменитом романе Ильфа и Петрова[44], с той только разницей, что стульев было всего лишь двенадцать, а икон – почти сотня. Собрать все иконы Ханна уже не удастся. Каталог Кристи лишь выборочно приводит информацию с обратной стороны икон, поэтому собранные Владимиром Тетерятниковым данные очень ценны. Он скрупулезно скопировал номера с обратной стороны икон, вплоть до указания цвета краски, какой они были написаны, не подозревая, однако, что для будущих исследователей он сохранил не доказательства своей правоты, а доказательства своих заблуждений.
Музейные архивы, на основе материалов которых написана эта книга, доказывают, что инвентарные номера и этикетки на иконах Ханна не только не свидетельствуют о подделке икон, а, напротив, достоверно точно отражают историю великого переселения произведений искусства в послереволюционные десятилетия, а также историю формирования собрания Третьяковской галереи, разорения отдела религиозного быта Исторического музея, ликвидацию музеев, кратковременно существовавших на базе частных коллекций И. С. Остроухова и А. В. Морозова. Находят объяснение и цвет краски, и множественность, и «разношерстность» инвентарных номеров и этикеток на оборотах икон, и таинственный адрес «Мертвый пер., 9». Архивы также доказывают и то, что, вопреки утверждению Ю. А. Пятницкого, иконы, выданные на продажу из Третьяковской галереи, были включены в основные инвентари этого музея. Они прошли все этапы регистрации наравне с теми иконами, которые остались в собрании галереи.
Читая книгу Тетерятникова, я считала, что он искренне верил в бессмысленность и, следовательно, придуманность номеров и этикеток икон Ханна. Но внимательное знакомство с его личным архивом в Публичной библиотеке Нью-Йорка заставило меня изменить мнение. В период работы над книгой Тетерятников получал информацию из Москвы, которая подтверждала полное соответствие как названий икон из собрания Ханна, так и их инвентарных номеров, учетной документации Третьяковской галереи. Информантами Тетерятникова были не сотрудники галереи, а двое его бывших коллег из отдела металла Государственного научно-исследовательского института реставрации[45]. По роду своей работы и, видимо, благодаря профессиональному и личному знакомству эти люди имели доступ к инвентарным книгам галереи. Тетерятников выслал им каталог скандального аукциона Кристи, обширный список вопросов и инвентарные номера, которые он переписал с икон Ханна. В ответ по каждой из запрашиваемых икон он получил исчерпывающую информацию из инвентарных книг галереи: название и размер иконы, когда и откуда поступила в ГТГ, номер и дату акта поступления, инвентарные номера ГТГ, когда и по какому акту выдана в «Антиквариат» и даже объяснение, почему одни номера написаны белой, а другие – красной краской. Тем не менее в книге Тетерятников продолжал утверждать, что иконы не могли принадлежать Третьяковской галерее и их инвентарные номера были придуманы.
Владимир Тетерятников был прав, утверждая, что не музеи продавали иконы, а советская торговая организация, ошибочно считая, правда, что Ханн покупал у Торгсина[46], тогда как он купил свои иконы через посредника у Всесоюзной торговой конторы «Антиквариат». Именно она при Сталине занималась вывозом произведений искусства за рубеж. Благодаря обилию публикаций последних лет «Антиквариат» в основном печально известен разорением Эрмитажа, но он, как свидетельствует эта книга, немало похозяйничал и в других музеях. Третьяковская галерея, вопреки убеждению Тетерятникова, который в своей книге повторил ошибку американского историка Роберта Вильямса[47], не стала исключением. Как и другие музеи, галерея выдавала в «Антиквариат» произведения искусства для продажи. Третьяковская галерея была последним советским музейным хранилищем более половины икон Ханна. Многие проданные Ханну иконы попали в Третьяковку из Исторического музея, который в свою очередь ранее принял знаменитые частные коллекции, в том числе и иконы А. В. Морозова. Сохранившийся в архивах список иконного собрания А. В. Морозова, составленный им самим в 1920 году, свидетельствует о том, что некоторые иконы, купленные Ханном, несомненно происходят из этой знаменитой коллекции.
Владимира Тетерятникова, к сожалению, уже нет в живых. Он приезжал в Россию после распада СССР и, судя по оставленным в архивных делах автографам, работал с документами, но был в то время уже вовлечен в другую битву – дебаты о судьбе ценностей из зарубежных музеев, попавших в СССР в ходе Второй мировой войны[48]. Поработал он и в архиве Третьяковской галереи, в фонде И. Э. Грабаря. Видимо, искал, но без успеха, доказательства подделки икон. Однако скучную учетную документацию – ключ к ответу на многие его вопросы – он вновь оставил без внимания.
Музей искусств Тимкен в Сан-Диего (Timken Museum of Art, San Diego) до сих пор не решается выставить на обозрение икону «Рождество Христово», которую купил на аукционе Кристи в 1980 году за 70 тыс. долларов (лот 64). Возможно, что и другие покупатели икон Ханна, прочитав книгу Тетерятникова, в разочаровании и злости заперли их в чулан. Однако архивные документы, которые будут приведены в этой книге, свидетельствуют, что многие иконы Ханна поступили в Третьяковскую галерею и покинули ее стены как произведения древнерусского искусства XV–XVI веков.
История распродажи коллекции Ханна и последовавшего скандала – лишь предисловие к рассказу о том, как русские иконы послужили делу строительства коммунизма в Советском Союзе. Основное внимание в этой книге уделено судьбе икон, принадлежавших Третьяковской галерее. В той мере, в какой позволили сохранившиеся документы, в книге рассказано и о потерянных для России иконах Исторического и Русского музеев, а также о тысячах икон, которые были выданы на продажу из Государственного музейного фонда.
Часть I. Революция: рождение и гибель музеев
Глава 1. Моленная Павла Третьякова
Отдел древнерусского искусства Третьяковской галереи как собрание шедевров иконописи является советским детищем, результатом тех грандиозных изменений, которые произошли в России в послереволюционные десятилетия. Первоначальное собрание икон основателя галереи Павла Михайловича Третьякова, описанное академиком Николаем Петровичем Лихачевым[49] в 1905 году, было небольшим, оно насчитывало всего лишь 62 произведения[50], тогда как к середине 1930‐х годов в собрании галереи состояло уже почти три тысячи икон![51]
Искусствоведы и историки ведут дискуссию о том, насколько ценно было собрание икон Третьякова, положившее начало отделу древнерусского искусства галереи. По мнению специалистов, у Третьякова не было цели собрать представительное количество образцов всех школ иконописи. Разлад во мнениях наступает тогда, когда исследователи пытаются ответить на вопрос, какими критериями руководствовался Третьяков в отборе икон для своего собрания, чем именно была для него икона – предметом религиозного быта, историческим свидетельством или произведением искусства. Лихачев и Грабарь считали, что Третьякова прежде всего интересовало художественное значение иконы[52], главным доводом к тому для них служило намерение Третьякова сделать свою коллекцию икон частью музея русской живописи. Советский искусствовед Валентина Ивановна Антонова в предисловии к каталогу древнерусской живописи галереи 1963 года писала о собрании Третьякова как о добротном, но решительно отвергла мнение Лихачева и Грабаря. Она считала, что собирательство Третьякова отражало идеи его времени, в соответствии с которыми главное значение имела повествовательность иконы, отражение уклада народной жизни[53]. В собирательстве икон Третьяков, по мнению Антоновой, руководствовался теми же пристрастиями, что и в выборе картин передвижников для своей галереи. Первооткрывателем эстетического значения иконы как «искусства среди других искусств» Антонова считала художника и собирателя икон Илью Семеновича Остроухова[54]. Современный западный историк древнерусского искусства Вэнди Салмонд не согласна ни с Лихачевым и Грабарем, ни с Антоновой. По ее мнению, хотя Третьяков, быть может, и не выбирал иконы, руководствуясь критериями цвета и линий, но икона для него не была и лишь «рассказом для неграмотных». Намерение Третьякова включить иконы в собрание созданной им галереи преследовало цель впервые показать обществу полную эволюцию русской живописи, представив иконы в чрезвычайно богатом окружении, где ожили бы русская история и культура[55].
Оценка собрания икон Третьякова, положившего начало отделу древнерусского искусства галереи, зависит не только от того, как исследователи понимают замыслы Третьякова-собирателя, но и от их собственных вкусов, предпочтений и предубеждений, а также от времени, в котором они жили. В 1905 году Лихачев писал о собрании икон Третьякова как о «драгоценном и поучительном по качеству икон»[56], а в 1917‐м молодой в то время художник и искусствовед Алексей Васильевич Грищенко пренебрежительно отозвался о нем как о «неуклюжих „киотах“ русского „петушиного стиля“», где нет «почти ни одной настоящей новгородской иконы ранних эпох»[57]. Эти полярные мнения разделяет немногим более десятилетия, но за это время в истории изучения и собирательства икон поистине произошла революция. Высказывание Лихачева и собирательство самого Третьякова принадлежат к ранней зорьке открытия русской иконы, когда собиратели еще плохо знали древнерусскую живопись, спрятанную под слоями многовековых поновлений, потемневшей олифы и копоти. Во времена Третьякова ценились иконы XVII века московской школы и особенно строгановское письмо. Залихватские до перегиба слова Грищенко были сказаны в революционном порыве с его категоричным разрывом с прошлым и воспеванием новых идеалов.
Указ Николая II о веротерпимости 1905 года, призвавший положить конец преследованиям старообрядцев, главных хранителей древних икон, привел к строительству новых церквей-музеев и буму собирательства, а расчистка старых икон, принявшая на рубеже веков масштабный и систематический характер, позволила открыть древнюю живопись во всем ее великолепии. Первое знаменательное свидание российского общества с древним искусством XIV–XVвеков состоялось в 1913 году в Деловом дворе на Варварке, на выставке, устроенной Московским Археологическим институтом при исключительном участии Степана Павловича Рябушинского. Наступило время нового поколения исследователей и собирателей икон. Павел Муратов назвал их «безумствующими новаторами». Их критика собрания Третьякова, а вместе с ней и всего начального периода собирательства была частью грандиозного похода против реализма в искусстве во имя новых идей модернизма. Парадоксально, что открытие древнего искусства послужило делу утверждения авангардных взглядов начала XX века, ценивших форму выше содержания, а искусство ради самого искусства, причем искусства для посвященных. «Древне-русская иконопись, – запальчиво писал Муратов в 1914 году, – обращается к артистической восприимчивости, превышающей средний уровень ее в людях. От нехудожника нельзя требовать ответа на внушения этого искусства, почти исключающего возможность всякого иного подхода, кроме строго и чисто эстетического»[58]. Старые новгородцы в представлении этих молодых «безумствующих новаторов» оказались предтечами Матисса и других новомодных французов.
Столетие отделяет нас от тех жарких споров, и сейчас можно сказать, что собрание икон Павла Михайловича Третьякова в основном выдержало проверку временем. Из шестидесяти двух завещанных им галерее икон сорок семь были включены в каталог древнерусской живописи 1963 года. В собрании Третьякова есть и шедевры[59]. Несомненно, намерение Третьякова включить свои иконы в собрание галереи свидетельствует о том, что для него икона была частью не только русской истории, но и русской культуры. Однако, будучи порождением своего времени, это собрание было ограниченным. Оно в основном представляло произведения московской школы XVI–XVII веков, в том числе иконы строгановского письма. Третьяков собирал иконы в то время, когда древняя живопись еще не была открыта. Он умер в 1898 году, но, продлись его жизнь в двадцатое столетие, он, может быть, прислушавшись к мнению «безумствующих новаторов», пополнил бы свое собрание новооткрытыми и быстро ставшими модными у собирателей древними новгородскими иконами. Когда дело касалось покупки икон, Третьяков не стоял за ценой[60].
В начале ХХ века изучение иконописи и собирательство икон шли вперед семимильными шагами, и ко времени установления советской власти в России коллекция икон Третьяковской галереи не только не была лучшей или даже просто представительной, но находилась в стагнации. Со времени смерти Третьякова к 1917 году Совет галереи купил только одну икону[61]. Иконное собрание галереи не соответствовало ни уровню изучения и собирания икон, ни тому значению, которое имел этот музей русской живописи. Собрание икон Третьяковской галереи уступало как некоторым частным коллекциям, так и собранию икон Русского музея. Кроме того, при жизни Третьякова иконы не были включены в экспозицию. Перейдя галерее по завещанию, они вплоть до советского времени занимали там второстепенное место, ютясь в небольшой моленной комнате на втором этаже. Революция 1917 года, повлекшая массовую национализацию частных художественных собраний, а также произведений искусства, находившихся в церквях и монастырях, превратила крохотную моленную Павла Третьякова в собрание шедевров древнерусской живописи. Пополняя коллекцию икон галереи, потомки нарушили предсмертную волю ее основателя. Третьяков завещал хранить свою коллекцию в том виде, в каком она существовала при его жизни, выставляя все новоприобретенное отдельно. Однако немногочисленные иконы Третьякова растворились в громаде нового собрания, некоторые из его икон оказались в запасниках. Две иконы из его собрания, как покажет это исследование, были проданы через «Антиквариат».
Одна из них, икона «Свв. Макарий Александрийский и Макарий Египетский», оказалась в коллекции уже известного читателю американского авиапромышленника Джорджа Ханна (прил. 21 № 12). «Антиквариат» продал ее как произведение Центральной России XVII века. С аукциона Кристи в 1980 году икона ушла за 13 тыс. долларов[62]. Составляя в 1944 году каталог коллекции, Авинов не знал о том, что «Макарии» происходят из первоначального собрания Павла Михайловича Третьякова, основателя знаменитой галереи русского искусства, а ведь одного этого факта было бы достаточно, чтобы еще выше поднять престиж и цену коллекции Ханна. Впервые о передаче этой иконы в «Антиквариат» в сноске мелким шрифтом упомянула Антонова в каталоге галереи 1963 года[63].
Владимир Тетерятников пользовался этим каталогом и благодаря Антоновой доподлинно знал, что икона «Свв. Макарий Египетский и Макарий Александрийский» происходит из Третьяковской галереи, из собрания Павла Третьякова. Именно поэтому он в своей книге не назвал ее подделкой, единственную из пятидесяти описанных им икон собрания Ханна. Зная о принадлежности этой иконы Третьяковской галерее, Тетерятников использовал ее инвентарный номер как эталон подлинности. В отличие от несуразных, громоздких и разномастных, по мнению Тетерятникова, инвентарных номеров других икон Ханна, на обратной стороне изображения «Макариев» был простой и вразумительный № 30 ГТГ. Однако иначе и быть не могло. «Макарии» были частью первоначального небольшого иконного собрания Третьякова. Икон с подобной историей в галерее были лишь десятки, тогда как тысячи других, перед тем как попасть в Третьяковскую галерею, странствовали в вихре революции из собрания в собрание, из музея в музей, из хранилища в хранилище, по пути получая все новые этикетки и инвентарные номера. В этом факте заключен ответ на вопрос, мучивший Тетерятникова, – почему иконы в коллекции Ханна, предположительно принадлежавшие собранию Третьяковской галереи, кроме иконы «Свв. Макарий Египетский и Макарий Александрийский», отсутствуют в досоветских каталогах галереи. Каталогизация и изучение новоприобретенных икон затянулись на десятилетия. Первый советский каталог древнерусского собрания галереи вышел лишь в 1963 году.
Глава 2. Великое переселение
Революция была временем великого переселения произведений искусства. После того как советская власть объявила художественные ценности народным достоянием[64], их возами, подводами, а то и вагонами стали свозить из разоренных дворцов, усадеб, поместий, церквей, монастырей, частных особняков и квартир в московские и петроградские музеи. Ящики, коробки и тюки с национализированным художественным имуществом молодой республики до предела заполнили запасники и подвалы, а зачастую и экспозиционные залы Эрмитажа, Русского и Исторического музеев, Третьяковской галереи, Оружейной палаты[65], а также хранилища новорожденного Государственного музейного фонда[66], занявшего бывшие особняки. В Москве это были дома В. О. Гиршмана у Красных ворот (Мясницкий проезд, 6), В. П. Берга на Арбате (ныне Театр им. Вахтангова), фон Дервиза-Зубалова на Садовой-Черногрязской, А. В. Морозова в Введенском переулке (сейчас Подсосенский, 21), а также Английский клуб на Тверской (в советское время Музей революции, ныне Музей современной истории России) и др.
Наиболее ценные частные собрания икон после революции перешли в собственность государства[67]. Одна из лучших в начале XX века коллекция икон промышленника Степана Павловича Рябушинского[68], оставленная владельцем, спешно уехавшим за границу, сразу поступила в Государственный музейный фонд, как и брошенное собрание икон князя Сергея Александровича Щербатова[69]. Наследники, жена и сын, фабриканта Льва Константиновича Зубалова[70] во время революционных событий осени 1917 года пожертвовали его коллекцию икон Румянцевскому музею[71]. Коллекция находилась в Москве в доме № 6 по Садовой-Черногрязской улице, когда-то купленном Зубаловым у железнодорожных магнатов фон Дервизов. Вначале особняк получил статус филиала Румянцевского музея, но вскоре был превращен в главное хранилище Государственного музейного фонда. Сюда, в так называемый «зубаловский фонд», со временем были свезены тысячи икон из других частных собраний и учреждений. Исключительное собрание художника Ильи Семеновича Остроухова стало Музеем иконописи и живописи на правах филиала Третьяковской галереи[72]. Оно оставалось в собственном доме Остроухова в Малом Трубниковском переулке (ныне это здание принадлежит Литературному музею). Коллекция Алексея Викуловича Морозова[73], помимо икон включавшая грандиозное собрание русского фарфора, гравюр и литографий, а также табакерки и старое русское серебро, после национализации превратилась в Музей-выставку русской художественной старины. Одновременно советская власть открывала в районах Москвы Пролетарские музеи для художественного просвещения масс. Так, в экспозиции 1-го Пролетарского музея, открытого в 1918 году к годовщине революции, выставлялась старообрядческая моленная Рахмановых[74]. Несколько сотен икон находилось в экспозиции Пролетарского музея Рогожско-Симоновского района на Гончарной улице[75]. После его закрытия иконы поступили в «зубаловский фонд», а оттуда позже были распределены между музеями и «Антиквариатом»[76].
Бывшие владельцы коллекций, например И. С. Остроухов, А. В. Морозов и Л. Л. Зубалов в Москве, Н. П. Лихачев в Петрограде[77], В. Н. Ханенко в Киеве[78], вначале исполняли обязанности директоров-хранителей своих коллекций-музеев. Алексей Викулович Морозов жил при собрании, расположившись в двух комнатах в новоиспеченном музее в своем бывшем особняке во Введенском переулке. Он сам занимался описанием коллекции, так что, вопреки скептицизму Владимира Тетерятникова, вероятнее всего, собственноручно писал инвентарные номера и клеил этикетки нового музея на свои иконы.
В революционных событиях находят объяснение и так озадачившие Тетерятникова этикетки Музея фарфора и адрес «Мертвый пер., 9» на морозовских иконах в коллекции Ханна. Русский фарфор занимал главное место в эклектичной коллекции Морозова – 2459 предметов! В 1921 году Музей русской художественной старины, в который превратилось бывшее собрание Морозова, был преобразован в Музей фарфора. Дом № 9 в Мертвом переулке в Москве (ныне здание посольства Дании) до революции занимала знаменитая красавица, воспетая поэтами, писателями и художниками, Маргарита Кирилловна Морозова, урожденная Мамонтова, жена московского фабриканта, мецената и коллекционера русской и европейской живописи Михаила Абрамовича Морозова. Она и после революции оставалась жить в этом особняке, но теперь уже в подвале.
С лета 1918 года в течение более трех лет дом № 9 в Мертвом переулке занимал Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, или, коротко, Музейный отдел, которым вначале недолго заправлял Грабарь, а затем Наталья Троцкая, жена Льва Троцкого. Эмиссары Музейного отдела спасали произведения искусства по всей разоренной стране, вывозя их из усадеб, церквей и монастырей в хранилища Музейного фонда, вели их регистрацию и распределяли по музеям. В особняке в Мертвом переулке побывало немало художественных и исторических ценностей, о чем и свидетельствует штамп с адресом на их обратной стороне. Такой адрес остался и на некоторых иконах Ханна, немало смутив Тетерятникова.
Реставратор и искусствовед Н. Н. Померанцев вспоминал события тех лет:
Несмотря на мрачное название переулка, где мы размещались, отдел музеев напоминал шумный, жужжащий пчелиный улей. И уж никак не походил на канцелярию! С утра до вечера в нем толкались художники и антиквары, писатели и музейные работники, хлопотавшие о коллекциях фарфора, артисты, имеющие ценные собрания картин, вроде балерины Большого театра Е. В. Гельцер, другие люди. Тут можно было встретить и монаха из далекого северного скита, и старца из Оптиной пустыни, московских старообрядцев, пекущихся о древних иконах и старопечатных книгах. И, конечно, масса ходоков с самых отдаленных концов страны – учителей, заведующих новыми музеями, работников только что организуемых на местах отделов народного образования, представителей ревкомов, волостных и уездных Советов, даже чрезвычайных комиссий, которым приказывалось «принять решительные меры борьбы против бессовестного хищения народного достояния»…[79]
Национализация произведений искусства и концентрация шедевров в главных государственных музеях давала уникальные возможности, но и таила вполне реальные опасности. Благодаря национализации стало возможным раскрытие чудотворных икон, без чего нельзя было бы увидеть и изучать древнерусскую живопись, скрытую под более поздними поновлениями и загрязнением. Такое разрешение можно было получить лишь от советской власти, церковь не дала бы на это согласие. Однако национализация и перемещение такого огромного количества ценностей в период революционного хаоса, насилия и воинствующего атеизма были связаны с огромными потерями и порчей художественных произведений. Даже поступление в ведущие музеи не гарантировало сохранности. Музеи задыхались от недостатка площадей; документы описывают ужасы хранения в порой не приспособленных для этого битком забитых помещениях.
Сконцентрировав львиную долю художественного достояния страны в нескольких крупных музеях и хранилищах Государственного музейного фонда, советская власть затем начала процесс сложного и затянувшегося на годы перераспределения ценностей. Коллекции дробились и обезличивались: наиболее ценное поступало в центральные музеи, причем произведения искусства могли переходить из одного музея в другой; драгоценности уходили в Гохран, менее ценное поступало в провинциальные музеи или Госфонд для продажи через антикварные магазины. Иконы не избежали этой участи, они тоже оказались втянуты в сложный процесс централизации и перераспределения. Так, после преобразования Музея русской художественной старины в Музей фарфора началось странствование икон А. В. Морозова. Через Музейный фонд часть их была распределена по музеям, другие проданы. В 1920‐е годы были расформированы собрание икон Румянцевского музея и зубаловская коллекция. Более счастливой оказалась судьба иконного собрания И. С. Остроухова. По смерти бывшего владельца в 1929 году Музей иконописи и живописи был закрыт[80], но иконное собрание избежало распыления и в основном поступило в Третьяковскую галерею[81].
Впрочем, вначале вовсе не Третьяковская галерея стала главным местом концентрации шедевров иконописи. Этот факт может вызвать удивление у наших современников, которые привыкли считать ее лучшим мировым собранием древнерусского искусства. Однако после революции претендентов на роль главного иконного музейного хранилища хватало. Прекрасные и в большинстве случаев гораздо более значимые, чем в то время у Третьяковки, коллекции икон имели и Русский музей, в котором еще с дореволюционного времени оказалась коллекция Лихачева[82], и Исторический и Румянцевский музеи, и Музей иконописи и живописи с блистательным собранием Остроухова, и Музей русской художественной старины – собрание Морозова, а также известные старообрядческие общины. Во власти государства было назвать любой из них главным иконным музеем страны и заполнить национализированными сокровищами.
Решением Наркомпроса в 1924 году выбор пал на Исторический музей, Третьяковке же государство в то время определило специализацию в светской русской живописи XVIII–XIX веков. Возможно, в выборе Исторического музея в качестве основного иконного музейного хранилища страны сыграло роль то, что он к тому времени уже имел многотысячную коллекцию религиозных древностей, подаренную купцом и собирателем Петром Ивановичем Щукиным, а его директором был Николай Михайлович Щекотов, стоявший у истоков изучения русской иконы. Кроме того, созданный в начале 1920‐х годов отдел религиозного быта[83] Исторического музея возглавлял один из самых энергичных членов Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи Александр Иванович Анисимов[84]. Личность Анисимова неразрывно связана с триумфальным стремительным ростом иконного собрания Исторического музея, а затем и с трагедией отдела религиозного быта. Возможно, однако, и то, что чиновники в Наркомпросе, принимавшие решение о выборе Исторического музея в качестве главного иконного хранилища, все еще находились в плену традиционных представлений об иконе как историческом, бытовом и религиозном предмете. Ведь ГИМ в то время считался историко-бытовым, а не художественным музеем.
Глава 3. Трагедия исторического музея
Иконное собрание Исторического музея до революции в основном составлялось дарами священнослужителей, дворянских и купеческих семей, а также закупками на торгу и у частных лиц[85]. Известно, например, что А. В. Морозов в начале ХХ века преподнес в дар музею небольшую икону «Богоматерь Ярославская», которая в его старообрядческой семье считалась произведением Андрея Рублева. Рублевская легенда, однако, не подтвердилась[86]. В 1904 году Исторический музей получил коллекцию российских древностей купца и мецената Алексея Петровича Бахрушина. Значимость собрания религиозных ценностей музея неизмеримо выросла, когда в 1905 году купец и коллекционер Петр Иванович Щукин (1853–1912) передал в дар свое богатейшее древлехранилище, которое количеством и качеством превосходило собрание самого Исторического музея[87]. Коллекция Щукина, включавшая около 300 тысяч предметов, в том числе и более ста икон, была дивной, но после передачи в Исторический музей она по-прежнему хранилась отдельно в собственном особняке Щукина на Малой Грузинской[88]. Ко времени революции иконное собрание ГИМ достигло около 1200 икон[89], но как целостная коллекция исследовано не было. И хотя оно являлось одной из самых больших государственных иконных коллекций в стране, древних икон в ней, как считается, не было.
В первые годы советской власти иконное собрание Исторического музея пополнилось подлинными шедеврами и прекрасными образцами древнерусской живописи. Транзитом через Государственный музейный фонд иконы поступали из закрытых храмов и церквей, банковских сейфов, разоренных усадеб, антикварных частных магазинов, как, например, магазин Н. М. Вострякова в Китай-городском проезде, из Государственного хранилища ценностей при Московском ломбарде (Гохран). Значительным пополнением иконного собрания Исторического музея стала коллекция графа Алексея Сергеевича Уварова и его жены Прасковьи Сергеевны[90], переданная музею владелицей[91]. Она включала около трех сотен икон, в том числе шитые иконы и подписные работы[92]. И другие владельцы, бежавшие от революции в эмиграцию, оставляли свои собрания, как они считали на время, в Историческом музее. Эти коллекции хранились в особой кладовой.
Стараниями Александра Ивановича Анисимова[93] и его помощников в Историческом музее был создан отдел религиозного быта, который насчитывал десятки тысяч предметов[94]. В отделе Анисимова оказались поступившие через Государственный музейный фонд иконы Морозова из расформированного Музея русской художественной старины, наиболее ценные иконы из собрания Рябушинского и Зубалова, а также отдела древностей расформированного Румянцевского музея и музея Строгановского училища (прил. 1). В ГИМ попали и иконы из рожденных революцией, но вскоре расформированных Пролетарских музеев Москвы, в их числе и иконы из моленной Рахмановых, а также иконы из частных коллекций Бахрушина, Бобринского, Брокара, Гучкова, Жиро, Соллогуба, Харитоненко, Шибанова, Ширинского-Шихматова, Егорова (через Румянцевский музей)[95], а также иконы из молельни И. И. Карасева в Девкином переулке (Бауманская ул.) в Москве, иконы из домовых церквей Басманной, Яузской и Шереметьевской больниц, Богоявленского, Высоко-Петровского, Донского, Перервинского, Гуслицкого, Чудова, Вознесенского монастырей и сотни икон из других мест[96].
Иконное собрание Исторического музея стремительно достигло колоссальных размеров. Если в 1918 году отдел религиозных древностей насчитывал около 1200 икон, то в 1923 году, согласно отчету Евгения Ивановича Силина, в то время старшего помощника хранителя отдела религиозного быта и знатока икон, в музее хранилось уже 2063 иконы. «Опись Силина», которую он составил в 1920‐е годы, уже содержит описание 4552 икон, выделенных как «самые ценные»[97]. Всего за десять послереволюционных лет ГИМ получил без малого четыре тысячи икон! Особенно выделяется 1923 год, когда в музей поступило почти 1700 икон (прил. 1).
Помимо шедевров из национализированных частных коллекций, известных с дореволюционных времен, иконное собрание Исторического музея в первые годы советской власти пополнилось шедеврами древнерусской живописи, лишь недавно собранными Комиссией по сохранению и раскрытию памятников древней живописи. Поступлению этих шедевров в ГИМ, видимо, в немалой мере способствовали личные и профессиональные связи, в частности то, что глава отдела религиозного быта Анисимов являлся одним из организаторов и активным участником Комиссии и был самым тесным образом вовлечен в процесс поиска и реставрации древних икон.
Необходимо сказать хотя бы несколько слов о Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, созданной по инициативе Грабаря в 1918 году. Ее история захватывает, как приключенческий роман[98]. В голодные, холодные и тифозные годы Гражданской войны[99], заручившись письмом и благословением патриарха Тихона, экспедиции Комиссии искали по городам, селам и монастырям России шедевры иконописи и древние фрески. Потрясающие открытия совершались в захламленных рухлядных и сараях, где под мусором, покрытые пылью и птичьим пометом, были погребены древние иконы[100]. В Комиссии работали лучшие реставраторы того времени, которые освободили из-под многовековых наслоений почерневшей олифы, копоти и позднейших записей живопись Древней Руси. По мнению Г. И. Вздорнова, именно с работой этой Комиссии связано превращение реставрации из коммерческого, а зачастую и варварского предприятия в науку, не допускавшую восполнения и поновления утрат первоначальной живописи[101]. Среди шедевров, раскрытых реставраторами Комиссии, была знаменитая византийская икона XII века «Богоматерь Владимирская» из Успенского собора Московского Кремля. Казалось бы, еще вчера исследователи отказывались верить в существование икон домонгольского времени. Теперь они держали их в руках. Реставраторы Комиссии раскрыли и знаменитую «Св. Троицу», написанную Рублевым в XV веке. Благодаря их работе Андрей Рублев и Феофан Грек перестали быть легендой, обрели историческую кровь и плоть, а древнерусская икона заявила о себе как произведении искусства мирового значения. Систематические массовые расчистки икон, хранившихся в церквях и монастырях, из‐за неизбежного противодействия духовенства были невозможны в царское время. Теперь же всем распоряжалось советское светское государство. Есть определенная правда в словах Анисимова, что революция пробудила от столетнего сна великие образы прошлого[102].
Отдел религиозного быта Исторического музея стал основным хранилищем раскрытых шедевров древнерусского искусства. По словам современника, Анисимов сосредоточил в Историческом музее «драгоценнейший материал для действительного суждения о древнерусской живописи»[103]. Именно сюда после раскрытия Комиссия передала такие иконы домонгольского времени, как «Богоматерь Владимирская», «Ангел Златые власы», двусторонняя икона «Спас Нерукотворный» с «Поклонением кресту», знаменитое «Устюжское Благовещение» и «Св. Никола» из Новодевичьего монастыря. Здесь, в Историческом музее, в то время хранились и иконы «Богоматерь Донская», которую по преданию казаки преподнесли князю Дмитрию перед битвой на Куликовом поле, и «Богоматерь Пименовская», привезенная на Русь из Константинополя в XIV веке, и «Четырехчастная» конца XIV – начала XV века из московского Кремля, написанная либо собственноручно Феофаном Греком, либо в его мастерской, и десятки других выдающихся произведений древнерусского искусства. Сейчас эти шедевры украшают коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, но их первым музейным домом был Исторический музей.
Новое значительное пополнение иконного собрания ГИМ произошло в конце 1920‐х годов в результате ликвидации Государственного музейного фонда. Как будет рассказано позже, все без исключения иконы музейного значения – более 600 икон, – отобранные специальной комиссией, занимавшейся распределением икон ГМФ, членом которой был Анисимов, поступили в Исторический музей. Не ограничившись этим, Анисимов при ликвидации ГМФ продолжал отбирать лучшие и из тех икон, которые были признаны комиссией госфондовскими, то есть не имевшими музейного значения и подлежавшими передаче в Госторг на продажу[104]. Первое послереволюционное десятилетие стало временем триумфального роста иконного собрания Исторического музея, когда тысячи произведений, включая главные шедевры древнерусской живописи, оказались в отделе религиозного быта Анисимова.
Историческому музею, однако, не суждено было остаться главным советским хранилищем шедевров древнерусского искусства. ГИМ оказался всего лишь очередным перевалочным пунктом в революционном странствии икон. Массовый исход икон из Исторического музея произошел в 1930 году. Этому предшествовало формальное решение Наркомпроса о специализации музейного дела и сосредоточении произведений изобразительного искусства в картинных галереях. Восприятие иконы прежде всего как произведения искусства, в противовес ее пониманию как бытового, исторического или культового предмета, в то время было новаторским. Энергичная деятельность самого Анисимова в немалой степени способствовала этому революционному открытию. Ирония судьбы, однако, заключалась в том, что это новое понимание иконы послужило формальным основанием для разгрома созданного им в Историческом музее отдела религиозного быта. Но были и более глубинные причины политико-идеологического свойства.
В конце 1920‐х годов началась кампания шельмования Анисимова в прессе, что объективно представляло угрозу и для Исторического музея. В своей автобиографии, которую Анисимов писал уже во время допросов в ОГПУ, он с грустным сарказмом рассказывал:
На страницах «Известий» сообщению о моем исключении[105] предшествовала статья комиссара Н. А. Семашко, в которой он писал о какой-то жебелевщине среди профессоров[106] (впрочем, не поминая моего имени, но явно разумея его) и о какой-то кулацкой психологии, о которой я вообще не имел и не имею никакого понятия. Прочитав эту непонятную для меня вещь, я с сожалением подумал только, что такая незначительная общественно и политически личность, как я, пригодилась даже для Комиссара, как средство для обнаружения им безошибочности его партийной линии. По этому примеру можно судить, каким пригодным объектом для отыгрывания на мне пришелся я средним и мелким советским чиновникам. Все стали доказывать на травле меня свою приверженность марксизму, особенно, конечно, беспартийные[107].
«Преступление» Анисимова, как и академика С. А. Жебелева, состояло в том, что он посмел издавать свои труды за границей. Книга Анисимова «Владимирская икона Божьей Матери» вышла в Праге, в научно-исследовательском центре Seminarium Kondakovianum, созданном известным исследователем икон академиком Никодимом Павловичем Кондаковым (1844–1925). В этом центре работали бывшие коллеги Анисимова, оказавшиеся в эмиграции, но для советской власти они были не учеными, а белыми эмигрантами, врагами.
Анисимова уволили со всех занимаемых им научных и преподавательских постов. Созданный им отдел религиозного быта был не просто закрыт, а разгромлен[108]. Решение о закрытии отдела «в процессе осуществления культурной революции» было принято на коллегии Главнауки Наркомпроса по докладу начальника Главнауки М. Н. Лядова[109]. По словам Анисимова, «холопы из Исторического музея, зная это, поспешили проявить инициативу в своей собственной среде и подняли в ученом совете вопрос о расформировании отдела религиозного быта за ненужностью». В одном из писем за границу от 28 февраля 1929 года Анисимов эмоционально описал позорное судилище, устроенное в Историческом музее. Написал он и о безволии тогдашнего директора музея П. Н. Лепешинского – профессионального революционера, посланного в музей представлять власть; о «предателях из числа коллег», которые вперегонки обвиняли отдел в том, что он является мертвым балластом и занимается вредительством, показывая «картину официального православия»; о «любезном молчании» на совете известных ученых[110].
Пришлось отбиваться и защищать отдел одному, – писал Анисимов, – и я отвел свою душу, за полчаса высказал все, что накопилось за ряд лет. Говорил открыто в глаза, называя все вещи своими именами[111].
Это письмо, которое характеризует Анисимова как человека прямолинейного, смелого и даже вызывающе дерзкого, есть свидетельство его обреченности в стране, где свободное слово и даже свободная мысль считались преступлением. Не могу не процитировать и другие его слова, крик измученной души:
Тупоумие, примитивизм и злоба партийных соединяются с подлостью, предательством и холопством беспартийных и создают такую атмосферу, в которой нет ни атома духовного кислорода, и жить в ней могут только какие-то переродившиеся существа[112].
Сам Анисимов перерождаться не желал.
После позорно-холопского судилища над отделом религиозного быта, а по сути и над самим Анисимовым многотысячное собрание религиозных древностей было расформировано. В том же письме Анисимов с горечью сообщал, что иконы отправились (пока) в иконографию, то есть отдел, где хранились исторические портреты декольтированных дам и увенчанных звездами кавалеров[113]; шитье и облачения – в отдел ткани, то есть к кускам материи, кружевам, женским бальным платьям и мужским камзолам; резьба и утварь – в отделы домашнего и государственного быта[114].
Репрессии против отдела религиозного быта в Историческом музее прошли на волне грандиозной антирелигиозной кампании 1927–1929 годов, охватившей все страну, инициаторами которой были Емельян Ярославский и его Союз безбожников. В ходе этой кампании на территориях церковных и монастырских комплексов массово создавались антирелигиозные музеи[115]. Симптоматично, что перед закрытием отдел религиозного быта Исторического музея переименовали в отдел антирелигиозной пропаганды. Возможно, это была попытка спасти его. Не случайно антирелигиозное наступление по всей стране совпало с началом сталинских преобразований – форсированной индустриализацией и коллективизацией. Атака безбожников стала идейным обеспечением социалистического наступления. Представляется, что накал антирелигиозной кампании, проходившей в стране в конце 1920‐х годов, позволяет лучше понять не только причины разгрома отдела религиозного быта, но и то, почему для травли выбрали Анисимова. В Историческом музее были и другие сотрудники, которые печатались в белоэмигрантской научной прессе, в той же самой Праге, но избежали ареста. А. В. Орешников, например, публиковал там свои статьи по нумизматике. «Вина» Анисимова усугублялась тем, что его труд был посвящен религиозному предмету – иконе.
Идейные причины разгрома отдела религиозного быта объяснил партиец Лядов, начальник Главнауки, с которым у Анисимова состоялся не просто исторический, а эпохальный разговор, сродни знаменитому разговору Понтия Пилата и Христа о том, что есть истина, и тоже с трагическим исходом. Анисимов откровенно заявил, что не имеет ничего против марксизма как одного из методов изучения мира, но сам он стоит на позициях идеализма, признает субстанцию духа и считает религию великой культурной силой. Кроме того, по его мнению, научное изучение религиозного искусства не является антисоветским деянием. «Как от врача нет смысла требовать, чтобы он был марксистом, а не идеалистом, чтобы уметь хорошо лечить, так и в деле реставрации это не имеет абсолютно никакого значения», – позже, после ареста, напишет он в своей допросной автобиографии. Лядов же и иже с ним не допускали идейных компромиссов[116]. По их убеждению, победная стройка социализма могла развалиться, если ее фундамент не укрепить материалистическим мировоззрением.
Логика лядовых была прямолинейна и проста. Вот ее синопсис. Мировоззрение – всегда классово: материализм – орудие пролетариата, идеализм – орудие буржуазии. Сосуществовать они не могут. Вместе с идеалистическим мировоззрением должна быть в корне уничтожена и религия как его главное проявление. Поэтому все церкви будут разрушены. Поскольку Исторический музей призван служить делу просвещения масс, отдел религиозного быта в конкретный исторический момент в нем недопустим. Изучение религиозных памятников, если оно не служит антирелигиозной пропаганде, является буржуазной наукой. Наука, она ведь тоже классова. Вот когда материалистическое мировоззрение прочно утвердится в умах поколений советских людей – примерно через полвека или около того, – тогда можно будет безвредно для дела социализма приступить сначала к инвентаризации, а там, глядишь, и к научному исследованию памятников религиозного быта. А сейчас, извините, тот, кто не с нами, тот против нас. Воистину, не случайно партия доверила Лядову пост ректора Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, который готовил кадры для советской и партийной бюрократии и идейным руководителем которого был Центральный комитет ВКП(б). Лядов пришел в Главнауку прямиком с этого сверхидеологизированного поста[117].
Директивная передача икон из Исторического музея в Третьяковскую галерею, сопряженная с личными и профессиональными трагедиями, сохранила по себе горькую память в стенах ГИМ. Мне довелось слышать, как даже молодые сотрудники, далеко по возрасту отстоящие от драматичных событий рубежа 1920–1930‐х годов, с горечью говорили о тех днях, считая историю своего музея «самой трагичной». По их словам, «люди Грабаря»[118], с которым у Анисимова не ладились отношения[119], хорошо знавшие иконное собрание ГИМ, пришли и забрали все самое лучшее, благо в музее только недавно прошла организованная Анисимовым и его сотрудниками выставка шедевров древнерусской культуры[120]. Отстаивать право отдела на существование было некому, так как всех его сотрудников[121], кроме жены начальника Политического управления Красной армии А. С. Бубнова, в скором времени ставшего наркомом просвещения[122], уволили через несколько дней после позорного судилища[123]. Иконное собрание Исторического музея было развеяно по крупным и мелким музеям страны, частью продано через Мосторг, Торгсин и «Антиквариат». Сотни икон, которые, по мнению специалистов, не представляли ценности или находились в плачевном состоянии, были уничтожены. Ими топили музейные печи. Иконное собрание Исторического музея предстояло создавать заново[124].
Вскоре после разгрома отдела религиозного быта ГИМ началась массовая передача икон из Исторического музея в Третьяковскую галерею. Она проходила с мая по октябрь 1930 года. Ее завершение трагично и символично совпало с арестом Анисимова. На фото – акты передачи икон. Исторический музей
Разгром отдела Анисимова, а затем и Центральных реставрационных мастерских в 1934 году органично вписывается в разгул репрессий, начавшихся в конце 1920‐х годов и связанных с приходом Сталина к единоличной власти и взятым им курсом преобразований. В феврале 1929 года Анисимова уволили из Исторического музея, а в октябре 1930-го арестовали. Он просил не конфисковывать его имущество и коллекцию икон, потому что они будут необходимы ему для работы после отбытия наказания. Он надеялся вернуться, но сталинские палачи распорядились иначе. Как «профессор-иконовед, без определенных занятий», но с явными антисоветскими настроениями, к тому же замешанный в передаче сведений «шпионского характера» иностранным дипломатам[125], Анисимов получил десять лет лагерей. Вернуться ему было не суждено.
Вновь Анисимов оказался в Соловецком монастыре, но теперь уже не как исследователь древнерусской старины, а как заключенный. Но и там, по воспоминаниям Дмитрия Сергеевича Лихачева, будущего академика, а в начале 1930‐х годов тоже заключенного, Анисимов рассказывал узникам о древнерусской живописи и реставрации икон. По словам Лихачева, Анисимов «реставрировал большого размера великолепную икону», которую считал «первой в ряду символических икон конца XV века». Однако весной 1932 года комиссия, приехавшая на Соловки, посчитала работу Анисимова пропагандой религии. Отреставрированная икона была разбита на его глазах[126]. Затем – зэковская стройка Беломорско-Балтийского канала и новое следственное дело, заведенное уже в лагере в 1937 году. Согласно материалам этого дела, Анисимов, который пользовался «громадным авторитетом среди окружающих его заключенных», не скрывал своего недовольства политикой советской власти и был признан «вредным для лагеря балластом». Постановлением тройки НКВД Карельской АССР Александр Иванович Анисимов был расстрелян 2 сентября 1937 года в 23 часа 30 минут[127]. Истина воинствующих марксистов-лядовых, как и истина Понтия Пилата тысячелетия назад, утверждала себя не в словесных дебатах.
В размышлениях о судьбе Анисимова меня мучают вопросы. В минуты перед расстрелом не жалел ли он о том, что, подобно другим своим коллегам, не уехал в эмиграцию, когда еще оставалась такая возможность? Стоили ли азарт поиска и потрясения открытия древнерусской живописи, изведанные им в годы революции и Гражданской войны, того, чтобы остаться в России и расплатиться за это жизнью? Думал ли он об иронии судьбы, которая кровно, буквально намертво связала с иконой «Владимирской Богоматери» самые счастливые дни его творчества и повод для казни?[128] Максимилиан Волошин посвятил Анисимову поэму. Не приходится удивляться, что она об иконе «Владимирской Богоматери». Предрекая трагический конец Анисимова за несколько месяцев до его ареста, Волошин в посвящении писал: «Верный страж и ревностный блюститель / Матушки Владимирской, – тебе – / Два ключа: златой в Ее обитель, / Ржавый – к нашей горестной судьбе».
Хочется верить, что в мгновение, когда трагически оборвалась его жизнь, Александр Иванович Анисимов знал, что ему достался не только ржавый, но и золотой ключ судьбы.
Часть II. Икона и музей
История рождения советских музеев, детей революции, столь же потрясающа и трагична, сложна и противоречива, сколь и сама революционная эпоха. Эта часть книги – рассказ о том, как скромная моленная Павла Михайловича Третьякова, в которой было всего лишь несколько десятков икон, превратилась в многотысячное собрание, сокровищницу древнерусского искусства. Сведения о том, какие иконы и когда поступили в галерею и кто были их прежние владельцы, доступны каждому, достаточно заглянуть в каталоги ГТГ. Однако за бесстрастными описаниями каталогов нередко скрываются насилие и репрессии. Именно они были одним из основных механизмов формирования собраний музеев[129] в 1920–1930‐е годы[130].
Так, собрание древнерусского искусства Третьяковской галереи – результат разгрома отдела религиозного быта Исторического музея и репрессий в Центральных государственных реставрационных мастерских, раздробления и обезличивания знаменитых частных коллекций, разрушения церквей и храмов, обирания провинциальных музеев, репрессий против собирателей. Разрушение предшествовало созиданию. Конечно, не сотрудники Третьяковской галереи были повинны в этом разгуле насилия. Некоторые из них, например Алексей Иванович Некрасов и Валентина Ивановна Антонова, работавшие в отделе древнерусского искусства, сами стали жертвами сталинской мясорубки. Однако именно в результате репрессий, проводимых советским государством, галерея получила основную массу икон и свои главные шедевры. Сотрудники галереи избегают говорить об этом, а может, и не хотят вдумываться в суть происходившего. По понятным причинам об этом умалчивалось в вышедшем при советской власти каталоге 1963 года, но и авторы каталога древнерусской живописи галереи 1995 года старательно обошли острые углы и неприятные темы[131].
Глава 1. Массовая передача икон в третьяковскую галерею
В отличие от Исторического музея скромное собрание икон Третьяковской галереи вплоть до конца 1920‐х годов пополнялось лишь редкими бессистемными поступлениями из Государственного музейного фонда[132] и столь же редкими покупками. Среди тысяч икон современного собрания галереи лишь несколько десятков поступили сразу же после революции или в 1920‐е годы[133], но среди них были шедевры[134]. Формально на правах филиала галерее в то время уже принадлежала первоклассная коллекция И. С. Остроухова[135], однако она существовала обособленно, фактически как самостоятельный музей, оставаясь до 1929 года в бывшем доме бывшего владельца.
В первое послереволюционное десятилетие Государственный музейный фонд пополнял галерею в основном произведениями светской живописи, картинами и рисунками, что соответствовало решению Наркомпроса 1924 года о том, что Третьяковка должна быть музеем живописи XVIII–XIX веков[136]. Иконы в то время массово передавались в Исторический музей, который имел возможность стать главным российским музеем древнерусского искусства. Иконы были изъяты из плана развески Третьяковской галереи. В 1926 году экспозиция древнерусской живописи, которая стараниями Остроухова существовала в галерее с начала века, была закрыта[137]. Парадоксально, но именно в то время, когда произведения древнерусской живописи были изгнаны из залов галереи, и случилось «нашествие» икон. Наркомпрос изменил свое прежнее постановление о специализации Третьяковской галереи в светской живописи и в августе 1929 года одобрил идею создания иконного отдела в ГТГ, а вскоре принял решение о передаче в Третьяковскую галерею лучших произведений древнерусского искусства из центральных и провинциальных музеев и реставрационных мастерских[138]. О возможных мотивах радикального изменения музейного курса в столь короткий промежуток времени будет сказано позже.
Буквально в одночасье небольшое собрание икон Третьяковской галереи, пополнившись шедеврами и сотнями первоклассных икон, стало оспаривать славу лучшего у признанного еще с дореволюционного времени собрания Русского музея, а вскоре и затмило его[139]. Первая крупная передача икон в ГТГ состоялась уже в 1929 году. По смерти Остроухова Третьяковской галерее перешла основная часть его собрания, славившегося шедеврами новгородских и северных мастеров XV–XVI веков[140]. В 1930 году галерея получила от советской власти поистине царский подарок – более восьмисот лучших икон из Исторического музея, который лишился значения главного московского иконного музейного хранилища[141]. Для сотрудников ГИМ изъятие икон было тревожным предзнаменованием. 3 августа 1930 года заведующий отделом нумизматики Орешников написал в дневнике:
Сегодня Третьяковка, по распоряжению свыше, [забрала] все наши сокровища иконной живописи: Владимирскую, Донскую, «Спаса златые власы», Ангела с золотыми волосами и проч. (всего 28). Хорошо, если эти иконы останутся у нас, а если уйдут за границу…[142]
Акт № 279 от 3 августа 1930 года. Самые горькие потери Исторического музея. В списке на передачу в Третьяковскую галерею значатся иконы домонгольского времени, «Богоматерь Владимирская» и «Ангел Златые власы», а также икона «Богоматерь Донская», которую по преданию казаки преподнесли князю Дмитрию перед битвой на Куликовом поле, и другие шедевры Древней Руси. Исторический музей
В результате поступлений из Исторического музея в Третьяковской галерее оказались шедевры из частных коллекций А. В. Морозова, С. П. Рябушинского, Л. К. Зубалова, С. А. Щербатова, П. И. Щукина, А. С. и П. С. Уваровых, И. К. и Г. К. Рахмановых, Н. М. Постникова, Е. И. Силина, К. Т. Солдатенкова, П. П. Шибанова, П. И. Севастьянова и др.[143]
Почему чиновники Наркомпроса выбрали Третьяковскую галерею, обладавшую в то время небольшой и незначительной иконной коллекцией, на роль главного музейного хранилища шедевров древнерусской живописи? Почему отказались от своего же решения 1924 года о том, что Третьяковка должна быть музеем светской живописи XVIII–XIX веков? Почему не разрешили Историческому музею остаться главным хранилищем иконных шедевров? Авторы каталогов древнерусского искусства Третьяковской галереи 1963 и 1995 годов считают массовую передачу икон из Исторического музея естественной и логичной на том основании, что Третьяковка изначально являлась художественно-изобразительным музеем, тогда как Исторический музей имел статус историко-бытового и историко-археологического. Тот же аргумент используется, чтобы объяснить и передачу в галерею лучших икон из провинциальных, в то время в большинстве случаев краеведческих музеев и Центральных реставрационных мастерских.
Действительно, может удивиться наш современник, где же еще находиться иконным шедеврам, если не в Третьяковской галерее? Однако то, что является общепринятым и привычным в наши дни, в послереволюционные десятилетия не было само собой разумеющимся. Шли грандиозная ломка и грандиозное созидание. Претендентов на роль главного хранилища икон хватало. Музеи вместе со всей страной стояли у распутья. Какую дорогу выбрать, зависело от решения власти, а она вполне могла оставить иконы в Историческом музее, назначив его быть Музеем древнерусского искусства. Собрав в своих стенах тысячи произведений иконописи, ГИМ к началу 1930‐х годов фактически уже стал художественным музеем. К слову сказать, в наши дни Исторический музей, не являясь галерей изобразительного искусства, обладает самым большим собранием в России, которое насчитывает более шести тысяч икон[144].
Слишком простые, осовремененные и аполитичные объяснения причин массовой передачи икон в Третьяковскую галерею не учитывают идеологической борьбы и политической ситуации того времени. Согласиться с тем, что массовая передача икон состоялась лишь потому, что Третьяковская галерея, в отличие, например, от «историко-бытового и археологического» Исторического музея, являлась музеем изобразительного ИСКУССТВА, значит признать, что в политике советского правительства к началу 1930‐х годов понимание иконы как произведения живописи возобладало над представлением о ней как о предмете религиозного быта, археологии и религиозной пропаганды. Значит, метаниям, колебаниям и дискуссиям о значении религиозного искусства был положен конец?[145] Но если это так, то почему Третьяковской галерее вплоть до второй половины 1930‐х годов не удавалось развернуть полноценную иконную экспозицию?[146] Даже после передачи икон из Исторического музея в Третьяковскую галерею в 1930 году отдела древнерусского искусства как такового в галерее не было, иконы «прятались» в отделе феодализма в тени светской живописи[147]. В первой половине 1930‐х годов иконы лишь осторожно и единично, преодолевая сопротивление идеологов, подобных Лядову, привлекались в «опытные марксистские экспозиции» для иллюстрации религиозной направленности феодального искусства, все остальное оставалось в хранилищах[148].
Валентина Ивановна Антонова в предисловии к каталогу древнерусской живописи ГТГ объяснила закрытие, а затем и отсутствие самостоятельной иконной экспозиции в галерее недостатком площадей из‐за шквала нового материала[149]. Шесть залов, в том числе и бывший зал древнерусского искусства галереи, были до отказа забиты поступлениями из государственных фондов[150]. Тем не менее закрытие иконной экспозиции нельзя объяснить лишь этим. Тот факт, что в советских музеях иконы долго не занимали достойного места, – свидетельство возобладания истины лядовых, которые в победной стройке социализма уготовили иконам, затерявшимся в марксистских историко-бытовых инсталляциях, лишь роль объекта антирелигиозной пропаганды. Признание эстетического значения иконы, которое, казалось бы, в начале ХХ века стало утверждаться в среде искусствоведов, историков искусства и коллекционеров, с приходом к власти воинствующих безбожников было поставлено под сомнение. Для пришедших к власти людей антирелигиозное воспитание масс было важнее эстетического. Икона превратилась в препятствие к осуществлению идейно-политического курса советской страны. Противодействие признанию иконы произведением искусства в первые десятилетия советской власти имело иную природу, чем в начале ХХ века. Это сопротивление было до накала политически заряжено, имело воинствующую антирелигиозную направленность и было сопряжено с применением репрессий со стороны государства.
Антирелигиозная выставка в ГТГ (1930 год; авторы экспозиции В. Р. Герценберг и А. С. Галушкина) обличает церковь в обмане народа и рьяном служении интересам «денежного мешка» – капиталистов, купечества и верховной власти. В центре – икона «Успение» (ок. 1497, входит в современную постоянную экспозицию ГТГ). Слева от нее (верхний ряд) – картина В. В. Пукирева «В мастерской художника» (1865). Купец карикатурного вида выбирает икону для домовой церкви. Ему услужливо помогает священник. Под ней небольшая работа В. М. Васнецова «Княжеская иконописная мастерская» (1879). Справа от «Успения» (нижний ряд) картина А. Г. Венецианова «Причащение умирающей» (1839). Обличительную направленность экспозиции определяют цитата Ленина, которая задает тон просмотру, и воинствующий плакат «Надувательства» (крайний справа). Именно они превращают художественную экспозицию в политическую агитку. Государственная Третьяковская галерея
Свидетельством того, с каким трудом признание иконы произведением искусства в начале 1930‐х годов утверждалось в умах советских руководителей и в среде советской интеллигенции, является история создания иконной экспозиции в Третьяковской галерее. Подготовительным этапом к этому стала организация иконной выставки. Попытки ее провести предпринимались не один раз. Еще в апреле-мае 1929 года Наркомпрос замыслил показать в залах ГТГ своеобразный отечественный аналог первой советской зарубежной иконной выставки (1929–1932), которая триумфально открылась в Берлине в феврале 1929 года. Однако эта идея не была реализована, потому что Наркомпрос испугался реакции II съезда Союза безбожников, проходившего в то время[151]. Осенью 1929 Наркомпрос вновь вернулся к идее выставки искусства Древней Руси в стенах Третьяковской галереи, но затягивал решение вопроса, очевидно не без влияния музейного съезда по антирелигиозной пропаганде и разнообразных совещаний той же направленности. Как свидетельствует исследование Е. В. Гладышевой, в комиссии Наркомпроса, которая курировала подготовку предполагаемой выставки, произошел раскол. Те, кто выступал за «исключительно художественный принцип демонстрации икон», оказались в меньшинстве[152]. В результате от идеи выставки искусства Древней Руси пришлось отказаться. Вместо нее в декабре 1930 года в ГТГ открылась совсем другая по идеологии и пониманию музейной роли иконы выставка – «Опытная комплексная марксистская экспозиция искусства XVIII – первой половины XIX в.», а вместо полноценной иконной экспозиции в 1932 году появилась экспозиция искусства феодализма, в которой иконы играли роль иллюстраций классовой и антинародной природы церковного искусства. Полноценная художественная иконная экспозиция открылась в ГТГ только в 1936 году.
Антирелигиозная выставка в ГТГ (1930 год; авторы экспозиции В. Р. Герценберг и А. С. Галушкина). Икона «Снятие с креста» объединена с двумя картинами светской живописи, обличающими социальное неравенство в царской России (одна из них – картина А. Е. Архипова «Прачки»). Название стенда, подбор произведений искусства и главенствующее место иконы в этой экспозиции служат обвинению церкви в освящении угнетения и увековечивании рабского положения простого народа. Государственная Третьяковская галерея
То же идеологическое противодействие признанию иконы произведением искусства и правительственная боязнь ее религиозного содержания видны и в истории создания древнерусского отдела ГТГ. Парадоксально, но факт – иконное собрание Третьяковской галереи было создано при официальном отсутствии отдела древнерусского искусства[153]. Иконы массово поступали в ГТГ, там были специалисты, которые ратовали за создание иконной экспозиции, но политическая и идейная обстановка в стране не позволяла до середины 1930‐х годов формально организовать в структуре галереи самостоятельный отдел, который занимался бы иконами. Только в 1935 году отдел феодализма, где находились иконы, наконец-то стал называться отделом древнерусского искусства.
Глава 2. Дебаты о роли иконы в художественной экспозиции
В крайне политизированной, идейно накаленной и опасной обстановке конца 1920‐х – первой половины 1930‐х годов признание иконы произведением искусства не могло не только восторжествовать на государственном уровне, но и прочно укрепиться в умах советской художественной интеллигенции. Об этом свидетельствуют дебаты о роли иконы в музее, которые развернулись по поводу «опытной комплексной марксистской экспозиции искусства», открытой в Третьяковской галерее.
Работа по перестройке галереи «на принципах единственного подлинного научного мировоззрения марксизма-ленинизма» началась в марте 1929 года[154], когда обновленное руководство галереи во главе с М. П. Кристи назначило комиссию по созданию опытной марксистской экспозиции под председательством А. А. Федорова-Давыдова[155]. Первые результаты работы комиссии были представлены в декабре 1930 года открытием марксистской выставки искусства XVIII и первой половины XIX века, подготовленной Н. Н. Коваленской[156]. На основе принципов этой опытной экспозиции затем была проведена реэкспозиция всей галереи.
Опытная комплексная марксистская экспозиция в ГТГ. 1930 год. Автор Н. Н. Коваленская. Зал «Расцвет торгового капитала. Искусство консервативно-феодальной группы» (верхнее фото). Зал «Разложение феодализма» (нижнее фото). Государственная Третьяковская галерея
Новая развеска материала следовала марксистской теории смены социально-экономических формаций, в соответствии с чем экспозиция была разбита на три основных отдела: искусство феодализма, капитализма и переходного периода от капитализма к коммунизму. Эти основные отделы затем дробились на подотделы по этапам развития формаций. Так, в отделе феодализма, где экспонировались иконы, были подотделы искусства древнего феодализма (XI–XVI вв.) и искусства феодально-крепостнической эпохи (с XVII в. до отмены крепостного права). В соответствии с теорией Маркса о классовой борьбе как движущей силе исторического процесса внутри каждого этапа материал был представлен «по борющимся классовым стилям». По мнению авторов экспозиции, феодально-крепостническая эпоха, например, породила художников крепостнической верхушки, художников обуржуазившегося среднего дворянства и художников буржуазии. Так марксистские новаторы пытались показать, что искусство классово.
Дабы посетители лучше поняли диалектику развития искусства и его классовую сущность, экспозиция была перегружена этикетажем – плакатами и стендами, больше похожими на стенгазеты-агитки. На дверях, ведущих в залы, висели стеклянные таблички с характеристикой соответствующей социально-экономической формации или ее этапов, в залах – таблички с характеристикой данного классового художественного стиля, на стендах-вертушках размещался более детальный анализ этого стиля с цитатами, а для освещения эпох особого накала классовой борьбы в проходах и коридорах были вывешены стенды с цифрами и иллюстрациями. Тяжеловесный этикетаж порой заслонял саму живопись, бил в глаза. Как выразился один из современников, «висит стенгазета, окрашенная в красный цвет, и прямо прет на вас»[157]. Только «в запасе», где нет этикетажа, и отдохнул, сетовал Грабарь[158]. Поскольку задача состояла в том, чтобы показать развитие искусства на фоне исторической эпохи, в залах были выставлены предметы быта того времени – мебель, часы, произведения декоративного искусства, что, по мнению авторов, придавало экспозиции комплексный характер. В отличие от Эрмитажа, однако, Третьяковская галерея не обладала достаточным материалом для создания антуража эпох, поэтому, судя по сохранившимся фотографиям[159] и отзывам современников, случайные разрозненные предметы в залах галереи выглядели убого. По словам Грабаря, из‐за этой пресловутой комплексности создавалось впечатление в лучшем случае бытового музея, а в худшем – антикварной лавки[160]. Не лишне сказать, что в этикетаже властвовал разоблачающий классовый подход, в котором феодализм мог быть только крепостническим, капитализм – разбойничьим, а художники, большинство которых относилось отнюдь не к низшему сословию, – прихвостнями властей предержащих. Крайне идеологизированный классовый подход в марксистских экспозициях был чреват вопиющим противоречием: будучи художественной галереей, Третьяковка должна была показать лучшее, что создали художники той или иной эпохи, и вместе с тем классовая непримиримость обязывала клеймить этих художников как прислужников разбойников-крепостников, мракобесов-попов и загнивающего капитала, по словам Грабаря, низводя их до степени продажных рабов. Художник А. Г. Тышлер так выразил это противоречие:
Запомнил одну надпись в отделе икон: феодально-разбойничий. Я подумал, что, предположим, рабочая экскурсия прочтет эту этикетку, а перед вами стоит икона. Получается абсолютный разрыв в образах и во всем впечатлении. Может быть можно подобрать иконы, где эта феодально-разбойничья эпоха была бы более выражена?[161]
Показ икон был перегружен атеистическими лозунгами, похожими на стенгазеты-агитки. Тяжеловесный этикетаж заслонял саму живопись, бил в глаза. Антирелигиозная выставка в Третьяковской галерее. 1930 год. Авторы экспозиции В. Р. Герценберг и А. С. Галушкина. Государственная Третьяковская галерея
В архиве Наркомпроса сохранились стенограммы двух обсуждений марксистской комплексной экспозиции Третьяковской галереи, в том числе совещания художников у М. С. Эпштейна[162] в Наркомпросе от 25 декабря 1931 года и дискуссии у наркома просвещения А. С. Бубнова, которая началась 27 января 1933 года, продолжалась 2 и 8 февраля и, возможно, длилась бы и того дольше, если бы нарком не попросил закончить дебаты. На совещаниях были представители Третьяковской галереи – А. А. Вольтер, который в то время исполнял обязанности директора[163], его заместитель М. П. Кристи, главные «виновники» события Федоров-Давыдов и Коваленская, а также большая группа художников[164] и, разумеется, представители райкома партии и пролетариата – шефов Третьяковской галереи.
В марксистской комплексной экспозиции в Третьяковской галерее было два зала икон, поэтому участники совещаний не могли обойти вниманием религиозное искусство. Разгоревшиеся споры о роли иконы в советском художественном музее свидетельствуют о политико-идейном противодействии ее эстетическому признанию. Серьезность этого противодействия заключалась в том, что оно шло в русле общей политики советского государства. Показательно, что линия раскола в оценке значения иконы не прошла между художниками, с одной стороны, и представителями политической власти, с другой, а «взломала» среду самой интеллигенции. В конечном итоге дебаты о том, что есть икона, были и дебатами о том, что есть советский музей – хранилище произведений искусства или средство идейно-политического воспитания отсталых, «одурманенных религиозным опиумом масс».
Сторонники эстетического признания иконы критиковали новую экспозицию за потерю художественности в результате выпячивания второстепенных произведений искусства в угоду политическим установкам, а также в результате переизбытка уродливого этикетажа и убогости сопровождавшего картины бытового антуража. Художник Тихомиров, в частности, сказал: «Я полагаю, что не найдется никого из художников, кто бы не приветствовал то, что Третьяковская галерея выставила первоклассные памятники иконописи (он ошибался, такие художники нашлись. – Е. О.)». Однако он считал, что в экспозиции было слишком много второстепенных икон, удобных для иллюстрации априорных схем. По его мнению, не хватало многих известных памятников, например новгородских икон из собрания А. В. Морозова[165].
Экспозицию с тех же эстетических позиций критиковал художник Лезвиев[166]. Он считал, что раздел икон имел «громадное значение для специалистов» и для выучки молодых художников новых направлений, в частности монументалистов, и поэтому должен быть значительно пополнен и показан «как-то по-особому…». «Это не Машков[167], все-таки», – резюмировал Лезвиев. Развивая мысль о том, что «есть худшие и лучшие художники», Лезвиев заявил, что «мы будем уважать товарища Машкова (а вместе с ним, видимо, и все современное искусство. – Е. О.), но все-таки еще больше будем уважать значительно большую культуру и ценнейшее наследие (древнерусское искусство. – Е. О.)»[168]. Следует заметить, что после этих слов с мест послышалось требование лишить Лезвиева слова. Считая, что иконы следует показать «во всей их насыщенности», Лезвиев критиковал марксистскую экспозицию Третьяковской галереи за фон стен – «тяжелый и убийственный» для икон, так что в результате у «Троицы» Андрея Рублева «синие пятна» – «как дорогими каменьями брошен кобальт» – разбавляются и икона «теряет свою остроту»[169].
О потере художественности в погоне за марксизмом говорил и А. М. Эфрос:[170]
Зал иконописи. «Троица» Рублева отбрасывается. Триптих с чищенной серединой – в центре. «Донская» – замечательная, гениальная вещь, но вы ее сразу не увидите. Это – неумение, это – отсутствие художественного такта в том, чтобы выявить лучшие вещи и дать их на лучших местах. Второстепенное – на первый план, а первостепенное меркнет. Это получился не художественный музей[171].
С ним согласился и художник Платов[172]. Приветствуя включение икон в экспозицию, он, однако, считал, что из‐за неподходящего цвета стен пропали не только отдельные произведения, но целиком все иконы. «Цвета икон совершенно не видно, – говорил Платов. – Получается так, как будто мы рассматриваем инородцев, скажем, китайцев – все они для нас на одно лицо». Платов критиковал неравномерность развески, при которой создавались самостоятельные «бьющие в глаза» декоративные пятна, так что внимание концентрировалось не на произведении, а на этих пятнах. Кроме того, иконы были повешены симметрично до самого пола без учета характера икон, а ведь «каждая икона, – увещевал Платов, – висела на определенном месте и писалась для него».
Выступления поборников главенства эстетического значения иконы в художественной экспозиции встретили отпор тех, кто считал показ икон в музее опасным и вредным в условиях борьбы с господствующим в умах большинства населения религиозным мировоззрением. Вот, например, слова художника Кацмана[173]:
Относительно икон у нас был спор и вот какие у меня соображения. Мне, как художнику-профессионалу, бросилось в глаза следующее: когда мы с т. Эпштейном вошли в раздел икон, то я у всех заметил легкую эмоциональную повышенность. Что это такое и почему? Почему у большинства товарищей было слегка повышенное состояние? Потому что мы смотрели шедевры искусства. Что будет происходить в Третьяковке, когда эти шедевры, идеологически нам вредные, но сделанные с громадным талантом и разъясняемые политически безграмотными экскурсоводами, будут воздействовать отрицательно на рядового зрителя… Вот почему я и сказал, что с отделом икон надо действовать осторожно и умно, чтобы иконный отдел был не местом религиозного настроения, а местом антирелигиозной пропаганды» (выделено мной. – Е. О.)[174].
В словах Кацмана – суть проблемы. Он признает иконы произведением искусства, но именно в этом, по его мнению, и кроется опасность. Идейно вредное для советского государства религиозное содержание иконы, помноженное на силу таланта иконописца, будет питать религиозные настроения и без того политически неграмотной массы рядового зрителя, к тому же иконы в музее будут толковать «старорежимные» экскурсоводы. Именно сила религиозного воздействия иконы, по мнению Кацмана и его сторонников, не позволяла экспонировать ее как произведение искусства, а требовала превратить ее в средство антирелигиозной пропаганды. Идейно-политическое воспитание, по Кацману, было важнее художественного.
По поводу «старорежимных» экскурсоводов Кацман не ошибался. Обследование Третьяковской галереи бригадой Ленинского райкома партии, которое проходило с 25 сентября по 4 октября 1931 года, то есть незадолго до дебатов у Эпштейна, показало, что галерея находилась «в руках классового врага». Члены бригады, идейно подкованные лекторы Экскурсионной базы Московского отдела народного образования, обвинили галерею в оторванности от советской общественности, отчужденности и даже враждебности по отношению ко всему новому, что вершилось в стране Советов. Антисоветские настроения научных сотрудников галереи, по мнению бригады, чувствовались на каждом шагу: употребление ироничного «марксический» вместо «марксистский»; нежелание здороваться с коммунистом, новым помощником директора галереи; отсутствие в этикетаже цитат из Маркса, Энгельса и Ленина, а также лозунгов Сталина, да и вообще полное отсутствие лозунгов; игнорирование главных событий «текущего момента» – уборочной кампании, борьбы с уравниловкой; да к тому же некоторые сотрудники носят кольца! В то время 80 % сотрудников Третьяковской галереи являлись выходцами из дворян, «почетных» и потомственных граждан, торговцев и мещан, тогда как партийная прослойка была слаба, а директор, по утверждению бригады, признался, что ничего в политпросветительской работе не понимает[175].
Бригадиры жаловались на то, что экскурсоводы галереи не увязывали показ картин с задачами текущего момента и соцстроительства, давая объяснения картин исключительно с точки зрения их художественного значения; не вели антирелигиозную пропаганду, «элементами которой должна быть насыщена работа всех (! – Е. О.) музеев вообще». В путеводителе, по словам бригадиров, несмотря на то что это было уже третье издание, все еще можно было найти и «общечеловеческое горе», и «жалость к унылой и одинокой жизни царского офицера», и «ничтожество человека перед величием стихии», и даже «физические страдания замученного Христа, существование которого таким образом утверждается». В качестве примера антисоветской экскурсии бригадиры привели пояснения сотрудницы галереи Мойзес к картине «Боярыня Морозова» художника Василия Сурикова, которого члены бригады в своем докладе назвали Серовым. Мойзес посмела сказать следующее:
…боярыня Морозова, несмотря на то что она в цепях, имеет вид вовсе не побежденной, а победительницы; проезжая мимо царского терема на допрос и поднимая два пальца для крестного знамения, она показывает, что не отрекается от старой веры и готова за нее пострадать. Вообще Морозова фанатично предана старой вере: ее увещевал сам царь, но это не помогло, тогда ее сослали в ссылку, но она и там вела агитацию за старую веру, наконец, боярыню Морозову бросили в колодец, где она через два месяца умерла, так и оставшись непреклонной.
Проверяющая бригада посчитала, что толкование Мойзес «рассчитано на подогревание религиозного фанатизма и пропаганду контрреволюционной стойкости». Члены бригады чутко уловили опасность: воспевание преданности старой вере, пусть речь и шла о раскольниках далекого XVII века, приобретало современное призывное звучание в послереволюционную эпоху гонения на веру и верующих. Бригада проверяющих настоятельно рекомендовала «освежить кадры» экскурсоводов галереи партийцами-рабочими, как это уже было сделано в Музее революции и Центральном антирелигиозном музее[176].
Но вернемся к дебатам о марксистской экспозиции в Третьяковской галерее и роли икон в художественном музее. О необходимости идейно-классового подхода к произведениям древнерусской живописи трубила некто Соколова[177], которая, споря с Эфросом, сказала, что недостаточно превратить Третьяковскую галерею в «эстетствующую коллекцию первоклассных произведений искусства, потому что это только одна сторона искусства (аплодисменты). Нужно также показать икону как оружие классовой борьбы, заострить вопрос о классовом оружии феодального искусства». Ведь если музей не вскрывает и не показывает, как господствующий класс той или иной эпохи навязывал свою идеологию угнетенным классам, то для какой же цели служит этот музей? Советский музей должен быть «боевым органом», а икона – оружием классовой борьбы, заключила Соколова[178].
Показательна позиция авторов марксистской экспозиции – сотрудников Третьяковской галереи Федорова-Давыдова и Коваленской. В докладе Федорова-Давыдова, которым открылось совещание художников у Эпштейна, ни слова не было сказано об иконах. Однако его мнение о задачах художественного музея было высказано со всей определенностью. Федоров-Давыдов видел недостаток прежней экспозиции галереи в том, что она была создана «идеалистами-формалистами». По его словам, это была обычная «эстетская экспозиция, не имевшая никаких социальных задач». Таким образом, художественно-эстетическое значение музея, как, видимо, и икон, по его мнению, должно было уступить первенство идейно-политическому[179].
Коваленская, в отличие от Федорова-Давыдова, в своем выступлении много говорила об иконах. Избыточный этикетаж она назвала «передержкой», заявив, что он был введен только в одном разделе экспозиции – иконном.
Как вы считаете, – продолжала она, – можно ли было показать в наше время религиозное искусство, не сопровождая его серьезным углубленным историческим антирелигиозным анализом? Вы знаете, с каким трудом мы добились права выставить этот материал. Следовательно, ясно, что нам нужно было его не только обезопасить, но и сделать полезным из вредного, каким он был бы, если бы не было этого этикетажа, потому что тогда люди приходили бы прикладываться к этим иконам[180] (выделено мной. – Е. О.).
Следовательно, и Коваленская в идейно-политической ситуации того времени прежде всего видит в иконе вред, который необходимо обезопасить. Таким образом, и она признает, что идейно-политическое воспитание масс важнее и первоочереднее эстетических задач. В итоге художественно-эстетическое значение иконы признается с оговорками, а признание иконы произведением искусства поставлено под сомнение.
В выступлении Коваленской обращает на себя внимание заявление о том, что получить разрешение на включение икон в экспозицию было трудно, что свидетельствует о настроениях в советском правительстве, в частности в Наркомпросе, которому подчинялась галерея. О том же в своем выступлении говорил и художник Тышлер[181]:
…развернутый нами отдел древнего феодализма до сих пор вызывает целый ряд недоумений и неодобрений от целого ряда общественных организаций – может быть из‐за недопонимания диалектики развития советского искусства и значения памятников старины. Со стороны Комсомола и Союза безбожников была большая настороженность в отношении отдела древнего феодализма: надо или не надо открывать этот отдел. И сейчас еще много разговоров, что надо его урезать, что не надо там много уделять ему места. Лучшие художники признают, что этот отдел представляет собой ценнейшие памятники древнего искусства, равные западноевропейским, но, к сожалению, некоторые из советских художников требуют сокращения этого отдела[182].
Вторая половина 1930-х годов: Политическая реабилитация древнерусской живописи. Талант древних иконописцев отныне призван был служить национальной патриотической идее величия страны. На фото: зал «Старинное русское искусство XV–XVII вв.». Башкирский государственный художественный музей. 1937 год. Публикуется впервые. Государственная Третьяковская галерея
В судьбоносном разговоре с Анисимовым, который описан в одной из предыдущих глав, начальник Главнауки Лядов сказал, что до художественной реабилитации икон нужно ждать полвека. Однако этим прогнозам не суждено было исполниться. Тогда как до возрождения иконного собрания ГИМ оставался еще десяток лет, в Третьяковской галерее изменения стали чувствоваться уже к середине 1930‐х. На волне санкционированной властью критики вульгарно-социологической трактовки марксизма классово-пропагандистский показ икон в Третьяковской галерее начал приобретать более художественный характер. Однако политическая реабилитация произведений древнерусского искусства состоялась лишь в 1936 году, когда в галерее открылась расширенная экспозиция шедевров иконописи, собранных за всю историю существования галереи[183]. Она заняла восемь залов нижнего этажа[184]. К этому времени и иконный отдел наконец-то получил свое истинное имя – отдел древнерусского искусства.
Реформы в Третьяковской галерее в середине и во второй половине 1930‐х годов были частью радикальных изменений в стране, которые американский социолог Николай Тимашев красиво, хотя и небесспорно назвал «великим отступлением»[185]. В интересах политической и социально-экономической стабилизации сталинское руководство вместо насаждения узкоклассовых, якобы пролетарских начало пропагандировать внеклассовые и простые человеческие ценности – патриотизм, национализм, крепость семьи, материальный достаток. Это было время, когда многое из прошлой России, что, казалось бы, навсегда было сметено вихрем революции, вернулось в жизнь – воинские звания в армии, ученые степени и защиты диссертаций в университетах, академические программы в школах, ужесточение разводов, запрет абортов. Вместо кожанок и косовороток в моду вошли шелковые пижамы, маникюр, перманент и лаковые туфли, но главное – вернулось признание героического прошлого и культурного наследия прежней, досоветской России, а вместе с ним было политически реабилитировано и древнерусское искусство. Талант древних иконописцев отныне призван был служить не столько антирелигиозной пропаганде и иллюстрации социально-экономических формаций по Марксу, сколько национальной и патриотической идее величия страны[186]. Однако эти изменения, включая и официальную реабилитацию древнерусского искусства, произойдут в стране и ее музеях лишь во второй половине 1930‐х, массовая же передача икон из Исторического музея в Третьяковскую галерею состоялась в самом начале десятилетия.
Дебаты о роли икон в художественном музее, которые развернулись в ходе обсуждения марксистской экспозиции Третьяковской галереи в начале 1930‐х годов, свидетельствуют о том, что объяснить массовую передачу икон из Исторического музея в Третьяковскую галерею только тем, что Третьяковка, в отличие от ГИМ, была художественным музеем, недостаточно. Дебаты о марксистской экспозиции свидетельствуют, что однозначного признания иконы произведением искусства ни в правительстве, ни в среде интеллигенции в то время не только не было, но, напротив, сопротивление художественно-эстетическому признанию иконы в первые послереволюционные десятилетия приобрело новый агрессивный антирелигиозный характер. К тому же теперь это сопротивление не являлось частным делом, а получило всю мощь поддержки государства безбожников; идейно-политическая роль музеев в то время признавалась главенствующей, даже если это шло в ущерб задаче эстетического просвещения. В рамках преобладания такого понимания роли иконы Исторический музей в начале 1930‐х годов мог остаться главным музейным хранилищем икон, а впоследствии, обладая столь блистательным иконным собранием, и стать музеем иконописи. Однако иконное собрание ГИМ было разгромлено, лучшие иконы переданы в Третьяковскую галерею. Почему же все-таки это произошло?
Глава 3. Почему ГИМ мог быть, но не стал музеем иконописи
Художественная галерея братьев Третьяковых, где в наши дни представлены лучшие образцы русской живописи, является достойным местом для хранения и изучения шедевров древнерусского искусства, но в начале 1930‐х годов не это было главным. Редкие решения советской власти – если вообще такие были – в то время не имели идейно-политической подоплеки. И в случае с массовой передачей икон из Исторического музея в Третьяковскую галерею не обошлось без идеологии и политики. Не следует забывать, что передаче икон предшествовали травля Анисимова и разгром созданного им в ГИМ отдела религиозного быта[187].
Травля Анисимова началась в 1927‐м и активно продолжалась в 1928 году. 1 февраля 1929 года Анисимова уволили из ГИМ, а затем и с других постов. Тогда же, в феврале 1929 года, директор Третьяковской галереи Кристи обратился в Главнауку с письмом о необходимости создания в галерее высокохудожественной древнерусской коллекции за счет изъятия икон из других собраний, в том числе и отдела религиозного быта ГИМ[188]. По иронии судьбы дата письма Кристи, 28 февраля 1929 года, совпадает с датой письма Анисимова за границу Н. М. Беляеву, в котором Анисимов описал недавно прошедшее позорное судилище, где было принято решение ликвидировать созданный им иконный отдел[189]. Вряд ли это совпадение случайно. Кристи использовал благоприятный для Третьяковской галереи момент – опалу Анисимова и закрытие созданного им иконного отдела. Как только прошло позорное судилище в ГИМ и уволили Анисимова, Третьяковская галерея начала действовать. Представляется, что важную и неприглядную роль в этих событиях сыграл Н. М. Щекотов, но об этом будет сказано позже. Тучи сгущались над Анисимовым. В октябре 1930 года он был арестован. Именно в это время, с мая по октябрь, проходила передача лучших икон из ГИМ в ГТГ.
Громадна заслуга Александра Ивановича Анисимова в создании иконного собрания Исторического музея в 1920‐е годы, но именно в его политической травле, как показывают приведенные факты, следует искать причину разгрома его отдела. Прямолинейный, дерзкий характер, открытое высказывание своего мнения и поступки, которые власть считала антисоветскими, нежелание рубить себя под прокрустово ложе овульгаренного марксизма обернулись трагедией для него и для Исторического музея. Обвинения против Анисимова были политическими, а значит, серьезными – антисоветская деятельность, передача рукописи книги и других сведений на Запад. В свете этих событий и лядовских настроений, царивших в то время в Главнауке Наркомпроса, передача икон из Исторического музея в Третьяковскую галерею выглядит логичным завершением политической кампании против Анисимова и его отдела. Личная трагедия Анисимова и трагедия иконного отдела ГИМ обернулись торжеством Третьяковской галереи. Не случайно исследователи истории формирования отдела древнерусского искусства ГТГ отмечают, что именно в первой половине 1929 года, то есть в то время, когда вершилась судьба Анисимова и его отдела, «определилась новая роль Галереи как „сокровищницы“ древнерусского искусства»[190]. Точнее не скажешь.
В Историческом музее, похоже, не нашлось никого, кто открыто решился бы защищать Анисимова. К руководству в ГИМ, как и во всех крупных музеях страны, в конце 1920‐х годов пришли варяги – партийные функционеры. В Историческом музее это был преданный советской власти профессиональный революционер и далекий от древнерусского искусства товарищ Пантелеймон Николаевич Лепешинский[191], который и сам понимал, что в музее он не на своем месте[192]. Казалось бы, бывший директор ГИМ Николай Михайлович Щекотов, который являлся одним из первооткрывателей древнерусского искусства[193] и который присутствовал на позорном судилище над Анисимовым, должен был защитить иконное собрание Исторического музея от разорения. Однако, напротив, по свидетельству Орешникова, на трагическом заседании 29 января 1929 года именно Щекотов поднял вопрос об уничтожении отдела религиозного быта[194]. Щекотов в то время возглавлял отдел иконографии ГИМ, то есть отдел исторического портрета. Именно туда, «в иконографию к Щекотову», отправились осиротевшие иконы. Казалось бы, поведение Щекотова объясняется тем, что он, один из первых исследователей древнерусской живописи, хотел заполучить иконы в свой отдел, однако последующие события опровергают это предположение. Щекотов не стал бороться даже за шедевры. После разгрома отдела Анисимова начались массовые выдачи икон в другие музеи[195], самое лучшее досталось Третьяковской галерее.
Мягко говоря странное поведение Щекотова на позорном судилище в Историческом музее озадачило меня. Факты биографии этого безусловно талантливого и деятельного человека известны, но история его жизни, вершившаяся в эпоху революционной ломки, пока не написана. Мне захотелось разобраться в мотивах его кажущегося столь нелогичным участия в разгроме иконного отдела Исторического музея и, как следствие, в трагической судьбе Анисимова. Представляется, что несколько факторов сыграли роль, а именно революционность Щекотова, его понимание иконы, а возможно, и личное пристрастие к Третьяковской галерее.
Судя по отзывам людей, которые лично знали Щекотова, он был новатором, ниспровергателем старого, революционером в искусстве, хотя формальное его образование было сугубо техническим[196]. В начале XX века открытие древнерусской живописи стало подлинной революцией в искусстве; видимо, именно эта революционность и привлекла Щекотова. В 1914 году в журнале «Русская икона» Щекотов опубликовал полемическое исследование «Иконопись как искусство», где со страстью и талантом громил иконографов старой школы – Кондакова, Лихачева, Айналова, которых, по его мнению, интересовала только сюжетность иконы, а сама икона представлялась лишь предметом церковной археологии. В. Н. Лазарев позже тоже писал, что исследователи иконографической школы «как бы забыли о том, что имеют дело с произведением искусства». Хочется, однако, возразить: может быть, не забыли, а не знали, не видели этого? Ведь расчистки икон, которые освободили из-под почерневшей олифы многоцветие древнерусской живописи, явив важность формы и стиля, хотя и были известны ранее, но масштабно и систематически развернулись лишь в первое десятилетие ХХ века. Но мало было расчистить икону от многовековых наслоений, ее еще нужно было освободить и от старых представлений о ней. По словам Лазарева, именно Щекотов был первым, кто сделал выводы из открытий реставрации и сказал новое веское слово об иконе как произведении живописи, призывая передать икону из рук археологов и иконографов художественным критикам[197].
Последовавшие события, мировая война и плен, прервали революционный роман Щекотова с древнерусской живописью. Вскоре грянула кровавая революция. Щекотов, военнопленный в Германии, написал письмо в советское представительство с просьбой дать ему работу в новой России. Он вновь рвался в пекло революционных событий, но полемика о мировом значении древнерусской живописи померкла на фоне эпохальной ломки бывшей империи. Последней данью Щекотова уходящей страсти было несколько небольших статей, написанных по возвращении в Россию. Среди них – очерк о «Св. Троице» Андрея Рублева, который Щекотов якобы писал, сидя перед самой иконой, будучи – о эпоха! – комиссаром по разбору имущества Троице-Сергиевой лавры. На этом с изучением икон было покончено. Новая страсть Щекотова – революционный авангард. В 1923–1932 годах Щекотов был членом правления и зам. председателя Ассоциации художников революционной России (АХРР)[198]. Видимо, на позорном собрании в Историческом музее в январе 1929 года ликвидации иконного отдела требовал Щекотов-АХРРовец, а не Щекотов – первооткрыватель древнерусской живописи и автор статьи о рублевской «Св. Троице».
Потеря интереса к русской иконе и новые революционные пристрастия в искусстве могли быть не единственными причинами рокового участия Щекотова в разгроме иконного отдела Исторического музея. Осознанно или нет, но на судилище в ГИМ он представлял интересы другого музея – Третьяковской галереи. Хотя Щекотов успел побыть и директором ГИМ (1921–1925), и директором ГТГ (1925–1926), он, видимо, был пристрастен к Третьяковке. Это пристрастие имело как личные, так и профессиональные причины. В самом начале ХХ века молодой Щекотов тесно общался с Остроуховым, который был попечителем галереи, и по его совету и рекомендации в 1908 году начал профессиональную карьеру именно в этом музее, помогая хранителю икон Н. Н. Черногубову. В Третьяковке молодой Щекотов проработал вплоть до ухода на мировую войну. После германского плена Щекотов вернулся в галерею, став членом Ученого совета и закупочной комиссии ГТГ (1918–1926). В то время, в 1920 году, он писал, что есть все основания надеяться на формирование в галерее иконной коллекции, которая станет в скором времени одной из крупнейших в России[199]. Решение Наркомпроса 1924 года о специализации Третьяковской галереи в светской живописи XVIII–XIX веков, возможно, раздосадовало его, но политическая травля Анисимова представила новый шанс. Став заведующим отделом исторического портрета (иконографии) ГИМ (1926–1930), Щекотов вряд ли порывал связь с Третьяковской галереей. Не случайно же в 1934 году он стал зам. директора ГТГ по научной работе. Эту должность он занимал до 1937 года.
Не только личная и профессиональная связь с Третьяковской галереей, но и то, как Щекотов понимал икону, определили его отношение к иконному собранию Исторического музея. Щекотов новаторски считал икону произведением искусства, из чего следовало, что место ей – в художественной галерее, а не в историко-бытовом или археологическом музее, каким в то время представлялся Исторический музей. Еще в начале 1919 года на самой первой музейной советской конференции в Петрограде в Зимнем дворце, который тогда по-революционному назывался Дворцом искусств, Щекотов, в то время член Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины, сделал доклад о создании художественного национального музея. Он настаивал на том, что такой музей живописной культуры должен быть создан на основе Третьяковской галереи. После всего сказанного стоит ли удивляться, что Щекотов требовал ликвидации иконного отдела ГИМ и не стал препятствовать передаче шедевров древнерусского искусства в Третьяковскую галерею? Его поведение на январском судилище в Историческом музее в 1929 году, таким образом, не было странным, напротив, оно было логичным и закономерным. АХРРовец Щекотов, потерявший интерес к исследованию русской иконы, тем не менее оставался верен революционному открытию своей молодости.
В Историческом музее никто открыто не встал на защиту Анисимова и его отдела, однако у икон защитники все-таки нашлись. Завотделом нумизматики ГИМ Алексей Васильевич Орешников и замдиректора по просветительской работе Анна Мартыновна Бирзе[200], как и другие, промолчали на позорном судилище 29 января, но весной и летом 1930 года, участвуя в отборе икон для ГТГ, пытались сохранить лучшие иконы для своего музея. Свидетельством этого служат записи в дневнике Орешникова (выделено мной. – Е. О.):
30 (17) мая. +12°. Сегодня с утра «Третьяковка» должна была брать из Музея отобранные иконы; третьего дня я говорил Милонову[201], что невозможно многих икон отдавать, в ответ он назначил комиссию из меня и Бирзе, которая должна была решить, что не отдавать. Сегодня, когда я пришел, Бирзе сказала, что она не пойдет, просила быть мне одному. От Третьяковки главным был Гамза[202], очень возмутившийся мной, который не отдал многих вещей, пригрозил, что будет жаловаться Главнауке на меня, не исполняющего предписания правительства, я ему ответил, что доносить он может, но я интересы Музея должен соблюдать и против насилия не пойду, т. к. это бесполезно; 4 июня (22 мая). +5°. С утра я разбирал с Милоновым и Бирзе те иконы, которые я не отдал Третьяковской галерее; Милонов настаивал отдать все, что требовала Третьяковка, я защищал, Бирзе меня поддерживала; просмотрев 42 иконы, я ушел, явился Гамза, с которым без меня Милонов говорил, чем кончились их разговоры – не знаю; 14 (1) июня. +16°. Явился Милонов, попросил отпустить в Третьяковскую галерею иконы, я было отказывался, но он сказал, что других специалистов нет; я согласился отпустить 100 икон, а более я устаю, так как приходится каждую икону брать в руки, осматривать, диктовать причину, почему я оставляю икону и т. д.; однако отпустил до 150 икон, из них 40 с чем-то оставил в Музее, остальные в Третьяковскую галерею; 21 (8) июня. +10°. С 11 ½ до 2-х шло собрание с Милоновым и Бирзе; главный вопрос был: требование Третьяковской галереи отдать ей иконы Владимирской Божией Матери, Донской, «Спас златые власы» и Архангела Гавриила; требования предъявил Гамза, ему энергично возразила Бирзе, отстаивая все 4 иконы; на вопрос Милонова – почему иконы нужны Музею – кто-то, кажется, Протасов, сказал, что они важны в антирелигиозном отношении, что очень понравилось Милонову, и он решил их оставить. Гамза был обижен резкими замечаниями против Третьяковки и, рассерженный, ушел, сказав, что сообщит все Сектору науки (бывшая Главнаука)[203].
О саботаже сотрудников Исторического музея свидетельствуют и документы архива Третьяковской галереи. Мотивы отказа выдать иконы в ГТГ кажутся неуклюжими и надуманными. Так, сохранить знаменитую икону Богоматери Владимирской сотрудники ГИМ пытались, утверждая, что поскольку она была привезена на Русь из Византии, то представляет образец товара и характеризует формы экономических и политических отношений двух стран. Отказ выдать иконы «Ангел Златые власы» и «Спас Златые власы» мотивировался тем, что золотые линии прядей являются отражением бытового приема украшения прически вплетенными в нее нитями золота. Необходимость оставить в ГИМ икону «Страшный суд» из собрания Морозова сотрудники музея объясняли тем, что на этой иконе престол Господа стоит на колесах, что свидетельствует об использовании на Руси колесниц[204]. Кто-то посмеется над этими бесполезными и притянутыми за уши аргументами, но дело в том, что Наркомпрос разрешил Историческому музею оставить только памятники религиозно-бытового характера, а высокохудожественные произведения отдать в Третьяковскую галерею, поэтому сотрудникам ГИМ приходилось искать аргументы в области древнего быта. Это были отчаянные попытки. Сотрудники ГИМ не отдали иконы без борьбы. Накал споров был таков, что пришлось в качестве арбитра создать межмузейную комиссию, однако ее состав показывает, что участь иконного собрания ГИМ была предрешена. Исторический музей в этой комиссии представлял только один человек – Н. Д. Протасов, в то время как от Третьяковской галереи формально было четыре человека (А. М. Скворцов, Я. П. Гамза, М. В. Алпатов, Лисенко), но фактически больше, так как представитель Главнауки А. А. Вольтер, скорее всего, защищал интересы Третьяковской галереи. 3 августа 1930 года сокровища древнерусского искусства, о которых спорили Орешников и Гамза, были отданы в Третьяковскую галерею.
Глава 4. Спас на Крови
Вклад, который государственные репрессии и насилие внесли в пополнение собрания Третьяковской галереи, не ограничивается передачей икон из Исторического музея в 1930 году. В галерее оказалась часть замечательной коллекции икон арестованного Анисимова, которую туда в 1931 году передало ОГПУ по секретной просьбе Наркомпроса[205]. В коллекции Анисимова преобладали работы новгородских мастеров, но были и московские иконы, а также иконы из Твери, Вологды, Ростова, Кириллова и поствизантийские работы[206]. Из квартиры Анисимова коллекцию вывозили его бывшие коллеги по Историческому музею. Находясь в разоренном доме, что испытывали они, «любезно молчавшие» на недавнем позорном судилище?[207] В галерее оказалась и часть собрания известного реставратора Г. О. Чирикова[208], репрессированного вслед за Анисимовым. После ареста его собрание, славившееся иконами XVII века миниатюрного письма, попало в Исторический музей и «Антиквариат», откуда в 1935 году некоторые из икон поступили в Третьяковскую галерею[209].
Пополнение иконного собрания Третьяковской галереи, как и других центральных музеев, также шло за счет директивного изъятия шедевров из провинциальных музеев, которые, в свою очередь, тоже пополнялись в результате насилия – государственной политики разрушения и закрытия местных церквей и монастырей. Следует сказать, что во многих случаях работники местных и центральных музеев спасали оставшиеся без присмотра и погибающие произведения искусства, но хватало и директивных изъятий из действующих церковных учреждений и религиозных общин. Сильный забирал у слабого. В 1929 и 1930 годах ценнейшие иконы поступили в галерею из Загорского музея, который в свою очередь формировался в ходе разорения Троице-Сергиевой лавры[210]. В их числе знаменитая «Св. Троица» – бесспорное произведение Андрея Рублева[211], «Богоматерь Одигитрия» и еще около десятка шедевров древнерусской живописи[212]. Тогда же в Третьяковской галерее оказалась и киевская икона второй половины XII века «Св. Дмитрий Солунский» из Успенского собора в Дмитрове[213]. В числе изъятых из Вологодского музея была одна из древнейших икон вологодской школы «Св. Николай Чудотворец, с житием» второй половины XIV века[214]. В результате изъятий собрание Третьяковской галереи пополнилось лучшими иконами из музеев Пскова, Ростова, Ярославля, Костромы, Саратова, Нового Торжка, Северодвинска, Владимира, Смоленска, Коломны, Мурома, Углича, Вологды, Дмитрова, Новгорода, музея Кирилло-Белозерского монастыря и др.[215]
Письма Ивана Васильевича Федышина, заведующего художественным отделом Вологодского музея, передают настроение и опасения работников местных музеев того времени. В 1926 году, находясь на обучении в Москве, он просил свою сотрудницу, в скором будущем – жену, спрятать наиболее ценные иконы «в самый темный угол и никому не показывать: ни Грабарю, ни Анисимову, а то поминай как звали! Непременно утащат». «Хищничество и жадность до редкостей у москвичей, – писал Федышин, – развиты гораздо больше, чем у нас грешных»[216]. Находясь на лечении в санатории в мае 1930 года, Федышин в письме инструктировал жену: «Вероятно, уже появились в Вологде приезжие специалисты из центра и скоро приедет экспедиция Анисимова. На всякий случай убери на лестницу вниз за портреты 3 иконы: 1) „Козьму и Дамиана“, 2) „Богородицу“ из Гавр[иило]-Архангельск[ой] ц[еркви] … и 3) „Николу“ из ц[еркви] Воскресения»[217]. Анисимов приехал в августе и, по свидетельству жены Федышина, «не поленился пересмотреть все иконы во всех кладовых… Даже в ризнице все до одной перекидали». Все знали, что Анисимов, как эксперт Главнауки, присматривал иконы для московских музеев и Госторга, поэтому настроение у Федышина было отчаянно-злым: «Раз он высмотрел наши фонды – это вполне достаточно, чтобы он мог навредить в любую минуту. Для этого достаточно сочинить бумажку и прислать ее в музей со штампом Главнауки»[218], что и случилось в сентябре 1930 года. Вот еще одно письмо лета 1930 года. Федышин спрашивал у жены, приезжал ли «профессор» и «что он облюбовал для Москвы». По предположению Вздорнова, речь шла о А. Н. Свирине, сотруднике Третьяковской галереи, который побывал в Вологде в июле и отобрал иконы. «Что-то уж очень потащили все и всё от нас», – в сердцах подытожил Федышин[219].
Кто-то может сказать, что провинциальному музею нечего было и тягаться со знаменитой Третьяковской галереей, которая является более достойным местом для шедевров древнерусской живописи. Однако это мнение основано на привычных стереотипах сегодняшнего дня. Не стоит забывать, что и Третьяковская галерея вначале была всего лишь городским музеем. В ее собрании были шедевры, но оно было несравненно беднее того, что галерея получила за годы советской власти в результате перераспределения художественных богатств. Следует напомнить и то, что иконное собрание галереи в 1920‐е годы не превышало полторы сотни икон, тогда как собрание Вологодского музея в конце 1920‐х годов, по свидетельству Федышина, насчитывало порядка пяти тысяч икон, а по своему значению среди провинциальных музеев уступало лишь Новгородскому музею. Анисимов назвал иконное собрание Вологодского музея «кладезем произведений древнерусской живописи». Авторы каталога иконного собрания этого музея считают, что его богатейшая коллекция древнерусского искусства в конце 1920‐х годов «вполне могла соперничать с лучшими собраниями Москвы и Ленинграда»[220]. Кроме того, отчего же Вологда, древний русский город, история которого, как и история Москвы, уходит корнями в XII век, не достойна первоклассного музея древнерусской живописи? Именно о такой перспективе мечтал Федышин:
…мы с Вами должны благодарить небо за то, что живем в Вологде. Вологда здесь (речь идет то ли о Музейном отделе Наркомпроса, то ли о ЦГРМ. – Е. О.) считается вторым городом после Новгорода по обилию и качеству памятников древнерусской иконописи… И если бы к нашему материалу приложить еще немного труда, знаний и средств по раскрытию памятников, то наш музей мог бы стать прекрасным и великим[221].
Изъятия икон из провинциальных музеев чаще всего были безвозмездными. Москва забирала по праву сильной и властной. В лучшем случае местные музеи получали взамен произведения светской живописи[222]. Одна из таких бартерных сделок оставила след в архивах и поражает неравноправием обмена между центром и провинцией в советской системе перераспределения ресурсов. В 1934 году взамен памятников древнерусской живописи XV века из Угличского краеведческого музея[223] Третьяковская галерея передала туда несколько картин советских художников: этюд «Огороды» и «Стадо у реки» Аладжалова, «Обучение слепых в щеточной мастерской» Литвиненко, «Литейщик у вагранки» Долгова и «Бык в киргизской упряжке» Савицкого[224].
Не вернулись домой и многие иконы, предоставленные провинциальными музеями на советскую заграничную выставку икон 1929–1932 годов, о которой будет рассказано в следующей части этой книги. В частности, Вологодский музей отдал на выставку тринадцать икон, из них только две вернулись в Вологду, остальные достались Третьяковке и Русскому музею (прил. 11). Среди них икона Дионисия «Распятие» из Павло-Обнорского монастыря, которая сейчас находится в ГТГ[225]. Не вернулась с выставки во Владимир икона «Св. князь Георгий Всеволодич», которая происходила из местного Успенского собора. Попутешествовав по миру и побывав в Русском музее, она в 1934 году оказалась в Третьяковской галерее (прил. 11)[226]. Правая створка царских врат с изображением Св. Василия Великого работы рубежа XIV–XV веков, которая после революции попала в Тверской музей, после реставрации в ЦГРМ и путешествия по миру также осталась в Третьяковской галерее[227].
Массовое закрытие и снос храмов, которые советское государство проводило в 1930‐е годы, стали еще одной печальной страницей в истории пополнения иконного собрания Третьяковской галереи и других музеев. Ценности либо напрямую вывозились сотрудниками галереи из подлежащих ликвидации церквей, либо поступали через музейный фонд Московского отдела народного образования (МОНО) Наркомпроса РСФСР[228].
Летом 1929 года была закрыта церковь Св. Николая в Толмачах. Здание было передано Третьяковской галерее в качестве хранилища. На примере разорения этой церкви можно увидеть, как проходил дележ имущества. Верующим, которых представлял приходской совет, разрешили забрать то, что не имело художественной ценности. Они перенесли разрешенное в соседний храм Св. Григория Неокесарийского на Большой Полянке, который тоже закроют, но в 1939 году. ОГПУ, которому для выполнения валютного плана нужны были драгоценные металлы, достались ненужные галерее золоченые иконы, подсвечники и другие предметы церковного обихода с позолотой, а также серебряные оклады. Позолоту с главного алтаря должны были смыть прямо на месте. Реставрационной мастерской разрешили выбрать золоченое дерево, кроме иконостаса, и взять стекла[229]. В результате вместо церкви – складское помещение. В отличие от церкви Св. Николы в Толмачах, которая хотя и была закрыта, но избежала сноса[230], множество закрытых московских церквей были разрушены. В современных границах Москвы таких наберется не менее двух сотен. В память о них остались лишь названия – Св. Николы Чудотворца в Сапожке, Свв. Флора и Лавра у Мясницких ворот, Рождества Христова в Палашах, Ермолая Священномученика на Козьем болоте, Спаса Преображения в Наливках, Воскресения в Монетчиках, Св. Троицы в Капельках, Похвалы Богородицы в Башмаках… – навсегда ушедший мир старой Москвы, былой России.
В 1931 году в Третьяковскую галерею были переданы: деисусный чин первой половины XV века храма Покровско-Успенской старообрядческой общины, который до революции стараниями С. П. Рябушинского был украшен древними иконами[231]; царские врата и иконы XVIII века из церкви Св. Алексея[232]; золоченые царские врата и другие предметы XVII века из церкви Св. Иоанна Предтечи в Староконюшенном переулке[233]; иконы из церкви Свв. Бориса и Глеба у Арбатских ворот[234]; пророческий чин из церкви Свв. Космы и Дамиана в Кадашах на Большой Полянке[235]; иконы из церквей Симонова монастыря[236], а также десятки икон из разрушенных московских церквей, оказавшиеся в МОНО и места происхождения которых были забыты[237]. В 1931 году, перед тем как взорвать храм Христа Спасителя в Москве, советские власти разрешили забрать оттуда художественные ценности. Осенью 1931 года в Третьяковскую галерею поступили скульптура, снятая со стен храма[238], картины Сурикова, Верещагина и Семирадского, когда-то украшавшие его стены.
В 1933 году собрание Третьяковской галереи пополнилось иконами из разоренных церквей Рождества Богородицы в Голутвине[239], Св. Троицы в Сыромятниках[240], Гребневской иконы Богоматери[241], Успения на Остоженке[242], Св. Николы Большой Крест у Ильинских ворот[243], Св. Иоанна Богослова в Бронной слободе на Тверском бульваре[244], Св. Софии на Софийской набережной[245], иконостаса церкви Св. Троицы в Серебряниках[246]. В 1934 году транзитом через ЦГРМ в ГТГ поступили иконостас из церкви Архангела Михаила в Овчинниках[247], а также иконы из моленной на Покровской улице[248], церкви Похвалы Божьей матери[249], церкви Спаса Преображения[250], моленной Свв. Петра и Павла[251], Никольского единоверческого монастыря[252], церкви Воскресения в Кадашах[253], церкви Св. Николы в Пыжах на Большой Ордынке[254]. В 1936 году Третьяковская галерея пополнилась коллекцией А. И. и И. И. Новиковых из церкви Успения на Апухтинке[255], а также иконами из церкви Св. Алексея митрополита в Глинищах[256] и церкви Сошествия Св. Духа в Толмачах[257]. В 1939 году галерея приняла иконы из закрытой церкви Св. Григория Неокесарийского на Большой Полянке[258].
Список разоренных московских храмов, откуда ценности поступили в Третьяковскую галерею, можно было бы продолжить. В актах МОНО начала 1930‐х годов значатся церкви Св. Николы в Воробине, Св. Николы Заяицкого, Знамения Богоматери на Знаменке, Св. Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и др.[259] О масштабах разрушений свидетельствуют цифры: только за 1933 год в связи с ликвидацией московских церквей «был собран 1021 памятник» и перевыполнен план пополнения иконного собрания галереи[260].
В 1934 году были закрыты Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ). Они являлись преемником Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, которая в годы революции и Гражданской войны собирала шедевры иконописи. Анисимов был активным участником Комиссии и сотрудничал с ЦГРМ. Пока он был в силе, наиболее ценные иконы, раскрытые в мастерских, поступали в Исторический музей. Когда же Анисимов и его отдел религиозного быта впали в немилость, главным получателем икон из мастерских стала Третьяковская галерея[261]. В 1929 и 1930 годах, во время травли и ареста Анисимова, в галерею поступили шедевры древнерусского искусства, собранные Комиссией в годы революции и раскрытые в ЦГРМ. Среди них киевская икона XII века «Богоматерь Великая Панагия (Оранта)»[262] работы Андрея Рублева[263] и Феофана Грека, а также другие сокровища[264]. С учетом изъятий из провинциальных музеев, о которых было сказано ранее, по итогам только двух, 1929 и 1930, годов собранию древнерусской живописи Третьяковской галереи не стало равных. В нем оказались шесть памятников домонгольского периода: иконы «Богоматерь Владимирская», «Благовещение Устюжское» и «Спас Нерукотворный» из Успенского собора Московского Кремля, «Св. Никола, с избранными святыми» из Новодевичьего монастыря, а также «Богоматерь Великая Панагия», найденная экспедицией в 1919 году в Спасском монастыре в Ярославле, и икона «Св. Дмитрий Солунский» из Успенского собора Дмитрова[265].
Передачи икон из ЦГРМ в Третьяковскую галерею продолжались в начале 1930‐х годов. В частности, благодаря им галерея пополнилась шедеврами из собрания серпуховской фабрикантши А. В. Мараевой[266]. Закрытие Центральных реставрационных мастерских в начале 1934 года принесло галерее богатейшее наследство – несколько сотен ценнейших икон. И в этом случае не обошлось без государственного террора. Ликвидация мастерских стала финальным актом репрессий против их сотрудников. И. Л. Кызласова реконструировала события тех лет[267]. Осуждение Анисимова, подобно кругам, идущим от брошенного в воду камня, повлекло аресты его ближайших коллег. В марте 1931 года были арестованы четыре сотрудника мастерских, в том числе ведущие реставраторы П. И. Юкин и Г. О. Чириков[268]. ОГПУ обвинило этих людей в контрреволюционной работе «под флагом ЦГРМ», связях с церковниками и иностранцами, приверженности «реакционной идеологии Анисимова». Юкин и тяжелобольной Чириков отправились в ссылку в Северный край[269]. Руководитель мастерских Грабарь, чувствуя угрозу, еще до арестов покинул опасное место, ушел на пенсию[270]. По мнению Кызласовой, после потери руководителей и ведущих специалистов мастерские уже не могли оправиться. Новые аресты в октябре 1933 и январе 1934 года[271] привели к уничтожению ЦГРМ. Мастерские были закрыты практически сразу после второй большой волны арестов, в феврале 1934 года. Несколько оставшихся сотрудников вместе с иконами ушли в Третьяковскую галерею, которой была передана функция реставрации произведений древнерусского искусства.
Трагедии и сломанные судьбы скрыты за стерильной официальной версией создания древнерусского собрания Третьяковской галереи[272], как, впрочем, и других музеев, но у медали всегда две стороны. Так, иконы Анисимова, как и многие иконы из закрытых и разрушенных церквей, попав в Третьяковскую галерею, были спасены от уничтожения и забвения. Более того, столь мощная концентрация в стенах одного музея произведений иконописи, ранее разбросанных по коллекциям, соборам и музеям, имела грандиозные научные последствия. Она позволила искусствоведам и историкам искусства совершить открытия. Приобрели ясные очертания доселе легендарный домонгольский период древнерусской живописи и столь расширительно толковавшаяся ранее новгородская школа, была открыта московская школа иконописи, считавшаяся ранее частью или подражанием новгородской[273]. Как гласит народная пословица, нет худа без добра.
Современное иконное собрание Третьяковской галереи в основном было сформировано к середине 1930‐х годов, но пополнение коллекции продолжалось. Перераспределение национализированных произведений искусства между музеями страны затянулось до войны. Так, в 1936 году в Третьяковскую галерею были переданы ценнейшие иконы XII, XIV, XV–XVII веков из Оружейной палаты, в том числе два деисуса XII века из Успенского собора Кремля[274]. В 1939 году галерее перешла «задержавшаяся» в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина значительная часть иконной коллекции Е. Е. Егорова[275]. В середине 1930‐х годов большая партия икон поступила в галерею из Антирелигиозного музея, расположившегося в бывшем Донском монастыре, где после революции оказались произведения из Новодевичьего, Донского, Златоустовского монастырей и закрытых московских церквей. В 1938 году Гохран передал галерее иконы, хранившиеся там со времени революции. Во второй половине 1930‐х годов Третьяковская галерея получила также ценные произведения древнерусской живописи из торговой конторы «Антиквариат», о чем будет подробно рассказано позже.
Глава 5. К вопросу о фальшивках
История о том, как революция превратила скромную моленную Павла Михайловича Третьякова в многотысячную сокровищницу древнерусского искусства, позволяет разрешить многие недоумения Владимира Тетерятникова. Странствуя между коллекциями, музеями и хранилищами, иконы обзаводились разномастными инвентарными номерами и этикетками. Тетерятникову они показались случайными, избыточными и лишенными смысла, на самом же деле в них зашифрована история странствий икон.
Тот факт, что одна и та же икона Третьяковской галереи могла иметь несколько разных номеров ГТГ, Тетерятников использовал для доказательства изготовления фальшивок. На деле же наличие двух или трех номеров ГТГ на иконах да и на других произведениях искусства, поступивших в галерею в 1920–1930‐е годы, естественно. При передаче в галерею иконе сначала присваивался номер временного хранения с шифрами «КРТГ», «П», «Остр.», «Уч. оп.»[276], а затем инвентарный номер постоянного хранения. Первичные номера, присвоенные при поступлении предметов, и постоянные инвентарные номера наносились красками разного цвета, белой и красной. Наличие обоих номеров свидетельствует о том, что икона прошла все ступени учета. На иконах Третьяковской галереи мог быть еще и третий номер. Так, на иконе «Св. Илия Пророк в пустыне», которая была продана американскому послу в СССР Джозефу Дэвису, кроме номеров КРТГ 5627/177 и инв. 13927, стоит и номер «506». На мой запрос из отдела учета галереи ответили, что по документам действительно у этой иконы значится «отд. 506». Следовательно, и эти номера, которые ставились на бумажных этикетках-марочках, не вымышленные. Они имеют смысл. Это – внутренние номера отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи[277].
Объяснить, почему на иконах Третьяковской галереи присутствуют несколько номеров этого музея, оказалось несложно. Более того, и Тетерятников, который получил по этому вопросу исчерпывающую информацию от друзей из Москвы, знал об этом, но предпочел не рассказывать в книге, ведь эти сведения подрывали его доводы о надуманности и, следуя его логике, поддельности инвентарных номеров на иконах. Об осведомленности Тетерятникова свидетельствует переписка, сохранившаяся в его архиве. Книга Тетерятникова «Иконы и фальшивки» вышла в свет в 1981 году, а 24 августа 1980 года он запрашивал друзей в Москве:
Но вот теперь меня еще кое-что интересует. Например, на некоторых иконах кроме инвентарного номера, написанного красной краской, есть еще и белой краской странные номера, типа П 5666/41 ГТГ. Что это за номера. Есть ли такие на каких либо иконах в ГТГ. Не означает ли буква «П» – подделка? Может это и шутка, но у меня все остальные данные об таких иконах тоже подтверждают это. Кстати нет ли такого номера на знаменитом новгородском «Отечестве»[278]? Я немного его подозреваю.
В другом, более раннем письме от 23 июня 1980 года, адресованном бывшей коллеге по НИИ реставрации, он выразился еще более определенно:
Часты инвентарные номера Третьяковской галл. (sic!) на иконах – все фальшивые и хулиганские цифры типа 5666 (такой номер поступления имеют многие иконы, переданные в ГТГ из ГИМ. – Е. О.) или 1110008 (такого номера ни на одной иконе Ханна нет, похоже, Тетерятников сам решил похулиганить. – Е. О.). Думаю, что это уже издевательство или намек от ваших к нашим. Мне нужны фотографии оригинального шрифта на иконах третьяковки (sic!). И наклеек тоже[279].
Письмо с ответом из Москвы помечено 17 октября 1980 года, следовательно, оно пришло еще до выхода в свет книги Тетерятникова. В нем было сказано:
На каждой вещи должно быть три вида номеров: 1. Первичная обработка без научного описания в книге поступлений – П – белой краской; 2. Инвентарный номер – красной; 3. Нулевая – когда передается на временное хранение[280], тогда номер начинается с нуля[281].
В письме от 22 октября 1980 года тот же информатор прислал Тетерятникову исчерпывающие сведения по всем иконам Ханна, которые до продажи принадлежали Третьяковской галерее, включая все присвоенные номера, размер, откуда, когда и по какому акту поступили, когда и по какому акту были переданы в «Антиквариат»[282]. Однако и эту информацию Тетерятников не стал использовать в своей книге, потому что она, подтверждая принадлежность икон ГТГ, подрывала доверие к его аргументам.
Система учета произведений искусства, существовавшая в Третьяковской галерее, объясняет также, почему разные иконы могли иметь один и тот же номер ГТГ. Когда иконы приходили партиями, то целой партии мог присуждаться дробный первичный номер поступления, числитель которого означал общий и единый номер, присвоенный всей этой группе предметов, а знаменатель указывал на порядковый номер предмета в группе или в списке. Так, иконы, партиями поступавшие в Третьяковскую галерею из Исторического музея в 1930 году, получали общие первичные групповые номера – 5661/…, 5666/… (именно об этих двух номерах Тетерятников запрашивал Москву), 5668/…, 5683/… и т. д., а после дроби следовал порядковый номер иконы в группе поступления, например 5666/49. Затем, со временем иконы получали инвентарный номер постоянного хранения.
Взглянув на первичные номера поступления и инвентарные номера ГТГ, можно узнать примерное время поступления иконы в галерею и источник поступления. Однозначные и двузначные инвентарные номера говорят о принадлежности иконы первоначальной коллекции Павла Михайловича Третьякова. Эти иконы оказались в галерее еще до революции и избежали послереволюционных странствий, именно поэтому номеров других музеев и хранилищ на их обратной стороне нет. Проданная икона из собрания Третьякова «Свв. Макарий Египетский и Макарий Александрийский», чей номер – «инв. 30» – стал для Тетерятникова эталоном подлинности, относилась именно к этой группе. Но таких икон были лишь десятки в многотысячном собрании Третьяковской галереи. Четырехзначные инвентарные номера указывают на то, что иконы, скорее всего, поступили в галерею из Государственного музейного фонда в 1920‐е годы. На таких иконах вероятны инвентарные номера других музеев и хранилищ, а также номера ГМФ. Пятизначные инвентарные номера начинаются с конца 1920‐х и продолжаются в 1930‐е годы, время массового поступления икон в ГТГ, при этом начальные 12000‐е номера (примерно до 12128) – это иконы из бывшего собрания Остроухова, остальные 12000‐е и 13000–14000‐е номера, как правило, являются поступлениями из Исторического музея. Поскольку, как было рассказано ранее, ГИМ, будучи вначале главным хранилищем икон в Москве, аккумулировал тысячи икон из самых разных мест, оборотные стороны этих икон могли изобиловать разномастными инвентарными номерами. Те иконы Третьяковской галереи, которые после выдачи побывали в магазине Торгсина и «Антиквариата», а потом были проданы за границу, имеют магазинные этикетки и инвентарные номера этих торговых организаций, которые, как правило, начинались литерой «С». Такие номера присутствуют практически на всех иконах Ханна.
Собранная Тетерятниковым детальная, вплоть до цвета краски информация о номерах и этикетках с обратной стороны икон из коллекции Ханна полностью соответствует системе учета, существовавшей в Третьяковской галерее в то время. Знание истории революционных странствий икон и системы учета ГТГ позволяет понять шифры, которые Тетерятников в своей книге назвал бессмысленными. Приведу лишь один пример расшифровки. Икона «Благовещение» из собрания Ханна, которая была продана на аукционе Кристи в 1980 году за 34 тыс. долларов (лот 60), имеет на обороте следующую информацию. Этикетки: «Музей фарфора № 177», «Отдел по делам музеев и охраны памятников старины при Народном комиссариате по просвещению, владелец А. В. Морозов», «Государственная Третьяковская галерея № 198», а также номера «С/18886», «С 1/712» и номер «13458 ГТГ», написанный красной краской. Основываясь на этой информации, исследователь вправе предположить, что эта икона до революции принадлежала известному собранию Алексея Викуловича Морозова. В ходе революции собрание Морозова было национализировано и перешло в управление Музейного отдела Наркомпроса РСФСР. После этого икона некоторое время оставалась в доме Морозова в его собрании, которое составило Музей русской художественной старины, вскоре преобразованный в Музей фарфора. Известно, что после преобразования музея иконы Морозова были переданы в Исторический музей, а оттуда в 1930 году в Третьяковскую галерею, где икона «Благовещение» и получила инв. № 13458. Другой номер ГТГ «198» на обороте иконы – это внутренний номер отдела древнерусского искусства галереи. Номера с литерой «С» принадлежат «Антиквариату», значит, икона после выдачи из Третьяковской галереи поступила в продажу.
Разумеется, исследователь не может ограничиваться лишь информацией с обратной стороны икон. Формальное соответствие номеров и этикеток системе учета предметов в музеях и общей исторической ситуации 1920–1930‐х годов – лишь начало исследования. Необходимо привлекать учетную музейную документацию, которая подтверждает наличие этой иконы под данным номером в инвентарной книге музея, а также акты, которые подтверждают выдачу икон из музея. Именно такой исследовательский подход и был применен в этой книге.
В данном случае принадлежность иконы «Благовещение» собранию Морозова подтверждается сохранившимся в архиве Исторического музея, а также Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) собственноручно написанным Морозовым 10 июня 1920 года списком его икон. Икона «Благовещение» в списке Морозова стоит под № 177, который соответствует номеру Музея фарфора на обороте иконы. Размеры иконы, указанные в списке Морозова, соответствуют размерам в каталоге Кристи при продаже этой иконы в 1980 году[283]. Принадлежность этой иконы Третьяковской галерее подтверждается учетными документами музея. В «Описи на древнерусское искусство» ГТГ[284] икона «Благовещение» имеет инвентарный номер 13458, который соответствует номеру ГТГ на обороте иконы. В учетных документах галереи указано, что икона поступила из Исторического музея по акту № 244 от 19 июня 1930 года и была выдана в «Антиквариат» по акту № 75 от 14 марта 1936 года. Факт выдачи также подтверждается сохранившимся в архиве галереи списком икон – приложением к акту выдачи № 75, датированным 13 марта 1936 года[285]. В акте выдачи указано, что икона происходит из собрания Морозова.
Представленная читателю реконструкция истории странствования иконы «Благовещение» – лишь один из примеров того кропотливого поиска архивных доказательств, который был проделан в ходе данного исследования и послужил основой заключений, сделанных в этой книге. Проведенная автором этой книги архивная работа позволяет предостеречь исследователей от слишком огульных обобщений. Так, Ю. А. Пятницкий в одной из своих статей пишет:
Для продаваемого древнерусского искусства имя Третьяковской галереи стало служить такой же специфической «визитной карточкой», как Ленинградский Эрмитаж для произведений западноевропейского искусства. Провенанс из Третьяковки или Эрмитажа, даже липовый, являлся своеобразной гарантией качества и подлинности продаваемых произведений искусства. Для придания правдоподобности подобного «провенанса» была выработана довольно запутанная система учета коллекций и их маркировки. Собранные для реализации памятники не вносились в основной музейный инвентарь (выделено мной. – Е. О.), а учитывались по различным описям, спискам, кратким каталогам-перечням коллекций. В эту систему учета попадали и иконы, выделенные для продажи из основных фондов Государственного Исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, Оружейной палаты, церквей Кремля и других музеев. Поэтому попытаться сделать подсчет отправленных за границу или проданных на месте произведений древнерусского искусства в настоящий момент практически невозможно. Но их количество было действительно огромным[286].
Пятницкий не называет ни источников информации, которая привела его к подобным выводам, ни конкретных примеров икон, которые стали объектом «запутанной системы учета». Изучение архивов в ходе работы над этой книгой позволяет сказать, что в отношении Третьяковской галереи выводы Пятницкого не находят подтверждения. Документы свидетельствуют о том, что из ста четырех икон, выданных в «Антиквариат» из этого музея, только три не имели постоянных инвентарных номеров, но и эти иконы были зарегистрированы при поступлении в галерею не в каких-то специальных описях предметов, предназначенных для продажи, а в тех же самых учетных книгах, что и иконы, оставшиеся в ГТГ на постоянном хранении (прил. 19). Эти иконы не получили номеров постоянного хранения, потому что их пребывание в галерее было коротким. Как уже говорилось, после поступления в галерею и первичной регистрации иконы должны были ждать своей очереди на инвентаризацию. В то время галерея получила тысячи икон, тогда как число сотрудников, проводивших инвентаризацию, исчислялось единицами.
Остальные отданные в «Антиквариат» иконы, числом 101, были приняты в Третьяковскую галерею на постоянное хранение и внесены в инвентари. У всех у них есть как первичный номер, присвоенный при поступлении, так и постоянный инвентарный номер. Иначе и быть не могло, так как в то время, когда эти иконы были переданы в галерею, они не предназначались для продажи, а поступали на постоянное хранение. В то время сказать, что именно эти иконы со временем будут проданы, никто не мог, поэтому все они прошли те же ступени учета, что и художественные предметы, оставшиеся в галерее. Хотя система учета в ГТГ может кому-то показаться запутанной, потому что она несколько раз менялась, но в каждый конкретный период она была общей и единой для всех художественных произведений галереи, никакой отдельной специально запутанной системы учета предметов, предназначенных на продажу, не было[287]. Все проданные иконы числятся выданными в «Антиквариат» по инвентарным книгам галереи. Работа с архивами и инвентарными книгами Третьяковской галереи позволила установить число памятников, продажа которых подтверждается документами. По мере возможности в этой книге сделаны основанные на документах предположения о размерах выдачи икон на продажу и из других музеев.
Часть III. Формирование экспортного фонда икон
Глава 1. 1928 год: Первый натиск
Конец 1920‐х – начало 1930‐х годов были не только временем стремительного роста иконного собрания Третьяковской галереи, но и началом распродажи ее икон. И не только икон. Третьяковская галерея не избежала печального сотрудничества с «Антиквариатом», хотя ее потери, видимо, несравнимы с потерями Эрмитажа.
Отбор произведений искусства на продажу начался в Третьяковской галерее, как и в других музеях, в ответ на постановление СНК СССР «О мерах к усилению экспорта и реализации за границей предметов старины и искусства» от 23 января 1928 года, которое разрешило продажу ценностей музейного значения, за исключением «основных коллекций»[288]. В свою очередь, это постановление стало откликом на прошедший только что, в декабре 1927 года, XV съезд ВКП(б), где рассматривались варианты первого пятилетнего плана индустриализации. Даже по начальным наметкам пятилетки, существенно затем завышенным в окончательном амбициозном варианте 1929 года, было ясно, что валютные затраты на индустриализацию предстояли огромные. Оборудование, промышленное сырье, технологии, знания специалистов предстояло покупать за границей, тогда как золота и валюты для осуществления индустриального рывка у советского руководства не было[289]. Грандиозный золотой запас Российской империи был истрачен уже к началу 1920‐х годов, всего за несколько лет существования советской власти[290]. Золотодобывающая промышленность старой России развалилась в годы революций и Гражданской войны[291], Сталин начал заниматься созданием новой советской золотодобывающей индустрии с лета 1927 года, за несколько месяцев до принятия первого пятилетнего плана[292].
Начиная индустриализацию при пустых золотых кладовых[293], советское руководство рассчитывало оплатить ее за счет советского экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, однако эта надежда не оправдалась. В 1929 году после краха Нью-Йоркской биржи западный мир потряс экономический кризис. Конъюнктура мирового рынка не благоприятствовала развитию советской внешней торговли. В советском экспорте преобладало сырье, цены на которое катастрофически падали, а в импорте – машины и оборудование, цены на которые росли[294]. Советское руководство лихорадочно искало источники валюты для финансирования индустриализации. В золотой лихорадке не брезговали и малым, но стремились найти большую золотоносную жилу. Массовый экспорт антиквариата и художественных ценностей, в том числе и икон, в этой связи казался многообещающим[295]. Произведения религиозного искусства должны были послужить делу строительства государства безбожников.
После выхода январского постановления Совнаркома об усилении экспорта художественных ценностей Наркомпросу потребовалось около месяца, чтобы составить руководство к действию, и в конце февраля инструкция Главнауки[296] поступила в музеи. Она сохранилась в архивах и Третьяковской галереи, и Исторического музея, и Эрмитажа, и Государственного музейного фонда: текст тот же, меняются лишь вписанные от руки названия музеев и ответственных лиц[297]. Инструкция требовала отбирать на продажу наиболее ценные «как по материалу, так и по качеству» предметы. Их первичная оценка должна была быть проведена в стенах самого музея оценочной комиссией, состоявшей из его сотрудников и экспертов «по профилю», приглашенных со стороны. Состав оценочной комиссии утверждал Наркомпрос. В связи с переходом к массовому экспорту антиквариата Главнаука потребовала от музеев, которые в 1920‐е годы для пополнения своих скудных бюджетов распродавали через аукционы и комиссионки ненужное им имущество и малоценные художественные произведения, прекратить всякую самодеятельную торговлю. А то ведь могут продать за рубли то, за что можно получить валюту!
Вместе с тем анализ текста инструкции позволяет сказать, что она давала музеям возможность защитить произведения, которые те не хотели отдавать на продажу. Дело в том, что январское постановление Совнаркома, которое запретило трогать основные музейные коллекции, не уточняло, что именно к таким коллекциям относится. Это давало Главнауке свободу действий. В ее февральской инструкции к основным музейным коллекциям были отнесены собрания и отдельные предметы, находившиеся как в экспозиции, так и в запасниках, которые вошли в состав музеев до и после революции путем обмена, покупки, дарения, национализации и конфискации, а также изъятые государством церковные ценности, материалы, связанные с историей данного города или местности, и вещи из основных коллекций других музеев, временно находившиеся в данном музее на хранении. Получалось, что основная коллекция – это практически все художественное содержимое музея. В список неприкосновенных не попали только переданные на временное хранение в музеи предметы из Государственного музейного фонда и Госфонда страны, если такие там были. Столь расширительное толкование основной музейной коллекции давало музеям возможность защищать практически любое произведение из своего собрания. История показала, что уловка Главнауки не смогла уберечь музеи от потери шедевров, но попытка это предотвратить заслуживает внимания.
Возглавить операцию по отбору ценностей на продажу из музеев страны Наркомпрос вначале уполномочил Михаила Петровича Кристи[298] – в то время заместителя начальника Главнауки Наркомпроса[299] и без пяти минут… директора самой Третьяковской галереи[300]. Хотя за Кристи позднее закрепилось звание искусствоведа, он таковым в академическом понимании этого слова никогда не был. Художник, но прежде всего революционер и старый партиец, он по эмиграции знал и Ленина, и наркома просвещения Луначарского. На портрете работы А. М. Герасимова, написанном в 1951 году за несколько лет до смерти Кристи, тот предстает «чудесным стариком с юной душой», этаким седоусым и седобородым благодушным дедом морозом. Возможно, Кристи и был умным, веселым, молодым душой, добрым человеком, но прежде всего он был членом партии. Конец 1920‐х годов стал временем, когда к руководству главными музеями страны пришли варяги – большевики, никогда ранее не работавшие в музеях, но вымуштрованные выполнять партийные приказы. Да и наверху, в самом Наркомпросе, власть переменилась. Вместо интеллигента Луначарского просвещать страну стал военный комиссар Бубнов, который пересел в кресло наркома просвещения прямо из кресла начальника Политуправления Красной армии. Назначение профессиональных партийцев на руководящие просветительские и музейные должности свидетельствовало о конце музейной вольницы. Укрепившееся сталинское руководство прибирало музеи к партийным рукам.
Согласно инструкции Главнауки, в помощь Кристи в деле распродажи музейных ценностей были назначены уполномоченные Наркомата торговли Борис Павлович Позерн[301] и Николай Степанович Ангарский (Клестов)[302], первый отвечал за музеи и пригороды Ленинграда, второй – за музеи Москвы. Представители Наркомторга получили право беспрепятственно осматривать фонды музеев. Биографии Позерна и Ангарского сродни биографии Кристи, только исход их трагичен. Оба служили интересам революции и партии. Оба были расстреляны. Позерн – за «контрреволюционную деятельность и измену Родине», 25 февраля 1939 года, Ангарский – «за работу на царскую охранку, а также немецкую и английскую разведку», 27 июля 1941 года[303]. Оба реабилитированы практически сразу же после ХХ съезда партии.
Директора Третьяковской галереи разных лет (Н. М. Щекотов, А. М. Скворцов, В. А. Щусев, И. Э. Грабарь, М. П. Кристи) на открытии выставки И. Э. Грабаря 7 января 1936 года. Трем из них посвящены многие страницы этой книги. Среди них: Н. М. Щекотов, который сыграл роковую роль в разгроме отдела религиозного быта ГИМ и, как следствие, в трагической судьбе А. И. Анисимова; И. Э. Грабарь – организатор первой советской выставки икон за рубежом, соблазнявший Госторг барышами от иконного бизнеса; М. П. Кристи – сначала уполномоченный Наркомпроса по отбору ценностей на продажу из музеев страны, а затем директор галереи в период массовой передачи икон из Исторического музея в ГТГ и выдач в «Антиквариат». Государственная Третьяковская галерея