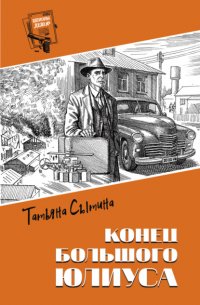
Читать онлайн Конец Большого Юлиуса бесплатно
- Все книги автора: Татьяна Сытина
© Сытина Т.Г., наследники, 2023
© Хлебников М.В., составление, предисловие, 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
* * *
«Стройная золотоволосая, в военной гимнастерке и солдатских сапогах…»
У сегодняшней книги, в отличие от недавнего выпуска серии, формально один создатель. Но, чтобы разобраться в писательской судьбе автора, необходимо раскрыть то, что можно условно назвать «семейный вопрос в русской литературе».
Татьяна Григорьевна Сытина родилась в Петрограде 10 августа 1915 года в семье, оставившей глубокий след в русской культуре. Самый известный из ее представителей – знаменитый художник Николай Николаевич Ге – приходится Татьяне двоюродным дедом. Родной дед – Григорий Николаевич Ге писал прозу и пробовал себя в драматургии. Григорий Григорьевич Ге – отец Татьяны – нашёл своё призвание на театральных подмостках. В тридцать лет он поступает на службу в Александринский театр. Его актёрская карьера складывается весьма удачно. Ге сыграл Шейлока, Гамлета, Мефистофеля, Яго, чеховского Иванова. Кроме того, продолжив семейную литературную традицию, Григорий Григорьевич добился некоторых успехов и в драматургии. Им написаны несколько популярных пьес («Трильби», «Набат», «Жан Ермолаев»).
Вскоре после рождения Татьяны семья переезжает в Москву. Революционные потрясения обошли стороной Григория Ге и его близких. В 1922 году он получает звание «Заслуженный артист Государственных академических театров», продолжает играть на сцене, снимается в кино. Ясно, что с такой родословной занятие, как тогда говорили, литературной работой представлялось очевидным. Получив среднее образование, Татьяна решила искать себя в журналистике. Первые её публикации выходят под псевдонимом «Татьяна Окс».
Сферу жизненных интересов молодого литературного работника определило знакомство с будущим мужем – Виктором Александровичем Сытиным. Хотя будущий муж был старше Татьяны на восемь лет, разница их жизненного опыта зримо огромна. Виктор Сытин родился в 1907 году в Калуге. Учёбу он начал в Воронежском университете, избрав профессию биолога. Диплом о высшем образовании Виктор получает уже в Московском государственном университете, окончив в 1930 году биологическое отделение физико-математического факультета. Но карьера академического учёного не прельщает Сытина. Ещё будучи студентом, в 1928 году он участвует в экспедиции Леонида Кулика, изучавшей место падения Тунгусского метеорита. После её окончания он добивается продолжения финансирования исследования природного феномена и пишет свою первую книгу «В тунгусской тайге». Начинается сотрудничество с журналами «Всемирный следопыт», «Вокруг света», «Знание – сила»…
Дальнейшие занятия Сытина обозначены лишь пунктирно по причине экономии места. Отправившись в Среднюю Азию, он включается в кампанию по борьбе с саранчой. Попутно открывает несколько оазисов в туркменской пустыне. Затем участвует в работе по исследованию высших слоёв атмосферы, став заместителем председателя «Комитета по изучению стратосферы». После этого следует органичный переход к работе по подготовке освоения космоса. Сытин знакомится с Циолковским и молодым Сергеем Королёвым. Планка «полёта» несколько снижается, и Сытин переходит в область классической авиации. К концу тридцатых он заместитель главного редактора журнала «Гражданская авиация». Попутно пишутся статьи, очерки, книги, посвящённые покорителям воздушной стихии: «Завоеватели высот», «Атака с воздуха»…
Понятно, что жизненный и литературный опыт Татьяны Окс и Виктора Сытина существенно разнился. Наверное, это и привлекло молодую выпускницу Литературного института. Незадолго до начала войны Татьяна и Виктор поженились.
С первых дней войны молодые супруги сочли себя мобилизованными. В качестве военного журналиста Виктор Сытин отправляется на фронт. Во время осеннего отступления 1941 года он оказывается в Москве. Сейчас не принято говорить, но в октябрьские дни столицу охватила паника. Многие бросали работу, стремясь выехать из осаждённого города. Придя 19 октября в Союз писателей, Сытин обнаружил его пустым, со следами поспешного бегства руководства: разбитые окна, груды папок во дворе, разгром в самом доме. Писатель решает действовать. По прямому телефону он звонит в Центральный комитет партии:
«Дежурная коммутатора Кремля соединила меня с Управлением агитации и пропаганды.
Начальник Управления выслушал мой рассказ и, подумав немного, ответил:
– В Москве сейчас из руководителей Союза писателей помимо Юдина есть еще Ставский и со дня на день будет Павленко. Установите с ними контакт. Может быть, в городе есть и другие члены правления Союза. Соберитесь, поговорите. В общем, надо навести в вашем хозяйстве порядок и не допускать паники.
Мне показалось, что это было прямое поручение».
Сытин вместе с женой и другими оставшимися писателями создаёт Московское бюро правления Союза писателей. Организуются выезды во фронтовые части, пишутся статьи в газетах, оказывается помощь семьям писателей-фронтовиков. Удивительно, что, собственно, членом СП Сытин стал только в 1941 году, предоставив в качестве подтверждения своего писательского статуса восемь изданных книг. После успешного зимнего контрнаступления, когда немцы были отброшены от Москвы, Сытин снова отправляется на фронт. С декабря он снова сотрудник армейской газеты. В следующем году к нему присоединяется Татьяна. Она оставалась в Москве, ухаживая за отцом. Последние годы Григорий Григорьевич тяжело болел и оказался прикованным к постели. В январе 1942 года он умирает.
Уже весной 1942-го Сытина – специальный корреспондент «Огонька» на Волховском фронте. Затем вместе с мужем работает в армейской газете «На разгром врага» – печатном органе 59-й армии. В 1942 году в «Библиотечке Огонька» вышел сборник рассказов Сытиной «Кровь на снегу», а в 1945 году в Ленинградском отделении Военного издательства публикуется её повесть «Знамя полка». Среди её наград орден Красной звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги». Из армии супруги увольняются в 1946 году. Виктор Александрович в звании майора, Татьяна Григорьевна – лейтенанта. Чтобы читатель имел представление об особенностях прозы Сытиной того времени, мы помещаем в книгу рассказ писательницы «Высокий берег», опубликованный в журнале «Огонёк» в победном 1945-м.
Организаторские способности Сытина оказались востребованными в послевоенное время. Он работает на руководящих должностях: главный редактор «Профиздата», заместитель главного редактора издательства «Советский писатель», заместитель главного редактора «Государственного комитета по кинематографии». В последнем качестве его деятельность пересеклась с интересами жены. Неудивительно, учитывая семейные традиции, что Татьяна начала пробовать силы в драматургии. Точнее, в кинодраматургии. Ею написаны сценарии к фильмам «Сын» (1955), «Первое свидание» (1960), «Твоё счастье» (1960), «Всё для Вас» (1964). Но главным фильмом её жизни стала комедия «Неподдающиеся» (1959), снятая Юрием Чулюкиным. Фильм по праву входит в золотой фонд отечественного кино. Похождения незадачливых приятелей, не желающих поддаваться перевоспитанию со стороны комсомолки-активистки (Н. Румянцева) и сейчас смотрятся свежо и с интересом.
Параллельно с кинодраматургическими опытами Сытина пишет свой единственный большой прозаический текст. Им оказался роман «Конец Большого Юлиуса» (1956), который мы и представляем сегодня. Он вышел в прекрасно знакомой нашему читателю серии «Библиотечка военных приключений».
Чем хорош этот роман?
Во-первых, драматургическая «заточенность» его автора не даёт действию провисать. Охота за агентом Гореллом наполнена погонями, переодеваниями, играми с двойниками. По поводу последнего нужно сделать скидку на время и явную сценическую природу дарования автора. Сейчас может показаться, что Сытина немного «пережимает» с мелодраматичностью. Так, читатель обратит внимание на то, как в одном из эпизодов советский контрразведчик под видом связного встречается с Гореллом. Желая проверить, не является ли пришедший чекистом, враг идёт на мерзкую провокацию – начинает избивать маленького ребёнка. Советский разведчик не выдерживает и ценой своей жизни защищает мальчика. С другой стороны, задумаемся, какие страшные моменты остались в памяти не только фронтового корреспондента Татьяны Окс, но и читателей её книги. Для них подобные сцены не были художественной условностью…
Во-вторых, как настоящий драматург, Сытина умело строила диалоги, могла неожиданно привнести юмор во вроде серьёзное действие. Вот маскирующийся под советского обывателя Горелл вынужден объясняться с любовницей:
«Видя, что ему не удастся отговорить Юлю, Горелл выругался и “признался”.
– Мне надо взять товар! – грубо сказал он. – Лак заграничный! Теперь понимаешь?
– Понимаю! – злобно сказала Юля. – Разве ты сделаешь что-нибудь просто так? От души? Как все люди?
“Ладно! – мысленно сказал себе Горелл. – Когда-нибудь я ее все-таки убью. Когда буду уходить. Задушу, причем медленно”».
Всё вместе делает роман Сытиной динамическим, способным захватить внимание и современного человека.
Как и её муж, Сытина не была обойдена вниманием власти. С учётом её достижений в кино, она была назначена председателем сценарной комиссии в СП РСФСР. Но коварная болезнь не позволила ей продолжить работу. 12 февраля 1966 года в возрасте пятидесяти лет она ушла из жизни. Некрологи были помещены в центральные газеты. Я приведу слова прощания из «Литературной России», написанные Леонидом Ленчем – советским юмористом, в годы войны также работавшим в газете «На разгром врага»:
«Умерла Татьяна Григорьевна Сытина, а для многих ее друзей, в том числе и для меня, просто Таня – умный, тонкий, точно и остро мыслящий человек, добрый товарищ, отзывчивая, весёлая Таня Сытина…
Я помню её в годы войны – стройную золотоволосую, в военной гимнастёрке и в армейских сапогах».
Такие слова не пишутся по обязанности. Татьяна Сытина многое не успела, но то, что она сделала достаточно для сохранения светлой памяти о ней как о человеке и писателе. Надеюсь, что эта книга подтвердит сказанное.
М.В. Хлебников, канд. философских наук
Конец Большого Юлиуса
(роман)
– Но… Спартаковцы дружно защищают свои ворота! Труднейший мяч только что взял вратарь! Вы слышите, как аплодируют москвичи великолепной атаке сталинградцев? Вот мяч опять на середине поля…
Полковник Смирнов с сожалением выключил радиоприемник. От дверей кабинета к его столу торопливо шел маленький толстый человек в расстегнутом измятом пыльнике. Из правого кармана пыльника торчал кончик зеленого галстука. Лицо толстяка пылало, в круглой детской ямочке на подбородке светлели капельки пота.
– Нелегко добраться до вас, товарищ полковник! – задыхаясь, сказал он. – Мне пришлось двум товарищам объяснять свое дело. И оба недослушивали и передавали меня друг другу, как бумажку. Вы третий!
– Прошу садиться! – вежливо перебил Смирнов посетителя. – Благодарю вас! – с облегчением сказал толстяк и вытер лицо клетчатым платком, скомканным в кулаке. – Тяжело! В такую жару чувствуешь каждый килограмм своего веса. Очень тяжело…
Толстяк ворчливо жаловался, а Смирнов молча его разглядывал. Особого доверия посетитель не внушал. Вероятно, придется долго выслушивать путаный рассказ, а в результате «дело» окажется чепухой. Такие случаи, к сожалению, бывают…
– Вы отдышитесь, отдохните, а потом расскажете мне, что с вами случилось, – предложил он толстяку, напряженно прислушиваясь к аппетитному говорку Синявского, доносившемуся теперь из открытого окна с верхнего этажа. Внезапно говорок исчез в могучем нарастающем обвале звуков. – Гол! – вздрогнул Смирнов. – Но кому? Скоро конец второго тайма… Этот гол может решить игру.
– Я уже отдышался! – покорно сказал толстяк и поглубже угнездился в кресло. – Дело в том, что в 1945 году, находясь в рядах Советской Армии, на территории Германии, в городе Мюнстенберге, 11 августа, в два часа дня, я шел по улице… – неожиданно связно и кратко начал рассказывать толстяк.
И Смирнов вдруг перестал прислушиваться к Синявскому.
Сначала его привлекла деловая интонация посетителя. Взглянув ему в лицо, он увидел тугие румяные щеки, светлоголубые глаза и в них сосредоточенность чувств, которая сделала бы честь человеку с более мужественным обликом. Это были глаза мужчины, принявшего решение сражаться до конца. В них светились упрямство и веселая дерзость.
– Простите, как ваше имя? – прервал толстяка Смирнов, вынимая из ящика коробку «Беломорканала» и протягивая ее посетителю.
– Спасибо, не курю! Зовут меля Окуневым Борисом Владимировичем. По специальности механик. В армии служил в танковой части. Сейчас работаю в сборочном цехе главным мастером.
– Так… так… Значит, в два часа дня 11 августа 1945 года вы шли по улице города Мюнстенберга…
– Точно! – подхватил Окунев. – Я шел мимо большого дома, превращенного в развалины, и собирался уже свернуть за угол, когда услышал женский крик. По мостовой навстречу мне шел человек в серых брюках и толстом зеленом свитере. Я могу рассказать вам в отдельности о каждой черточке лица этого типа, потому что то, что он при мне сделал… Словом, я узнаю его днем и ночью, в любом костюме, даже в гриме. За ним бежала девушка в коричневом платье, без чулок, в одной тряпичной туфле. Другую она, наверное, потеряла во время погони. Помню, что волосы у нее были совсем светлые, редкого серебристого оттенка, и они расплелись и облачком летели за ней по ветру. Заметив меня, человек остановился и повернулся к девушке, поджидая ее. А девушка кричала, и я помню каждое ее слово: «Негодяй! – кричала она. – Держите его, товарищ! Предатель! Сколько людей он в застенке погубил! Палач!»
– Конечно, я виноват! – Окунев замолчал и сморщился, как от боли. Затем сильно хлопнул себя по колену скомканной шляпой. – Никогда себе этого не прощу! Ведь у меня было оружие, я мог подстрелить его, скажем, в ногу. Но меня сбило именно то обстоятельство, что он не бежал. Он стоял и спокойно ждал ее. В десяти шагах от меня. А когда между ними осталось расстояние не более чем пять-шесть шагов, когда она уже подняла руку, чтобы схватить его за плечо, он вдруг нагнулся, поднял кирпич и, размахнувшись изо всех сил, швырнул его в лицо девушке. И тут же метнулся в развалины… Здесь… – Окунев снова вытер лицо платком. – Я сделал вторую ошибку. Я бросился к девушке.
– Понятно… – сказал Смирнов. Открылась дверь, на пороге кабинета показался сотрудник отдела капитан Захаров. Он хотел что-то сказать, но Смирнов остановил его вопросом: – Срочно?
– Терпит, товарищ полковник! – сказал Захаров, отступил и осторожно прикрыл за собой дверь.
– Так, вы бросились к девушке, а неизвестный тем временем скрылся в развалинах…
– Да! – пробормотал Окунев и подозрительно взглянул на полковника. – Скажите, а вы будете слушать меня дальше? На этом месте оба товарища прерывали меня и посылали дальше…
– Я вас выслушаю до конца. Итак, неизвестный скрылся.
– Да, я сплоховал. Девушку отвезли в хирургический госпиталь.
– Она что-нибудь рассказала?
– Она не приходила в себя две недели, а на третью мы ушли из Мюнстенберга. Единственное, что я знаю о ней, – имя и возраст. Ее зовут Машей Дороховой, и в ту пору ей было семнадцать лет.
– Ну что ж, вы много знаете! – сказал полковник. – Дальше, Борис Владимирович. Только вы не волнуйтесь, вы спокойнее…
– Спокойно я об этом не могу. Дальше… Сегодня, спустя десять лет, я сделал вторую непростительную ошибку. Я узнал его там!
Окунев ткнул шляпой в сторону звуков, долетающих из окна.
– На стадионе? Борис Владимирович, вы могли ошибиться! Прошло десять лет!
– Товарищ полковник, не надо мне это говорить. Я скромный человек, но я честно прожил свою жизнь. То, что я не сумел задержать подлеца, – единственное темное пятно на моей совести. Вы можете не поверить, но, когда я болею, я всегда вижу все снова – улицу, девушку и ее лицо, потом, в госпитале. Ручаюсь, я видел его на стадионе сегодня. Я узнал его в ту минуту, когда он подошел к своему месту в шестнадцатом ряду на северной трибуне…
– Борис Владимирович! – прервал Смирнов. – У меня к вам просьба. Постарайтесь сейчас точно восстановить каждую мелочь вашей встречи. Расскажите, что он сделал и как вы себя вели…
– Я вел себя, как последний дурак. Я вскочил и уставился на него. И стал пробираться к нему вдоль ряда…
– Понятно. Он ушел?
– Не сразу. Нас разделяла толпа Он закурил и, не торопясь, стал пробираться к выходу. Я побежал за ним, крикнул что-то, меня остановил милиционер и долго не понимал, что я… что у меня…
– Понятно, понятно… – повторил Смирнов, с силой притушил папиросу в пепельнице и некоторое время молчал. – Минутку, Борис Владимирович! – заговорил он наконец. – Я еще раз прошу вас вспомнить детали. Как он закурил, как пошел, что у него было в руках, сложилось ли у вас впечатление, что он один на стадионе или с ним был еще кто-нибудь?
– Не знаю. Я об этом не думал. Закурил… Вынул папиросу из коробки и обыкновенно закурил.
– Обыкновенно! Так, значит, он исчез, а вы отправились сюда, к нам?
– Да, я вскочил на первую попавшуюся машину и приехал. Нет, наверное, он был один. Во всяком случае, у меня нет ощущения, что он пришел с кем-нибудь! А впрочем, не могу утверждать.
В кабинете стало тихо. Смирнов молчал, разглядывая свои руки. Окунев устало вздохнул и откинулся на спинку кресла. В простенке между книжным шкафом и дверью неторопливо отбивали секунды старинные часы в высоком футляре из полированного дуба. «А ведь его не очень-то заинтересовал мой рассказ! – подумал с отчаянием Окунев. – Вот только что вспыхнул было, когда спросил о деталях, и погас». Нет, повидимому, романтика осталась только на страницах старых приключенческих романов. Ничто в этом здании, прохладном, чистом и тихом, не напоминает о ней. И в человеке, сидящем перед ним, нет ничего романтического. У него лицо, в котором все буднично: толстый вздернутый нос, крупные губы, широкий лоб, приглаженные светлые волосы, седеющие на висках. Даже простой заинтересованности не отражается на этом лице, только вежливое внимание и тень некоторой предубежденности, скептической и расхолаживающей. Окуневу вдруг стало тоскливо, он почувствовал, что устал, захотелось домой, жалко стало потраченной энергии и упущенного шанса исправить свою большую ошибку.
– Не помню я деталей!.. – устало повторил он. – Но даже сейчас я вижу перед собой его лицо. Понимаете, у этого типа есть характерная черта. Вообще-то говоря, нос у него длинный и тонкий, но книзу, – Борис Владимирович поднял свои толстые ручки и тронул себя за кончик носа, – книзу он расширяется этаким мясистым треугольничком…
Смирнов встал. Он прошелся по кабинету, остановился перед часами, постоял так минуту, опустил руку и, вздохнув, вернулся к столу.
Опять некоторое время в комнате было тихо. Смирнов молчал сосредоточенно и, как казалось Окуневу, разочарованно.
– Я понимаю! – с отчаянием сказал Окунев. – У вас есть право сомневаться в том, что я рассказал…
– Да нет, Борис Владимирович! – поспешно прервал Смирнов. – Я ни в чем не сомневаюсь. Я вот вас о чем попрошу… – Он открыл ящик, вынул стопку бумаги и протянул ее Окуневу. – Присядьте вон за тот столик у окна и напишите все, о чем вы мне рассказали, и все, что дополнительно припомните.
– Ка-а-к? – Рот Окунева округлился, и на лице появилось выражение такого искреннего возмущения, что Смирнов невольно улыбнулся. – Что ж, товарищ полковник, значит, нет на земле такого учреждения, чтоб без бумажек, без бюрократизма? Обязательно канцелярщина?
– Порядок! – улыбнулся Смирнов. – Во всем должен быть порядок, Борис Владимирович. А я, чтобы не мешать вам, займусь пока своими делами.
Смирнов вышел. Где-то неподалеку стрекотала пишущая машинка. Домовито гудел лифт. Окунев покачал головой, потянулся к письменному прибору, взял ручку, расправил лист бумаги и принялся добросовестно заполнять страницу крупным почерком, в котором все буквы «б» имели лихие хвостики, загнутые наверх, а «с» напоминали улитку.
Смирнов пришел минут через сорок, а Окунев все еще сражался со словом «который» – просто немыслимо было написать строчку, чтоб не пришлось применять это слово минимум три раза. Наконец, заменив часть «которых» словом «данный», толстяк расписался и со вздохом облегчения протянул Смирнову пачку листков.
– Как вы думаете, товарищ полковник, можно будет поймать данного мерзавца?
– В нашем деле загадывать нельзя! – буркнул Смирнов, проставляя номера на страничках. – А поймать надо! Ну, так… Позвольте теперь, Борис Владимирович, поблагодарить вас за помощь.
– Полноте! – с возмущением перебил Окунев, встал и прошелся, одергивая на себе смятый пыльник детскими, суетливыми движениями. – Хорош бы я был, если бы…
– Ну, в таком случае давайте попрощаемся! – улыбнулся Смирнов, и лицо его на мгновение вдруг показалось Окуневу таким открытым и добродушным, что он с сожалением подумал: «Вот сейчас бы и начать разговор!» Но они уже стояли на пороге, и Смирнов жестом, вежливым и одновременно холодным, распахивал перед посетителем дверь…
– Да, простите, еще один вопрос, Борис Владимирович! – задержался на пороге Смирнов. – Вы ведь человек семейный?
– Жена, двое детей – сын и доченька. Но, товарищ полковник! – обидчиво заметил Окунев. – Я человек взрослый и понимаю, о чем можно разговаривать в семье и о чем не следует.
– Ну, желаю вам всего хорошего и еще раз благодарю!
Окунев вышел. Смирнов вернулся к столу, снял трубку телефона, назвал номер и сказал:
– Вышел от меня. Пусть Соловьев идет к седьмому подъезду.
Окунев спускался в лифте. Он чувствовал себя разбитым, начинала болеть голова. Выйдя из подъезда, Окунев остановился, прикидывая, как быстрее добраться домой, на Пресню, и решил ради такого случая не пожалеть денег на такси. Устало размахивая шляпой, утратившей всякую форму, и по-медвежьи переваливаясь, он добрел до стоянки такси, повалился на сиденье и назвал свой адрес.
В тот момент, когда такси, мягко дрогнув, скользнуло от стоянки в общий поток машин, сзади хлопнула дверца второй машины.
Юноша в светлых летних брюках и в спортивной белой рубашке наклонился к шоферу и на мгновенье раскрыл перед ним книжечку удостоверения.
– Давай, друг, поедем! Не слишком близко к той машине, но и не чересчур далеко.
– Понятно! – кивнул шофер и, пригнувшись, обеими руками обхватил руль. – Под желтый светофор придется проскочить! – предупредил он. – Ждать будем – разминемся.
– Рискнем! – согласился пассажир. Шофер незаметно оглянулся на пассажира. В удостоверении он успел прочитать только звание – младший лейтенант и имя – Михаил. Сейчас шофер увидел юношеский профиль, озабоченный и слегка торжественный.
– Дела! – сказал шофер, но пассажир не поддержал разговор.
«Серьезный парнишка!» – одобрительно подумал шофер.
– Вот орлы! Под нашу с вами марку еще одна машина через светофор проскочила! – заметил он, глядя в зеркальце над приборной доской, но и на этот раз пассажир промолчал. Шофер не знал, что младший лейтенант Михаил Соловьев служит в органах госбезопасности второй год и жестоко стыдится своего юношеского вида и прозвища Малыш, которым окрестили его старшие товарищи по работе.
«Такая служба, что положено молчать, – подумал шофер. – Серьезная служба!»
На следующее утро Миша Соловьев, усталый, сонный, но в общем довольный собою, писал рапорт полковнику.
День выдался на редкость хороший, нежаркий июньский день. На рассвете прошел ливень, и все краски вспыхнули с новой силой. Даже дряхлеющие особнячки в самых глухих переулках приободрились и изо всех сил старались хотя бы на час казаться розовыми или голубыми, хотя в действительности их разбухшая, выветрившаяся штукатурка уже давно утратила цвет. В такой день даже рапорт писать было весело, хотя обычно Миша не любил это занятие.
Соловьев пришел работать в органы безопасности после окончания военной службы в пограничном полку. Надо прямо сказать, полтора года тому назад Миша многое представлял себе иначе. Получая в политотделе части комсомольскую путевку, слушая торжественные напутствия членов бюро, Миша мысленно представлял себе, как он в глухую ночь мчится на мотоцикле, может быть, через лес, а еще лучше – через непроходимые горные перевалы, настигает врага и вручает его советскому суду, получалось очень здорово и приятно. Теперь, вспоминая свои мечты, Миша снисходительно улыбался.
«Через указанных два дома от места жительства гражданина Окунева, – старательно писал Миша, поглядывая на часы, – помещается забор длиной в восемьдесят метров, высота метр семьдесят, окрашен в серую краску… По ту сторону забора находится склад таксомоторного парка…»
Зазвенел телефон.
Миша неторопливо снял трубку и, продолжая дописывать фразу, спросил, стараясь придать тону своего голоса тот глубо – кий, могучий тембр, которым славился бас полковника.
– Соловьев, давай быстро к самому! – торопливо проговорил капитан Захаров, и в торопливости его Миша почуял грозу…
В кабинете Смирнова сидел капитан Захаров, и по лицу его, откровенно растерянному и злому, Миша понял, что предстоит не просто гроза, а какое-то очень серьезное испытание, от результатов которого зависит вся его дальнейшая судьба.
Некоторое время Смирнов сидел молча, разглядывая Мишу Соловьева.
Перед полковником стоял юноша с румяным от волнения лицом, с чистыми, сейчас чуть потемневшими глазами. Рот его был по-мальчишески полуоткрыт, и в глазах – Смирнов это отчетливо уловил – светилось больше любопытства, чем страха.
В кабинете стало совсем тихо. Смирнов и Захаров услышали легкий вздох. Это Миша перевел дыхание.
– Младший лейтенант Соловьев! Расскажите нам, как вы вчера выполняли задание… – негромко и почти спокойно начал Смирнов.
– Мне было поручено проследить за благополучным возвращением домой гражданина Окунева, – начал Миша, отчетливо слыша свой собственный голос. – Гражданин Окунев поехал домой в такси 86–01. В двадцать часов сорок две минуты он вышел из машины около своего дома, расплатился и направился во двор, к флигелю. Я продолжал вести наблюдение до шести часов утра, то есть до полного рассвета, как было указано капитаном Захаровым. Ничего подозрительного не обнаружено. В шесть часов пятнадцать минут я снял наблюдение и вернулся в отдел.
– А в семь часов сорок пять минут Окунев был обнаружен убитым в подворотне своего дома, – ровным голосом прервал Смирнов. – Заколот. Обстоятельства убийства по первым данным исключают случайность. Убийца скрылся и никем не был замечен. Вы, младший лейтенант, свою боевую задачу не выполнили. Как мы и предполагали, за Окуневым враг вел наблюдение. Вы не обнаружили наблюдателя. Вы не сберегли жизнь товарища Окунева, честного патриота, хорошего человека… Вы обманули наше доверие!
В лице Миши Соловьева теперь уже не было ни кровинки. Он стоял, вытянувшись, не отрывая глаз от лица полковника, и капитан Захаров удивился силе, которая держит сейчас Соловьева на ногах. Ведь Миша услышал самое страшное обвинение, и услышал от человека, за которого, как и многие работники отдела, готов был идти в огонь и в воду по первому знаку.
– Ну, что ж ты молчишь, Соловьев? – не выдержал и спросил Захаров, до боли жалея парня.
– Да, отвечайте, младший лейтенант! – резко сказал Смирнов, желая вывести Мишу из транса.
– Что я могу сказать, товарищ полковник! – с трудом разжимая холодные, твердые губы, начал Миша. – Я виноват, так виноват, что и говорить нечего… Но не для оправдания, а только ради фактической справки скажу… Товарищ полковник, враг наблюдения не вел! Ручаюсь за это. Только ради фактов!
– Ну как «не вел»?! – вспыхнул Захаров. – Ты же не маленький!
– Там обстановка для наблюдения сложная, товарищ капитан! – продолжал Миша. – Вот в рапорте я указываю. Местность, как блюдце, ввиду того, что три промышленных склада находятся неподалеку друг от друга… Я вышел из положения, познакомился с девушкой и всю ночь просидел напротив ворот на лавочке, в самом дворе гулял! По переулку ходил с ней, как постовой… Врагу от меня невозможно было укрыться!
– Слушайте, Соловьев, а может быть, в какой-то момент вы увлеклись беседой с девушкой и что-нибудь пропустили? – жестко спросил полковник.
Миша не ответил. Он стоял, вытянувшись, сжав кулаки, не глядел на Смирнова, и по лицу его медленно ползли слезы…
– Нет, товарищ полковник, такого с младшим лейтенантом Соловьевым не могло быть! – твердо сказал Захаров. – За это я вам ручаюсь!
– Чувства-то у вас обоих, конечно, хорошие, а вот дело мы с первых шагов провалили… – с раздражением произнес Смирнов. – Ну ладно, что сейчас корить друг друга! Мы с вами тоже, капитан, виноваты. Надо было отправить на наблюдение опытного человека… Вы, Соловьев, не успокаивайте себя. Враг наблюдение вел, вы что-то пропустили. На вашем месте я бы заставил себя найти – что именно пропущено. Это необходимо найти!
Не вытирая слез, Миша еще сильнее вытянулся и перевел глаза на Смирнова.
– Младший лейтенант Соловьев! – продолжал полковник. – Вы отправитесь сейчас же к семье Окунева. Вы останетесь там до конца похорон и сделаете все, чтобы помочь Антонине Михайловне. Капитан Захаров! Подготовьте письмо в Совет Министров с ходатайством о назначении персональной пенсии семье Окунева… Выполняйте оба!
Спотыкаясь, ничего не видя перед собой, кроме широкой спины капитана Захарова, Соловьев вышел из кабинета полковника.
Трое с половиной суток он провел в доме Окуневых. Он почти не спал и не ел за это время, выполняя множество мелких важных дел, всегда возникающих в семьях вместе с несчастьем, и ни о чем не мог думать.
После похорон он отвез Антонину Михайловну домой, помог сыну Окунева, Владику, расставить мебель по местам и к вечеру, как было приказано, вернулся в отдел.
– Погоди! – сказал Захаров огорченно, с удивлением разглядывая Мишу. – Я доложу, что ты прибыл. Покури пока…
Полковник Смирнов много лет прослужил в армии, из них более двух третей – в органах госбезопасности на руководящей работе. Давно прошло то время, когда он, налагая взыскания на подчиненного, внутренне мучился: «Так ли…», «Прав ли?», «Надо ли…» У Смирнова выработался четкий кодекс требований к себе и к людям, и уклоняться от них теперь для него было уже просто физически невозможно. А в последние годы, когда оба его сына повзрослели, к этому моральному кодексу прибавилось еще сильное чувство, не поддающееся формулировке, связанное с отцовством, помогающее ему глубже и легче понимать людей.
– Вернулись? – спросил он, глядя на серое лицо Соловьева. – Садитесь, младший лейтенант.
Миша сел.
– Устали?
– Ничего, товарищ полковник… – вяло ответил Миша.
– Идите спать. Завтра вечером отправитесь в командировку.
Миша думал о том, что сейчас должны привезти от тетки доченьку – так звали в семье Окуневых младшую девочку. Как-то встретит ее Антонина Михайловна? Он вспомнил еще, что купил масло и забыл предупредить бабушку Окуневу, что оно за дверями на полочке…
– Полетите на самолете. В Одессу. Вы меня слушаете, младший лейтенант?
– Да, товарищ полковник! – вяло подтвердил Миша. – На самолете в Одессу…
– Надо закончить дело… – просто сказал полковник. – За эти три дня вы, наверное, поняли, что такое горе, что значит терять близких. Враг всегда приносит горе в наш дом, Соловьев!
– Я вспомнил то, что вы велели, товарищ полковник, – все так же вяло сказал Миша. – Насчет моей промашки. Когда мы пошли за Окуневым, еще одна машина проскочила вместе с нами светофор. И ведь, главное, шофер сказал, а я не обратил внимания. Это, конечно, был он. Кто ж решится в самом центре на желтый свет идти?
Смирнов долго молчал. Потом кивнул.
– Интересно, – заметил он. – Значит, у него есть машина. Шофер для пассажира на такое нарушение вряд ли пойдет.
– Куда ж он потом делся, товарищ полковник? Не для того, чтоб оправдаться, а ради существа дела – не было его на территории объекта, товарищ полковник! Что хотите со мной делайте, не было!
– Вернее всего, случилось так! – прервал Мишу полковник. – На стадионе он обнаружил Окунева, вышел, выследил и отправился по его следу. Это старая уловка тигров – ходить по следу охотника. Вот так! Установив, что Окунев обратился к нам, он принял решение расправиться с Борисом Владимировичем, ведь Окунев знал его в лицо. И вот тут вы, по-видимому, правы, Соловьев, – наблюдения он не держал. Он просто заметил адрес, уехал и вернулся утром к тому времени, когда служащие идут на работу. Нагло, но разумно! Вы с ним разошлись в минутах! Но сегодня об этом не думайте. Надо исправлять нашу общую ошибку. Вы полетите в Одессу. Там живет некая Мария Николаевна Дорохова-Ворошина. Учительница, преподает историю в школе. Теперь слушайте внимательно. В августе 1945 года в Германии, в городе Мюнстенберге, на нее напал человек. Ваша задача – выяснить все, что знает о нем Мария Николаевна. И чтоб ни одна душа не подозревала о цели вашего приезда в Одессу. Вы получите документы учителя, историка. Начнете с посещения городского отдела народного образования. Там узнаете адрес Марии Николаевны. Для всех, кроме нее самой, вы знакомитесь с диссертационной работой Марии Николаевны.
– Понятно, товарищ полковник!
– Сказать мало, надо действительно понять. Вот вы сейчас думаете, а почему бы не запросить Одессу по телеграфу, шифром… Поручить местным товарищам собрать материал! Верно?
Миша вздрогнул и слабо улыбнулся.
– Да, я так подумал. Мне показалось, что надо быстрее…
– Мы обязаны беречь людей. Всегда помните о семье Окунева! Чем крупнее дело, тем меньше людей должно участвовать в нем. Идите спать!
Смирнов вгляделся в лицо Миши. Юноша… Э нет! Перед ним сидел не юноша. За последние три дня с Соловьевым произошла перемена, на которую в обычных условиях потребовалось бы несколько лет. Он вытянулся, похудел, беспокойный, веселый блеск, загоравшийся в его глазах при малейшем поводе, исчез. Движения стали сдержаннее…
«Это ничего! – подумал Смирнов. – Это возмужание. Ну что ж, ему двадцать три года. Пора!» – Полковник вспомнил, какой бурный взрыв энергии, любопытства, восторга и нетерпения пришлось бы сдерживать в Соловьеве, если бы поручение давалось ему три дня назад, и на мгновение сердце у Смирнова сжалось. Стало жаль щедрой и легкомысленной юности, вот так же ушедшей в свое время от него, уже ускользающей от сыновей…
«Ну что ж, всему свое время! – вернул себя к действительности Смирнов. – Пора, пора! Соловьев вступает в новую пору жизни. Ничего, наше время было суровее, и возились с нами меньше! Определится парень!»
Так думал Смирнов, а говорил он другие, сухие и обидные, слова.
– Помните, что Одесса для вас всего лишь территория для операции. Вы не на курорт едете. Капитан Захаров передаст деньги и билет. Чем быстрее обернетесь, тем лучше. Но помните: быстрота и спешка – разные вещи. До свиданья. Выспитесь как следует.
Смирнов встал и через стол протянул руку Соловьеву. Тот поднялся, ответил на пожатие и с какой-то новой, поразившей Смирнова красотой – да, именно красотой, другого слова не подберешь – вытянулся прощаясь.
– Хорош будет, если… – И Смирнов не закончил мысль, потому что, постоянно находясь на линии огня, он, как и все старые солдаты, не любил загадывать.
– Желаю успеха, Малыш, – сказал он, кивком давая понять Соловьеву, что тот свободен.
– Это всего лишь территория, где я выполняю задание! – твердил себе Миша Соловьев, разглядывая небольшую полукруглую площадь, представляющую собой шедевр пропорций, площадь, куда вливался переулок, словно узкая река, не вмещающая потоков солнечного света…
– Но это прекрасно! – повторял он и старался не видеть, что ступает по тяжелым плитам, вырубленным человеческими руками и отшлифованным дождями и ветром. Старый камень на мостовой и на стенах домов отражал солнечный свет смягченным и придавал ему оттенки серебра. Отыскивая нужный номер дома в переулке, он заглядывал в каменные подворотни, изумлялся просторным дворам, траве, прорастающей сквозь щели в плитах, и чистейшему, прелестному звуку, источник которого он долго не мог определить, а, отыскав, впервые понял, как может петь струйка воды, падающая в каменный водоем.
– Да, прекрасно, но это не имеет никакого отношения ко мне! – повторял он себе и отворачивался от окон, широких, гостеприимно распахнутых, за которыми двигались и разговаривали красивые загорелые люди.
На пороге квартиры Марии Николаевны Соловьева встретил веселый черноглазый великан в морской тельняшке, в синих холщовых брюках. В руке у великана был велосипед со смятым передним колесом, он держал его, как предмет, не имеющий ни веса, ни тяжести… Узнав, что Соловьев хочет ознакомиться с диссертацией Марии Николаевны и посоветоваться о своей работе, великан добродушно кивнул и указал велосипедом в глубину коридора.
– Идите! Машенька на балконе… Я вот из рейса вернулся, хозяйствую. Будем знакомы – капитан Ворошин… Сейчас провожу вас.
– Машенька! – сказал великан, подходя к дверям балкона. – Раз уж к нам гость пришел, я думаю, надо прикончить эту самую ягоду! А?
– Рад поводу! – засмеялся очень юный женский голос. Миша шагнул через порог балкона, и внезапно все мускулы в теле у него напряглись от жалости, доходящей до боли.
Перед ним в низком плетеном кресле, залитая прямыми лучами солнца, сидела женщина в широком белом платье. Волосы ее, вьющиеся, странного серебристого оттенка, были сколоты тяжелым пучком на затылке, и на лбу золотился загар. То, что находилось ниже, было лишено формы, а, кроме того, по наклону головы и по напряженным плечам Миша догадался, что женщина слепа. Взглянув на загорелые плечи и руки, он понял, что она очень молода, и волна жалости снова захлестнула его.
– Так я сейчас ягоды принесу… – просительно сказал великан и исчез в глубине комнаты. Через несколько минут он вернулся с блюдом клубники и бутылкой сливок.
– Не ставь сливки на пол, опять разольешь!.. – усмехнулась женщина. – И усади гостя, он все еще стоит…
Ворошин хозяйничал решительно и просто. Он выложил всю клубнику с блюда в глубокие тарелки, залил сливками, вручил Мише столовую ложку и первым принялся уничтожать ягоды.
– За сервировку не осудите! – засмеялась Мария Николаевна. – Сегодня я не вмешиваюсь в хозяйство: в школе экзамены, я немного устаю!
Соловьев вдруг поймал себя на мысли, что он смотрит в лицо Марии Николаевны, не испытывая более тягостного чувства страха и жалости.
– Толя, это тебе! – Мария Николаевна протянула мужу свою тарелку. – Мне что-то больше не хочется!
– М-да! – сказал Ворошин, с сожалением косясь на почти полную тарелку Марии Николаевны. – Плохо вы знаете своего мужа! Вырвать из рук женщины последнюю в сезоне клубнику? Поступок низкий! Давай в холодильник поставлю, после съешь…
– Ну, как хочешь, благородный Ворошин! – засмеялась Мария Николаевна. – Тогда вот что, забирай велосипед и иди слесарничать во двор. А мы с товарищем поговорим о наших делах. Нет, нет, в коридоре нельзя, опять испачкаешь маслом паркет и Франциска Львовна будет сердиться…
Миша с благодарностью взглянул на Марию Николаевну. Ворошин ушел, прижимая к груди тарелку с ягодами. Загремела цепочка на входных дверях, и вскоре Соловьев увидел его внизу, на плитах двора, где он расположился около распростертого велосипеда с непосредственностью южанина, для которого дом простирается далеко за порогом.
– Что с вами стряслось, товарищ Соловьев? – неожиданно спросила Мария Николаевна, прикладывая руку к горячим каменным перилам балкона. – У вас беда?
– Да, Мария Николаевна! – неожиданно для самого себя тихо ответил Соловьев и впервые за последние дни глубоко и легко вздохнул. – Большая беда. Только рассказать вам о ней я не могу. Нас здесь никто не услышит?
– Идемте в комнату.
Мария Николаевна встала и прошла в комнату. Она села на диван, перебросила Мише подушку и сама облокотилась на валик, расправив складки своего широкого белого платья.
– Мария Николаевна, я ведь не учитель, я работник органов госбезопасности, – заговорил Миша, с трудом отрываясь от ощущения покоя, отдыха, неожиданно пришедшего к нему в этой прохладной, уютной, большой комнате. – Мария Николаевна, у вас хорошо, и, вероятно, это далось нелегко. А я должен вернуть вас на время к вещам тяжелым.
– Ну что ж, – тихо отозвалась Мария Николаевна, – если нужно…
– В сорок пятом году, в августе, вы находились в Германии. На вас напали. Мне нужно знать все о человеке…
Дверь скрипнула и отворилась. Мария Николаевна сделала поспешное движение вперед всем телом и даже руки протянула, как бы пытаясь помешать войти маленькой девочке лет четырех.
– Толя! – громко позвала Дорохова, и тотчас же снизу донесся голос Ворошина.
– Ау, Машуня?
– Толя, возьми Настеньку!
– Дочка ваша? – спросил Соловьев, с удовольствием разглядывая девчурку, толстенькую, озабоченную, с такими же веселыми и черными глазами, как у отца.
– Да, это Настенька. Она играла с девочкой соседки. Нет, дочка, ко мне сейчас нельзя! Я занята. Тебя возьмет с собой папа, вы вместе будете чинить велосипед!
Девочка выдвинула вперед пухлую, покрытую золотым пушком губу, деловито набрала воздуха и завела хорошую руладу, начиная с низкой, требовательной нотки, последовательно проходя все тональности вплоть до верхнего «ре». Но она не успела закончить, смуглые сильные руки подхватили ее, подняли в воздух, дверь закрылась, и рулада стихла в коридоре.
– Очень тяжело расстраивать вас, Мария Николаевна! – снова заговорил Миша. – Но поверьте, если бы не нужда, я бы не приехал!
Некоторое время Мария Николаевна собиралась с мыслями… Потом устало вздохнула и кивнула, как бы соглашаясь. Соловьев поспешно раскрыл записную книжку, готовясь делать необходимые заметки.
– Что знаю – расскажу! – сказала Мария Николаевна. – Неужели этот человек жив? Это большое несчастье! Сколько зла успел он натворить с тех пор? Плохие люди хуже волков… Нет, нет, вы курите, пожалуйста. Меня это не беспокоит. Сейчас я вам все расскажу… А если я что лишнее расскажу, вы меня остановите… Только, для того чтобы понять этого человека, надо многое знать! Вот надо рассказать вам о Сосновске. Конечно, ведь там, собственно, все и началось… Нет, что вы, я себя хорошо чувствую… Сейчас одышка пройдет. Это иногда бывает, это не страшно… Так я буду рассказывать, а вы все подробно запишите. Я понимаю, надо. Хорошо, что вы приехали…
«Мой отец, товарищ Соловьев, был шофером, человеком добрым и легкомысленным. Больше всего на свете он любил дальние рейсы и веселые компании. Он купил патефон и собрал больше тысячи пластинок. Я сделала ему каталог пластинок, и за это он купил мне новые туфли на белой каучуковой подошве. Первая красивая вещь, принадлежавшая мне. Помню, ложась спать, я взяла их с собой в постель.
Первое, что сделали немцы, заняв наш городок, – расстреляли восемьдесят два человека из городского партийного актива и открыли в клубе железнодорожников кафе-бар с веселыми девушками и отдельными кабинетами. Людей расстреливали ночью и говорили об этом шепотом. Бар гремел на весь городок и не закрывался круглые сутки.
Моему отцу бар понравился. Мать в семье голоса не имела, она, как всегда, боялась, что в одну из поездок отец встретит еще более незлобивую, любящую женщину, чем она, и бросит нас. Со времени прихода немцев она находилась в состоянии непрерывного страха за меня, потому что в городе упорно держался слух, что немцы заберут всех девушек: самых красивых пошлют в бар, остальных – на работу в Германию. Как всякая мать, она считала меня красивой и боялась. Кроме того, перед приходом немцев во время бомбежки маму контузило, и она иногда вела себя странно. Она умерла хорошо. Вышла за щепками во двор, присела на крыльцо, сказала: “Машенька, отец…” – и умерла, говорили, от разрыва сердца.
Мне было тогда четырнадцать лет. Школа закрылась, я отсиживалась дома. Отца мобилизовали возить немецкие грузы. Однажды он выпил лишнее, что-то перепутал и нагрубил немцу. Случилось это во дворе автобазы, при народе. Отца раздели и выпороли на глазах у толпы.
Всю ночь отца колотило от боли и злости. К нему зашел товарищ. Он убеждал, что отец отделался даром, немцы за меньшее расстреливали. Отец бился головой о спинку кровати и ругался страшными словами. Под утро он выпил всю водку, оставшуюся в доме, и сказал мне:
– Я, дочка, конечно, не сахар. Но холуем не был и не стану! Я ухожу в одно место, в лес, где люди посвободнее живут, а ты царапайся сама, как можешь. Прибейся к тете Поле и живи, она добрая.
Теперь я понимаю, он был лишен отцовских чувств. Я связывала его, и он, не задумываясь, бросил меня, как котенка, на добрых людей. Тогда я очень обижалась, плакала и представляла себе, как мы с ним опять встретимся и я ему все выскажу. Позже мне рассказали, что он погиб в партизанском отряде, в первом бою, схватившись врукопашную с гитлеровцами.
Да… отец ушел в лес, а я меняла вещи на картошку и вечерами сидела без огня, потому что «на огонек» заходили гитлеровцы.
У меня был знакомый мальчик Гена Волков… Он учился в школе классом старше, не боялся купаться под мостом, где было самое сильное течение, и сам выдумывал длинные истории о приключениях разных людей, и они мне казались лучше всяких книг. Мы дружили, и я с некоторых пор стала замечать, что у Гены появился от меня секрет. Я догадывалась, в чем дело: партизаны осмелели в нашем районе, и гитлеровцы по вечерам боялись нос на улицу показывать, а начальство у них разъезжало только в бронированных машинах. Я сказала как-то: «Гена, неужели ты меня не возьмешь помогать партизанам?» Он объяснил, что помочь мне не может, сам только помогает кое-кому, да и потом он сказал, что я в такие дела не гожусь, характер у меня очень мягкий. Ну что ж, я постеснялась настаивать, хотя мне очень хотелось помогать партизанам.
Вскоре я попала в облаву на рынке. В комендатуре немец во время обыска обошелся со мной нахально, и я вцепилась ему ногтями в лицо. Полгода меня держали в тюрьме на Забродинке, в подвале, где гнилая вода стояла почти до колен. Среди заключенных был один дедушка из поселка, Федор Иванович. Гитлеровцы забрали его на огородах, он прошлогоднюю картошку копал, ну они и посекли старика лопатой. Раны у Федора Ивановича не заживали, перевязывать было нечем, а умирать старику не хотелось. Очень он просил по ночам с ним разговаривать, только у нас заключенные были тяжелые, все больше смертники, и люди не хотели бередить себя разговорами, молчали и ждали либо случая бежать, либо своего часа. А еще, конечно, запах шел тяжелый от дедушки, и сидеть с ним рядом было невозможно. Но я вскоре привыкла, раны ему обчищала, переворачивала раза три в день, чтоб тело не мертвело. А по ночам он мне свою жизнь рассказывал. Он работал театральным парикмахером и много видел интересного…
При гестапо был отдел по борьбе с партизанами, и в этом проклятом отделе находился русский, по прозванию Жаба; фамилии его никто не знал.
Что сказать вам об этом человеке? С девяти утра до часу дня он допрашивал. Потом обедал и спал. Вечером играл на бильярде в баре и там же напивался к трем часам утра. Солдат-порученец привозил его домой замертво.
Жабу в городе ненавидели страшной ненавистью и несколько раз пытались убить, только он, как зверь, чуял покушение и уходил с опасного места в самую последнюю минуту.
Он был не просто жестоким человеком. Ведь, товарищ Соловьев, даже у самого жестокого имеется своя, пусть мерзкая, но логика – злится и мучает. Жаба никогда не злился. Он мучил спокойно и по какому-то одному ему понятному выбору. Бывало арестует человека, который и близко к партизанам не подходил, иногда даже прохвоста какого-нибудь выглядит и, не торопясь, потихонечку замучает на допросах. Даже сами гитлеровцы не любили его и боялись, ходили слухи, что он никому из них не подчинен и связан с каким-то очень высоким начальством.
Вот так ни с того ни с сего замучил дедушку Федора Ивановича. А потом вызвал меня. Внешне каков он был? Хорошо, я вам его опишу. Почему он оставил меня в живых? До сих пор не понимаю. А оставил. Даже из тюрьмы велел выбросить.
Меня привели к нему рано утром, часов около девяти. Охрана ушла, на его допросах никто никогда не присутствовал. В кабинете были серые стены и сильно пахло карболкой, табаком и спиртным перегаром – могильный запах. Посередине кабинета стоял человек лет тридцати шести, высокий, худой, жилистый, с очень широкими плечами и узкими бедрами. Может быть, он был пьян, может, болен, только глаза у него были бесцветные и почти не отражали света. Брови, густые, светлые, сходились на переносице, и от них тянулся к губам тонкий, длинный нос с плоским мясистым кончиком. Он стоял, обхватив себя за плечи руками, и трусился мелко-мелко, – видно, его крепко знобило.
Он долго меня не замечал, а когда от напряжения у меня в ко – ленке косточка хрустнула, дернулся и спросил, знаю ли я, что мой дед подох? Я поняла, что он спрашивал про Федора Ивановича, и объяснила, как было дело. Он еще раз переспросил, действительно ли я не внучка ему, а потом спросил: “Где сейчас Федор Федорович Гордин?” Я говорю – не знаю и никогда о таком не слышала. Он позвал солдата и велел выбросить меня из тюрьмы. Я с ним говорила спокойно оттого, что убеждена была в своей смерти. А когда меня выгнали из тюрьмы, я долго не уходила от ворот, все боялась… Все казалось, что опять схватят, арестуют и тогда уже конец…
Несколько дней я была очень счастливая. Отмылась, выспалась, к свету привыкла. Потом прибежал Гена и сказал, что Лену Жевакину угоняют с другими девушками в Германию, а Лена – нужный человек, выполняет ответственные поручения. Гена спросил, не поменяюсь ли я с Леной, есть возможность сговориться с гитлеровским уполномоченным за большую взятку. Если я согласна, надо сейчас же идти на вербовочный пункт, а Лена останется и будет продолжать работу. “А ты все равно без толку сидишь, – сказал он. – У тебя характер тихий…” Я сказала – ладно. Всю ночь проплакала, вещи, которые сохранились, тете Поле отдала, а утром пошла с Геной на вербовку. Сначала немец вынес мне пальто Лены и платок, я надела, а свое отдала немцу, и он ушел, а потом пришла Лена, и солдат толкнул меня за проволоку. Я даже попрощаться не успела, Лена ушла с Геной. А меня отвели в отделение к девочкам.
Когда нас увозили на вокзал, мне все хотелось дом свой увидеть на прощанье, но шел дождь, и я ничего не увидела, да и брезент на грузовике был наглухо застегнут. Погрузили нас, как телят, – в товарный, без печки, без нар – и повезли. С крыши течет, колеса стучат, а девочки плачут и поют: “Прощайте, мама, вас я не увижу, прощай, моя родимая земля. Страна Германия, тебя я ненавижу, девчонку русскую покорить нельзя!” Самодельная песня, а мы ее часто пели.
В Германии я сначала работала у бауэра, в деревне, а потом меня бауэр отослал, потому что я носила продукты нашим военнопленным, близко был лагерь. За это полагался расстрел, продукты мы воровали, но ведь нельзя же дать пропасть своим людям? Так что я еще дешево отделалась.
Из лагерного распределителя меня направили на химический завод, и вот там я начала сдавать. Кашляла, волосы выпадали, ногти слезали, зубы расшатались. Если бы наши пришли на месяц позже, я бы пропала – так доктор сказал.
Про то, как мы наших встречали, говорить не буду, это дело известное. Нас, русских девушек, собрали всех вместе, стали лечить и отправлять на Родину.
Однажды я с подругами пошла в город и встретила Жабу. Он стоял с нашими офицерами и смеялся, рассказывал им что-то. Так хорошо, так дружно они стояли, и вот это меня больше всего испугало!.. Теперь подумайте, что он за человек! Он меня видел один раз в жизни. Какие-нибудь двадцать минут, да и выглядела я тогда иначе, совсем девчонкой была… Но запомнил! Как увидел, перестал смеяться, простился с офицерами и пошел прочь…
Товарищ Соловьев, какая же я была глупая! Мне бы объяснить офицерам, они бы сами… А я кинулась его догонять! Он не бежал, шел и вроде спокойно, но так быстро, что я бегом не успевала. Один раз упала, туфлю потеряла… Наконец нагнала! И навстречу вышел офицер, такой толстенький, с добрым лицом, танкист. Я ему закричать хотела, но в это время поравнялась с Жабой…
Больше я, товарищ Соловьев, ничего не помню…
Сейчас я закончу. Ничего, я отдышусь, это у меня бывает…
Да, очнулась я уже в палате… Долго болела. Одиннадцать раз оперировали. Все надеялись хотя бы частично зрение сохранить. И немножко сохранить лицо.
Однажды хирург Андрей Севастьянович присел ко мне на постель пьяненький, обнял и сказал: “Маша, Маша, прости, ничего я тебе больше не могу сделать. Сапожник я, а не хирург!” И заплакал.
Когда поправилась немного, меня повезли в Москву, а уже из Москвы – в Одессу, к профессору Филатову, все хотели зрение вернуть. Учиться я начала еще в Германии, на слух, за седьмой и восьмой классы. Андрей Севастьянович иногда читал, иногда сестры, больные тоже, кто свободен, приходят и говорят: “Давай, Маша, почитаю”. Сдала в Москве за десятилетку, поступила в заочный педагогический институт. И все было ничего. А вот в Одессе стало худо на душе. Филатов посмотрел, говорит: “Девушка, не надо от человека ждать больше, чем он может! Я не Святой Дух. Пока ничего сделать не могу…” Вот когда я почувствовала, как сильна была во мне надежда поправиться! Надо жить, перестраиваться на положение настоящей слепой, а у меня руки опустились. Остался год до окончания института – я учебу бросила. И знаете, товарищ Соловьев, страшное ощущение было, как будто я не только слепая, но и глухая к тому же! Не слышу людей, не могу звуки разделить, все сливается в грохот, все машины летят на меня.
Начала учиться улицы переходить с палочкой – не получается! Стыдно, страшно просить, чтоб перевели. Люди, жизнь – все мимо меня, как река, и я за течением уже не успеваю! Видите ли, тут еще, конечно, была причина: в зеркало я смотреться не могла, но руками свое новое лицо хорошо изучила и понимала, каково людям на меня смотреть.
Однажды стою вот так на углу, мучусь и чувствую, кто-то взял под руку и повел на другую сторону улицы… Я поблагодарила и опять остановилась. Слышу тот же человек снова подходит и спрашивает: “Вы что, не умеете еще одна ходить?” Это был Анатолий Васильевич. Он меня повел в клинику. По дороге мы разговорились, я кое-что рассказала. Он тогда очень хорошо со мной поговорил. “Переживаете вы, – говорит, – Маша, законно. Горе у вас огромное. А жить надо. Учение бросать вам невозможно, потому что связь с людьми только через труд бывает. А без людей вы пропадете. Как ни тяжело – кончайте институт…” На меня его слова хорошо подействовали. Первое время он приходил редко, из жалости навещал. Ну, а потом чаще стал бывать. Настало время мне выписываться из клиники, а идти некуда. Я решила уехать потихоньку, чтоб не связывать своим горем Анатолия Васильевича. Мне дали пенсию, я уже договорилась с нянечкой, чтобы она мне чемодан купила, билет домой, в Сосновск, продукты на дорогу и проводила на поезд. К вечеру пришел Анатолий Васильевич и забрал меня из клиники. Привез сюда, говорит: “Маша, живите сколько хотите. Кончайте институт, сил наберитесь. Там посмотрим, как ваша жизнь сложится. Меня вы не стесните, я все равно больше на корабле нахожусь”. Так мы прожили еще полгода. Когда его мать узнала, что он на мне женился, приехала из Ростова и на коленях перед ним при мне стояла, плакала, чтобы он отступился от меня. Да. Меня прокляла. И уехала, обратно в Ростов. Так и не помирилась с нами до сих пор, даже внучку не хочет видеть… Ну, да это я вам все уже лишнее рассказываю…»
Несколько раз повторила Мария Николаевна подробности своих встреч с Жабой. Соловьев шифровкой стенографировал необходимое.
В дверях показался капитан. Он подошел, глянул на капельки пота, облепившие лицо жены, на ее руки и хмуро покосился на Соловьева.
– А ты здорово устала, Машуня! – сказал он и распахнул двери на балкон. Только сейчас Соловьев заметил, что в комнате висит облако табачного дыма, а свет за окном стал оранжевым. Дело шло к вечеру.
– Ребята приходили, рыбу какую-то притащили тебе показывать, но я отослал… Обедать пора, Машуня…
Мария Николаевна молчала. Вся она как-то сжалась и ушла в складки своего широкого белого платья.
Соловьев поспешно встал.
– Простите, Мария Николаевна, и вы, Анатолий Васильевич, что задержал… Нет, спасибо, обедать не могу остаться, дела. Большое спасибо за внимание и помощь.
Он пожал руку Марии Николаевны и с болью подосадовал на себя – такой горячей и сухой была ее рука.
Капитан проводил Соловьева до ворот.
– Мария Николаевна плохо чувствует себя, – виновато сказал Соловьев, останавливаясь, чтобы проститься с капитаном. – Идите к ней! До свидания и спасибо, Анатолий Васильевич!
– Ничего! – улыбнулся капитан Ворошин, с привычной осторожностью пожимая своей огромной смуглой ручищей руку Миши. – Дочку ей подкину – все пройдет! Еще раз приедете в Одессу – заходите.
Миша ушел. Некоторое время капитан стоял хмуро, сосредоточенно глядя ему вслед, потом повернулся и пошел домой. Выйдя из-под темной арки ворот, он остановился и несколько мгновений стоял посреди двора, глядя на балкон, где стояла женщина в белом и тонкими золотисто-смуглыми руками прижимала к груди голенького ребенка.
Что-то с силой, мягко толкнуло в грудь капитана, и он опять – в который раз – испытал тот высокий душевный подъем, чувство, обостряющее в душе его все лучшее, сильное, умное, – чувство, которое за всю его жизнь, богатую людьми и событиями, помогла узнать только Маша и без которого он уже не умел, не мог приближаться к женщине.
Примерно в то же самое время, когда шифрованное донесение Миши Соловьева пришло по телеграфу из Одессы в Москву, в пригороде Берлина шел дождь.
Два человека торопливо направлялись из сада на террасу маленького каменного особняка. За домом женщины с веселыми криками поспешно снимали белье с веревок. Дождь шел отвесный, крупный, с мутным стеклянным отливом.
На террасе было сумрачно и пахло резедой.
– Прошу садиться, господин майор! Продолжим нашу беседу здесь… – предложил хозяин и выдвинул навстречу кресло, плетенное из белой и красной соломы.
Женщины вбежали в дом. Капли дождя со свистом ударялись о листву винограда, обвивающего террасу. Хозяин дома ходил по террасе, перекатывая в пальцах длинную черную сигару. У хозяина дома был странный облик – он был худой, но в то же время при взгляде на него чувствовалось, что каждая мышца его тела тренирована и полна сил. Невысокий, в старомодном длинном и широком сюртуке, по-юношески коротко остриженный, он двигался порывисто. Возраст его не поддавался определению, хотя именно этим занимался сейчас гость, советский майор органов госбезопасности. Майор давно и много знал о Гейнце Штарке, но встретился с ним впервые.
3 марта 1943 года в одном из городов Советского Союза в четырнадцать часов Штарке подошел к первому встречному, оказавшемуся начальником сборочного цеха, и сказал на отличном русском языке:
– Гитлер – психопат и предатель. Остальные наши «деятели» – ублюдки и предатели. Германия погибает, господа надо что-то делать, пока не поздно. Будьте добры, немедленно передайте меня в руки ваших властей, я постараюсь хоть чем-нибудь помочь моим несчастным соотечественникам. Я профессиональный разведчик с большим стажем.
Это происходило в далеком тыловом городе, и начальник цеха принял Штарке за сумасшедшего. Он прошел мимо, но через несколько минут вернулся и для очистки совести, на всякий случай, отвел Штарке к ближайшему милиционеру. В отделении милиции Штарке разложил перед начальником набор документов и сказал:
– Все они «липовые», как у вас говорят. Настоящее мое имя, на которое, кстати сказать, у меня никогда не было документов, – Гейнце Штарке. Почему я поднимаю руки? Видите ли, господин начальник милиции, в вашей стране я убедился в одном: человек может существовать без войн. Опыт содружества наций в вашей государственной системе это доказал. Больше того, при вашей государственной системе война не выгодна ни человеку, ни государству. Значит, в мире происходит чудовищная, преступная нелепость. Я не могу больше в ней участвовать. Все. Будьте добры немедленно сообщить обо мне в Москву, я еще пригожусь. Я ас – разведчик международного класса!
Последующие события несколько охладили энергию Штарке. В Москве ему объяснили, что он не «герой», а преступник, заявивший о своих преступлениях. Штарке подал заявление с просьбой позволить ему искупить свои преступления на фронте борьбы с фашизмом. Суд учел заявление Штарке, и действительно, все оставшиеся до победы два года Штарке честно сражался на тех участках фронта, куда его направляли немецкие организации сопротивления фашизму.
Вскоре после конца войны тяжелое сердечное заболевание заставило Штарке уйти на покой.
Недавно Штарке исполнилось семьдесят два года, но майор колебался в фантастических пределах между тридцатью пятью и шестьюдесятью. Лицо без морщин. Горячие, молодые глаза, пепельно-серые волосы без седины и без блеска, легкие движения, чистый звучный голос. Сорок шесть?
– Вы называете это сохранением принципов международной солидарности? – сердито говорил Штарке, размахивая сигарой. – Я квалифицирую ваш поступок как легкомыслие, недопустимое в деле защиты мира. Зачем понадобилось отдавать его союзникам? Надо было самим судить подлеца!
– Принцип международной солидарности, господин Штарке, основан на точном выполнении юридических обязательств! – терпеливо отвечал майор, с интересом следя за энергичными движениями Штарке. – Я с вами совершенно откровенен, господин Штарке, – продолжал он. – Я не знаю, чем вызван интерес руководства к фигуре Жабы-Горелла, под последним именем он фигурирует в берлинских данных. Я только что получил срочное указание связаться с вами и выяснить, не знакомы ли вам эти имена. Теперь о нашем «легкомыслии». Я не оправдываюсь, это ненужно, я объясняю. Как вы уже знаете, Горелл напал в Мюнстенберге на русскую девушку Машу Дорохову. Судя по нашим данным, в тот момент, когда он был задержан советским патрулем, его опознал представитель разведки союзников; по документам же видно, что на другой день Гореллу, находящемуся под стражей в советской комендатуре, были предъявлены тягчайшие обвинения в физическом уничтожении целой группы пленных американских летчиков. Кроме того, союзники представили документальные данные о том, что Жаба не русский, как заявляет Дорохова, а француз по происхождению, родился в Берлине, носит имя Стефена Горелла. Известно, что в 1932 году он переменил подданство.
– Ах боже мой! – Лицо Штарке почернело от прилива крови. – Неужели вы верите всей этой чепухе?
– Видите ли, господин Штарке! Какие бы сомнения ни возникали у нас, мы всегда считаемся с фактами. Союзники представили юридическую документацию, живых свидетелей. Проверка показала, что на нашей территории Стефен Горелл как разведчик неизвестен. А союзники располагали официальным обвинением. У нас не было оснований препятствовать совершению правосудия. Мы официально передали Горелла суду союзников. Они судили его и казнили 11 октября 1945 года. В прессе были помещены подробные отчеты о процессе и казни…
– А! «Отчеты»!
– Господин Штарке, мы вправе сомневаться, но мы обязаны уважать законные действия любой страны, – с легким оттенком раздражения повторил майор. – Сейчас надо уточнить одно: знаете ли вы Стефена Горелла?
– Беда в том, – выкрикнул Штарке, – что в период с 1936 по 1943 год я не занимался организацией, меня мотало по всему свету. И я слабо знаю новых людей. Горелл? Имя для меня мертво.
На террасу вышла старуха с подносом в руках, в старомодном лиловом капотике. Она поставила поднос на низкий плетеный стол и принялась расставлять перед майором серебряные вазочки со льдом и печеньем, кувшин с фруктовым соком, бутылку рейнвейна и бокалы.
– Познакомьтесь! – буркнул Штарке, садясь верхом на перила террасы. – Моя супруга – фрау Этель Гейнце Штарке. Ну, что ты на меня уставилась, Этель? Я не волнуюсь. Я просто громко говорю Уходи, у нас дела…
Майор встал и поклонился, но Этель Штарке, едва ответив на его поклон, умоляюще посмотрела на мужа и молча пошла к дверям.
«Да, – подумал майор. – Ему не меньше семидесяти, потому что ей больше!»
– До сих пор не верит, что я дома! – фыркнул Штарке, разглядывая пепел на кончике сигары. – Да, что ж поделаешь. Я не надоел ей за пятьдесят один год супружества. Недавно мы подсчитали, в общей сложности мы были вместе пять лет и три месяца… Вы женаты?
– Да! – неохотно произнес майор, глядя на дверь. – Значит, Горелл вам не известен? Жаль. Ваше здоровье, господин Штарке.
Они сидели около полутора часов, беседуя о достоинствах старой китайской бронзы, в которой Штарке знал толк. Он притащил на террасу каталоги, фотографии, несколько экземпляров действительно чудесной скульптуры. Поверхность бронзы была смугла и тепла на глаз, как тело, и краски эмали, насчитывающие два тысячелетия, не утратили свежести.
– Я могу кое-где попробовать реакцию на это имя! – небрежно сказал Штарке, протягивая майору статуэтку монаха, сидящего на черепахе и перелистывающего толстую книгу. – Да. Это возможно. Сегодня же. Обратите внимание на детали панцыря черепахи… А в книге триста страниц. Все покрыты иероглифами и рисунками. Ее можно читать, и я иногда этим занимаюсь.
– Действительно, бронзовые листы не толще папиросной бумаги… – сказал майор, рассматривая в лупу листы книги на коленях монаха. – Необыкновенный экземпляр! Я, господин Штарке, не уполномочен давать вам поручения! – четко сказал майор, бережно опуская статуэтку на стол. – В наших отношениях должна быть абсолютная ясность. Кроме того, как вы знаете, мы все делаем для себя сами. Словом, благодарю за гостеприимство! Спешу сообщить ваш ответ руководству, поэтому вынужден прервать нашу интересную беседу.
Майор встал. Штарке пристально рассматривал своего гостя. Аккуратненький, старательный, молодой, невозмутимый… Чувство, похожее на свежую ссадину где-то в дальней складочке души, вытеснило хорошее настроение, вернувшееся к Штарке в последние полтора часа.
Зависть! Да, он завидовал майору. Завидовал его молодости, здоровью, спокойствию… Сколько он может сделать! Сколько он сделает! Все то, что не сумел Штарке! Все, что не досталось Штарке, будет принадлежать этому плотному крепышу с чистыми карими глазами! Штарке поежился, стыдясь своих мыслей, и быстро пошел вперед по дорожке сада.
Он проводил майора до калитки и долго стоял, глядя ему вслед, посасывая горький окурок сигары и борясь с унижающим, тяжким чувством – завистью, которое, как он это хорошо понимал, приходит только к тем людям, жизнь которых определенно не удалась.
– Ну что ж, всему свое время! – проворчал он, сплевывая горькую слюну. – В его годы я тоже не сидел дома…
И устало направился к террасе.
Полковник Смирнов вышел из подъезда Комитета и направился вниз, по Кузнецкому Мосту к Петровке. Он шел не торопясь, точно гуляя, часто останавливаясь у витрин. Он любил думать на людях. Ему помогали вещи, лица, голоса. Что бы ни происходило в душевных подпольях отдельных людей, жизнь народа, озабоченная, веселая, требовательная, шла вперед своим чередом, служить ей было радостно и необходимо. Это чувство всегда помогало Смирнову.
Теперь, рассматривая чучела птиц в витрине зоомагазина, Смирнов мысленно вел старый спор с интуицией.
Охрана государственной безопасности – труд чрезвычайно сложный, и у каждого разведчика есть его вернейший помощник и в то же время опаснейший враг-провокатор – интуиция.
Вот уже несколько суток интуиция Смирнова кричала ему, что Горелл – вполне реальная фигура.
Факты – вот что должно являться основой разработки всякого дела. Мало фактов в деле Горелла! Они хрупки и условны.
Ведь могло быть и так: Окунев ошибся. Человек, к которому он ринулся на стадионе, был на самом деле не Горелл, а, скажем, Иванов, пригласивший на матч чужую жену. Во избежание скандала Иванов ретировался. Он мог быть также карманным вором… Дальше. За машиной Соловьева проскочил светофор неопытный любитель. Очень важно выяснить, зафиксирован ли номер нарушителя. Простая справка, а возятся вторые сутки…
Дальше. Утром, направляясь на работу, Окунев мог столкнуться в подворотне с грабителями. Либо на него напали, либо он кого-нибудь защищал. А уголовный розыск, как назло, тянет с ответом. Смирнов в тот же день запросил, не зафиксированы ли в настоящее время случаи нападений на граждан в ранние утренние часы. Если таковые зафиксированы – этот факт ослаблен.
Штарке ничего не знает о Горелле. Весьма серьезное обстоятельство. Значит, до 1943 года Горелл не был крупным разведчиком.
Девочка в красном пальто вышла из зоомагазина. Кто-то ее толкнул, и из рук девочки посыпались пакеты. Она стояла, растерявшись, по-птичьи поджав ногу, а Смирнов аккуратно собрал свертки с крупой и маслом и помог ей соорудить из старой газеты и обрывка бечевки пакет.
– Спасибо большое, – застенчиво сказала девочка, обхватывая пакет двумя руками.
– Ничего. Это ничего, – пробормотал Смирнов. – Беги скорей домой – мама ждет! – сказал он девочке и побрел дальше.
Надо было решить: приступить ли к разработке дела Горелла либо отложить ее до возникновения новых, реальных фактов.
– Легко сказать – отложить! Каждый день, проведенный Гореллом на нашей земле, приносит несчастье.
И еще, интуиция с утомительной настойчивостью подсказывала Смирнову – Горелл не из числа тех, кто болтается в коктейль-холле и вытягивает из пьяных все, что хоть отдаленно напоминает информацию… Надо решать!
Да, легко сказать, приступить к разработке! У контрразведчиков никогда не бывает мало работы, потому что мир пока еще разделен на две группы людей: тех, кому не нужна война, и тех, кто ее добивается. Начать новое дело – означает поднять тонны справочного материала, приобщить новых людей, собрать мельчайшие крохи сведений, иногда в десятках стран. Стоит ли?
Контрразведчик привык смотреть на вещи трезво. Наивно предполагать, что аппарат контрразведки противника глух, глуп и слеп. Они также кое-что умеют делать! Что стоит за Гореллом? Новый вражеский разведчик на территории – это всегда новая группа вопросов или новый поворот старых. Какую еще авантюру врагов мира он подготавливает? Куда направлен удар? Какой жизненно важный участок в стране находится сейчас под ударом?
Смирнов почувствовал голод. Он посмотрел на часы – оказалось, что он блуждает уже больше двух часов. Он огляделся и нашел себя на Ленинградском шоссе.
«Позвоню в отдел, если новостей нет, поеду обедать!» – решил Смирнов и направился к станции метро.
Капитан Захаров ответил по телефону, что, пожалуй, есть смысл встретиться до обеда.
В отделе Захаров с непроницаемым лицом положил перед полковником несколько листков бумаги.
– Под светофором зафиксирована только наша машина, – сказал Захаров. – Утверждают, что не было второй… Из-за этого и задержали ответ, все проверяли…
Смирнов закурил и отложил листок. От раздражения, похожего на озноб, он передернул плечами. Вот, вот, начинается… Уже обсуждается в Управлении Оруда, может быть даже в гаражах, запрос о второй машине… Кто может знать, что эта информация не будет подхвачена врагом? Не Горелл, конечно, но мелкий шпион принесет эту информацию более крупному «сборщику», тот упомянет о ней в отчете, отчет попадет в руки шпика с дипломатическим паспортом, он немедленно передаст по назначению, там материал будет тщательно проанализирован, разведчика предупредят, что у него на хвосте повисли советские контрразведчики.
– Выходит, второй машины действительно не было! – сердито ответил полковник. – Что там еще? Давайте посмотрим.
Далее обстоятельно перечислялись случаи воровства ранним утром. С грузовика похищен ящик апельсинов. Украден ковер, повешенный для просушки во дворе. Около очереди, дожидающейся открытия молочной, задержан карманный вор. С окна первого этажа сняли щенка охотничьей породы… И еще множество подобных фактов с датами, цифрами, адресами.
– М-да… – угрюмо вздохнул Смирнов, не думая уже о том, что и по поводу этого запроса могли быть разговоры, обобщения, догадки…
Если бы люди только знали, какой страшный вред может иногда причинить пустейшая фраза, сказанная без всякого плохого умысла.
– Небогато! Зря мы с вами, Алексей Данилович, людей тревожили…
– Ну, как сказать! – невесело пошутил Захаров. – По крайней мере я теперь знаю, что щенят нельзя на подоконник сажать!
– А может быть, все-таки еще раз поднять архивы?
– Бесполезно, товарищ полковник! – уныло ответил Захаров. – Нет в наших данных имени «Горелл»! Я до двадцатого года просмотрел, глубже возраст не выдержит…
Раздался стук в дверь, и на пороге показался Миша Соловьев.
– Прибыли? – спокойно встретил его Захаров, так, словно Миша не в Одессу летал, а ходил купить папирос. – Сдавайте документы по командировке и отправляйтесь снова в распоряжение капитана Берестова.
– Разве я… – Миша спохватился и умолк, взглянул с отчаянием на полковника, раскрыл рот, но не издал ни звука, покраснел и снова взглянул на полковника.
Смирнов с Захаровым молчали, и Миша сделал еще одну бесполезную, наивную попытку.
– Я думал… товарищ полковник, разрешите обратиться! Я думал, что меня уже подключат к этому делу! Я прошу вас, товарищ полковник! Ведь я должен оправдать… Я…
Захаров отвернулся и, точно не слыша Соловьева, направился в коридор. Смирнов оглядел Соловьева и спросил:
– Младший лейтенант Соловьев, что с вами? В каком вы виде?
– Я? – переспросил Миша упавшим голосом. – Извините, товарищ полковник… А что?
– Если вы надеваете штатское платье, умейте носить его! Ваш пиджак измят! Рубашка несвежа! Вы похожи на загулявшего командировочного!
– Я только что с аэродрома, товарищ полковник! – сказал сквозь зубы Миша, чувствуя, что у него даже в носу щиплет от обиды.
– А была необходимость являться в отдел прямо с аэродрома? Или вы могли заехать домой, принять ванну, вымыть, например, голову, которой вам давно пора заняться? И уже тогда являться с рапортом!
– Я мог заехать домой, товарищ полковник!
– Почему же вы этого не сделали? – с отвратительным спокойствием, даже с добродушием спросил Смирнов. – Вы свободны, младший лейтенант.
Выйдя в коридор, Миша набрал воздуха и глубоко вздохнул. «Ни слова!.. Он ни слова не спросил о том, как я съездил! Я не смог даже рассказать о Марии Николаевне! Потом… потом – это уже будет не то! Ни слова!.. Ехать сейчас домой! – мысленно негодовал Миша, спускаясь по лестнице к подъезду. – Поступать в распоряжение капитана Берестова, который опять засадит за канцелярщину! Быть отстраненным от дела Горелла? А если я слово дал отомстить за Бориса Владимировича? Если обязан? Ехать мыть голову в то время, как Смирнов, и Захаров, и, наверное, другие занимаются боевой работой!»
– Пропуск! – резко сказал часовой.
– Ну вот он, пропуск! – разъяренно ответил Миша. Часовой холодно посмотрел на документ, на Мишу и сделал легкое движение головой к дверям.
– Проходите!
– Ну, прохожу…
Через минуту Соловьев шел к остановке троллейбуса.
От душевного подъема, с которым он спешил в Москву, не осталось и следа.
Перед рассветом, когда дети и счастливые люди спят особенно крепко, в стекло окна спальни госпожи Штарке ударился маленький камушек.
Этель Штарке умела просыпаться от ничтожнейших звуков. Она села на постели, провела ладонями по лицу, и пальцы ее стали влажными от пота.
Проснувшись окончательно, она сообразила, что убийца не стал бы предупреждать о приходе, и перевела дыхание.
– Гейнце! – спокойно окликнула Этель, садясь на край постели и отыскивая ногами на коврике ночные туфли. Она знала, что Штарке стоит по другую сторону постели босой, в смятой пижаме и глядит в темноту широко раскрытыми глазами, определяя направление и характер звука, вернувшего его из сна.
– Я, муттерхен, – сейчас же ответил Штарке. – К нам стучатся, муттерхен. Сейчас я выясню, кто наш гость!
– Не подходи к окну, Штарке, я посмотрю сама! – взмолилась Этель, но Штарке усмехнулся коротким щелкающим смешком и побрел к окну.
Он прижался лбом к стеклу и разглядел в темноте под окном на клумбе фигуру человека без шляпы, закутанного в длинный макинтош.
– Я открою! – успокаивающе сказал он Этель. – Я знаю, кто это. Не волнуйся, спи и не вздумай выходить к нам.
Он провел гостя, не зажигая света, в темную комнату, спустил зимние плотные портьеры, не снимавшиеся на лето в доме Штарке, и зажег маленькую лампочку под глубоким бронзовым абажуром. Все это время гость стоял у дверей, засунув руки в карманы плаща и следя за Штарке сонными глазками, похожими на медвежьи.
– Если вам вздумается еще раз навестить меня ночью, ориентируйтесь на третье окно от водосточной трубы слева, – недовольно сказал Штарке. – Бог знает, что вы наделали с моими розами, у вас не ноги, а сани!
– Как поживает госпожа Этель? – вежливо осведомился гость, снимая макинтош и аккуратно складывая его на стуле.
– Она спит, и здоровье ее отлично! – буркнул Штарке. Он достал из шкафа графинчик с коньяком, два маленьких цилиндрика из толстого хрусталя, сел на диван по-турецки, поджав под себя озябшие ноги, и сразу стал похожим на старого, сердитого гнома. – Вы напрасно там вбили себе в голову, что она влияет на меня! Этель здесь ни при чем.
Без макинтоша гость оказался человеком с заметной военной выправкой и невыразительным, глухим лицом. Он подсел в кресло к дивану, отставил хрустальный цилиндрик, прошелся к буфету, взял стакан для воды, налил на две трети коньяку, выпил половину и закурил.
– Так хорошо живется на покое, Штарке? – осведомился он добродушно и покровительственно.
– Неплохо! – усмехнулся Штарке, оглянулся на дверь и налил себе коньяку. – Настолько неплохо, – добавил он, – что я не хочу никаких перемен.
– Чего вам хочется, мне ясно! – сказал гость, приглядываясь к Штарке. – Вы думаете, я опять пришел вас уговаривать? Ничего подобного! Я пришел потому, что вы мне нужны. Но уговаривать я не буду!
– Новый вариант? – усмехнулся Штарке.
Гость допил коньяк и аккуратно отставил стакан подальше от края стола.
– Вы старый дурак, Штарке! – сказал он с сожалением. – Современный химический завод стоит несколько миллиардов. Но завод можно построить много раз. Вас не восстановишь. Вы уникальный инструмент разведки. Вот почему вы до сих пор живы и проживете еще некоторое время, если образумитесь. Пора возвращаться к нам, Гейнце.
– Бессмысленный разговор! – сердито ответил Штарке и лихо глотнул коньяк. – И напрасно вы щекочете меня ком – плиментами. Я не мальчик, чтоб поддаться на эту удочку.
– Странно! – терпеливо вздохнул гость. – Вот никогда бы не подумал, что вы перестанете работать…
– Я болен! – возразил Штарке. – А если бы я был здоров, я работал бы против вас. Слушайте, мы обо всем говорили! Ничего нового вы от меня не услышите…
– Кому вы врете? – неодобрительно покачал головой гость. – Разведчик не болеет. Разведчик только умирает. Вам хочется работать. Как хочется вам работать, Штарке! Разве вы забыли, что безделье для нас гибельно? Послушайте свой голос! Последите за собой в зеркало! Вы суетитесь, дергаетесь, с другими, вероятно, много болтаете. Так всегда бывает с нами, когда мы останавливаемся. Освобождение заторможенных реакций! Может перейти в психоз, если не влезете обратно в привычные рабочие тиски. Помните Бернарда? Вам нравится умирать в сумасшедшем доме? Начинайте работать, Штарке, и все ваши болезни исчезнут сами собой…
– Нет! – упрямо сказал Штарке. – Я вам сказал. Нет!
– Гейнце, вы действительно не мальчик! Вы же знаете, что от нас не уходят! – уже серьезно сказал гость. – Вы живы до сих пор только потому, что я все еще надеюсь вернуть вас к работе. Хотя бы ненадолго.
– Но я болен. Слышите вы? – очень спокойно сказал Штарке, хотя у него набухли жилы на висках. – У меня грудная жаба. Я могу умереть в любую минуту, на задании…
– По моим сведениям, за последние два года у вас не было ни одного припадка! – заметил гость.
– Знаете что? – раздраженно сказал Штарке. – Давайте прекратим этот бессмысленный разговор. Если уж вы пришли и не даете мне спать, расскажите по крайней мере, что делается в нашем родном террариуме! Как поживают Борделез, Шванке, Анри? Как чувствует себя Мари-Роз? – усмехаясь, спрашивал Штарке.
– Борделез процветает, он сейчас далеко, Шванке что-то не дает о себе знать, – по-прежнему терпеливо сообщал гость. – Но были сигналы о том, что он балуется героином, так что может быть просто паралич сердца. – Гость произносил все это размеренным, глуховатым, тихим голосом человека, привыкшего к тому, что его всегда внимательно слушают. Лицо его почти не меняло выражения. Кожа на лице была сухой и землистосерой, не знающей, что такое солнце и кислород. – Ваша ученица Мари-Роз умница, хорошеет с каждым днем и радует нас. Вот видите, значит, все-таки тянет к старым друзьям!
– Друзья? – угрюмо усмехнулся Штарке. – Каждый из них с удовольствием выкроит себе пару подметок из моей кожи! Просто интересно.
– М-да! – суховато кивнул гость. – Вы всегда были трезвым человеком. В общем, пора работать! – новым, жестким тоном, не допускающим возражения, сказал он. – Если бы мы заполучили вас в сорок четвертом году, вы были бы повешены. В сорок шестом мы очень сердились. В сорок седьмом смягчились и вспомнили ваши достоинства. Начиная с сорок девятого мы встречались изредка, как супруги, находящиеся в разводе, но сохраняющие вежливый интерес друг к другу. Теперь обстановка созрела. Нам нужны опытные люди. Вам доверяют.
– Что вы от меня хотите, шеф, я же вам все сказал! – разозлился Штарке. – Если бы я мог работать, я бы отдал последние годы своей жизни Германии. Знаете такую страну? По-моему, и вы произнесли свое первое слово по-немецки.
– Вы очень отстали, Штарке! – внушительно сказал гость. – Германия, Франция, Англия, Италия – все это устарелые понятия. Новые времена – новая география. Теперь существует финансово-политический центр мира и его экономические бассейны…
– Германия… тоже бассейн?
– Германия – это Крупп и «Фарбениндустри». Все остальное ничего не стоит.
– Так… Англия?
– Аэродром!
Штарке закашлялся, вдохнув слишком крутой клуб сигарного дыма.
– А Россия?
– Россия – соперник существующего финансово-политического центра, ее необходимо уничтожить как можно скорее, – деловито сказал гость, – потому что, пока она живет, у других существуют иллюзии, что они могут сохранить самостоятельность.
– Понятно! – задумчиво кивнул Штарке. – Как же, понятно. Бассейн. Интересно! А Франция это, конечно, место веселого отдыха финансовых и политических деятелей центра?
– Да! – вызывающе сказал гость.
– Понятно, понятно! – торопливо сказал Штарке. У него снова обозначились темные узлы вен на висках. – Да, знаете ли, Гитлер был щенком! Он все-таки действовал под вывеской немецких национальных интересов!
– Будет новый хозяин мира, – усмехнулся гость. – Это надо понять. И пора бы начать вести себя благоразумно, Штарке! Пора бы понять!
– Да, да, я понимаю! – Штарке вскочил, взъерошил обеими руками волосы на голове и забегал по комнате, шлепая босыми ногами.
– Понятно, понятно… – повторял он на бегу. – Вести себя разумно. Обитатель бассейна! Интересно звучит. Значит, будет несколько категорий обитателей? Одну – уничтожите. Другую – кастрируете. Третью… Знаете, а думаю, что третьей-то не окажется!
– О деталях пока говорить преждевременно! – заметил гость. – Но, конечно, не весь человеческий материал на земле пригодится!
– Слушайте, Вальтер, вы действительно все это думаете? – с ужасом спросил Штарке, останавливаясь перед гостем. Сейчас Штарке казался очень старым и больным. – Я понимаю, – продолжал он скороговоркой, – эти мысли можно употреблять как политический шантаж… Но оставаться с ними наедине? Верить им? У вас трое сыновей, Вальтер, значит, это им придется корчиться в страшном мире бассейнов, душегубок и кастратов…
– Ну, мы-то с вами можем не беспокоиться о своей судьбе! – рассудительно сказал гость. – Без нас они не обойдутся. Нужно только разумно вести себя и заниматься делом.
Он положил перед Штарке развернутый клочок бумаги. Штарке взял клочок, долго перечитывал коротенький список из пяти имен, потом сжег его на спичке по многолетней привычке и, устало хрустнув пальцами, сказал:
– Зря все это… Я ничего делать не буду.
– Штарке, хватит валять дурака! – жестко сказал гость и положил на стол узкую металлическую коробочку. – Вы знаете этих людей. Вам легко найти предлог встретиться с каждым из них!
– Конечно, знаю, – кивнул Штарке. – Хорошие люди, простые немцы. Народ выбрал их на государственные посты, и они отлично работают. Один из них – врач с мировым именем. Он ежедневно спасает человеческие жизни. Номер третий – учительница. Во время войны она спасла много голодающих детей.
– Слушайте, что вы там бормочете! – перебил гость и раскрыл коробку. На дне лежали черные горошинки, похожие на обыкновенный перец. – Информация о них не нужна, мы знаем все, что требуется. Это растворяется в любой жидкости, лучше всего – алкоголь. Следов в организме не оставляет, человек умирает от будничного паралича сердца.
Штарке долго смотрел на горошинки. Потом просто сказал:
– Я, знаете ли, разведчик. Убийством в прямом смысле никогда не занимался. Бывали неприятные столкновения с людьми, пытавшимися мне помешать. Но то – другое…
– Стало трудно с вами, Штарке! – раздраженно повысил голос гость. – Мы изменились за последние годы. Конечно, мы по-прежнему изучаем сейфы политических деятелей. Но гораздо важнее убрать многих из них. И вот этим мы сейчас занимаемся главным образом. Хороший разведчик перестраивается в неделю.
Штарке встал.
– Уходите, генерал, – сказал он ровно, без интонаций. – Мы не договорились.
Некоторое время гость молчал, потом пожал плечами, встал и принялся надевать макинтош.
– Старый идиот! – сказал он через плечо, не глядя на Штарке. – Замаливаете грехи? Он, видите ли, не желает убивать! А чем вы занимались всю жизнь? Бросьте ломаться! Одно ваше донесение отправляло на тот свет больше, чем полк бомбардировщиков. Ханжа!
Штарке молча вывел его через кухню в заднюю часть сада, превращенную в огород. Генерал ушел в темноту не прощаясь. Штарке вернулся в дом и по привычке закрыл двери на все замки и засовы.
– Гейнце? – тихо окликнула через комнату фрау Этель.
– Спи, спи, муттерхен, – громко ответил Штарке и прошел в кабинет.
– Ты взволнован? – спросила Этель.
– Ничуть! – храбро ответил Штарке. – Все идет как надо! – И повернул ключ в замке.
Уловив что-то в голосе мужа, фрау Этель вскочила с постели и подбежала к дверям кабинета.
– Ты опять уходишь, Гейнце? – испуганно сказала она. – Ведь ты обещал мне, что никогда больше…
– Не мешай мне, спи! – раздался резкий голос из-за дверей, и фрау Этель умолкла. Это был чужой голос чужого человека, которого она никогда не видела, к которому временами испытывала острую ненависть, как к врагу, загубившему ее жизнь.
Она лежала, укрывшись с головой одеялом, и, плача, трясясь от озноба, ждала, когда скрипнет половица перед входными дверями в кухне и звякнут замки.
Это будет означать, что чужой ушел из дома и что у нее опять есть занятие, поглощающее все ее мысли и чувства. Она будет ненавидеть того, чужого, и ждать Гейнце.
Может быть, случится чудо и Дева Мария, у которой давно распухла голова от всех людских горестей, сохранит и приведет его домой.
Замки звякнули через несколько часов, когда стало уже совсем светло.
Фрау Этель встала и пошла в кабинет.
В кабинете все было, как всегда после ухода Штарке на задания. Клубы сигарного дыма под потолком. Горсть пепла в камине. Тихо и очень пусто.
Но на этот раз на столе белела записка. Фрау Этель, задыхаясь от боли в груди, прочла:
«Этель, поцелуй Маргариту. Не жди меня на этот раз, продай дом и переезжай к девочке. Там тебе будет теплее доживать.
Все умирают, что ж с этим поделаешь. Ты хорошая женщина и была достойна лучшей участи, хотя мне ты помогла. Гейнце».
Выйдя из дома, Штарке долго бродил по улицам. Деревья, отяжелевшие от росы, фиолетовая дымка над асфальтом, розовое небо, деловитый стук башмаков первых прохожих на тротуарах, сонные коты, устало плетущиеся домой, зализывая свежие царапины, ссоры первых воробьиных стай, вылетевших на промысел, – улица жила своей обычной жизнью.
Штарке не оглядывался и не вслушивался. Проплутав некоторое время в переулках, он поднялся на чердак безобразного девятиэтажного дома, занимающего целый квартал, и постучался в дверь, обитую куском старого пледа. Комната была узкой, грязной и удивительно напоминала нору. Как в норе, в ней валялись на полу и на подоконнике, заменяющем стол, остатки пищи и обрывки книг и одежды. Чудовищно толстый человек, хрипя, выбрался из-под замасленной перины.
– Это вы, Крюгер? – спросил Штарке, вглядываясь в распухшее, почерневшее лицо, в котором не осталось ни единой определенной черты – все раздавили складки жира.
– Как видите! – задыхаясь, сказал Крюгер, сидя на краю постели и силясь удержать равновесие. – Что, хорош? А вы не меняетесь, Штарке! – с завистью продолжал он. – И я бы не изменился, если бы не астма! Она не дает мне двигаться! Садитесь, где хотите, всюду одинаково грязно и неудобно.
Штарке сбросил какое-то тряпье с табурета и сел около кровати. Энергия, затраченная на приветствие, вызвала у Крюгера приступ. Он принял две плоские, напоминающие пуговицы, таблетки. Прислонился к стене, потел и страдальчески мигал. Вскоре лекарство подействовало, и Штарке, уловив момент, когда глаза Крюгера прояснились, заговорил:
– Мы не ходим в гости друг к другу. Я не буду притворяться, что меня интересуют ваши дела, тем более что не вижу у вас ничего хорошего. Скажите, Крюгер, вы когда-нибудь слышали имя Горелл?
Щелочки, заменяющие Крюгеру глаза, сомкнулись. Некоторое время он молчал, потом тихо сказал:
– Штарке, вы знаете, мы живы, пока молчим…
– А зачем вам жить? – просто спросил Штарке, и кровать затрещала и заколыхалась. Крюгер смеялся, держась за сердце и охая от боли.
– Я вспомнил, что мне нравилось в вас тогда, тысячу лет назад, в молодости! – сказал он. – Вы всегда говорили прямо то, что думали. Вас интересует Горелл? В самом деле, зачем мне жить?
А потом Штарке сидел в высоком, полутемном и прохладном кабинете уполномоченного по особо важным делам.
– Сегодня ночью меня опять навестили, – говорил Штарке, раскуривая сигару. – Старый знакомый, и разговор шел о тех же предметах. Вот…
Он набросал карандашом на клочке бумаги пять имен.
– Берегите этих людей, – сказал он. – Вчера я отказался убить их, но завтра какой-нибудь подлец может согласиться.
Уполномоченный прочитал список и сжег клочок бумаги на спичке.
– У меня просьба к вам! – сказал Штарке. – Я прошу вас передать вот это органам советской госбезопасности… – И он протянул уполномоченному листок бумаги, на котором было написано несколько фраз мелким старческим почерком.
– Почему бы вам не сделать это самому? – спросил уполномоченный, пригибаясь к бумагам и откладывая листок Штарке в сторону.
– Я могу не успеть! – деловито сказал Штарке. – Господин уполномоченный, – продолжал он, – я хочу кое-что сказать вам на прощанье. Настало очень ответственное время. Мы часто говорим: «Надвигается новая война». Нет, то, что может случиться, если мы оплошаем, – не война. Уничтожение наций, бросок назад, к каменному веку. Надо защищаться вместе. Понимаете? Надо работать вместе, особенно нам! Надо во что бы то ни стало сломить в себе проклятое предубеждение перед дружбой между народами, которое в нас столько веков воспитывали… Смотрите, что получается. Даже вы, немец нового склада, гражданин демократической Германии, поморщились, когда я передал вам этот листок. Вот что страшно, господин уполномоченный!
– Господин Штарке, вы становитесь политиком, – усмехнулся уполномоченный. – Вас интересуют весьма сложные вопросы!
– Это случилось со мной в последние часы жизни… – сказал Штарке. – Ужасно драматически звучит, – заметил он, виновато улыбаясь, – но вы-то понимаете, что я говорю правду.
– Мы можем дать вам убежище!
– У меня есть семья, – тихо сказал Штарке. – Дочь недавно вышла замуж. Племянники. Всех не защитишь! Но не думайте обо мне, сейчас важно другое. Простые люди всего мира воевать не хотят, а спекулянтов человеческой кровью ничтожно мало по сравнению с ними, и потом у них гнилые души, они не выдержат настоящей борьбы. Страшны колебания в нас! Опасны наши ошибки. Устраните недоверие, неприязнь друг к другу, и мы победим…
– Вы говорите серьезные и правильные вещи, – тихо сказал уполномоченный, внимательно разглядывая Штарке. – Вы действительно начали кое-что понимать. Ваша просьба будет выполнена! – Он взял листок бумаги, исписанный почерком Штарке, сложил вчетверо и спрятал во внутренний карман пиджака. – Я обещаю вам сделать это в ближайшие полчаса.
– Очень хорошо, – облегченно вздохнул Штарке. – Потому что мой старый нюх подсказывает мне кое-что… Благодарю вас, господин уполномоченный…
И, пожав руку, протянутую ему через стол, Штарке круто повернулся и выбежал из кабинета.
Днем он поспал несколько часов в сквере. Ему ни о чем не хотелось думать. К вечеру устал и забрел в кафе. Он не чувствовал вкуса еды. Он выпил стаканчик коньяку, и ноги перестали дрожать. Он попробовал припомнить свою жизнь, вся она состояла из непрерывной цепи усилий, всегда превышающих обыкновенные человеческие способности.
«Да, здорово я старался… – с удивлением подумал Штарке. – Вот если бы знать раньше. Если бы я с самого начала жил ради того, чтобы сохранить этот веселый, светлый мир, в котором так много тепла и молодости! На что ушли мои годы?»
– Что-нибудь еще, господин? – нетерпеливо спросила официантка.
– Нет, благодарю вас… – устало сказал Штарке, расплатился и вышел.
Теплый прозрачный вечер, наполненный огнями, звуками и людьми, встретил его за дверями кафе.
Штарке остановился, раздумывая, куда бы ему пойти. Домой нельзя. За всю свою невыносимую жизнь Этель заслужила право легко пережить его смерть. Уходя, генерал ничего не сказал, но Штарке понимал, что в ближайшие часы его убьют. Если он скроется, он подвергнет опасности семью. Теперь надо как-то прожить эти несколько часов. Пойти к друзьям? Их у него никогда не было. Да и зачем тащить за собой к людям «хвост», который, вероятно, с утра волочится за ним? Он ни разу не проверил, следят ли за ним, потому что это теперь его не интересовало.
Покончить с собой? В самом деле, почему бы нет?
И вдруг Штарке понял, что не может покончить с собой.
Он отчетливо понял, что у него никогда не хватит храбрости это сделать. Последние обрывки романтических иллюзий слетели с сознания Гейнце Штарке. Какая там романтика! Что, разве так уж интересно было жить страшной жизнью получеловека-полуинструмента? Он боялся, что его убьют, оттого и выжимал из своего мозга и тела все, что мог. Единственные годы, когда он работал без страха, это были годы войны, потому что он работал для народа, для простых людей мира, но потом пришла болезнь, и все кончилось. А ведь он прожил такую долгую жизнь и так много…
– Одну минуту!
Штарке не успел закончить мысль. Его остановил невысокий, плотный человек, чем-то напоминающий боксера. На нем был новый костюм, покрытый сальными пятнами, левое плечо чуть приподнималось. За ним стоял еще один, худой и тонкий, очень молодой. «Слишком молодой для таких дел», – подумал Штарке, опознав в этих людях свою судьбу.
– Ну, давай здесь, пока близко нет людей! – сказал молодой. Лицо у него было синее от дешевой пудры, глаза, помутневшие от волнения, никак не могли взять в фокус лицо Штарке.
– Скорее! – повторил молодой.
– А может, это не он! – возразил тот, что постарше. – Слушай, тебя зовут Гейнце Штарке?
– Да, это я! – устало сказал Штарке, равнодушно глядя на оранжевый круг света вокруг фонаря.
– Тогда пойдем! – сказал тот, что постарше, и первым двинулся к развалинам, прикрытым щитом для афиш. – Он не будет пищать! – сказал он деловито молодому. – Он уже готов. По глазам видно.
Они вошли в тень, и Штарке с отчаянием подумал, что не может уцепиться за какую-либо мысль или чувство, чтоб продержаться на них эти несколько последних мгновений. В голову лезла всякая ерунда о том, на какие деньги живет сейчас Крюгер и что лето в этом году раннее и теплое.
– Скорее! – просительно сказал молодой.
Через несколько минут они вышли из развалин – молодой и тот, что постарше, и вступили в полосу света.
– Чего ты дергаешься? – сказал раздраженно старший. – Разве мы кончили старика? Люди постарше да поумнее нас решили, что он отжил! Ты откуда пришел к шефу?
– Я член организации юных защитников Германии… – борясь с ознобом, сказал молодой. – А ты?
– Ну, я – другое дело! – уклончиво сказал старший. – Я… – Он запнулся и выругался.
Они молча дошли до угла, и старший сказал:
– Я пойду доложу шефу, а ты свободен… юный защитник! – повторил он и сплюнул под ноги парню.
За углом был вход в ресторан, и они, едва разойдясь, сейчас же потерялись в толпе.
Поздно вечером Смирнов докладывал генералу.
Генерал был новым начальником, недавно назначенным в Комитет Госбезопасности. Смирнов никак не мог привыкнуть к его молодости и, докладывая, с интересом поглядывал на него. Тридцать пять лет, две золотые звезды, полученные в мирное время, лицо, тронутое загаром…
В свои пятьдесят лет Смирнов полностью ощущал тяжесть порученного ему труда. Вопреки ожиданиям эта тяжесть с годами возрастала. Прочитывая или выслушивая донесения, Смирнов уже невольно в первую очередь вдумывался не в самый факт, а мысленно прикидывал объем дела, прослеживал уязвимые места, и именно полнота опыта, сразу раскрывающая все трудности, мешала подчас рискнуть там, где требовался риск, побуждала медлить…
Вот почему его не назначили к повышению. На должность, которую он, казалось, имел все основания занять, прибыл веселый и вежливый молодой генерал.