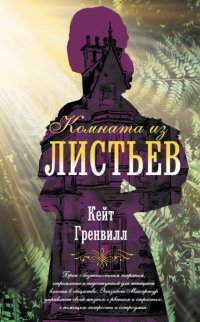Читать онлайн Лейтенант бесплатно
- Все книги автора: Кейт Гренвилл
Kate Grenville
The Lieutenant
© Kate Grenville, 2008
© Дарья Юрина, перевод на русский язык, 2024
© Livebook Publishing LTD, оформление. 2024
* * *
Посвящается Патьегаранг и народу кадигал, а также Уильяму Доузу. Их история стала вдохновением для этой книги.
Часть первая. Юный лейтенант
Дэниел Рук был молчалив, серьезен, скуп на слова. Сколько он себя помнил, всегда был белой вороной.
В дамской школе[1] в Портсмуте его сочли глупым. Начало учебы пришлось на его пятый день рождения, третье марта 1767 года. В новой курточке, с материной овсянкой в животе, он радостно шагнул в большой мир за порогом родного дома и сел за парту.
Миссис Бартоломью показала ему скверно выполненную гравюру со словом «кот». Мать давно помогла ему освоить алфавит, и он уже год как умел читать. Не понимая, чего добивается миссис Бартоломью, он просто сидел, открыв рот.
В тот день миссис Бартоломью впервые отшлепала его старой щеткой для волос за то, что онне ответил на вопрос – такой простой, что ему и в голову не пришло на него отвечать.
Таблицы умножения совсем его не занимали. Пока остальные хором зубрили их, мечтая, чтобы поскорее началась перемена, он тайком листал под партой тетрадь, куда записывал свои особенные числа – те, что не делились ни на одно другое число, кроме самих себя и единицы. Такие же одиночки, как и он сам.
Как-то раз миссис Бартоломью набросилась на него и выхватила тетрадь – он испугался, что она бросит ее в камин или снова ударит его щеткой для волос. Она долго ее листала, а потом положила в карман передника.
Он хотел попросить тетрадь назад. Не ради чисел – их он помнил наизусть, а потому что она была ему очень уж дорога.
Потом к ним домой, на Черч-стрит, пришел доктор Эдейр из академии. Рук понятия не имел, кто такой этот доктор Эдейр и что он забыл у них в гостиной. Знал только, что ради гостя его вымыли и причесали, соседку попросили присмотреть за его сестренками, а мать с отцом сидели с застывшими лицами на жестких стульях в углу.
Доктор Эдейр наклонился к нему. Мастер Рук знает, что есть числа, которые не делятся ни на одно другое число, кроме себя и единицы? Рук позабыл о робости. Он бегом ринулся наверх, в свою комнату в мансарде, и вернулся с таблицей, которую сам начертил. Десять на десять – первая сотня чисел, те, особенные, выделены красными чернилами: два, три, пять и так далее, до девяноста семи. Он показал: вот тут, видите? Их порядок не случаен. Вот только сотни мало, нужен лист побольше, чтобы уместилась таблица на двадцать, или даже тридцать столбцов, и тогда он поймет, в чем закономерность… А может, у доктора Эдейра найдется такой большой лист бумаги?
Улыбка на отцовском лице превратилась в гримасу, говорившую о том, что его сын обнаружил свою странность перед посторонним человеком, а мать сидела, потупив взгляд. Рук сложил таблицу на столе и прикрыл ладошкой.
Но доктор Эдейр убрал его пальцы с захватанной бумажки.
– Нельзя ли мне ее позаимствовать? – спросил он. – Если позволите, я бы хотел показать ее одному знакомому джентльмену, которому будет любопытно узнать, что ее начертил семилетний мальчик.
Когда доктор Эдейр ушел, вернулась соседка с сестренками. Смерив Рука взглядом, она громко, будто обращаясь к собаке или глухому, подметила:
– С виду и впрямь смышленый!
Жаркая волна румянца залила лицо Рука и докатилась до самых волос на затылке. Умен он или глуп, все одно: никогда ему не идти в ногу с этим миром.
* * *
Когда ему исполнилось восемь, доктор Эдейр предложил выхлопотать ему стипендию. Тогда это были просто слова: «место в Портсмутской военно-морской академии». Решив, что тамошняя жизнь вряд ли сильно отличается от ему привычной, мальчик охотно согласился и едва не забыл на прощанье помахать отцу у калитки.
Первую ночь в академии он провел, неподвижно лежа в темноте – даже плакать не мог от потрясения.
Другие мальчишки узнали, что его отец – конторщик и каждый день ходит на работу в приземистое каменное здание неподалеку от доков, где располагается Артиллерийское ведомство. В мире Черч-стрит Бенджамин Рук слыл человеком образованным и уважаемым – таким отцом можно гордиться. Но всего в паре кварталов оттуда, в Портсмутской военно-морской академии, это считалось позорным. «Конторщик! Подумать только!»
Один мальчик вытащил все содержимое его сундука – рубашки и исподнее, что с такой заботой шили мать и бабушка, – и вышвырнул их из окна третьего этажа прямо на залитый грязью двор. Пришел мужчина в развевающихся черных одеждах, больно схватил Рука за ухо и ударил тростью, стоило ему заикнуться, что он ничего не делал. Потом мальчик покрупнее посадил его на высокую ограду во дворе за кухнями и тыкал в него палкой, пока не заставил спрыгнуть.
От неудачного приземления все еще ныла лодыжка, но сердце щемило куда сильнее.
Угловатая мансарда на Черч-стрит – такая же странная, как и он сам, – обнимала его своими покатыми стенами. Холодная койка в унылой общей спальне академии высасывала из него душу, оставляя одну оболочку.
Субботними вечерами, возвращаясь из академии на Черч-стрит, чтобы провести воскресенье дома, он будто попадал в другой мир, а после всякий раз долго приходил в себя. Мать с отцом так гордились, им так отрадно было, что их одаренный сын удостоился особой чести, что он не решался рассказать, каково ему на самом деле. Бабушка поняла бы, но даже ей он не мог толком объяснить, как вышло, что он себя потерял.
Когда наставала пора возвращаться, маленькая Энн с плачем хватала его ладонь своими детскими ручками и висла на нем, умоляя остаться. Ей не исполнилось еще и пяти лет, но каким-то образом она понимала, что, будь его воля, он так и стоял бы у дверей, как пригвожденный. Отец поторапливал его, по одному отдирая пальчики Энн от его руки, и радостно махал вслед, так что Руку ничего не оставалось, кроме как натянуть на лицо улыбку и помахать в ответ. Идя по улице, он еще долго слышал рыдания Энн и увещевания бабушки, пытавшейся ее успокоить.
В академии обучалось немало великих людей, но там не нашлось никого, кто увлекался бы числами, которые, как он узнал, звались простыми. Никто не выказывал особого любопытства ни к его тетрадке, в которой он пытался извлечь квадратный корень из двух, ни к тому, каких неожиданных результатов можно достичь, если поиграть с числом пи.
В конце концов, Рук понял, что умнее всего держать такие мысли при себе. Они стали чем-то постыдным – его тайной отдушиной, которой не пристало ни с кем делиться.
Одну задачу ему никак не удавалось решить – научиться поддерживать разговор. Услышав замечание, которое, как ему казалось, не требовало ответа, он молчал. И, не успев освоить нужный навык, он, сам того не зная, оттолкнул нескольких возможных товарищей. А потом было уже поздно.
Бывало, он, напротив, говорил слишком много. В ответ на замечание о погоде он мог начать увлеченно разглагольствовать о распределении атмосферных осадков в Портсмуте. Рассказать, что уже давно ведет наблюдения, что у него на подоконнике стоит банка, на которой он нарисовал шкалу, и по воскресеньям, отправляясь домой, он, разумеется, берет ее с собой, вот только тамошний подоконник больше открыт для господствующих юго-западных ветров, чем который в академии, так что и дождевых осадков туда попадает больше. Тем временем его собеседник, отметивший, какая славная стоит погода, уже старался потихоньку удалиться.
Он всей душой хотел бы слыть обычным славным малым, но не умел притворяться никем, кроме себя самого.
Со временем он возненавидел горделивый купол академии с кичливым позолоченным шаром на верхушке, белую каменную кладку на углах кирпичного фасада. Слишком узкий портик над главным входом шел вразрез с величественными колоннами и миниатюрным фронтоном, а дверь посередине казалась крошечной, словно близко посаженные глаза на человеческом лице.
Всякий раз, когда, проведя воскресенье дома, Рук неохотно брел к зданию академии, все еще чувствуя прикосновение рук Энн, не желавшей его отпускать, он бросал взгляд на окна второго этажа, где располагались комнаты учеников из богатых семей. Занавески на крайнем окне слева отдернуты – значит Ланселот Персиваль Джеймс, сын графа Бедвика, уже вернулся. Этой пухлый, пышущий здоровьем, недалекий мальчик полагал, что ему не пристало водиться с однокашником, чей отец – обыкновенный конторщик, а дома и слуг-то настоящих нет – на все про все одна горничная. Даже мальчишкам, лебезившим перед Ланселотом Персивалем, порядком надоело слушать, что у него есть и дворецкий, и повар, а еще много служанок и лакеев, не говоря уже о всяких конюхах и садовниках, обслуживавших семейное поместье, и егере, который охранял графских фазанов от всякого, кто был бы не прочь ими подкрепиться.
Ланселот Персиваль вечно подстерегал Рука, норовя мимоходом дать ему тычка или облить чернилами его любимую льняную рубашку. Остальные мальчишки безразлично наблюдали со стороны, словно это в порядке вещей – все равно что муху прихлопнуть.
Прославленный род Ланселота Персиваля Джеймса разбогател за счет торговли сахаром, а точнее – за счет островов Ямайка и Антигуа, а еще точнее – за счет чернокожих рабов с этих островов. Почему квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, Ланселот Персиваль взять в толк был неспособен, зато научился красноречиво рассуждать о том, почему Британская империя в целом и его собственный прославленный род в частности падут, если упразднить рабство.
Эта мысль озадачивала Рука не меньше простых чисел. Чернокожих он никогда не видел, поэтому имел обо всем этом лишь отвлеченное представление, но чувствовал: в доводах Ланселота что-то не вяжется. И все же, как он ни старался, найти им опровержения не мог.
Как бы то ни было, он решил держаться от Ланселота Персиваля подальше.
При случае он спускался на галечный берег, к самой кромке воды, где на входе в бухту возвышалась Круглая башня. Туда, к основанию ее старинной каменной кладки, никто никогда не ходил. Это место, такое же нелюдимое, как и он сам, стало ему своего рода другом.
В стене башни имелось потайное отверстие, где он хранил свою коллекцию камешков. Вполне обыкновенные, они были ценны лишь тем, что каждый отличался от других. Он шептал себе под нос, разглядывая их и подмечая их особенности: «Смотри-ка, этот весь в крапинку! А вот этот – правда похож на поверхность Луны?»
Он сам себе стал вопросом и ответом.
Во время учебы в академии единственное утешение он находил на страницах книг. Евклид виделся ему старым другом. «Две величины, порознь равные третьей, равны между собой». «Целое больше части». В обществе Евклида ему казалось, будто он всю свою жизнь говорил на иностранном языке и только теперь наконец услышал его из уст другого человека.
Он подолгу корпел над «Грамматикой латинского языка» Уильяма Лили[2] – ему нравилось, что обманчивые тайны языка можно свести к отдельным единицам, столь же надежным и взаимозаменяемым, как числа. «Dico, dicis, dicet». Датив, генитив, аблатив. Со временем он привык считать греческий и латынь, французский и немецкий не столько способами изъясняться, сколько механизмами мышления.
Но главное – благодаря полученным в академии знаниям по астрономии и навигации преобразились небеса. Для Рука стало откровением, что звезды – это не просто загадочные светящиеся точки, а часть некой общности – столь огромной, что при мысли о ней кружилась голова. Ощущение походило на косоглазие – он стоял на земле и вместе с тем смотрел на нее со стороны. С этой точки обзора не было видно ни комнат, ни полей, ни улиц, а только шарообразный сгусток материи, мчащийся сквозь просторы Вселенной по орбите, о точной форме которой догадался немец по фамилии Кеплер, чье предположение позже подтвердил англичанин по фамилии Ньютон – его-то именем и назвали мост в Кембридже.
Рук часами предавался напрасным грезам о том, как беседовал бы с Евклидом и Кеплером, будь они живы. В мире, что они описывали, царил порядок, и всему имелось свое место. Может, даже мальчику, которому, казалось, нигде места не было.
Когда капеллан узнал, что у Рука превосходный слух, тот увидел в этом очередное проклятье.
– До-диез! – выкликнул он, и Рук, прислушавшись к себе, взял ноту. Капеллан застучал по клавише рояля.
– А теперь си-бемоль, Рук, дашь мне си-бемоль?
Рук прислушался, спел, и капеллан, развернувшись на табурете, обернулся к нему – он так раскраснелся, что Рук на мгновенье опешил, решив, что он сейчас его расцелует. У него за спиной на хорах захихикали одноклассники, и Рук понял: он за это еще поплатится.
Но как только он достаточно вытянулся, капеллан стал учить его игре на часовенном органе. На месте глухой стены открылась дверь в новый мир.
Руку нравилась логичность нотного письма, то, что его базовую единицу – целую ноту – можно дробить на все более мелкие доли. Даже самая коротенькая половинка от четверти восьмушки была частью той целой – неслышной, но лежащей в основе каждой ноты и придававшей смысл ее звучанию.
Нравился ему и сам инструмент. Орган представлял собой не что иное, как несколько десятков труб, пропускающих воздух. Каждая из них издавала всего один звук, и никакой другой: одна труба – одна нота. Каждая занимала свое место в общем ряду и, открыв металлический рот, ждала, готовая выдохнуть. Рук, сидя за клавиатурой в двадцати ярдах, на другом конце капеллы, брал аккорд и слушал, как каждая труба пропевает свою ноту. Он едва не заливался слезами благодарности за то, что мир способен явить такое великолепие звука.
Он часами сидел в капелле и разучивал фуги. Всего дюжина нот – вряд ли это можно назвать музыкой. Но потом они начинали беседовать – задавали тему и отвечали – путем повторения, увеличения или уменьшения длительностей, а иногда мелодия и вовсе поворачивала вспять, точно ретроградный Марс. Рук весь обращался в слух, будто слышал кончиками пальцев, подобно слепцу чувствуя едва заметные различия текстур. Спустя пару-тройку нотных листов все голоса сплетались воедино, образуя творение столь грандиозное, что стены капеллы едва выдерживали его мощь.
Другие, уставая часами напролет слушать Букстехуде и Баха, жаловались на отсутствие мелодии. Но Руку фуги именно тем и нравились, что их нельзя было пропеть. Фуга не сводилась к одной единственной мелодии, а заключала в себе множество голосов. Как разговор.
Он прослушал сотни проповедей, сидя за органом, спиной к занятым церковным скамьям. Как и все, он причащался хлебом и отпивал вино из потира. Но Бог греха и возмездия, страстей и воскрешения не говорил с ним. Ничего против Бога он не имел, но нашел Его отнюдь не в словах и обрядах.
Он узрел Его в ночном небе задолго до того, как понял его законы. Ему всегда виделось нечто чудесное и утешительное в том, как слаженно, точно единое целое, двигались звезды.
Долгими зимними вечерами Рук выскальзывал на улицу, шел мимо кухонь во двор и обращал взгляд наверх. Созвездия в холодном небе, казалось, сияли совсем близко. Он находил умиротворение в том, что среди них всегда можно было отыскать Возничего и Малую Медведицу, вместе описывавших круг по небосводу. Каждой отдельной искорке не приходилось в одиночку искать свой путь в потемках: все они двигались сообща, удерживаемые на своем месте чьей-то всесильной рукой.
В детстве он думал, что круглая, как тарелка, луна порой становится совсем тоненькой за счет какого-то хитроумного фокуса. Узнав истинную причину, он испытал благоговение. В том была закономерность, просто он не понимал ее масштабов. Чтобы ее заметить, недели мало – нужен месяц.
Он надеялся, что вот так, изменив масштаб, можно понять все на свете. Будь у него не одна неделя, и не год, и даже не целая жизнь, а тысячелетия, эоны, он бы увидел, что все беспорядочные на первый взгляд перемещения небесных тел и перипетии земной жизни наделены смыслом. Пусть некоторые уровни мироустройства лежат за гранью человеческого познания. Это не мешает верить, что где-то под спудом хаотичной жизни отдельного человека звучит вселенская целая нота.
Подобно капеллану с его Евангелием, Рук нашел для себя собственный сакральный текст, в котором ему явил себя Господь: математику. Раз человеку дан разум, способный мыслить числами, значит, не случайно мир поддается познанию посредством этого инструмента. Понять какую-то из сторон мироздания было все равно, что взглянуть в лицо Богу – пусть не прямо, пусть путем своего рода триангуляции; но ведь мыслить математически – значит чувствовать волю Божью внутри себя.
Рук видел, что другие находят отдушину в своем представлении о Боге как о суровом, но добром отце или брате, который делит с ними тяжкую ношу. Ему же, напротив, отрадой служила уверенность в том, что жизнь отдельного человека не имеет значения. Он, кем бы ни был, – часть единого целого, пустяковая нота в великой фуге бытия.
Продиктованная этим нравственность выходила за рамки нескольких немногословных предписаний из книги капеллана. Она требовала чтить единство всего сущего. Навредить одному – значит навредить всем.
Рук мечтал, как покинет это место – не только академию, но и закрытый от остального мира, жавшийся к бухте Портсмут с его узкими улочками, где все слишком хорошо знали его, старшего сына Бенджамина Рука, – хорошего, но слегка чудаковатого паренька.
Не имея никаких доказательств, он все же упрямо верил, что однажды на свете найдется место для такого человека, как он.
* * *
В 1775 году Руку исполнилось тринадцать, и доктор Эдейр отвез своего талантливого ученика в Гринвич, чтобы познакомить с королевским астрономом.
Так далеко от дома Рук еще не бывал. Всю дорогу он глазел из окна экипажа – все ему было в диковинку, будто он оказался в самом сердце Африки. Каждая грязная деревушка – внове, каждый вылупивший глаза фермер – чужеземец. К концу дня он опьянел от новых впечатлений.
Доктор Викери оказался мужчиной средних лет с тяжелой челюстью и сонным, ускользающим взглядом. Рук узнал в этом себя: ему тоже нелегко было смотреть людям в глаза.
Потрясенный тем, что он оказался в той самой шестиугольной комнате с высокими окнами, где Галлей некогда рассчитал траекторию движения своей кометы, Рук не смог как полагается ответить на приветствие королевского астронома. Но доктора Викери неловкость мальчика ничуть не смутила. Он подвел Рука к стене, где висела огромная латунная четверть круга, по краю которой бежала шкала с делениями такими же тонкими, как орнамент на золотых часах доктора Викери.
– Мастер Рук, я уверен, вам будет любопытно взглянуть на этот квадрант. Восемь футов в радиусе. Видите маркировку на дуговидных пластинах? Изготовлено лондонским механиком Джоном Бердом с помощью метода половинного деления.
Он бросил взгляд на мальчика, который знал о квадрантах только из книг и понятия не имел, что такое «метод половинного деления».
– Простите мою напористость, мастер Рук. Знаете, бывают дни, когда я с нетерпением жду наступления ночи, что не свойственно большинству представителей рода человеческого. Дошло до того, что моя жена сказала, будто я уподобляюсь летучей мыши!
Рук понял: доктор шутит. Пытается его приободрить. Однако у него мелькнула мысль, что миссис Викери подметила в муже и внешнее сходство с этими крылатыми созданиями.
Рук провел в Гринвиче две недели и впервые в жизни почувствовал, что оказался на своем месте.
Доктор Викери открыл ему секреты квадранта и телескопа Доллонда[3], разрешил подвести часы работы мистера Гаррисона[4] с их латунными крыльями, которые раз за разом складывались и вновь раскрывались, толкая вперед изящные зубчатые шестеренки. Он показал Руку, как ходят шахматные фигуры, продемонстрировал грозную силу беззащитной с виду пешки и предложил решить задачу о ходе коня, желая посмотреть, как мальчик с ней разберется.
В библиотеке обсерватории Рук не мог усидеть на месте. Стоило ему взять в руки одну книгу, как на глаза попадалась другая, а за ней еще и еще. В академии с ним учился мальчик, столь же охочий до булочек – не успев дожевать первую, уже хватал вторую и тянулся за третьей.
По совету доктора Викери он попробовал разобраться в работе Эйлера[5] о движении комет. Прочел рассуждения Кеплера о том, как каждая новая ошибка позволяла ему выявить предыдущую, что в итоге помогло доискаться до истины о форме орбит. Залпом проглотил дневник капитана Кука и хотел было взяться за повествование мистера Бэнкса[6] о Новом Южном Уэльсе, но успел лишь пробежать глазами оглавление: «Четвероногие. Муравьи и их жилища. Скудость населения. Рыболовные орудия. Каноэ. Язык».
Прощаясь, доктор Викери крепко пожал мальчику руку и похлопал его по плечу – оба улыбались, отводя глаза. Потом он подарил Руку экземпляр своего «Морского астрономического альманаха» за 1775 год. На титульном листе значилось: «Мастеру Дэниелу Руку – астроному, подающему большие надежды».
Два года спустя, накануне своего пятнадцатого дня рождения, Рук окончил учебу. Он написал доктору Викери, намекая, что был бы не прочь получить место в Королевской обсерватории – или в любой другой, лишь бы там он мог и дальше в уединении заниматься вычислениями и наблюдать за небом.
Доктору Викери пришлось объяснить ему, что миру не нужно столько астрономов. Даже он не мог выхлопотать юному Руку такую должность. По крайней мере, пока кто-нибудь другой не уйдет на тот свет.
Он выразился не так прямолинейно, но Рук все понял. Придется попытать счастья где-то еще. Мальчика с его положением в обществе лучшее будущее явно ждало не в паре километров от дома, как бы споро он ни схватывал идеи Евклида и каким бы идеальным слухом ни обладал.
Он бы пошел во флот, но взнос оказался ему не по карману. Портсмутская дивизия Королевской морской пехоты – вот куда ему дорога: он станет «морским солдатом». Быстрого продвижения по службе ждать не приходилось, зато взносы там были меньше.
Рук знал: сейчас самое время. Из-за войны с американскими колониями королю без конца требовались новобранцы – тут сгодится и привыкший к учебе мальчишка без малейших задатков военного. Все ждали, что американцы сдадутся со дня на день. Ходили слухи, что повстанцы сражаются босиком, а вместо ружей у них палки.
Рук показал Энн и Бэсси, куда ему предстояло отправиться. Сестренки мягкими бледными ручками крутили глобус из бумаги и проволоки, который он сам бережно вырезал и склеил. За этим занятием он скоротал тяжелые прощальные дни перед отплытием. То было время странной неопределенности, надежды вперемешку с беспокойством, когда жизнь, обещанная службой в морской пехоте Его Величества, еще не началась, а прежняя уже закончилась.
– Широта примерно та же, – показал он. – Вот Бостон, видите? Но долгота, конечно, совсем другая.
Бесси, еще слишком маленькая, даже не притворялась, что понимает, да и склад ума у нее был иной. А вот одиннадцатилетняя Энн пыталась вникнуть.
– Значит, часы будут показывать другое время? Пока мы ужинаем, ты будешь завтракать. Если бы ты умел перемещаться достаточно быстро, то смог бы дважды позавтракать и дважды поужинать!
Он обхватил ее одной рукой за плечи и приобнял. Он будет скучать по своей умной сестренке. Только с ней ему никогда не приходилось притворяться кем-то другим.
* * *
Ему выдали обмундирование: белые бриджи, красный мундир с окантовкой и отличительными латунными пуговицами. Вручили мушкет и научили его заряжать, загонять в ствол свинцовую пулю, прибивать шомполом пыж, засыпать затравочный порох на полку, чтобы поджечь заряд.
Гладкие металлические детали этого хитроумного устройства подчинялись восхитительной логике. Нажатие на спусковой крючок приводило в действие кремневый замок, кремень, ударяясь о кресало, высекал искру, та в свою очередь воспламеняла порох на полке, а вслед за ним вспыхивал основной заряд, выталкивавший пулю из ствола. Эта последовательность нравилась Руку не меньше секстана с его прорезями и зеркалами, позволявшими определить положение солнца на небе.
В должный срок Рук получил звание младшего лейтенанта, и его определили на королевский линейный корабль «Решимость». Сидя в тендере[7] и глядя на приближающееся судно, он думал о том, что уж теперь-то начнет все с чистого листа. Здесь никто не знал его – Дэниела Рука, умного до глупости. Вместе с новым красным мундиром и мушкетом, свисавшим на лямке с его плеча, он примерил на себя новое «я».
Волею судеб его сосед по кубрику «Решимости» оказался полной противоположностью его самого.
Тальбот Силк был невысок и подвижен, и хотя узкое лицо и на редкость тонкие губы не позволяли назвать его красивым, их совершенно преображала необычайная живость, подкупавшая любого.
– Ну что, – обратился он к Руку в день знакомства, после того как квартирмейстер выделил им гамаки и оставил заниматься своими делами. – Прошу, будь другом – сразу скажи: ты храпишь? Если храпишь, придется с этим что-то делать.
– Нет, что вы, – запнулся Рук. – То есть… не знаю, откуда мне знать? Я ведь… Пожалуй, вам придется сказать мне, храплю я или нет.
Силк искоса взглянул на него – он уже составил мнение о своем соседе и все ему простил.
– Ей-богу, Рук, я уверен: мы отлично поладим! Я сегодня нарочно не лягу спать, а утром все тебе расскажу. А теперь идем, я тут узнал, что сегодня клецок на всех не хватит, так что надо быть расторопнее, верно говорю?
Силк ни у кого не вызывал неприязни – он был приветлив, весел и раскован, всегда оказывался в нужном месте и знал, что сказать. Злопыхатели из числа сослуживцев пустили слух, что его отец – учитель танцев. В разговоре Силк и впрямь был «легок на ногу». Умел развеселить остальных забавным изгибом брови или нарочито сухим тоном, а истории рассказывал так, что даже самое обыденное событие в его устах становилось занятным.
Обаяние уже помогло Силку многого добиться: будучи старше Рука всего на два года, он уже успел получить звание старшего лейтенанта и держал на примете следующую цель. Война была для него лишь средством на пути к тому, чтобы стать капитаном Силком.
Найдя в нем пример для подражания, Рук стал работать над той версией себя, что сгодилась бы для грубой товарищеской атмосферы офицерской столовой. Научился обмениваться дежурными фразами. Набрался духу смотреть людям в глаза. Наблюдая, как офицеры играют в наперстки за общим столом, он понял, что для победы нужно попросту пропускать мимо ушей отвлекающую болтовню, и хотел было попробовать, но постеснялся.
Новый Дэниел Рук не во всем отличался от прежнего. Он был так же молчалив, предпочитал держаться в тени, а однажды вечером забылся настолько, что заключил пари, поспорив, что сможет в уме помножить 759 на 453. В академии он стал бы предметом насмешек, но на борту «Решимости» это умение сочли не иначе как весьма незаурядным.
Рук рассудил, что в их корабельном мирке выгодно знаться с обладателем подобного таланта. Подружившись с таким умником, можно было заодно с ним упиваться всеобщим вниманием к его дарованию.
За ужином в офицерской столовой Рук вместе с другими смеялся, слушая рассказ Силка о том, что вырвалось из уст боцмана, когда тот уронил себе на ногу такелажный блок. Мог оценить шутку на пару с соседом по столу – обычный лейтенант, который не прочь повеселиться. После ужина он поднимал бокал и хором с остальными произносил любимый тост младших офицеров, исполненных надежд на скорое продвижение по службе: «За жестокие войны и мор!»
* * *
«Решимость» патрулировала подходы к Бостонской бухте и бороздила Атлантику, доставляя продовольствие колониальным войскам Его Величества, но за первый год, что Рук провел на борту, судно ни разу не участвовало в сражениях. Война не требовала особых усилий, хотя юноша, умевший определять положение судна по методу лунных расстояний и хранивший экземпляр «Морского альманаха» с личной подписью королевского астронома, мог пригодиться на шканцах[8].
Руку следовало бы сразу догадаться, что корабль по своей сути – плавучая обсерватория, но это открытие стало неожиданным подарком. Будучи если не астрономом, то по крайней мере штурманом, он целыми днями возился с секстаном, а потом при мягком свете большой лампы в кают-компании высчитывал долготу и широту. Казалось, на борту «Решимости» его талантам нашлось-таки применение.
Когда корабль подошел к берегам одного из Северных Подветренных островов под названием Антигуа, Силк кое-что задумал. Он прознал, что в самом конце некой улочки на холме, за Английской гаванью, есть дом, где будут рады компании молодых и горячих британских офицеров.
– Рук, ты идешь с нами! – настоял Силк. – Если угодно, представь, что это часть твоего обучения – причем не менее важная, чем тригонометрия или греческий!
Рука не пришлось долго уговаривать. Он обрадовался возможности совершить открытия, о которых догадывался по формам сестер и их подруг, но познать которые, как он понимал, можно лишь на собственном опыте.
Они сошли на берег, и Силк так уверенно повел за собой вереницу младших офицеров, будто уже сотню раз бывал в Английской гавани и предавался местным радостям. Миновав причал, он свернул налево у дома, на белых стенах которого алыми брызгами пестрела герань, и направился к самому сердцу города.
Повсюду Руку на глаза попадались черные лица рабов, о которых когда-то рассуждал Ланселот Персиваль. В одном грязном дворе женщины, склонившись над лоханями, стирали белье, перекрикиваясь поверх плеска воды. Он остановился, чтобы послушать их язык, совсем не похожий на знакомые ему – ни на латынь, ни на греческий, ни на французский, ни один из тех языков, что он изучал в академии. Смысл этих звуков был ему немногим понятнее, чем младенцу. Он шагнул было ближе, чтобы расслышать получше, но тут его окликнул Силк: «Ну же, мистер Рук, идемте! Мы сюда не белье стирать пришли!»
По пути им попадались запряженные рабами повозки, на которых в гарнизон доставляли воду и дрова. На окраине города они увидели чернокожих мужчин и женщин, на головах у которых в такт шагам покачивались огромные охапки сахарного тростника и полные корзины ананасов. Другие горбились на полях, обрабатывая квадратные участки земли, засаженные тростником – их кожа лоснилась от пота.
Рук заметил, что рабы избегают встречаться с ним взглядом, даже идя навстречу по узкому переулку. Видимо, так их приучили: никогда не смотреть в лицо белому человеку. Их собственные черты – экзотические, выразительные – казались вырезанными из более прочного материала, нежели белые, как известь, лица англичан.
Но разглядывать их слишком уж пристально он стеснялся.
Собственными глазами увидев систему, позволявшую купить человека и сделать его своей собственностью, будто лошадь или золотые часы, Рук понял, насколько неубедительно звучали абстрактные рассуждения Ланселота Персиваля о крахе Британской империи. Рабы казались до крайности странными, их жизнь – совершенно невообразимой, но они ходили и разговаривали точно так же, как и он сам. Услышанная им речь строилась из звуков, смысла которых он не понимал, но то был язык, способный связать между собой двух людей, как и его собственный.
Он все еще не знал, что противопоставить доводам Ланселота Персиваля о крахе Британской империи, но теперь, увидев рабов собственными глазами, одно он понял точно: их нельзя равнять с лошадьми и золотыми часами.
Силк шагал вперед по узкому переулку, поднимавшемуся по склону холма за портом к скопищу неприглядных жилищ, где кудахтали куры и хромые собаки лаяли на офицеров в красных мундирах. В конце крайнего мощеного переулка Силк, не колеблясь, постучал в нужную дверь.
Женщина, доставшаяся Руку, – крупная, статная, с загорелой кожей и алыми губами – смотрела, как он сконфуженно стаскивает штаны. Он навсегда запомнил, с какой веселой хитрецой во взгляде она воскликнула: «Бог мой, парень, да у тебя хозяйство, как у коня!»
Исчисления Ньютона, определение долготы методом лунных расстояний, а теперь еще и это – негласное подтверждение, что хоть чем-то природа его одарила.
Жизнь на службе у Его Величества день за днем шла по накатанной, и он не видел причин думать, что когда-нибудь всему придет конец. Служба задавала тон его бытию, позволяла ему возиться с числами и латунными приборами и к тому же окружала товарищами, лучше которых ему вряд ли суждено было отыскать. Вспоминая мальчишку, который когда-то пересчитывал камешки на берегу у подножия Круглой башни, он чувствовал, что, вопреки всем своим ожиданиям, нашел-таки место в жизни.
* * *
Как и все, он принял присягу. Ничего сложного: поднимаешь правую руку и клянешься служить и повиноваться. Просто слова, не более.
Но за долгие часы, проведенные одним жарким летним днем на крепостном валу Английской гавани, он узнал, куда эти выспренние слова могут привести. Какие-то офицеры с «Ренегата» не сдержали обещание служить и повиноваться. Приказа они не нарушали – до мятежа дело не дошло. Они ограничились разговорами. Но Руку предстояло убедиться, что от обычных слов порой зависит, кому жить, а кому умирать. Зачинщика мятежа – такого же лейтенанта морской пехоты, как и он сам, – было решено повесить. Тот открыл было рот, будто хотел что-то сказать, но тут ему на голову надели мешок. Все собравшиеся затаили дыхание. Потом раздался вопль, пол ушел у него из-под ног – и вот тело уже дергается в петле. Он опростался, и вокруг разнесся запах дерьма. Рук слышал, как рядом зашевелились сослуживцы: не он один его унюхал.
Рук всем своим существом желал, чтобы эта предсмертная агония скорее прекратилась. Он не мог отвести взгляд, чувствуя, что должен быть частью происходящего. Стоит ему отвернуться, и бедолага так вечно и будет дергаться в петле. Приговоренному почти удалось высвободить из веревки одну руку, и пока его тело судорожно изгибалось, Рук все смотрел, как он сжимает и разжимает кулак.
Когда от лейтенанта остался лишь мешок с костями в человеческой одежде, а голова его безвольно повисла, присутствующие разом испустили глубокий вздох. Рук попытался перевести дыхание, но по его телу вдруг пробежала дрожь, и из груди вырвался стон.
Другие двое – тоже лейтенанты – никого не подстрекали: они лишь поддержали зачинщика, и это спасло их от виселицы. Съежившись, они стояли перед своим командиром. Тот обнажил шпагу и срезал сперва их знаки отличия, а потом, одну за другой, латунные пуговицы, говорившие о принадлежности к полку. Он не церемонился, и в итоге от их истерзанных мундиров осталось лишь жалкое подобие – лоскуты ткани да оторванная окантовка.
Потом их выпроводили за ворота. В безжалостном свете солнца головы изгнанников, прилюдно остриженные цирюльником, казались неестественно крохотными. Волосы, само собой, отрастут, а сами они продолжат, как и прежде, ходить по земле, есть и пить – ведь они живы. Но с равным успехом могли бы и умереть. Отныне им нет места в этом мире. Никто не захочет связываться с тем, кого с позором изгнали – ни лично, ни по делу.
Все офицеры гарнизона стояли по стойке «смирно», взяв на плечо мушкеты, и наблюдали. Выбора у них не было, ведь в этом и заключался весь смысл. Каждый, кто, обливаясь потом, ждал, когда же наконец закончится это нестерпимое зрелище, никогда уже не забудет, что бывает с теми, кто нарушил клятву служить и повиноваться.
Рук знал: уж он точно не забудет. В тот день, попранные, его чувства омертвели, и он увидел, что под безобидной личиной жизни на службе у Его Величества, под покровом церемоний, мундиров и расшаркиваний, таится нечто ужасное.
Он надеялся найти пристанище, где смог бы устроить свою жизнь. Но в тот нескончаемый знойный день ему пришлось осознать: за все придется платить. Его Величеству ни к чему мысли, чувства и желания отдельного человека, не говоря уже о неповиновении, к которому они могут подтолкнуть. Склониться перед волей короля значило отринуть людское в себе. Стать частью могучей имперской машины. Отказ грозил иной потерей человеческого облика: либо станешь мешком с костями, либо ходячим мертвецом.
Он-то думал, что нашел в рядах морской пехоты все, что искал. Но теперь ему снился тот хватающийся за воздух кулак, рассказавший ему о вещах, которых он предпочел бы не знать.
* * *
Ближе к концу 1781 года французский флот пришел на помощь повстанцам и преградил подступы к Чесапикскому заливу. Рук вместе с остальными занял свое место на верхней палубе «Решимости». Морское сражение, первый в его жизни боевой опыт – казалось, главное тут правильно рассчитать расстояние, траекторию, соотнести скорость и направление. Весь день они лавировали, выстраивались в кильватер, занимая позицию для боя с французами, и вот наконец подошли достаточно близко. Морпехи стояли, изготовившись, вдоль борта, за свернутыми гамаками.
Страх на всех сказывался по-разному. Рук положился на старых друзей: простые числа. Семьдесят девять, восемьдесят три, восемьдесят девять, девяносто семь, сто один. Рядом Силк проверял, достаточно ли туго затянут курковый винт его мушкета. Открутил его, перевернул кремень, закрутил обратно. Взвел курок, чтобы удостовериться.
– Бакли в марте ходил с Арбатнотом[9] – говорит, французы с «Победы» умудрились запустить каленым ядром прямиком в капитанскую каюту «Неустрашимого», представляешь? Так и каталось бы там, поджигая все вокруг, если бы не бравый старший лейтенант – Вудфорд, знаешь такого? Хвать ядро в рупор и за борт!
Силк в очередной раз вытащил кремень из замка, подул на него, повертел в пальцах, снова закрутил. Он так тараторил, что в уголке рта скопилась слюна. Рук кивал и делал вид, что слушает. Простая услуга, которую один человек мог оказать другому.
Впереди на французском корабле взвился первый столб черного дыма, из пушек вырвалось пламя, «Решимость» затряслась и громыхнула ответным залпом.
Выстрел, заряд, пыж, затравка, снова выстрел – привычный порядок действий, отработанный многократным повторением. В теории все происходило четко и аккуратно: стреляешь, потом спокойно встаешь на одно колено и перезаряжаешь мушкет. Происходящее на борту «Решимости» не шло с этим ни в какое сравнение.
Позднее Рук понял: этого следовало ожидать – что на палубе воцарится неразбериха, что повсюду будут дым и крики, ведь – хоть их к этому и не готовили – стреляли не только они, в них стреляли тоже.
Он услышал за спиной странный звук – то ли хрип, то ли стон, – но оборачиваться не стал, так его учили: «Держать строй!» С бака слышались чьи-то крики – резкие, высокие, прерывистые.
Рук слепо выполнял предписанные действия: заряд, пыж, затравка. Шагнул к борту, выстрелил, целясь в клуб дыма на той стороне, отошел назад, пригнулся, нащупал мешочек с картечью. Он не позволял себе слышать те крики. Он повиновался законам военной службы, а мушкет в его руке – законам собственного устройства: кремень бил по кресалу, вспыхивала искра, в пламени и дыму из ствола вылетала пуля.
Поверх грохота мушкетов и низкого рева пушек у Рука над головой раздался продолжительный треск, и где-то наверху мелькнул конец оборванного троса. Он пригнулся – хотел увернуться, но трос угодил ему по уху, и, уже падая, он увидел, как сверху комом рухнул парус и сбил с ног двух солдат слева. Не успел Рук подняться, как яростный толчок с оглушительным грохотом отбросил его в сторону. Он прогремел так близко, что не осталось ничего кроме него, этого слепящего вихря, всосавшего в себя весь мир. «Вот она, смерть, – подумал Рук. – Так она звучит».
Но он не умер, понял, что снова стоит на ногах. Огляделся, ища глазами Силка, и в его опустевшем разуме пятном отпечаталась сцена: неподалеку лежит рядовой Труби – нижняя половина его тела превратилась в блестящее красное месиво, оно жемчужно переливается, лоснится чем-то темным, бурлит и парит, а Труби пытается встать, отталкиваясь руками от палубы, и смотрит вниз, не понимая, почему подняться никак не получается, как бы он ни старался, словно и не осознает, что от его тела не осталось ничего, кроме ошметков собственной плоти и приклеившихся к палубе внутренностей.
Силк тоже смотрел на Труби, и лицо его было безмятежно, как у человека, погруженного в сон. У него был в клочья разорван рукав, кровь стекала по руке и капала с пальцев. А между ним и Руком рядовой Труби все так же упорно толкался руками от палубы с ужасной, растерянной улыбкой на лице.
* * *
Рук не помнил, как на него упала рея – она обрушила ему на макушку удар такой силы, что он потерял сознание. «Повезло, что выжил», – услышал он не одну неделю спустя в портсмутской больнице, хотя сам предпочел бы смерть этой невыносимой головной боли, от которой темнело в глазах и выворачивало желудок. Или виноваты воспоминания о том, что произошло на палубе «Решимости» в тот день, пятого сентября 1781 года?
На протяжении долгих месяцев, пока он шел на поправку, Энн часами сидела у его кровати, обеими руками сжимая его лежащую на одеяле ладонь. Боль в черепе и эхо орудийного гула не покидали его ни на миг, и рука Энн, в которой покоилась его собственная, стала единственным, что не давало ему угаснуть.
Когда он наконец достаточно оправился, чтобы встать с кровати, то почувствовал, что дома на него давят стены и нечем дышать, и стал выходить на прогулки – потихоньку, с трудом переставляя ноги, он шагал по изогнутым переулкам города. Он никогда не возвращался домой той же дорогой, предпочитая сделать крюк, нежели поворачивать вспять. Прочь – вот куда его тянуло.
Чаще всего прогулки приводили его туда же, куда и в детстве: к основанию крепостной стены, где сужался вход в гавань. Он спускался к подножию Круглой башни, останавливаясь на каждом шагу, словно старик.
Придя туда в первый раз, он стал искать свою коллекцию камешков. Он знал: едва ли они все еще там, ведь минуло больше десяти лет, но когда, нагнувшись, заглянул в заветное отверстие в стене и убедился, что там пусто, на глаза навернулись слезы. Должно быть, всему виной ранение – это от него ему кажется, будто все потеряно и ничего уже не воротишь.
Само место ничуть не изменилось, и кроме него там, как всегда, никого не было. Он сидел на холодных камнях, обкатанных морем и ровных, как яичная скорлупа, и смотрел на небо, на воду. Низкие волны накатывали на берег, поблескивая в лучах подернутого дымкой солнца, – гладкие, словно туго натянутая ткань, и падали, разбиваясь о гальку и окропляя ее темными пятнами, а затем с неторопливым всплеском и рокотом отступали. Вдали, в стороне отмели Мазербанк и острова Уайт, между морем и облаками тянулась ослепительно-белая полоса, сияющая на фоне темной воды.
Его жизнь зависла в неопределенности, словно частичка сажи в стакане воды. Он оказался в холодном, унылом месте. Когда-то он надеялся обрести будущее, и даже на время обрел его; оно манило к себе, дразнило. Теперь же не осталось ничего кроме боли в голове и в душе, заглянувшей в мерзкое нутро жизни и учуявшей там зло.
Ветер дул то в одну сторону, то в другую, вода, влекомая луной, прибывала и уходила, как было всегда, с тех самых пор, когда появились ветер и вода, и будет, пока они существуют. А Рук все сидел на камнях, чувствуя, как затекает спина, зато утихает боль в голове. Его обволакивало блаженное состояние, подобное сну, в котором время шло незаметно.
Отыскав внутри себя сухой укромный уголок, он укрылся там, словно моллюск, вынесенный приливом на берег. Достаточно было просто смотреть, как вздымаются и вновь обрушиваются волны, а сияющая полоса света вдали сужается в тонкую линию на горизонте.
С моря пришел туман, и город за его спиной накрыли сумерки. С усилием поднявшись на ноги, он побрел по темнеющим улочкам домой, назад в тесную гостиную и ставшую его миром спальню в мансарде.
* * *
Спустя два года с того дня на «Решимости», о котором он старался не вспоминать, война закончилась. «Закончилась» – так все говорили, хоть и знали, что правильнее было бы сказать «проиграна». Горстка оборванных повстанцев как-то сумела одержать верх над мощью Его Величества короля Георга Третьего. О таком унижении нельзя было упоминать вслух. Королевские солдаты и моряки не знали, как жить дальше в тени этого непроизносимого слова: «поражение».
Повстречавшись с Силком в Портсмутской гавани, в окрестностях района Хард, Рук заметил в своем друге перемену. Тот, как и прежде, мог рассмешить собеседника остроумной байкой о том, как он однажды хватился шляпы на борту «Ройал Оук». Но что-то внутри него омертвело – и от увиденного, и от поражения. А еще от неполноценной жизни на неполноценное жалование. «Танталовы муки», так он выразился. В его голосе слышалась горечь. Голодать с таким заработком не будешь, но и жить по-хорошему – тоже.
«За жестокие войны и мор!» – теперь Рук как нельзя лучше понимал смысл этого безрассудного тоста. Какой глупой, опасной, гибельной теперь казалась ему наивность того Рука, что смеялся, поднимая бокал, и выкрикивал эти слова вместе с остальными!
Что-то изменилось в его дружбе с Силком. Они оба видели тогда, как рядовой Труби силился понять, почему у него не получается встать, и это скрепило их узами более прочными, чем обычная дружба.
В тот день, когда небо над Хардом затянули холодные хмурые тучи, ни один, ни другой не упомянули ту чудовищную картину, но они до боли крепко пожали друг другу руки.
Силк собирался домой, в Чешир[10]. Вглядевшись в его осунувшееся лицо, Рук не стал спрашивать, правда ли, что его отец – учитель танцев.
Достаточно оправившись, Рук решил восполнить недостающую половину жалования и стал учить всяких остолопов математике и астрономии, латыни и греческому, изнемогая от их непонятливости. Когда они уходили, Энн заглядывала к нему в гостиную и заставала его пристально смотрящим в огонь. В отличие от матери, она никогда не принималась причитать и сочувствовать. «Ох, Дэн! – восклицала она. – Какой смысл получать удар по голове, если он не одарил тебя той же блаженной глупостью, что свойственна всем нам?»
Он протягивал ей кочергу, предлагая ударить его еще раз, дабы достичь желаемого результата, и мысленно благодаря Бога за такую сестру.
Но по утрам он просыпался под крышей своей мансарды, в предназначенной для ребенка кровати, и размышлял о потраченном попусту времени и о том, что уготовано впереди: ему двадцать три, удастся ли ему заново устроить свою жизнь?
* * *
Дэниел Рук был еще мальчишкой и коллекционировал камешки, когда Кук высадился в Новом Южном Уэльсе – месте, расположенном в такой далекой части земного шара, что, добравшись туда, невозможно было плыть дальше, не возвращаясь обратно. С недавних пор такая удаленность обернулась его главным достоинством. Его Величество пришел к выводу, что Новый Южный Уэльс превосходно подойдет, чтобы сплавить туда избыток заключенных из британских тюрем.
В середине 1786 года, когда Руку было двадцать четыре, доктор Викери отправил ему письмо с намеком на то, что предстоящей экспедиции наверняка понадобится астроном. Рук без долгих раздумий ответил в тот же день.
Майору Уайату, командиру его полка – раздражительному человеку, чьи проницательные глазки ничего не упускали, – доктор Викери лично растолковал, почему вместе с заключенными и морскими пехотинцами в Новый Южный Уэльс должен отправиться астроном. Он поведал Уайату, что, по его предположениям, комета 1532-го и 1661-го годов, вновь объявится в 1788-м. Событие это станет не менее значимым, чем предсказанное доктором Галлеем возвращение кометы, позднее названной его именем. Однако в отличие от кометы Галлея ту, появление которой предрекал доктор Викери, можно будет наблюдать лишь в Южном полушарии. Королевская обсерватория готова обеспечить лейтенанта Рука необходимыми приборами, если майор Уайат не возражает освободить его от обычных обязанностей.
Рук подозревал, что майор Уайат не до конца уверился в значимости кометы 1532 года и лишь в общих чертах представлял себе, кто такой доктор Галлей. Но с королевским астрономом Уайат спорить не собирался.
Рук напоминал себе, что Новый Южный Уэльс – это чистый лист, на котором можно писать что угодно. «Четвероногие. Птицы. Муравьи и их жилища»: вот уже шестнадцать лет, с тех пор, как к ним наведался «Индевор»[11], их жизнь на другой стороне земного шара шла своим чередом. И вот теперь Руку выпал шанс увидеть их, а может, даже стать единственным астрономом, который засвидетельствует возвращение кометы доктора Викери.
Десять лет назад он наверняка решил бы, что это полагается ему по праву. Бог одарил его недюжинным умом, и теперь выпала возможность найти ему применение. Он бы счел, что так и должно быть, что это лишь одна из деталей слаженного вселенского механизма, которая движется в согласии с остальными.
Но он больше не доверял этому механизму. И сомневался, что когда-нибудь доверится снова. Он успел убедиться: жизнь обещает многое, но давая одно, отбирает другое.
Конечно, он согласился отправиться в Новый Южный Уэльс. Где-то глубоко внутри, где все еще тлело былое рвение, он даже ждал этого путешествия. Купил записные книжки и учетные журналы и впервые за долгое время ощутил приятное предвкушение, проведя рукой по чистым страницам, которые ему предстояло заполнить сведениями о неизведанных землях: о тамошней погоде, о звездах, может, даже о «четвероногих» и «жилищах муравьев».
Вместе с письмом доктора Викери пришло еще одно, от Силка: он уговаривал Рука записаться в экспедицию. Между строк читалось, что эта упавшая с неба удача вдохнула в его друга новую жизнь. Сам он уже вызвался и успел продвинуться по службе. Старший лейтенант Силк стал капитан-лейтенантом Силком. Но его стремления больше не ограничивались высоким званием. «Мистер Дебрет с Пикадилли[12] мне пообещал: опубликую все, что вы сможете мне привезти из Нового Южного Уэльса, – писал Силк. – Так и сказал, и я его не разочарую!»
Рук видел: Силк не больше него похож на военного. Он тоже тянул время и ждал возможности исполнить свое призвание. Выходит, травя байки за офицерским столом, Силк не просто пытался их развлечь. Для него весь смысл этого занятия заключался в самом рассказе – в умении подобрать фразы, облечь историю в нужную форму. Тяга переиначивать события так, что повествование казалось едва ли не правдоподобнее их самих, – вот чем Силк был одарен с рождения, как Рук – любовью к числам.
«Отказы не принимаются», – говорилось в письме.
* * *
Энн сохранила тот глобус, что Рук смастерил, когда ему было четырнадцать. Он покрылся пылью, а Южный полюс был чем-то заляпан, но сам глобус все еще крутился.
– Ночное небо там другое, – объяснил Рук. – Видишь? Земля завалена на бок. Там я увижу звезды, которых отсюда не разглядеть.
Энн обдумала его слова.
– А Луна, ее ведь будет видно? Только вверх тормашками?
Он заметил, что она сомневается, боится разочаровать его своей глупостью. Но она не глупа – напротив, достаточно умна, чтобы распознать границы своего понимания.
На улице не переставая шелестел дождь, словно едва слышно что-то нашептывая. Поднявшись со стула, Рук встал у сестры за спиной и обнял ее за плечи, чувствуя рядом ее тепло. Она все крутила хлипкий маленький глобус.
– Я каждый вечер буду смотреть на Луну, – пообещала она, – и думать о том, что ты тоже на нее смотришь.
Она обернулась, и по ее лицу он понял, что ей на ум пришло нечто забавное.
– Правда, чтобы смотреть на нее под тем же углом, что и ты, мне придется встать на голову, но это, мой дорогой и глубокоуважаемый брат, – трудность, которую я готова преодолеть!
Когда он вновь достал из шкафа свой красный мундир, к горлу подкатила тошнота. Ткань все еще пахла потом его ужаса, а в воздухе повеяло порохом. И все же он его надел – новый мундир он себе позволить не мог – и полной грудью вдохнул этот запах, заново привыкая к роли солдата.
Он едва не умер. Был в шаге от гибели, так ему сказали. Но уцелел, и теперь судьба преподнесла ему нечто новое. Чем все обернется, он не знал, но готов был смириться с тем, что отныне его жизнь станет двигаться по этой орбите.
Часть вторая. Астроном
Отец всегда говорил: «как запряжешь, так и поедешь». Поэтому Рук позаботился о том, чтобы всем на борту «Сириуса» было ясно: он астроном. Притворяться нужды не было. Пока он возился с секстаном, сопоставлял результаты измерений с цифрами капитана Бартона и лейтенанта Гардинера и высчитывал среднее значение, проходила добрая половина дня. Затем требовалось рассчитать широту и долготу. А здесь спешка ни к чему.
Бартон, будучи капитаном флагманского корабля, поначалу с опаской отнесся к молодому солдату, возомнившему, будто он разбирается в навигации. Его лицо приняло угрожающе строгое выражение, и Рук уж было подумал, что его сейчас попросят убраться со шканцев, сочтя за выскочку. Но за суровостью Бартона скрывалось доброе сердце, и, убедившись в умениях Рука, он решил не держать на него зла за то, что он служит лейтенантом в морской пехоте, а не во флоте.
Правой рукой Бартона вот уже три года был лейтенант Гардинер – прежде параллельные наблюдения тот всегда доверял именно ему. Окажись на его месте другой офицер, он мог бы невзлюбить Рука. Но Гардинер, этот дюжий, прокопченный солнцем моряк, был натурой широкой во всех смыслах, человеком большого роста и большой души.
В день знакомства он крепко обхватил ладонь Рука, глядя прямо ему в глаза:
– Добро пожаловать, мистер Рук. Теперь, когда нас трое, нам и океан – все равно что королевский тракт!
Сопротивляясь качке, они щурились в свои секстаны. Каждый раз полученные значения несколько отличались. Такова была особенность их работы. Но Бартон и Гардинер не пытались ревностно цепляться за результаты своих измерений, в отличие от штурманов с «Решимости», которые вели себя так, будто числа на латунной пластине служили мерой их мужественности. Гардинер, словно с девушкой, заигрывал с солнцем, то и дело прятавшимся за облаками, уговаривая его: «Ну же, покажись, красавица, не скромничай!» И никогда не упускал возможности заверить Бартона, что Рук очаровал «красавицу» твердой рукой и зорким глазом. «Она та еще вертихвостка, сэр, и сегодня ей по душе пришелся мистер Рук».
В то время как Рук находился на борту флагмана, Силк путешествовал в хвосте вереницы из одиннадцати кораблей, на борту «Шарлотты». Они виделись, только когда заходили в порты по пути на юг.
– Вот неудача, черт возьми! – посетовал Силк, когда они встретились на причале в Рио.
– Да, не повезло, – согласился Рук, умолчав о том, что ему по душе общество прямолинейных флотских моряков, хоть они и не умеют так изящно изъясняться.
Силк достал из кармана потрепанную записную книжку.
– Я начал работать над книгой, Рук. Ну-ка, послушай, здесь я ссылаюсь на рассказ капитана Кука о том, как здешние дамы бросали ему цветы. «Мы испытали жестокое разочарование, не удостоившись ни единого букета, хоть и проходили под их балконами каждый вечер, а ведь нимф, как и цветов, повсюду было в равной степени предостаточно». Ну, скажи мне по-дружески, без обиняков – как тебе?
– Очень искусно, отличное владение словом, – оценил Рук. – Но ведь ты, кажется, бывал там не каждый вечер?
– Ох, Рук, человек науки! Назовем это поэтической вольностью, друг мой.
Руку это было чуждо – относиться к окружающему миру так, будто он не что иное, как исходный материал. Он был одарен талантом к измерениям, вычислениям, умозаключениям. Силк – умением отсечь все лишнее и приукрасить, превращая кусок гальки в драгоценный камень.
* * *
Курс прокладывал капитан Бартон, но над ним стоял коммодор, который и принимал окончательные решения. Джеймс Гилберт был худощав, сложения угловатого – одни локти да плечи на разной высоте, – он осторожно ступал по кренящейся палубе, словно бы вечно заваливаясь на бок, а с его лица не сходило кислое выражение. За все то время, что Рук провел на борту «Сириуса», в его присутствии на лице коммодора подобие улыбки появлялось лишь в тех случаях, когда того требовали формальности.
Вполне вероятно, что безрадостность коммодора объяснялась болями в боку, а вовсе не складом характера. «Они не проходят, только стихают временами, – как-то объяснил им хирург за общим столом. – Почки, полагаю. Или желчный пузырь». Доктор Веймарк любил поесть и посмеяться – высокий мужчина с огромным животом, выступающим, как фигура на носу корабля. Но за его веселостью крылась сострадательность. Он испробовал на коммодоре все мыслимые лекарства, пускал ему кровь, ставил банки, каждое утро целый час прощупывал ему бок, пытаясь унять боль, и переживал, что ничего не помогает.
Когда коммодор поднимался к офицерам на шканцы, Гардинер замолкал, а Бартон напускал на себя подобающий его положению серьезный вид. Рук не понаслышке знал, что неутихающая боль творит с человеческим лицом, но к такому, как Джеймс Гилберт, который никогда не делился с другими своими мыслями, трудно было проникнуться симпатией.
Ежедневно, в полдень, все эти долгие месяцы в море, коммодор спускался по трапам вниз вместе с капитаном Бартоном и Руком, который уважительно держался позади, сопровождая их на правах астронома. Там, в недрах корабля, находилась каюта, которую день и ночь охранял караульный. Завидев их, он отходил в сторону и впускал их в единственное на всем переполненном судне помещение, не заваленное мешками, бочками и всевозможными свертками и тюками. В этой пустующей каюте, на привинченном к палубе столе стояла коробка, в которой между двумя красными шелковыми подушками покоился хронометр работы мистера Кендалла[13].
Этот сверток с гринвичским временем должен был вместе с ними добраться до другой стороны земного шара, невредимый, точно горошина в стручке. Когда в Новом Южном Уэльсе стояла глубокая ночь, хронометр все так же показывал полдень по Гринвичу.
Внутренним устройством творение мистера Кендалла напоминало своего предшественника – то медленно бившее крыльями латунное насекомое, что доктор Викери показывал Руку в детстве, но по форме больше походило на обыкновенные карманные часы, разве что размером с тарелку для супа. Рук подумал, что со стороны мастера было весьма остроумно изготовить такие огромные часы, которым, казалось, самое место в кармане исполинского жилета.
В присутствии Бартона и Рука, которые стояли рядом, на случай если корабль накренится, коммодор извлекал хронометр из его кокона и вскрывал металлический корпус, обнажая сложный загадочный механизм, зубчатые колесики которого шаг за шагом толкали время вперед. Вынув заводной ключ из специального углубления в коробке, он вставлял его в отверстие на задней стороне механизма и поворачивал. Потом закрывал крышку корпуса и возвращал прибор на прежнее место между подушками.
Затем, согласно предписаниям, входил караульный, и все трое по очереди сообщали ему: «Хронометр подведен». Лишь услышав эти слова от каждого из них – и только тогда, – он отходил от двери и позволял им покинуть каюту.
Рук находил эти ненужные формальности крайне забавными. Если бы Силку довелось их наблюдать, он здорово развеселил бы офицеров, изображая, как Рук в третий раз чинно докладывает невозмутимому часовому, что «хронометр подведен», хотя тот уже дважды это слышал.
Но в ритуале подведения хронометра было еще кое-что особенное. Будучи самым младшим офицером, Рук не имел особого влияния. Но в те краткие минуты, что они проводили в той каюте, звание теряло всякое значение. На это время астроном Рук становился равным самому коммодору.
Когда стояла хорошая погода, вся эта процедура теряла смысл. Но когда секстаны не могли отыскать за облаками ни солнце, ни луну, или сильная качка мешала проводить измерения, один лишь хронометр, все так же показывавший гринвичское время даже спустя несколько месяцев в море, уберегал корабль от угрозы разбиться о скалы Нового Южного Уэльса.
* * *
То, что залив Ботани для поселения не годится, стало ясно сразу, и коммодор направил флот чуть дальше к северу. Путь до Нового Южного Уэльса занял почти девять месяцев – разве пара миль что-то меняла?
С моря казалось, что коммодор ошибся. Рук с Гардинером, опершись о фальшборт, смотрели, как «Сириус», накренившись на левый борт, повел флот к обыкновенной, казалось бы, выемке на теле высокого желтого утеса. В блоках, разворачивая паруса, заскрипели шкоты, и судно направилось туда, где у его подножия бурлили и пенились волны.
Но коммодор не ошибся. За утесом на запад плавной дугой уходила огромная, спокойная водная ширь. «Сириус» скользил мимо бухточек, окаймленных серпами желтого песка, и поросших густым лесом мысов. В этом необъятном, скрытом от моря заливе, где за одной прекрасной бухтой появлялась другая, где один живописный мыс сменялся другим, было нечто, вгонявшее Рука в полузабытье. Он мог бы бесконечно плыть вот так к самому сердцу этой неизведанной земли. Главное – не добраться до места назначения, а двигаться вперед, глядя на пенящиеся у форштевня волны и уходя по этой расселине все дальше вглубь материка, будто и вовсе не придется останавливаться.
«Сириус» обогнул скалистый остров, и Рук увидел на берегу людей – они бежали, потрясая копьями. Ветер донес до него их голоса, раз за разом выкрикивавшие одно и то же слово: «Варра! Варра!» Вряд ли оно могло значить «добро пожаловать!» Рук предположил, что самый вежливый перевод – «убирайтесь к черту!»
С рокочущим стуком и всплеском спустили якорь. Когда Рук вновь взглянул на берег, там уже никого не было.
Судно встало у входа в небольшую бухту, укрытую с обеих сторон высокими кряжами. Там, где в нее впадала речушка, виднелась полоска песка. Чуть дальше вглубь суши уходила неглубокая поросшая лесом долина.
Матросы подготовили шлюпку для высадки на берег. Первыми в нее спустились сержант и четверо вооруженных рядовых, потом коммодор и капитан Бартон. Доктор Веймарк, с неожиданным для человека его комплекции проворством, последовал за ними. Рук не стал дожидаться приглашения и поспешил спуститься следующим. Он не хотел упускать возможность оказаться среди тех, кто первыми коснутся этой земли, о которой ему известно не больше, чем о Сатурне.
Ступив на песок на дальнем конце бухты, Рук почувствовал, как земля качнулась у него под ногами. Он полной грудью вдохнул местный воздух – сухой, чистый, вяжущий, сладковатый и в то же время кислый, теплый и насыщенный запахами органики, которые сбивали с толку после стольких недель одного лишь безликого морского ветра.
Веймарк сделал шаг и, ощутив под ногами твердую землю, расхохотался так, что живот затрясся. Он хотел было что-то сказать, но тут из-за кустов вышли пятеро мужчин и встали вдоль кромки песка. Рук услышал за спиной знакомые глухие толчки: звук вскидываемых к плечам мушкетов.
– Спокойно! Спокойно… – в голосе сержанта слышалось напряжение.
Мужчины были темнокожие, нагие, а на их лица, казалось, даже на солнце падала тень. «Туземцы, – подумал Рук. – Всего в паре шагов!»
Странные и вместе с тем вполне обыкновенные – в сущности, такие же люди, как и он сам: те же плечи, колени и срамные места – хотя они ничего срамного в них не находили. Впереди стоял поджарый седобородый мужчина, остальные – у него за спиной, у каждого в руках по копью и деревянному щиту. Кожа в солнечном свете – чернее черного. Они выжидали.
– Безделушки, сержант, давайте их сюда!
Коммодор обернулся к шлюпке, нетерпеливо протягивая руку за мешком, который ему подал сержант. Он потряс в воздухе бусами, и они заиграли на солнце.
– Ну же, друзья мои! – поманил он. – Смотрите, держу пари, такого вы еще не видели!
Даже на его осунувшемся лице отразилось радостное возбуждение. Впервые Рук увидел в нем того любопытного мальчишку, которым он, должно быть, когда-то был.
Веймарк пошел еще дальше: у него в руках сверкнула лупа.
– Взгляните, сэр! – воскликнул он. – Я готов сей же час подарить ее вам, если вы изволите подойти ближе и взять ее! Боже, Бартон, вы только посмотрите, как они осторожны – точно кот, который заприметил сливки, но боится доярки!
Его раскатистый смех, казалось, придал чужакам смелости. Седобородый шагнул вперед.
– Вот, так держать, мистер Чернокожий! Давай, иди сюда!
Доктор грузно изобразил танцевальное па, и туземец вновь покрепче ухватился за копье.
Бартон не мог дурачиться подобно Веймарку на глазах у своей команды, но тоже достал бусы и стал крутить их в руках.
– Рук, дружище, возьмите что-нибудь, попытайте удачу! – выкликнул он.
Выбрав лупу, Рук шагнул к ближайшему туземцу – мужчине его возраста, настороженно, как борзая, шныряющего глазами с него на Бартона и обратно.
Рук приветственно поднял руку.
– Добрый день!
Все равно, что бросить камень в кусты, гадая, какая оттуда вылетит птица.
Туземец был хорошо сложен, держался очень прямо. Литые мускулы на его груди украшал аккуратный узор из бугристых шрамов, напоминавший отделку на одежде.
Он взглянул на Рука, приоткрыв рот, будто собирался что-то сказать. Белки его глаз резко выделялись на фоне черной кожи. Шагнув вперед, он одним быстрым движением схватил лупу и отступил обратно. Он показал ее соплеменнику, что стоял рядом, и оба принялись разглядывать ее, переговариваясь вполголоса.
Потом лупа им наскучила. Туземец бросил ее на песок – так же небрежно, как какой-нибудь портсмутский мальчишка мог бы швырнуть огрызок от яблока. Они отступили на несколько шагов назад и, казалось, чего-то ждали.
Более стоящего подарка? Другого жеста доброй воли?
Следующий ход сделал Веймарк. Должно быть, ему все это казалось развлечением, вроде театральной миниатюры с лупами и бусами. Он смело подошел к самому старшему туземцу, поджарому седому мужчине, взял у него щит – «только на время», жестами показал он – и воткнул его в песок. Потом зарядил пистолет, прицелился с короткого расстояния, взвел курок и выстрелил. Туземцы отпрянули от яркой вспышки.
Дым развеялся. В воздухе повис запах пороха.
Щит был крепкий – цельный кусок дерева в полметра длиной и несколько сантиметров толщиной, но пуля пробила его насквозь, оставив рваную дыру и длинную трещину сверху донизу. Старик поднял свой щит, и тот развалился надвое у него в руках. Сложив половинки вместе, он провел длинными пальцами по тому месту, где пуля проломила древесину. Потом прислонил щит к животу, как бы спрашивая: она и с ним способна сделать то же самое?
– О, да, без сомнения, мой чернокожий друг! – охотно подтвердил Веймарк. – Раскроит от черепа до задницы, Богом клянусь!
Доктор нашел эту шутку крайне забавной, как и капитан Бартон, и Рук тоже засмеялся, словно это было заразно.
Чернокожие мужчины не разделяли их веселья. Нахмурившись, они торопливо о чем-то переговаривались.
– Ей-богу, Веймарк, – воскликнул коммодор, – вы же их напугали! И как вам это только в голову пришло?
Но хирург ничуть не сконфузился.
– Что ж, сэр, если им не по душе моя искусная стрельба, быть может, музыка придется им по нраву? Пусть сами убедятся: я человек крайне разносторонний.
Он вытянул губы и засвистел. Рук поймал себя на мысли, что только Веймарк мог столь развязно вести себя с коммодором, хотя на месте последнего всякий, вероятно, позволил бы некоторые вольности человеку, который день за днем прощупывал ему бок.
Музыкальное дарование доктора, по-видимому, впечатлило туземцев не больше представления с пистолетом. Они взирали на него с каменными лицами. Через минуту, прихватив с собой половинки разбитого щита, они скрылись в лесу.
* * *
Вскоре та маленькая бухта получила имя: Сиднейская. Все там, казалось, подчинялось иной логике, нежели в привычном Руку мире. Здесь, как и везде, росли деревья, но каждое было чуднее предыдущего. Одни напоминали швабры – голые, как столбы, с шапками листьев в нескольких метрах над землей. Другие, словно узловатые розовые чудища, тянули к небу свои изогнутые, подагрические пальцы. У реки росли приземистые белые деревца, с которых мягкими листами бумаги сходила кора.
По ветвям, щебеча и посвистывая, семенили красные попугаи. Рук раздумывал, нельзя ли научить одного из них говорить или напевать мелодию, как та птица, что жила в гостиной у старого капитана Вира в Портсмуте. Сперва надо придумать, как его изловить. Птицы искоса, хитро на него поглядывали. Либо на птичий клей, либо сетью. У Рука ни того, ни другого не было. А мелодию он и сам мог напеть, хотя он вынужден был признать: было в лесах Нового Южного Уэльса нечто, от чего хотелось молчать.
Здесь Букстехуде с его фугами-беседами из другого мира казался представителем иного вида.
Даже скал, подобных здешним, Рук прежде не видал: исполинские плиты и осколки породы беспорядочно громоздились друг на друга. Как бы описать их Энн? Он представил ее лицо, вообразил, как она смотрит на него, склонив голову набок и терпеливо ожидая, когда он подыщет подходящие слова, и перед его внутренним взором возник тот французский десерт, что они вместе пробовали в чайной на улице Сент-Джордж за несколько дней до его отплытия. Его промазанные заварным кремом коржи чем-то напоминали каменистые уступы здешнего ландшафта.
Есть это пирожное было невозможно: стоило откусить немного, как отовсюду вылезал крем. Поначалу им с Энн было неловко, но в итоге они от души посмеялись над тщетными усилиями друг друга. «Моя дорогая Энн, я оказался в землях, чрезвычайно похожих на тот десерт, который мы ели тогда в чайной „У Пенникука“ и которым стоило бы лакомиться в одиночестве. В остальном местность здесь сухая и каменистая».
Он представил, как она читает эти строки в их маленькой гостиной. Хотелось думать, что они заставят ее улыбнуться.
* * *
Уже на следующий день после того, как флот встал на якорь, разбитые на группы каторжане принялись рубить кусты и деревья. Через две недели в глубине бухты не осталось ничего, кроме взрытой желтой земли, испещренной кровоточащими пнями да покосившимися обвислыми палатками. Как только удалось расчистить достаточно земли, всех поселенцев собрали слушать обращение коммодора.
Сам он забрался на корабельный сундук под сенью раскидистого дерева, а каторжан согнали на каменистую площадку напротив. Они тихо переговаривались и переминались, равнодушные к значимости момента. Солдаты в красных мундирах окружали их неровным кольцом. Всего около восьми сотен заключенных и двухсот морпехов. Теперь, когда они сошли на берег, такое соотношение сил показалось Руку ненадежным.
Рядом с сундуком сверкал золотыми галунами майор Уайат. Выступающая челюсть придавала ему некоторое сходство с карпом. Лицо было обращено к коммодору, но Рук заметил, как его глаза шныряли туда-сюда по толпе заключенных. Вокруг на одинаковом расстоянии друг от друга он расставил троих капитанов. Рук разглядел Силка: каким-то образом тому удавалось стоять по стойке смирно, сохраняя при этом такой непринужденный вид, будто он пришел танцевать. С капитаном Госденом Рук познакомился лишь по прибытии в Новый Южный Уэльс и пришел к мнению, что его вообще не следовало допускать к участию в экспедиции. Лицо у него было опухшее, бледное – если не считать чахоточных пятен на щеках, и ему явно стоило немалых усилий держаться прямо. В руке он, как всегда, сжимал платок, а в его взгляде читалось беспокойство человека, с трудом сдерживающего кашель. Третьего капитана по фамилии Леннокс Силк как-то раз назвал ходячим стручком фасоли, чем крайне развеселил Рука. Леннокс и его мушкет – два длинных, тонких военных орудия, готовых исполнить свой долг.
Рук весь вспотел в своем красном мундире. Влажный воздух раскалился, а солнце так беспощадно палило с голубого неба, что в висках стучало. Рук щурился, завидуя стоящему в тени Гилберту.
Бартон и Гардинер, как и остальные офицеры флота, сошли на берег, облачившись по особому случаю в парадные синие мундиры, и теперь стояли поодаль. Им была отведена роль сторонних наблюдателей. Вскоре им предстояло отправиться в обратный путь. На мгновение Рук пожалел, что он не из их числа.
Уайат выкрикнул приказ, и Рук принял предписанную уставом приветственную стойку: мушкет на плечо, левая нога вперед. Положив палец на спусковой крючок и приготовившись к привычному хлопку, он на мгновенье ощутил прилив тошноты.
Прогремел залп – не такой дружный, как, вероятно, хотелось бы майору Уайату. С ветвей дерева неподалеку вспорхнула стая больших белых попугаев. Они принялись кружить над головами собравшихся у реки людей, хлопая крыльями и издавая резкие скрежещущие звуки, вторившие тому звону, что выстрелы пробудили в памяти Рука.
Он опустил мушкет и поставил его на землю дулом вверх. Как бы он был счастлив, если бы сегодня, седьмого февраля 1788 года, ему пришлось стрелять из него в последний раз!
Коммодор с усилием выпрямился на своем сундуке, стараясь перекричать попугаев. Он вслух зачитал приказ короля Георга Третьего: общий смысл сводился к тому, что Джеймс Гилберт наделялся полномочиями монарха. Отныне жизнь и смерть его подданных находилась во власти новоиспеченного губернатора Нового Южного Уэльса, наместника Его Величества.
Каждый раз, когда губернатор Гилберт произносил имя Его Величества, в беспокойной толпе каторжан кто-то недвусмысленно харкал и сплевывал.
Белые попугаи улетели, и над долиной воцарилась тишина. От лица Его Величества губернатор провозгласил владычество над территорией, названной Новым Южным Уэльсом, которая с этой минуты обрела размеры и очертания. С севера на юг она протянулась с десяти градусов тридцати семи минут до сорока трех градусов сорока девяти минут южной широты. С востока на запад охватила все земли от того самого места, где они стояли, до ста тридцати пяти градусов восточной долготы.
Рук произвел в уме пару любопытных вычислений. Тридцать три градуса широты равны расстоянию в две с лишним тысячи миль с севера на юг. Шестнадцать градусов долготы – это больше восьмисот миль с востока на запад. По примерным подсчетам, Его Величество только что приобрел кусок земли, вдвое превосходящий размерами Францию, Испанию и Германию вместе взятые.
Губернатор Гилберт все еще дочитывал приказ.
– К туземцам надлежит, как бы то ни было, относиться с дружелюбием и добротой, – кричал он поверх нарастающего гула среди каторжан.
Какой-то предмет полетел в него из гущи толпы и приземлился в кустах.
– Крайне важно установить с ними открытые добрососедские взаимоотношения, – не сдавался губернатор. – Отсутствие добрых намерений с их стороны поставит под угрозу развитие и даже само существование этой колонии. Его Величество поручил мне со всей возможной поспешностью установить с ними дружеские связи и, как только позволят обстоятельства, ознакомиться с местным наречием.
Об этой стороне жизни в Новом Южном Уэльсе Рук не задумывался: колонии требовался астроном, но ведь и языковед мог оказаться не лишним. И правда: за две недели, прошедшие с того дня с лупами и бусами, туземцы объявлялись всего пару раз, да и то ненадолго. Рук оба раза был на корабле и не застал их. Он лишь мельком видел на другом берегу, по ту сторону залива, каких-то людей, далекие столбики дыма то тут, то там, и очертания каноэ на фоне сияющей на солнце воды. Но до сих пор у него не было возможности проявить «дружелюбие и доброту».
Губернатор, казалось, спешил закончить собрание.
– А теперь я прошу вас вместе со мной преклонить колени, – воскликнул он. – Преподобный отец воздаст благодарность от имени всех нас. Прошу, мистер Пуллен.
Из толпы раздался хриплый женский гогот:
– Благодарность! За что это?
Рук узнал голос той недурной собой любительницы сквернословить, которую после отплытия из Рио окунули в море, чтобы она угомонилась. Теперь она всех распалила, и каторжане, вскочив на ноги, принялись кричать и свистеть, угрожая прорвать цепь морпехов.
Рук собрался с духом, готовясь выполнить свой долг, но Уайат, вздернув бровь, сказал что-то Ленноксу, и тот окунулся в толпу. Каторжане, судя по всему, уже успели познакомиться с капитаном. Достаточно было ему слегка помахать прикладом, и они расступились, поэтому все, что требовалось от Рука, – это покрепче ухватить мушкет, всем своим видом показывая бдительность.
Но он знал: еще настанет пора – не раз и не два, – когда каждому солдату в красном мундире придется себя проявить. В море он всем дал понять, что отличается от других морпехов. И намеревался продолжать в том же духе. Высокий отдаленный мыс на западной стороне бухты мог сгодиться для обустройства обсерватории и уж точно обещал стать подходящим убежищем для человека, не желавшего играть роль надсмотрщика. Он решил наведаться туда при первой возможности и удостовериться, что всем ясно: лейтенант Рук слишком занят небесными светилами, чтобы уделять время земным обязанностям.
Тем временем преподобный отец забрался на сундук и как обычно пустился читать бесконечную витиеватую молитву. Для проповеди он выбрал строку из Псалтири: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?»[14] В голове у Рука мелькнула мысль, что едва ли можно было найти более подходящие слова, чтобы вывести из себя толпу мужчин и женщин, которых вопреки их воле привезли туда, где особых благодеяний ждать не приходилось. Губернатор слушал с непроницаемым лицом, но, казалось, крепче обычного сжав узкую челюсть.
Преподобный на мгновенье замолчал, переводя дух, и губернатор не преминул этим воспользоваться.
– Аминь, – провозгласил он, и Пуллену ничего не оставалось, кроме как перейти к благословению.
Все разошлись, работникам велели возвращаться к топорам и киркам. Рук поспешил ускользнуть, стараясь не встречаться ни с кем глазами, на случай если кому-нибудь вздумается его окликнуть: «О, лейтенант Рук! Не будете ли так любезны мне подсобить?» Но чтобы добраться до того многообещающего мыса, нужно было сперва пересечь не до конца еще расчищенный участок на западном берегу речушки. Майор Уайат называл его плацем, хотя пока что он представлял собой обычный покатый склон, покрытый серой грязью и ощетинившийся пнями.
Быстро шагая вперед и делая вид, что у него есть срочное дело, Рук услышал узнаваемое рявканье майора и краем глаза увидел, как, раскрасневшийся от жары и ярости, он подошел к одному из заключенных и с силой ткнул его палкой между лопатками. Бедолага поднял топор и примерился к ближайшему дереву, а остальные еще ниже склонили головы, продолжая бездумно колоть да крошить. Один высокий малый колотил киркой по земле. Его полосатая роба явно была ему мала: брюки едва доставали до середины голени, рукава – до локтей, а куртка не сходилась на могучей груди. Он осаждал свой пень достаточно споро, чтобы не угодить под палку Уайата, но безо всякого прока.
Рядом с ним над другим пнем трудился мужчина, у которого за щеками не осталось ни единого зуба. Его кирка раз за разом обрушивалась на один и тот же корешок и отскакивала обратно, но он даже не пытался ударить по другому месту – просто поднимал и снова опускал кирку, с трудом удерживая ее в худосочных руках.
Глупость, подумал Рук, или равнодушие? В глазах майора Уайата каждый выкорчеванный пень был шагом на пути к расчистке плаца. Но каторжанину это занятие, вероятно, представлялось таким же бесцельным наказанием, как ходьба по шаговой мельнице в тюрьме, откуда его забрали.
Слава Богу, на свете есть астрономия, подумал Рук, не останавливаясь.
Не он один пытался увильнуть от офицерских обязанностей. Усевшись на камень подальше от трудившихся каторжан, Силк с улыбкой на лице царапал что-то в записной книжке. Завидев Рука, он обходительно подвинулся.
«Туземцы, судя по всему, не поняли, какого мы пола, – вслух прочел он, – а стоило им это выяснить, как ими овладели безудержные приступы хохота». Ты не присутствовал при той встрече, Рук, но ведь это в высшей степени забавно, не правда ли? Одного из матросов попросили предоставить наглядное подтверждение, и оказалось, что он как никто другой подходил для этой задачи! Туземцы так изумились, что, как это ни прискорбно, почти сразу ушли. Теперь я бьюсь над тем, как сохранить комичность этой сцены, подобрав при этом слова, которые не заставят невинную деву зардеться румянцем.
– Да, превосходно, – ответил Рук, подумав про себя: «Надеюсь, Силк не станет упоминать меня в своей книге». Но Силк не заметил сомнения в его голосе.
– Однако же, странно, что туземцы нас избегают, не находишь? Гардинер говорит, вчера они подплыли к нему, пока он рыбачил. Он дал им рыбы, но поболтать они не остались.
– Должно быть, пошли слухи. Ну, знаешь, о внушительном хозяйстве того матроса.
Но Силк уже решил, что шутка себя исчерпала.
– Рук, друг мой, не будешь ли ты так добр помочь мне?
– Помочь?
– Нет-нет, я не имею в виду работу над книгой. Но я ведь не могу успевать всегда и везде. Тебе наверняка доведется услышать то, что от меня ускользнет. Я надеюсь на тебя как на друга.
Он взял Рука за плечо.
– Ты ведь мне поможешь, старина? Поможешь превратить мое повествование в сияющий бриллиант, перед которым мистер Дебрет склонится в почтительном поклоне?
Рука удивила откровенность его просьбы. Он никогда не видел, чтобы Силк так о чем-то переживал. Все в этом мире – не считая разве что рядового Труби на палубе «Решимости» – казалось ему не более чем темой для хорошей истории.
Он вдруг понял, что для Силка, как и для него самого, Новый Южный Уэльс – это не просто место, где ему предстоит провести четыре года с полноценным жалованием и возможностью продвинуться по службе, и ему важно не только избежать неприятных воинских обязанностей. Как и Руку, это место обещало Силку другие богатства. Новый Южный Уэльс стал частью его судьбы.
* * *
Жизнь на корабле не готовила Рука к тому, что придется карабкаться по каменистым склонам, которые напоминали пирожное с заварным кремом, так что, преодолев полпути к вершине мыса на западной стороне бухты, он остановился – чтобы передохнуть, а заодно и поглядеть вниз, на «Сириус», который служил ему домом весь последний год, а отсюда походил на игрушечный макет.
Над блестящей водной гладью разнесся звон судового колокола: длинный удар, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный. Семь склянок. Половина четвертого. Хронометр на борту показывает полшестого утра.
Значит, то же самое время сейчас показывают часы на каминной полке в гостиной на Черч-стрит. В комнате, скованной холодами поздней зимы, еще темно. В пустом суровом свете местного солнца, в невыносимой духоте трудно было в это поверить. Должно быть, все еще спят по своим комнатам, укрывшись несколькими пледами. А Энн дремлет в мансарде под его пуховым одеялом. «Буду греть его для тебя, – обещала она. – И непременно отдам обратно, только обещай, что вернешься домой целым и невредимым».
На мгновенье он почувствовал, как далеко от дома его занесло.
При мысли об очередном ужине за офицерским столом в кают-компании «Сириуса» ему стало тошно. Снова эти набившие оскомину лица, эти голоса, вечно повторяющие одни и те же слова, которые он слышал уже десятки раз. В тесноте корабельной жизни он до совершенства отточил умение прятаться в защитный кокон математики, на который никто не осмелился бы покуситься. Пока палаток и хижин на всех не хватает, ему придется и дальше жить на судне. Но ведь астроном должен всю ночь находиться рядом со своими инструментами, так что при первой же возможности он переберется на мыс.
Вид, открывавшийся с вершины, стоил тяжелого подъема. На востоке к морю простирались сияющие воды бухты, изрезанной множеством мысов, заливов, россыпью островов. На западе виднелось еще больше мысов, больше заливов, больше островов…
Там, где кряж обрывался к воде, имелся плоский уступ размером с плац майора Уайата, опирающийся на невысокий утес. Здесь небо не заслоняли деревья. На месте гринвичской Королевской обсерватории, должно быть, тоже когда-то не было ничего, кроме голой вершины холма.
Поселение лежало всего в полутора километрах по прямой, и все же этот уголок казался уединенным. Самого лагеря Рук не видел, до него доносился только отдаленный стук топоров да изредка чей-нибудь громкий возглас. Тот, кем его видели окружающие, – младший лейтенант Рук, друживший с цифрами, но неловкий в общении с людьми – был личиной, которую он носил, словно неудобный костюм. Стоя на этом мысе, в одиночестве, которое вторило одиночеству в его душе, он чувствовал облегчение.
Поселившись здесь, он смог бы принимать участие в жизни поселения без необходимости там находиться. Он будет здесь, но о нем забудут. Астрономия станет удобным заслоном для того «я», которым он не желает делиться ни с кем из высадившихся на это побережье вместе с ним.
Ветер стих. Западный горизонт скользил вверх навстречу солнцу, превращая бухту в лист сусального золота, испещренный очертаниями мысов и островов.
Рук уже собрался возвращаться в поселение, когда вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Неподалеку, неподвижные, как скалы, стояли двое местных. Их темная кожа сливалась с пейзажем. Они смотрели не на него, а вдаль, на воду.
Он вспомнил туземцев, встреченных в день высадки, и то, какое впечатление произвела на них стрельба Веймарка. Быть может, она оказалась красноречивее, чем того хотел доктор.
Теперь же Руку, казалось, выпал еще один шанс.
– Добрый день! Добрый день!
Он подошел чуть ближе.
– Рад знакомству!
Сущая нелепость, но ведь надо же что-то сказать.
Один из незнакомцев покрепче перехватил копье. Ни у того, ни у другого ни один мускул на лице не дрогнул от того, что какой-то человек крикнул, что рад с ними познакомиться.
Наконец туземцы двинулись к нему, и Рук решил, что они все-таки откликнулись. Не тут-то было. Они прошли мимо, на расстоянии вытянутой руки, словно и вовсе его не заметили.
«Эй! – хотел было крикнуть он. – Эй, я здесь, знаете ли!» Он даже открыл рот, раздумывая, какой тон будет уместней: веселый, беззаботный, жизнерадостный… Но достоинство, с которым шагали эти двое, почему-то заставило его промолчать.
Они направились туда, где скалы круто обрывались к воде, и стали спускаться. Им не приходилось гадать, где спуск удобнее – здесь или вон там? Дорога была им так же хорошо знакома, как ему – тропа у Круглой башни.
Подойдя к склону, Рук посмотрел вниз. Один из туземцев лежал на камне, наклонив лицо к самой воде и положив на плечо копье. Другой по колено зашел в воду и на глазах у Рука молниеносным, почти незаметным движением метнул свой гарпун – на зубцах затрепыхалась блестящая рыбина. Сняв ее, он руками переломил ей хребет и заткнул ее за веревку, повязанную вокруг бедер. Рук хотел ему помахать, поздравить с добычей. Но туземец уже наклонился обратно к воде.
И почему он не заговорил с ними, ведь они прошли так близко? Другой на его месте – скажем, Гардинер или Силк – заставил бы их обратить на него внимание. Силк уже спустился бы к ним и попробовал бы управиться с гарпуном, а заодно наверняка набросал бы заметки.
Вот поднимутся обратно, и уж тогда он не оробеет. Преградит им путь, не давая пройти, и предложит им что-нибудь – платок, например. «Добрый день!» – снова скажет он прямо им в лицо. Тогда они не смогут притворяться, будто его здесь нет. «Добрый день!» – так он и скажет и протянет им платок. «Не изволите ли принять это?»
Но пока он стоял и смотрел, туземцы обогнули мыс, направляясь к соседней бухточке, и скрылись из виду, так ни разу и не взглянув наверх.
* * *
Рук опешил, когда губернатор воспротивился его намерению заложить обсерваторию.
– Звезды подождут, мистер Рук, – отрезал он. – Доктор Викери поймет, что у нас есть более неотложные дела.
Между его сдвинутыми бровями пролегли две глубоких борозды. Этого Рук не ожидал. На «Сириусе» он был астрономом и вместе с губернатором ходил в каюту, где хранился хронометр мистера Кендалла, но, как оказалось, на суше дела обстояли иначе.
– Послушайте, лейтенант: я ответственен за тысячу с лишним душ, и пока что лучшее жилье, что я могу им предложить, это горстка палаток.
Губернатор уже почти отвернулся.
– Но, сэр, вы ведь помните, что королевский астроном снабдил меня инструментами. Он рассчитывал, что они будут использоваться на благо науки. И в первую очередь – для наблюдения за кометой, которая, по предположению доктора Викери, появится позднее в этом году, что он считает событием величайшей важности.
Губернатор, казалось, не меньше Рука удивленный таким красноречием, одарил его суровым взглядом.
– Разногласия с королевским астрономом мне ни к чему. Это определенно так. Но зачем же забираться так далеко, лейтенант? Я бы не хотел, чтобы поселение разрасталось – так будет безопаснее для всех его жителей. До тех пор, пока нам не удастся установить связи с туземцами, мы не узнаем их истинных намерений.
Он вновь хотел было отвернуться, но Рук не мог уступить. Он был обязан заполучить тот одинокий мыс. Отчаяние окрылило его разум, подсказало нужные слова.
– При всем уважении, сэр, – он как-то слышал, как Силк использовал это дельное выражение в разговоре с губернатором себе на руку, – обсерватория должна находиться в полной темноте. Для наиболее плодотворной работы. Как вам наверняка известно.
Он дважды солгал – в первую очередь, предположив, что губернатору об этом, «наверняка известно». Будучи весьма опытным моряком, тот знал о ночном небе достаточно, чтобы переправить корабль из одного пункта в другой, но о нуждах астронома не имел ни малейшего представления. Что касается «полной темноты», это было правдой в лучшем случае отчасти. Костры и мерцающие огни поселения вряд ли помешали бы разглядеть звезды.
Рук вгляделся в узкое лицо губернатора – тот был недоволен, но колебался. Раздумывал, не стоит ли воспользоваться своим положением и попросту запретить.
– К тому же, сэр… – поспешил продолжить Рук, надеясь, что пока он говорит, в голову придет еще какой-нибудь довод. – К тому же, сэр, вычисления – дело сложное. Особенно когда речь идет о комете… Для человека моих способностей… Скромных способностей.
Рук с трудом выдавливал из себя слова. Иногда он думал о том, что формулирует предложения так же, как некоторые люди умножают числа: тратя массу усилий, путем сложения. Он почувствовал, что краснеет, но продолжал:
– Отвлекаться, сэр – мне нельзя отвлекаться, ведь это отнимет у меня силы. Полностью и без остатка. Уединение и тишина совершенно необходимы.
В этом правды не было даже отчасти – чистая ложь. Он сам это знал, как знал это и губернатор. В кают-компании на «Сириусе» уединения и тишины было не найти. На одном конце штурманского стола Рук высчитывал долготу, вооружившись «Альманахом» доктора Викери и вспомогательными таблицами. На другом мичманы выполняли задания по навигации. У окна за отдельным столом сидел над своими бумагами и таблицами коммодор. В углу двое офицеров могли оживленно обсуждать, к примеру, кулинарные достоинства различных видов рыбы, которую матросы ловили с палубы. Рука порой тоже просили высказать свое мнение, что он и делал, ни на мгновенье не отвлекаясь от вычислений.
Губернатор, вынужденный держаться особняком с одной стороны в силу своего положения, а с другой, вероятно, и нрава, мог понять человека, предпочитающего одиночество. Однако дав ему эту поблажку, он рисковал показаться излишне снисходительным, а потакание просьбам одного офицера могло обернуться недовольством остальных.
Губернатор подпер подбородок большим пальцем и потер указательным верхнюю губу. Рук видел, как он поспешно проводит в уме сложные подсчеты, соотнося необходимость приструнить своенравного младшего лейтенанта с вероятностью, что в будущем его расположение придется кстати. Рука охватила паника. Гилберт, обыкновенный капитан флота, особыми талантами не отличался, и был хоть старше него, но зато менее даровит. Неужели этот человек мог встать на его пути к достойной жизни?
– Что ж, хорошо, лейтенант Рук. Отправляйтесь на свой мыс. Будет королевскому астроному его комета. Но позвольте предупредить вас: при первом же намеке на неприятности вам будет велено вернуться. У нас не так много людей. Возможно, придет время, когда каждый мушкет будет на счету. И еще, лейтенант, – понизив голос, добавил он, – раз уж об этом зашла речь: извольте всегда держать оружие наготове.