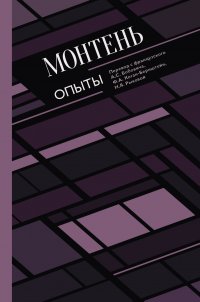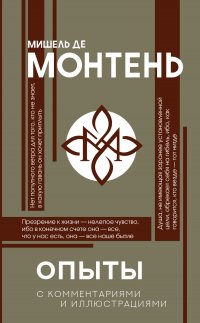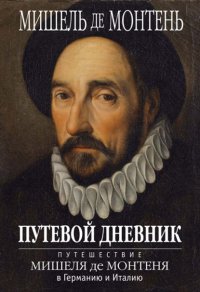Читать онлайн Скептицизм. Оружие разума бесплатно
- Все книги автора: Мишель Эке?м де Монтень, Франсуа де Ларошфуко
© Перевод с французского: А. Бобович и др., правообладатели
© ООО «Издательство Родина», 2021
Мишель Монтень
Скептицизм – оружие разума
(из книги «Опыты»)
Предисловие
Уединившись с недавнего времени у себя дома, я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большего благодеяния, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою.
Присматриваясь к приемам одного живописца, я загорелся желанием последовать его примеру. Он выбирает самое лучшее место посредине каждой стены и помещает на нем картину, написанную со всем присущим ему мастерством, а пустое пространство вокруг нее заполняет гротесками, то есть фантастическими рисунками, вся прелесть которых состоит в их разнообразии и причудливости. По правде говоря, что же иное и моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные как попало из различных частей, без определенных очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных?
Другие творят человека; я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Штрихи моего наброска нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения необычайно разнообразны. Весь мир – это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, – и качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость – и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание.
Эти мои писания – не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а иногда и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил Демад, я не противоречу никогда. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех возможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса – скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности.
Этим путем наши современники приучают себя к вероломству. Когда их вынуждают к лживым посулам и обещаниям, они не испытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин; в нем все хорошо или, по меньшей мере, все человечно.
Аристотель считает, что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего, не обращать внимания на одобрение и порицание, исходящие от других. Аполлоний сказал, что ложь – это удел раба, свободным же людям подобает говорить чистую правду.
Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что, если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обмануть людей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похваляться им, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что «швырнули б свою рубаху в огонь, если б она была осведомлена об их истинных помыслах и намерениях» (что было сказано одним древним, а именно Метеллом Македонским), или утверждать во всеуслышание, что «кто не умеет как следует притворяться, тот не умеет и царствовать», – это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово, слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман.
Человек, который, подобно Тиберию, взял себе за правило думать одно, а говорить другое, может одурачить своей болтовней и притворной миной разве что настоящего болвана; и я не знаю, на что, собственно, могут рассчитывать такие люди в отношениях с другими людьми, раз все, что бы ни исходило от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.
Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чем льстецом и притворщиком. Готов признать, что, когда держишься с такою искренностью и прямотой, не взирая на лица, как это свойственно мне, то тут, быть может, примешивается также немножко гордости и упрямства, и мне кажется, что я веду себя с большей непринужденностью именно там, где это меньше всего подобает, и что путы, налагаемые на меня необходимостью быть почтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я по своей простоте следую в этих случаях за своею природой.
Позволяя себе в общении с власть имущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел дело с моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже на нескромность и неучтивость. Но, кроме того, что я создан таким, я не обладаю достаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе и уклоняться от него с помощью какого-нибудь ловкого хода или искажать истину, как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в голове искаженную мною истину, или уверенностью, чтобы упорно стоять на своем: короче говоря, я храбр от слабости.
Вот почему я решаюсь уж лучше быть непосредственным и почитаю необходимым неизменно говорить то, что думаю, и поступаю таким образом как в силу моего душевного склада, так и на основании здравого размышления, предоставляя судьбе делать со мной все, что ей будет угодно. Аристипп говорил, что главная польза, извлеченная им из философии, это то, что благодаря ей он научился говорить свободно и откровенно со всяким.
Приговор самому себе
Кто же не видит, что я избрал себе путь, двигаясь по которому безостановочно и без устали, я буду идти и идти, пока на свете хватит чернил и бумаги? Я не могу вести летопись моей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную; я занимаюсь ею, опираясь на вымыслы моего воображения. Знавал я одного дворянина, который оповещал о своей жизни не иначе, как отправлениями своего желудка; у него вы видели выставленные напоказ горшки за последние семь-восемь дней; в этом состояли его занятия, только об этом он говорил; любая другая тема казалась ему зловонной. И здесь (лишь чуточку попристойнее) – такие же испражнения стареющего ума, страдающего то запорами, то поносом и всегда несварением.
Где же смогу я остановиться, воспроизводя непрерывную сумятицу и смену моих мыслей, чего бы они ни касались, раз Диомед заполнил целых шесть тысяч книг только одним предметом – грамматикой? И чего только не породит болтливость, если даже лепет и едва заметные движения языка придавили мир столь ужасающей грудой томов? Столько слов ради самих слов! О, Пифагор, что же ты не заклял эту бурю!
Некогда Гальбу осуждали за то, что он живет в полной праздности. Он ответил, что каждый обязан отчитываться в своих поступках, а не в своем бездействии. Он заблуждался: правосудие преследует и карает также и тех, кто бездельничает.
Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев. В этом случае наш народ прогнал бы взашей и меня и сотни других. Я не шучу. Страсть к бумагомаранию является, очевидно, признаком развращенности века. Писали ли мы когда-нибудь столько же до того, как начались наши беды? А римляне до того, как начался их закат? Помимо того, что в любом государстве утонченность умов никоим образом не равнозначна их умудренности, пустое это занятие становится возможным лишь потому, что всякий начинает нерадиво отправлять свою должность и отбивается по этой причине от рук.
В развращении своего века каждый из нас принимает то или иное участие: одни вносят свою долю предательством, другие – бесчестностью, безбожием, насилием, алчностью, жестокостью; короче говоря, каждый тем, в чем он сильнее всего; самые слабые добавляют к этому глупость, суетность, праздность, – и я принадлежу к числу этих последних. И когда нас гнетет нависшая над нами опасность, тогда, видимо, и наступают сроки для вещей суетных и пустых. В дни, когда злонамеренность в действиях становится, делом обыденным, бездеятельность превращается в нечто похвальное.
Я тешу себя надеждой, что окажусь одним из последних, против кого понадобится применить силу. И пока будут принимать меры против наиболее злокозненных и опасных, у меня хватит времени, чтобы исправиться. Ибо мне представляется, что было бы безрассудным обрушиваться на меньшие недостатки, когда нас одолевает столько больших. И прав был врач Филотим, сказавший тому больному, который протянул ему палец, чтобы он сделал ему перевязку, и у которого он по лицу и дыханию распознал язву в легких: «Сейчас не время, дружок, заниматься твоими ногтями».
И все же я знал одного человека, чью память я высоко чту, который, несмотря ни на что, посреди величайших наших несчастий, когда у нас так же, как ныне, не было ни законности, ни правосудия, ни должностных лиц, честно выполняющих свои обязанности, носился с мыслью обнародовать некоторые свои предложения касательно пустячных нововведений в одежде, на кухне и в ходе судебного разбирательства. Все это – не более как забавы, которыми пичкают дурно руководимый народ, чтобы показать, что о нем не совсем забыли. Ничем иным не занимаются также и те, которые на каждом шагу запрещают погрязшему в гнуснейших пороках народу те или иные выражения, танцы и игры. Не время мыться и чиститься, когда тебя треплет беспощадная лихорадка. И одним спартанцам было по плечу причесываться и прихорашиваться перед тем, как броситься навстречу угрожающим жизни опасностям.
Что до меня, то мне свойственно противоположное и дурное обыкновение: если у меня искривилась туфля, то я так же криво застегиваю и рубашку и плащ; я ненавижу приводить себя в порядок наполовину. Когда я оказываюсь в плохом положении, то ухожу с головой в мои горести, предаюсь отчаянию и, даже не пытаясь устоять на ногах, падаю, согласно пословице, как топорище за топором; я убеждаю себя, что все идет как нельзя хуже и что бороться бессмысленно: все должно быть хорошо или все – дурно.
Среди человеческих черт широко распространена следующая: нам больше нравится непривычное и чужое, чем свое, и мы обожаем движение и перемены. Эту склонность разделяю и я. Кто придерживается противоположной крайности, а именно – довольствоваться самим собой, превыше всего ценить то, чем владеешь, и не признавать ничего прекрасного сверх того, что видишь собственными глазами, те если не прозорливее нас, то бесспорно счастливее. Я ничуть не завидую их премудрости, но что касается безмятежности их души, то тут, признаюсь, меня берет зависть.
Мое счастье, что опустошение нашего государства совпадает по времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом; если бы общественные несчастья омрачали радости моей юности, они были бы мне не в пример тягостнее, чем теперь, когда они только усугубляют мои печали. Вопли, которыми я разражаюсь в беде, – это вопли, внушенные мне досадой; мое мужество вместо того, чтобы съежиться, становится на дыбы.
В противоположность всем остальным, я гораздо благочестивее в хороших, чем в дурных обстоятельствах, следуя в этом наставлениям Ксенофонта, хотя и не разделяя его оснований; и я охотнее обращаю умиленные взоры к небу, чтобы воздать ему благодарность, чем для того, чтобы выпросить себе его милости. Я больше забочусь об укреплении здоровья, когда оно мне улыбается, чем о том, чтобы его вернуть, когда оно мною утрачено. Меня дисциплинирует и научает благополучие, подобно тому как других – невзгоды и розги. Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье не совместимо с чистой совестью. Удача – вот что сильнее всего побуждает меня к умеренности и скромности. Просьба меня завоевывает, угроза отталкивает; благосклонность вьет из меня веревки, страх делает меня непреклонным.
Мельчайшие и ничтожнейшие помехи – чувствительнее всего для меня; и как мелкий шрифт больше, чем всякий другой, режет и утомляет глаза, так и любое дело: чем оно незначительней, тем назойливее и хлопотнее. Тьма крошечных неприятностей досаждает сильнее, чем если бы на вас навалилась какая-нибудь одна, сколь бы большой она ни оказалась. И чем многочисленнее и тоньше эти подстерегающие нас в нашем доме шипы, тем болезненнее и неожиданнее их уколы, застающие нас чаще всего врасплох.
Я не философ: несчастья меня подавляют, каждое в зависимости от своей тяжести, а она зависит как от их формы, так и от их сущности и часто представляется мне больше действительной; я это знаю лучше других и поэтому терпеливее, чем они. Наконец, если иные несчастья не затрагивают меня за живое, все же они так или иначе меня задевают. Жизнь – хрупкая штука, и нарушить ее покой – дело нетрудное. Лишь только я поддался огорчению, как бы нелепа ни была вызвавшая его причина, я принимаюсь всячески сгущать краски и бередить себя, и в дальнейшем мое мрачное настроение начинает питаться за свой собственный счет, хватаясь за все, что придется, и громоздя одно на другое, лишь бы найти себе пищу.
Оно подпитывается и отвращением к царящим в нашей стране нравам. Я легко бы смирился с их порчей, если бы они наносили ущерб только общественным интересам, но так как они затрагивают и мои интересы, смириться с ними я не могу. Уж очень они меня угнетают. Кому ведомо, не будет ли господу богу угодно, чтобы и с нами произошло то же самое, что порою случается с иным человеческим телом, которое очищается и укрепляется благодаря длительным и тяжелым болезням, возвращающим ему более полное и устойчивое здоровье, нежели то, какое было ими у него отнято?
Но больше всего меня угнетает то, что, изучая симптомы нашей болезни, я нахожу среди них столько же естественных и ниспосланных самим небом и только им, сколько тех, которые привносятся нашей распущенностью и человеческим безумием. Кажется, что даже светила небесные – и они считают, что мы просуществовали достаточно долго и уже перешли положенный нам предел. Меня угнетает также и то, что наиболее вероятное из нависших над нами несчастий – это не преобразование всей совокупности нашего еще целостного бытия, а ее распадение и распыление, – и из всего, чего мы боимся, это самое страшное.
Между тем, по-моему, нужно, чтобы мы жили под защитою права и власти, а не благодаря чьей-то признательности или милости. Сколько смелых людей предпочло распрощаться с жизнью, чем быть ею кому-то обязанными.
Я избегаю брать на себя какие бы то ни было обязательства, и особенно те, которые связывают меня долгом чести. Для меня нет ничего драгоценнее, чем полученное мною как дар; вот почему моя воля попадает в заклад ко всякому, кто располагает моей благодарностью, и вот почему я охотнее пользуюсь такими услугами, которые можно купить. Мой расчет вполне правилен; за последние я отдаю только деньги, за все остальное – самого себя. Узы, налагаемые на меня честностью, кажутся мне намного стеснительнее и тяжелее, чем судебное принуждение. Мне не в пример легче, когда меня душат при посредстве нотариуса, чем при моем собственном. Разве не справедливо, что моя совесть чувствует себя более скованной в тех случаях, когда мне оказывается безоговорочное доверие?
В других условиях моя добропорядочность никому ничего не должна, потому что никто ей ничего не одалживал; пусть обращаются ко всевозможным обеспечениям и гарантиям, предоставляемым помимо меня. Мне было бы значительно проще вырваться из плена казематов и законов, чем из того плена, в котором держит меня мое слово. В отношении своих обещаний я щепетилен до педантизма и поэтому, чего бы то ни касалось, стараюсь, чтобы они были, насколько возможно, неопределенными и условными. Даже тем из них, которые сами по себе не важны, я придаю несвойственную им важность из ревностного стремления неизменно следовать моему правилу; оно мне мешает и обременяет меня, и притом ради себя самого, а не во имя чего-либо иного.
Больше того, если, затевая те или иные дела, даже сугубо личные, в которых я волен действовать всецело по своему усмотрению, я рассказываю кому-нибудь о моем замысле, то мне начинает казаться, что отныне я уже не вправе от него отступиться и что сообщить о нем кому-либо другому – означает сделать его своим непреложным законом; мне кажется, что, говоря, я тем самым даю обещание. Вот почему я редко делюсь моими намерениями.
Приговор, выносимый мною самому себе, гораздо строже и жестче судебного приговора, ибо судья применяет ко мне ту же мерку, что и ко всем, тогда как тиски моей совести крепче и беспощаднее. Я не очень-то рьяно исполняю обязанности, к которым меня бы принудили, если бы я их не нес. К чему меня побуждает необходимость, того мне не хочется, и я знаю таких, которые доходят в этом до явной несправедливости: они охотнее дарят, чем возвращают, охотнее ссужают, чем платят, и всего расчетливее по отношению к тем, с кем связаны теснее всего. Я не иду этим путем, но не слишком далек от этого.
Я настолько люблю сбрасывать с себя бремя каких бы то ни было обязательств, что порою почитал прибылью различные проявления неблагодарности, нападки и недостойные выходки со стороны тех, к кому, по склонности или в силу случайного стечения обстоятельств, испытывал кое-какое дружеское расположение, ибо я рассматриваю их враждебные действия и их промахи как нечто такое, что целиком погашает мой долг и позволяет мне считать себя в полном расчете с ними. И хотя я продолжаю платить им дань внешнего уважения, возлагаемую на нас общественною благопристойностью, все же я немало сберегаю на этом, так как, делая по принуждению то же самое, что делал и раньше, движимый чувством, я тем самым несколько ослабляю напряженность и озабоченность моей внутренней воли, которая у меня чрезмерно настойчива и беспокойна, во всяком случае для человека, не желающего, чтобы его беспокоили; и эта экономия до некоторой степени возмещает ущерб, причиняемый мне несовершенствами тех, с кем мне приходится соприкасаться.
Мне, разумеется, неприятно, что они теряют в моих глазах, но зато и я не очень внакладе, так как уже не считаю себя обязанным расточать им в такой мере свою внимательность и преданность. Я не порицаю того, кто меньше любит своего ребенка, потому что он покрыт паршою и горбат, и не только тогда, когда тот коварен и злобен, но и тогда, когда он попросту несчастлив и жалок (сам господь этим способом обесценил его и определил ему место ниже естественного), лишь бы при этом охлаждении чувств соблюдалась мера и должная справедливость. По мне, кровная близость не сглаживает недостатков, напротив, она их, скорее, подчеркивает.
Итак, насколько я знаю толк в искусстве оказывать благодеяния и платить признательностью за те, что тебе оказаны, – а это искусство тонкое и требующее большого опыта, – я не вижу вокруг себя никого, кто до последнего времени был бы независимее, чем я, и менее моего в долгу перед кем бы то ни было. Да и вообще, нет никого, кто был бы в этом отношении так же чист перед людьми, как я.
Государи с избытком одаряют меня, если не отнимают моего, и благоволят ко мне, когда не причиняют мне зла; вот и все, чего я от них хочу. О сколь признателен я господу богу за то, что ему было угодно, чтобы всем моим достоянием я был обязан исключительно его милости, и также еще за то, что он удержал все мои долги целиком за собой. Как усердно молю я святое его милосердие, чтобы и впредь я не был обязан кому-нибудь чрезмерно большой благодарностью! Благодатная свобода, так долго ведшая меня по моему пути! Пусть же она доведет меня до конца!
Я стремлюсь не иметь ни в ком настоятельной надобности. Тяжело и чревато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли. Мы сами – а это наиболее надежное и безопасное наше прибежище – не слишком в себе уверены. У меня нет ничего, кроме моего «я», но и этой собственностью я как следует не владею, и она, к тому же, мною частично призанята. Я стараюсь воспитать в себе крепость духа, что важнее всего, и равнодушие к ударам судьбы, чтобы у меня было на что опереться, если бы все остальное меня покинуло.
Гиппий из Эллиды, водя дружбу с музами, запасся не только ученостью, чтобы, в случае необходимости, с радостью прекратить общение со всеми другими, и не только знанием философии, чтобы приучить свою душу довольствоваться собой и, если так повелит ее участь, мужественно обходиться без радостей, привносимых извне; он, кроме того, был настолько предусмотрителен, что научился стряпать для себя пищу, стричь свою бороду, шить себе одежду и обувь и изготовлять все необходимые ему вещи, дабы, насколько это возможно, рассчитывать лишь на себя и избавиться от посторонней помощи. Гораздо свободнее и охотнее пользуешься благами, предоставленными тебе другим, в том случае, если пользование ими не вызывается горестною и настоятельною необходимостью и если в твоей воле и в твоих возможностях достаточно средств и способов обойтись и без них.
Я хорошо себя знаю. И все же мне трудно себе представить, чтобы где-нибудь на свете существовали щедрость столь благородная, гостеприимство столь искреннее и бескорыстное, которые не показались бы мне исполненными чванства и самодурства и были бы свободными от налета упрека, если бы судьба заставила меня к ним обратиться. Если давать – удел властвующего и гордого, то принимать – удел подчиненного. Свидетельство тому – выраженный в оскорбительном и глумливом тоне отказ Баязида от присланных ему Тимуром подарков.
А те подарки, которые были предложены от имени султана Сулеймана султану Калькутты, породили в последнем столь великую ярость, что он не только решительно от них отказался, заявив, что ни он, ни его предшественники не имели обычая принимать чьи-либо дары, а, напротив, почитали своею обязанностью щедро их раздавать, но и бросил в подземную темницу послов, направленных к нему с упомянутой целью.
Когда Фетида, говорит Аристотель, заискивает перед Юпитером, когда лакедемоняне заискивают перед афинянами, они не освежают в их памяти то хорошее, что они для них сделали, напоминание о чем всегда неприятно, но вспоминают благодеяния, которые те оказали им самим.
Люди, которые, как я вижу, пользуются без зазрения совести услугами всех и каждого, оставаясь тем самым в долгу перед ними, этого бы, конечно, не делали, если бы понимали, как все, кто не лишен рассудка, что значит связывать себя обязательством: его, пожалуй, можно иногда оплатить, но рассчитаться по нему невозможно. Это – мучительные оковы для каждого, кто любит всегда и везде класть локти так, как ему удобно. Моим знакомым – тем, кто выше меня по своему положению, и тем, кто ниже, – отлично известно, что они еще не видели человека менее назойливого, чем я. Если я не подхожу под современную мерку, то это – не великое чудо, так как его основа – многочисленные свойства моего характера: немножко природной гордости, боязнь столкнуться с отказом, ограниченность желаний и намерений, неприспособленность к ведению каких бы то ни было дел и, наконец, излюбленные мои качества: приверженность к праздности и к свободе.
Из-за всего этого я питаю смертельную ненависть и к тому, чтобы от кого-либо зависеть, и к тому, чтобы искать у кого-либо поддержки, если этот кто-либо не я сам. Прежде чем я позволю себе прибегнуть к чужой благосклонности, я прилагаю усилия, на какие только способен, чтобы обойтись без нее – ив пустяках и в чем-либо важном. Мои друзья нестерпимо докучают мне, когда просят, чтобы я попросил за них кого-либо третьего. И для меня не менее затруднительно использовать и таким образом освободить от обязательств того, кто мне должен, чем обязаться ради них перед тем, кто у меня ни с какой стороны не в долгу. Если пренебречь этим – и еще при одном условии, а именно, чтобы от меня не хотели чего-нибудь слишком хлопотного и сложного (ибо я объявил беспощадную войну всяким заботам), – я, в общем, охотно готов помочь в нужде каждому. Впрочем, я всегда в большей мере избегал брать, чем старался давать, – ведь, по Аристотелю, это гораздо приятнее.
Моя судьба не очень-то позволяла мне благодетельствовать другим, но и то малое, что она мне позволила, пало на неблагодарную почву. Если бы она назначила меня родиться с тем, чтобы занять среди людей высокое положение, я бы стремился к тому, чтобы заставить себя полюбить, а не к тому, чтобы внушать страх и поражать воображение. Позволительно ли мне выразить это с еще большей самонадеянностью? Я бы столько же проявлял заботу о том, чтобы нравиться, как и о том, чтобы приносить пользу. Кир устами своего превосходного полководца и еще более выдающегося философа весьма мудро оценивает свою доброту и свои благодеяния не в пример выше, нежели свою доблесть и свои обширные завоевания. И Сципион Старший всюду, где хочет возвысить себя в людском мнении, ставит свою мягкость и человечность выше своей храбрости и побед, и у него всегда на устах прославленные слова о том, что он принудил своих врагов полюбить его так же, как его любят друзья.
Итак, я хочу сказать, что если уж нужно быть всегда связанным каким-то долгом, то это должно иметь более твердые основания. Я не нахожу, к примеру, мой родной воздух самым живительным на всем свете. Природа произвела нас на свет свободными и независимыми; это мы сами запираем себя в тех или иных тесных пределах, уподобляясь в известном смысле персидским царям, давшим обет не пить никакой воды, кроме, как из реки Хоасп: отказавшись, по неразумению, от своего права употреблять любую другую воду, они обезводили для себя весь мир.
Не являясь гражданином ни одного города, я был весьма рад сделаться гражданином самого благородного из всех, какие когда-либо были или когда-либо будут. Если бы и другие всматривались в себя так же пристально, как это делаю я, то и они нашли бы себя такими же, каков я, то есть заполненными всякой тщетой и всяким вздором. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Все мы проникнуты суетой, но кто это чувствует, тот все же менее заблуждается; впрочем, может быть, я и неправ.
Всеобщее обыкновение и стремление всматриваться во что угодно, но только не в самих себя, в высшей степени благодетельно для нашего брата. Ведь мы представляем собой не очень-то приятное зрелище: суетность и убожество – вот и вся наша сущность. Чтобы не отнять у нас бодрости духа, природа направила – и, надо сказать, весьма кстати – деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающее вне нас. Мы плывем по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе – дело исключительно трудное; ведь и море злится и препятствует себе самому, когда, встретив преграду, отходит назад.
Посмотрите, говорит каждый, как разыгрывается ненастье, посмотрите на окружающих, посмотрите на иск, предъявленный тем-то, посмотрите на цвет лица того-то, на завещание, оставленное таким-то; короче говоря, посмотрите вверх или вниз, или вбок, или перед собой, или оглянитесь назад. Но повеление дельфийского бога, полученное нами от него в стародавние времена, предъявляет нам требования, идущие наперекор всем нашим повадкам: «Всмотритесь в себя, познайте себя, ограничьтесь самими собой; ваш разум и вашу волю, растрачиваемые вами вовне, направьте, наконец, на себя; вы растекаетесь, вы разбрасываетесь; сожмитесь, сосредоточьтесь в себе; вас предают, вас отвлекают, вас похищают у вас самих. Разве ты не видишь, что этот мир устремляет свои взоры внутрь себя и его глаза созерцают лишь себя самого? Суетность – вот твой удел и в тебе самом и вне тебя, но, заключенная в тесных границах, она все-таки менее суетна. О, человек, кроме тебя одного, – говорит этот бог, – все сущее прежде всего познает самого себя и в соответствии со своими потребностями устанавливает пределы своим трудам и своим желаниям. И нет ни одного существа, которое было бы столь же нищим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, жаждущий объять всю вселенную. Ты – исследователь без знаний, повелитель без прав и, в конце концов, всего-навсего шут из фарса».
Непостоянство поступков
Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Марий Младший в одних случаях выступал как сын Марса, в других – как сын Венеры. Папа Бонифаций VIII, как говорят, вступая на папский престол, вел себя лисой, став папой, выказал себя львом, а умер как собака. А кто поверит, что Нерон – это подлинное воплощение человеческой жестокости, – когда ему дали подписать, как полагалось, смертный приговор одному преступнику, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать!» – так у него сжалось сердце при мысли осудить человека на смерть.
Подобных примеров великое множество, и каждый из нас может привести их сколько угодно; поэтому мне кажется странным, когда разумные люди пытаются иногда мерить все человеческие поступки одним аршином, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и явным недостатком нашей природы.
Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы отвергаем только что принятое решение, потом опять возвращаемся к оставленному пути; это какое-то непрерывное колебание и непостоянство.
Мы не идем – нас несет, подобно предметам, подхваченным течением реки, – то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива. Каждый день нам на ум приходит нечто новое, и наши настроения меняются вместе с течением времени.
Мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного. В жизни того, кто предписал бы себе и установил бы для себя в душе определенные законы и определенное поведение, должно было бы наблюдаться единство нравов, порядок и неукоснительное подчинение одних вещей другим.
Эмпедокл обратил внимание на одну странность в характере агригентцев: они предавались наслаждениям так, как если бы им предстояло завтра умереть, и в то же время строили такие дома, как если бы им предстояло жить вечно.
Судить о некоторых людях очень легко. Взять, к примеру, Катона Младшего: тут тронь одну клавишу – и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе. А что до нас самих, тут все наоборот: сколько поступков, столько же требуется и суждений о каждом из них. На мой взгляд, вернее всего было бы объяснять наши поступки окружающей средой, не вдаваясь в тщательное расследование причин и не выводя отсюда других умозаключений.
Во время неурядиц в нашем несчастном отечестве случилось, как мне передавали, что одна девушка, жившая неподалеку от меня, выбросилась из окна, чтобы спастись от насилия со стороны мерзавца солдата, ее постояльца; она не убилась при падении и, чтобы довести свое намерение до конца, хотела перерезать себе горло, но ей помешали сделать это, хотя она и успела основательно себя поранить. Она потом призналась, что солдат еще только осаждал ее просьбами, уговорами и посулами, но она опасалась, что он прибегнет к насилию. И вот, как результат этого – ее крики, все ее поведение, кровь, пролитая в доказательство ее добродетели, – ни дать, ни взять вторая Лукреция. Между тем я знал, что в действительности она и до и после этого происшествия была девицей не столь уж недоступной. Как гласит присловье, «если ты, будучи тих и скромен, натолкнулся на отпор со стороны женщины, не торопись делать из этого вывод о ее неприступности: придет час – и погонщик мулов свое получит».
Наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других – что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна – к добру, другая – ко злу, ибо резкий переход от одной крайности к другой не может быть объяснен иначе.
Однако не только случайности заставляют меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, кроме того, меняюсь по присущей мне внутренней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее обращаю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек зрения. Тут словно бы чередуются все заключенные во мне противоположные начала. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность. Все это в той или иной степени я в себе нахожу в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе просто, цельно и основательно, я не могу определить себя единым словом, без сочетания противоположностей.
Мишель де Монтень родился в фамильном замке в городе Сен-Мишель-де-Монтень вблизи Бордо, на юго-западе Франции. Его отец Пьер де Монтень, один из образованнейших людей своего времени, был мэром Бордо; мать – Антуанетта де Лопез, по мужской линии из семьи зажиточных арагонских евреев, перешедших в католицизм в начале XV века. В раннем детстве Мишель воспитывался по либерально-гуманистической методике отца – его учитель, немец, совершенно не владел французским языком и говорил с Мишелем исключительно на латыни. Получив прекрасное образование дома, Монтень затем окончил колледж и стал юристом.
Должен сказать при этом, что я всегда склонен говорить о добром доброе и толковать скорее в хорошую сторону вещи, которые могут быть таковыми, хотя, в силу свойств нашей природы, нередко сам порок толкает нас на добрые дела, если только не судить о доброте наших дел исключительно по нашим намерениям. Вот почему смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всех обстоятельствах. Если бы это было проявлением врожденной добродетели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится среди людей; как во время поединка, так и в сражении; ибо, что бы там ни говорили, нет одной храбрости на уличной мостовой и другой на поле боя. Он будет так же стойко переносить болезнь в постели, как и ранение на поле битвы, и не будет бояться смерти дома больше, чем при штурме крепости. Не бывает, чтобы один и тот же человек смело кидался в брешь, а потом плакался бы, как женщина, проиграв судебный процесс или потеряв сына.
Наши поступки – не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия, и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит только вместе с тканью. Вот почему, чтобы судить о человеке, надо долго и внимательно следить за ним: если постоянство ему несвойственно, если он, в зависимости от разнообразных случайностей, меняет путь (я имею в виду именно путь, ибо шаги можно ускорять или, наоборот, замедлять), предоставьте его самому себе – он будет плыть по воле волн, как гласит поговорка нашего Тальбота.
Мы все лишены цельности и скроены из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. Следует поискать внутри нас, проникнув до самых глубин, и установить, от каких толчков исходит движение; однако, принимая во внимание, что это дело сложное и рискованное, я хотел бы, чтобы как можно меньше людей занимались этим.
Скептицизм
«Мы знаем вещи в сновидении, – говорит Платон, – а в действительности ничего не знаем». Всякий, ищущий решения какого-нибудь вопроса, в конце концов приходит к одному из следующих заключений: он либо утверждает, что нашел искомое решение, либо – что оно не может быть найдено, либо – что он все еще продолжает поиски. Вся философия делится на эти направления. Ее задача состоит в искания истины, знания и достоверности. Перипатетики, эпикурейцы, стоики и представители других философских школ полагали, что им удалось найти истину. Клитомах, Карнеад и академики отчаялись в своих поисках в пришли к мысли, что нашими средствами нельзя познать истину. Конечный вывод их – признание человеческой слабости и неведения; это течение имело наибольшее число приверженцев и самых выдающихся последователей.
Пиррон и другие скептики, или эпехисты (многие стороны учения которых восходят к глубокой древности, к Гомеру, семи мудрецам, Архилоху, Еврипиду, а также Зенону, Демокриту и Ксенофану), утверждали, что они все еще находятся в поисках истины. Они считали, что бесконечно ошибаются те, кто полагает, что открыли ее, и находили слишком смелым даже вышеуказанное утверждение, что человеческими средствами невозможно познать истину. Ибо, по их мнению, установить пределы наших возможностей, познать и судить о трудностях вещей уже само по себе – большая и сложная наука, которая вряд ли под силу человеку.