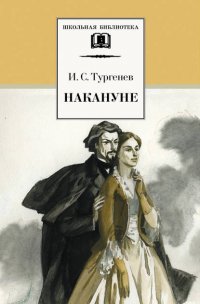
Читать онлайн Накануне бесплатно
- Все книги автора: Иван Тургенев
© Издательство «Детская литература», 2002
© В. В. Афанасьев. Вступительная статья, примечания, 1990
© В. Панов. Иллюстрации, 1977
* * *
1818–1883
Живые души
(О романе И. С. Тургенева «Накануне»)
Третий по счету роман Тургенева «Накануне» был напечатан в январе – феврале 1860 года в журнале «Русский вестник». Название оказалось глубоко символичным – ведь появился роман за год до Великой Реформы, как называли отмену крепостного права в России (1861). Это было время гласности, дарованной обществу сверху. Устно и в печати открыто обсуждалось все, касающееся грядущего освобождения. Славянофилы, западники, демократы и другие партии и группы сталкивались в яростных спорах…
Одновременно с «Накануне», в январе 1860 года, Тургенев напечатал статью «Гамлет и Дон-Кихот» (в журнале «Современник»). Эта глубокая философская работа заключала в себе идеи, которые Тургенев использовал в романе. В том же январе он прочитал «Гамлета и ДонКихота» в Петербурге на чтениях Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым. «Что было, когда вступил на эстраду Тургенев, – писала в дневнике мемуаристка Штакеншнейдер, – и описать нельзя. Уста, руки, ноги гремели во славу его». Тургенев, как вспоминает современник, «даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время излюбленный беллетрист». Журналист Н. И. Сазонов писал, что «критика редко поднималась на такую высоту; прекрасные замечания Гёте о Гамлете и великолепная страница Байрона о Дон-Кихоте не только сплавлены воедино в этом замечательном наброске, но еще освещены внимательным изучением и лихорадочной энергией, основными свойствами современной эпохи». Как видим, не только роман, но и статья Тургенева (нисколько не устаревшая и теперь) своевременна и современна.
Тургенев дал свое понимание двух нравственно-психологических типов людей (Гамлеты и Дон-Кихоты), на которые, как он считал, извечно делится все человечество и черты которых в большей или меньшей степени присущи каждой отдельной личности. Главное различие этих двух типов – в направленности их стремлений. У Гамлета они обращены на свое «я», у Дон-Кихота – на идеал, находящийся вне личности. Цель Дон-Кихота – деятельное добро, борьба со злом, «водворение истины, справедливости на земле». «Дон-Кихот энтузиаст, служитель идеи», и это придает несокрушимость его «нравственному составу» (он, по мнению Тургенева, самое нравственное существо в мире). Гамлетовскому типу человеческой натуры присущи безверие, скептицизм, эгоизм; Гамлет не в состоянии по-настоящему полюбить женщину (оттого, что может любить лишь себя), но в отличие от целомудренного Дон-Кихота не лишен чувственности… Почти неспособный к действию (беспрестанный самоанализ уничтожает его волю), он никого не может за собой увлечь, у него нет целей, и к тому же он всей душой презирает толпу… У него есть свои хорошие качества: начитанность, понимание художественного (тонкий вкус), а главное – способность четко разграничивать Добро и Зло. Не из последних человеческих достоинств и его способность ясно видеть свои пороки. Он страдает от окружающего зла (в этом они сходятся с Дон-Кихотом, но Гамлет страдает сильнее).
Отдавая предпочтение Дон-Кихоту, Тургенев подчеркивает, что идея, которая движет им, иллюзорна. Его ослепляет энтузиазм. Не понимая действительности, он наносит вред себе и другим. Но Гамлет, который без сомнения не бросился бы в атаку на мельницу, не напал бы и на великана… А ведь мельница для Дон-Кихота – злобный и могучий великан…
Такими самоотверженными, но безумными Дон-Кихотами – применительно к современности – Тургенев считал революционеров. Сам замысел его статьи явился результатом размышлений над революционными событиями во Франции в 1848 году, очевидцем которых он был. Тургенев проводит сравнение между революционерами и Дон-Кихотом, который, будучи предан своему идеалу, «не верит свидетельству глаз своих» в том, что появившаяся перед ним крестьянка – его Дульцинея, и «считает ее превращенной злым волшебником». «Мы сами на своем веку, – пишет далее Тургенев, – в наших странствованиях, видали людей, умиравших за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществление своего идеала и превращение которого они также приписывали влиянию злых, – мы чуть было не сказали: волшебников – злых случайностей и личностей. Мы видели их, и когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать».
В русской публицистике образ Дон-Кихота считался воплощением отрыва от текущей жизни и до Тургенева. В «Письмах из Франции и Италии» Герцен также называл деятелей Французской революции 1848 года Дон-Кихотами («Какой практически смешной и щемящий сердце образ складывается для будущего поэта, образ ДонКихота революции!»). Это письмо (от 1 июня 1851 года), напечатанное в Лондоне в 1855 году, Тургенев, вероятно, прочел в августе 1856 года, когда посетил за границей Герцена.
Дон-Кихотами в какой-то степени казались Тургеневу и русские революционеры-демократы. Так, в черновом варианте статьи Дон-Кихот прямо назван «демократом». Давно замечено сходство слов Тургенева о Дон-Кихоте («…он знает мало, да ему и не нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это – главное знание») с отзывом писателя о Чернышевском: «Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда… но он понимает потребности действительной современной жизни – и в нем это… самый корень его существования» (письмо к А. В. Дружинину от 30 октября ст. ст. 1856 года). С тургеневской оценкой революционности как донкихотства сами демократы согласиться, конечно, не могли. Например, Н. А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?», первоначально называвшейся «Новая повесть г. Тургенева», посвященной роману «Накануне», утверждает, что «смешными ДонКихотами», безумцами, сражающимися с призраками, являются те, которые «хотят прогнать горе ближних», не понимая, что «оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители».
Тургенев полагал, что обществу необходимы деятели, соединяющие в себе лучшие черты как Дон-Кихота, так и Гамлета, то есть волю и мысль. «Для дела нужна воля, для дела нужна мысль, – пишет он, – но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более… И вот с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой – полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какою они ее видят».
Человека, обладающего одновременно волей и мыслью, Тургенев называет «сознательно-героической натурой». Он так и пишет И. С. Аксакову в ноябре 1859 года, имея в виду «Накануне»: «В основание моей повести положена мысль о необходимости сознательно-героических натур (стало быть – тут речь не о народе) – для того, чтобы дело подвинулось вперед». «Дело» в романе не двигается. Особенно русское. Оно есть где-то там, за морем… за горами… в Болгарии например, – и туда стремится Инсаров – Дон-Кихот. Сознательно-героических натур нет в романе потому, что Тургенев не видел их в России. Он видел здесь всевозможных Гамлетов – по преимуществу среди дворянских интеллигентов, вошедших в литературу под именем «лишних людей». В «Накануне» это Шубин, обладающий всей полнотой гамлетизма.
Нужда в сознательно-героических людях все явственнее ощущалась в русском обществе, и особенно по окончании Крымской войны 1853–1856 годов (Николай I умер, не дождавшись ее конца, в 1855-м), завершившей «мрачное семилетие», как называли годы 1848–1855-е. Возникли надежды на крупные преобразования во главе с вопросом вопросов – освобождением крепостных крестьян. «Дело» началось, и в него включились все слои общества, которые, однако, действовали не единым фронтом, – было много разномыслия, недоверия и даже вражды… В этой обстановке и писал Тургенев «Накануне», роман, задуманный несколько лет назад. «Я собирался писать «Рудина» (в 1855 году. Это первый роман Тургенева. – В. А.), – вспоминал писатель в предисловии к собранию своих романов в издании 1880 года, – но та задача, которую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться». Некоторые черты Елены Тургенев придал Наталье в «Рудине» и героиням повестей «Переписка», «Фауст», «Ася», созданных параллельно с «Накануне». И если Елена как бы вырастала, постепенно проясняясь, то героя, которому она могла бы «предаться», Тургенев не видел вовсе.
Помог ему случай. Некто В. Каратеев, сосед Тургенева по Спасскому, человек, с которым он был в дружеских отношениях, отправился на войну – во время Крымской кампании – и оставил Тургеневу рукопись своей автобиографической повести. В ней, по словам Тургенева, было «беглыми штрихами намечено то, что составило потом содержание «Накануне». «Рассказ, впрочем, не был доведен до конца и обрывался круто, – писал Тургенев. – Каратеев, во время своего пребывания в Москве, влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью, но, познакомившись с болгарином Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине), полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне, хотя неумело… Одна только сцена, именно поездка в Царицыно, была набросана довольно живо – и я в моем романе сохранил ее главные черты». Так в основу романа Тургенева легло документальное начало.
Он написал «Рудина», потом «Дворянское гнездо», поставившие его в ряд крупнейших русских писателей (Достоевский отметил в «Дневнике писателя» за 1859 год, что «Дворянское гнездо» есть «произведение вечное и принадлежит всемирной литературе»). Затем вернулся к записям Каратеева. П. В. Анненков вспоминал, как зимою 1858–1859 годов «Тургенев не раз читал… по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести…» и как из этих «слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его «Накануне»…». План романа обдумывался в январе 1859 года в Спасском. Писать его Тургенев начал летом того же года за границей. Крайние даты создания «Накануне» указаны им самим на титуле черновой рукописи: «Начата в Виши во вт. 28/15 июня 1859 г., кончена в Спасском в воскресенье 25 окт./6 ноября 1859 г.».
Кроме рукописи Каратеева у Тургенева был и еще «материал», – это великие исторические события его времени, также подсказывавшие ему мысль о героическом характере… Летом 1853 года началась война между Россией и Турцией, поставившая Россию перед новыми врагами – Англией и Францией, тогдашними союзниками турок… С особенной силой разгорелось национально-освободительное движение у балканских славян. В Италии в те же годы громко заявила о себе истинно героическая личность – Гарибальди… Конечно, эти события, за которыми Тургенев следил с интересом, укрепили патриотические и героические настроения романа. Шубин в «Накануне» говорит о будущем Елены и Инсарова: «Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина… Хорошо, хорошо. Дай Бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно, в сущности, все равно. А там – натянуты струны, звени на весь мир или порвись!» В июне 1859 года Тургенев пишет графине Ламберт: «Я нахожусь теперь в том полувзволнованном, полугрустном настроении, которое всегда находит на меня перед работой (здесь имеется в виду работа именно над «Накануне». – В. А.); но если бы я был помоложе, я бы бросил всякую работу и поехал бы в Италию – подышать этим, теперь вдвойне благодатным воздухом. – Стало быть, есть еще на земле энтузиазм? Люди умеют жертвовать собою, могут радоваться, безумствовать, надеяться? Хоть посмотрел бы на это – как это делается?»
Но конечно, российские-то дела тревожили Тургенева куда больше итальянских… Какой вид примут ожидаемые реформы? Он обсуждает «все стороны этого жизненного вопроса» с крупнейшими деятелями, готовившими Великую Реформу, – с князем В. А. Черкасским, с председателем Комитета по крестьянскому делу Я. И. Ростовцевым, с Л. Н. Толстым… «Дело» росло… Росла и тревога: есть ли надежные плечи, на которые оно ляжет? И вновь перед Тургеневым (и не только перед ним) вставал вопрос о героической личности, о такой личности, у которой чувство гражданского долга перечеркнуло бы собственные выгоды… Нужны не Гамлеты, не Дон-Кихоты, а сознательно-героические личности. И их нужно много… Тургенев пишет Н. А. Некрасову об «ответственности, которая поневоле падает на каждого». И на писателя в первую очередь.
Что бы ни писал Тургенев, он всегда, по свойству своего таланта, вскрывает что-нибудь значительное в современной жизни… В 1858 году в журнале «Атеней» появилась статья Чернышевского «Русский человек на rendezvous», написанная по поводу повести Тургенева «Ася». Даже в такой лирической, далекой от социальных проблем повести Чернышевский находит нечто, – он считает нерешительное поведение героя повести с любимой им девушкой общественно типичным. Это тип дворянского либерала, нерешительного во всем. Это его качество становится бедствием в особенно трудные для народа времена, – например, в канун крестьянской реформы. Чернышевский полагал, что либералы-дворяне пропустят ту благоприятную минуту, когда еще можно будет что-то изменить к лучшему… На смену этим либералам должны прийти люди другого склада, а именно – решительные разночинцы-демократы… «Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, – писал Чернышевский, – которою определится навеки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно». Тургенев не мог согласиться с такой постановкой вопроса. Нерешительности в своем сословии он видел много, но она еще не говорила о полной «непригодности»…
«Накануне» было и ответом Чернышевскому. Но для того чтобы вести дальнейший разговор о пригодности или непригодности дворян к общему делу, нужно рассмотреть героев романа Тургенева. Как и во многих его произведениях, в «Накануне» не зависящая от времени художественность сопрягается со злободневностью. Вечным и сегодняшним живут герои романа. Вот, например, упоминавшийся нами скульптор Шубин. Уже в его внешнем облике можно заметить черты Гамлета – чувственность и эгоизм. Он любуется собой и весь мир воспринимает как среду для своего существования. Природа ему видится не столько в духовном плане, сколько в объемном (недаром он скульптор). Самый прекрасный пейзаж для него расплывчат, его «не ухватишь». «Я мясник-с; мое дело – мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны», – говорит он Берсеневу о пейзаже. Ему же он предлагает: «Займи свое место в пространстве, будь телом…»
С одной стороны, его совет не лишен смысла. Ведь он предлагает созерцателю Берсеневу войти в жизнь, а не стоять перед ней, как перед картиной, которая хотя и прекрасна, но находится вне созерцающей личности… «Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом…» С другой стороны, сам он, Павел Шубин, считая себя центром мироздания, не входит в мир, а остается за его пределами, поскольку весь устремлен на себя. Так и любовь, и счастье он понимает и принимает лишь как свое… «Я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым», – говорит он очень откровенно. Его девиз: «Мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастье!»
Однако отсутствие прочного стержня в душе Шубина (именно из-за того, что он ни во что не верит) приводит к тому, что не он завоевывает жизнь, а сама эта жизнь, оборачивающаяся к нему своей плотской, бездуховной стороной, грозит поработить его (слишком зыбка его безрелигиозная «духовность»), убить в нем и душу и талант. Она то и дело затягивает его в свои сети, каждый его высокий порыв превращая в фарс. Шубин любит Елену Стахову, но лишь настолько, насколько может любить его «гамлетовская» – эгоцентрическая – натура. Даже страдая, он умиляется своими страданиями, не в силах забыть о себе. Понимая это, он еще больше мучается: «Неужели же я всё с собой вожусь, когда рядом живет такая душа?» Ловушки, которые расставляет материальный мир перед Шубиным, подстерегают его и в любви. Не высохли еще его слезы по Елене, а он уже бежит за хорошенькой горничной… Любовные страдания переходят в пошлость… И все же есть в нем непосредственность и правдивость. Душа его жива. Отвергнутый Еленой, Шубин отдается «вечному, чистому искусству», он уезжает в Рим и становится «одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей»…
Шубин – не конченый человек. Тургенев оставляет ему выход в «пригодность». Этот выход – через гамлетовскую способность видеть вещи реально, в самоанализе, самовоспитании, самоиронии. Именно Шубин дает беспристрастную оценку себе самому и своим современникам. «Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие, – говорит он Увару Ивановичу. – Да! да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Всё – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие!»
Упомянутый Увар Иванович, по фамилии Стахов, связан с Шубиным какими-то странными узами. Это фигура для Тургенева несколько необычная: соединение характера (отчасти сатирического) с символом (или воплощенной идеей). Неподвижность его, неспособность ни на какое действие, сонность – всё это состояния, грозящие охватить русского человека. Корни этого героя – в романе «Дворянское гнездо», и почти буквально в земле (как и полагается быть корням). Это сцена возвращения Лаврецкого на родину, когда он «в дремотном онемении» смотрит из тарантаса на родные места. Тишина и спокойная неподвижность целительно подействовали на его усталую душу. В этой устойчивой, словно бы никогда не меняющейся деревенской жизни, он, как ему показалось, обрел непреходящую правду жизни: «И вдруг находит тишина мертвая; ничто не стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика». «И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – думает Лаврецкий, – кто входит в ее круг, – покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши!.. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь: здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам». И при этом (о Лаврецком): «никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины»…
Вот в этот спокойный мир врывается товарищ Лаврецкого по университету Михалевич и называет его байбаком, лентяем. «И когда же, где же вздумали люди обайбачиться? – кричал он под конец спора, в 4 часа утра, – у нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит!» Беспокойство, кипящее в словах Михалевича, переходит в «Накануне»… Это беспокойство самого Тургенева, часто высказывавшееся им в его переписке. «Усыпляющий элемент русской жизни» в те же предреформенные годы вызвал к жизни такой характерный образ, как Обломов в одноименном романе И. А. Гончарова. Это тот же неподвижный «идол», как и Увар Иванович. И та же неподвижность грозила Шубину, – не случайно между «черноземной силой» и молодым художником была какая-то странная связь и «бранчивая откровенность».
Шубин называет Увара Ивановича «черноземной силой», «фундаментом общественного здания», «представителем хорового начала», «почвой». Можно предположить, что в этом герое отразились отчасти представления Тургенева о народе, о его скованных духовных силах. Об этом свидетельствуют такие национальные атрибуты, как кружка с квасом, всегда стоящая возле постели Увара Ивановича, а также его народное – общинное – представление о нравственности. Он, например, утверждает, что младшие должны безоговорочно подчиняться старшим… Шубин именует его еще и «стихийным человеком», – а это также народная черта. С другой стороны, в Уваре Ивановиче имеются «следы настоящей стаховской крови», то есть старого русского дворянства. Этот образ в какой-то степени символизирует те исторические формы, в которые вылилась дореформенная Россия, то есть крестьянскую общину с ее общинным сознанием («хоровым началом») и старое дворянское землевладение. Накануне реформы обострились споры именно о крестьянской общине: их вели славянофилы с западниками на страницах журналов «Русская беседа» и «Сельское благоустройство». Суть спора в общих чертах сводилась к противопоставлению «личность – община» и вытекающему из него другому противопоставлению: «Запад – Россия»…
Поземельную общину, крестьянский «мир», славянофилы (И. и П. Киреевские, Хомяков, Самарин, Кошелев, К. и И. Аксаковы) считали «основой общественного здания» России. Положив идею общины в основу своего учения, они считали себя первооткрывателями, связывая постановку проблемы об общине с возникновением славянофильства. «Славянское племя, и по преимуществу русское, отличается от всех других особенностью своего общинного быта», – писал в 1857 году в статье «Современный вопрос» А. С. Хомяков. Еще в 1839 году И. В. Киреевский говорил об общественном устройстве Древней Руси так: «Человек принадлежал миру, мир ему. Поземельная собственность, источник личных прав на Западе, была у нас принадлежность общества». К. С. Аксаков видел в общинном начале «душу русского народа» и был среди славянофилов самым горячим проповедником общины.
В условиях предстоящей отмены крепостного права славянофилы, бывшие поборниками скорейшей его ликвидации, боролись за освобождение крестьян с землей, основываясь на исконном праве крестьян на землю. В сохранении в России общинного землевладения при существовании и частной – помещичьей – собственности славянофилы видели гарантию ликвидации вражды между дворянским и крестьянским сословиями, основу для объединения нации. Они утверждали, что крепость общины не только оградит страну от революции («резни») и от «пролетарства», но и обеспечит «нравственную связь двух сословий, на основе помещичьей опеки над крестьянским «миром» (Хомяков).
Общинное начало, как свойственное России, славянофилы последовательно противопоставляли началу личностному, западному. Это они утверждали и в литературной критике, выступая за подчинение личности «хоровому началу». «Отделенная личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиримый разлад, – писал Хомяков. – Она до такой степени не способна быть началом или источником художества, что всякое ее проявление уже расстраивает или искажает художественное произведение».
Проблема «личность – община» (так же, как «Запад – Россия»), споры о которой начались задолго до реформы, не оставила равнодушным и Тургенева. Его спор со славянофилами, особенно в дореформенное время, нередко носил дружеский характер. Именно дружеские, весьма теплые отношения связывали его с некоторыми из них, например с семьей Аксаковых (отцом и двумя сыновьями). Тургенев спорит чаще всего с Константином Сергеевичем Аксаковым. В октябре 1852 года он пишет Сергею Тимофеевичу (отцу К. С.): «К сему письму приложено от меня несколько слов К-у С-чу насчет его замечаний, которые я большею частью признаю справедливыми, хотя в коренном нашем воззрении на русскую жизнь, а оттого и на русское искусство, мы расходимся. Он это, я думаю, знает; но чего он не знает, может быть, вполне, это – та горячая симпатия, которую я чувствую к его благородной и искренней натуре».
Еще в 1853 году в письме к К. С. Аксакову Тургенев говорит, что не может согласиться с его идеализацией общинного быта и с противопоставлением России, искони крепкой духом «общинности», Западу с его индивидуализмом. «Мы обращаемся с Западом, – пишет Тургенев, – как Васька Буслаев с мертвой головой, – подбрасываем его ногой – а сами… Вы помните, Васька Буслаев взошел на гору, да и сломил себе на прыжке шею. Прочтите, пожалуйста, ответ ему мертвой головы». Тургенев, в отличие от Аксакова, видит два источника «оживления» России – «западный» и «восточный». «Мы стоим у двух источников, – пишет он, – мертвой и живой воды; живая для нас запечатана семью печатями – а мертвой мы не хотим; но убитый богатырь воскрес от вспрыскивания обеими водами». Под живой водой, пользуясь терминологией самих славянофилов, Тургенев подразумевает народную жизнь с ее культурой, нравственностью, общинным сознанием.
Шубин, говоря о том, что Инсаров связан со своим народом общей целью – освобождением родины, – посмеивается над славянофилами (тут, без сомнения, Тургенев в его речь вкладывает свои мысли): «Он с своею землею связан – не то что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука!» Поднятая славянофилами проблема утраты образованным обществом народности существовала в реальности. Задача объединения нации на каждом шагу обнаруживала свою необыкновенную сложность… Тургенев считал, что и народ («простой») нужно учить, хотя отчасти приближать к интеллигентской культуре, пробуждать в каждом члене общины личность. Сам он во время подготовки реформы деятельно организовывает «Общество для распространения грамотности и первоначального образования». «Предприятие это касается всей России», – пишет он П. В. Анненкову из Вентнора в августе 1860 года. В этом вопросе у него был взгляд, противоположный славянофильскому.
Что касается общины, то и тут у Тургенева был свой – личный и живой – опыт. Так, не дожидаясь манифестов, он предпринял «крестьянскую реформу» в собственном имении, переведя своих крестьян с барщины на оброк и вольнонаемный труд, причем свое хозяйство он стал называть на западный образец «фермой». Эти нововведения он осуществил уже к началу 1860 года. «С крестьянами я почти везде благополучно размежевался (оставив, разумеется, старое количество земли), – пишет он И. С. Аксакову в октябре 1859 года, – переселил их (с их согласия) – и с нынешней зимы они все поступают на оброк, по 3 рубля серебром с десятины… Крестьяне, перед разлукой с «господами» – становятся, как говорится у нас, козаками – и тащут с господ всё, что могут: хлеб, лес, скот и т. д. Я это вполне понимаю – но на первое время в наших местах исчезнут леса, которые все продают теперь с остервенением. Ничего: лес вырастет – и уже не кое-где и не кое-как, а по указаниям науки. Трезвости у нас нет – такой пьяный уголок. Так и будут крестьяне сидеть на оброке с земли… пока не придут распоряжения сверху. О мире, об общине, о мирской ответственности в наших околотках никто слышать не хочет: я почти убеждаюсь, что это надо будет наложить на крестьян в виде административной и финансовой меры: сами собою они не согласятся – то есть они дорожат миром – только с юридической точки зрения, – как самосудством, если можно так выразиться, но никак не иначе».
Итак, Тургенев, как ему казалось, убедился на деле, что крестьяне не дорожат общиной и что она, следовательно, несвойственна крестьянской жизни, как утверждали славянофилы. Для того чтобы ее ввести, надо, в сущности, «налагать» ее на крестьян в административном порядке… Поэтому он и подвергал сомнению такие утверждения, как, например, следующее: «Сельская община есть факт первостепенный, самородный и бытовой, возражать на него было бы так же бесполезно, как спорить против климата, языка или физиономии народа» (Ю. Ф. Самарин). То есть Тургенев такие идеи не мог не считать иллюзиями, а их носителей – Дон-Кихотами…
Однако как бы они, по мнению Тургенева, ни заблуждались, они были чистыми, нравственными людьми. У них был героизм именно в тургеневском смысле – готовность пожертвовать собой во имя блага общества. В этом отношении показательно письмо И. С. Аксакова (1844) к родителям, приславшим ему копию с письма Гоголя: «Нет, сознавая истину его слов, я не могу оторваться от жизни и стремлюсь к противоположной цели… Жить, посвятив себя изучению собственной души своей, углубляться в самосознание, просветить духовные очи свои и после долгой, трудной борьбы, после тяжкого подвига исполниться гармонии и божественной любви – высоко, прекрасно. Но это может быть уделом одного лица. Человечество живет, движется, трепещет действительностью… И так сильно сочувствие мое к человечеству, тревожно бегущему к неизвестной цели, так близки мне интересы его нравственной жизни и материальных выгод, что, охотно пожертвовав блаженством христианским, личным, я посвятил бы себя на общую пользу, согласился бы быть одним из камней пирамиды… Мне кажется, что с Гоголевым настроением духа… не будешь годиться для общественной жизни».
Эти слова Аксакова вполне могли бы принадлежать тургеневскому Дон-Кихоту. Они созвучны и герою «Накануне» – Дмитрию Инсарову, в котором Тургенев подчеркивает всяческую определенность: «Черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ». Берсенев называет его железным человеком. Сравнивая лица Берсенева и Инсарова, Шубин замечает: «У болгара характерное, скульптурное лицо… у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть». В отличие от созерцателя Берсенева Инсаров – деятель, ДонКихот, его деятельность подчинена одной цели. Стоило при нем помянуть Болгарию, «все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь». «Когда тот (Инсаров. – В. А.) говорит о своей родине, – пишет Елена в дневнике, – он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит – он делал и будет делать».
Инсаров не мыслитель, не философ, не художник – ни музыка, ни красота природы и искусства не привлекают его. В нем как бы нет перспективы. Он подобен плоскости или, точнее, прямой линии, устремленной в одну точку. Сушь и сила – вот поразительно точная характеристика, которую дает ему в романе Шубин. Уже здесь видна какая-то недостаточность… И в самом деле, отсутствие гамлетизма сильно обедняет этот образ. Так, в сцене, когда Инсаров защищает своих спутников от пьяных немцев (а он один в русской компании способен это сделать), Елена содрогается при виде того зловещего, почти жестокого выражения, которое принимает его лицо. «Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно».
У Дон-Кихота, как, впрочем, и у Гамлета, есть оборотная сторона, есть грань, переступив которую, добро и героизм грозят перевоплотиться в зло, в жестокость. Любовь к родине может обернуться ненавистью к иноплеменникам, национально-освободительная борьба – в жестокую резню, подчинение своей личности общей цели – в презрение к отдельному человеку… И вот художник и мыслитель Шубин, понимая эту опасность, лепит два бюста Инсарова. Один изображает благородного героя, а на другом «молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии «супруга овец тонкорунных», и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться». Этот второй лик Инсарова Берсенев назвал «Берегитесь, колбасники» (подразумевая немцев). Однако если Шубин, вылепивший нечто подобное и на свой счет, способен был осознать свои недостатки, то Инсаров к такому осознанию способен не был.
По мнению Тургенева, любовь – ненависть (этот «глухой огонь», сжигающий Инсарова), не ограниченная ни единым проявлением жалости или слабости, это безудержное стремление к своей единственной цели, в состоянии погубить своего носителя. Он рисует символическую ситуацию: Инсаров умирает от болезни, в которой, как говорит врач, «его же силы теперь против него направлены».
Тургенев все время подчеркивает, что Инсаров человек не русский, что русский не мог бы быть похожим на него. Елена спрашивает себя: «Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским». В его целеустремленности и методическом упорстве Берсеневу и Шубину видится какая-то «неметчина». «Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же, как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною». Но была ли бы такая аккуратность смешною в деле – кто знает… Не смешон и принцип не менять никаких своих решений, – это ведь принцип самоуверенной безгрешности, опасный для всех прочих…
Так Тургенев вплотную подводит читателя к спору с революционными демократами о сильной личности, которую они упорно противопоставляли «нерешительным» интеллигентам-дворянам (например, Чернышевский в статье по поводу «Аси»). Пародируя Чернышевского, Тургенев вводит в одну из речей Шубина такую характеристику «решительного» деятеля: «Герой не должен уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом – стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра». В самой последней фразе – ответ Тургенева Чернышевскому. Герои другого калибра – сознательно-героические натуры…
Что могли бы принести России герои, подобные Инсарову, такие желанные для русских демократов? Тургенев чувствовал, что Инсаровы могут становиться жестокими тиранами. И если это возможно в Болгарии, где герой находится в единстве с народом (у них одна цель!), то что говорить о России, где все разобщено? Призывать к революционной борьбе против «внутренних турок» (как выразился Добролюбов в статье о «Накануне») – значит вести к окончательному расколу нации, к кровопролитию, страшным бедствиям… Это отсутствие сознания, этот утопизм революционных демократов Тургенев определил совершенно безошибочно. Вот почему он был возмущен статьей Добролюбова «Новая повесть г. Тургенева», где роман использован был лишь как средство для революционной пропаганды против «внутренних турок». Он просил Некрасова, редактора журнала «Современник», не публиковать этой статьи. И после того как она в журнале все-таки появилась, вышел из состава редакции, перестал печататься в нем.
Инсаров – болгарин. Таких мужчин, как он, в России не было (в романе это подчеркнуто). Но уже стали пробуждаться к деятельности женщины, и, конечно, по-своему, через любовь, приобщаясь к большим общественным делам. Елена Стахова – во многом отражение Инсарова, но не его тень. Она похожа на него резкостью своих черт, устремленностью вперед. «Она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед». «Слабость возмущала ее, – пишет Тургенев, – глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, – а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, – и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь».
Так же, как Инсарова, ее не привлекают ни чтение, ни музыка, ни красоты природы – ей чужда вообще созерцательность… Она с детства стремится к деятельному добру. «Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили», – пишет Тургенев. Она всегда готова к самопожертвованию. Но это самопожертвование – не христианское смирение, ведь даже милостыню она подает нищим «с невольною важностью»… А жертвует она всем. По мнению Тургенева, именно такой тип женской самоотверженности и героизма обладает жизнестойкостью, будущим. Вместе с тем это пример русского героизма, русского самопожертвования, характер, выросший именно на русской почве. «А дочь Николая Артемьевича Стахова! – восклицает Шубин. – Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну…» Но не пришло то время, как полагает Тургенев, когда натуры, подобные Елене Стаховой, будут нужны России. А нужны они – будут…
Елена, очевидно, символизирует в романе женский тип героизма (свойственный не только женщинам). Вот что писал о женственности в характере славян в те же годы Герцен: «Восприимчивый характер славян, их женственность, недостаток самодеятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют» (вспомним Увара Ивановича. – В. А.). Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непонимания друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым».
В 1857 году в Лондоне Тургенев мог слышать этот текст от самого Герцена (он был написан, но еще не опубликован). Тургенев сообщает Полине Виардо в мае того же года: «Утром был у Герцена, который читал мне свои «Воспоминания». Мысль Герцена, по всей видимости, была близка Тургеневу, также считавшему, что Россия должна пойти за Западом, взяв оттуда все лучшее. Перекликаются со всей проблематикой романа и рассуждения Герцена о своеобразии России, полемически направленные против славянофилов. «Ошибка славян (то есть славянофилов. – В. А.) состояла в том, – писал он, – что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития… Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском».
Из подобных представлений выросла в романе Тургенева фигура Берсенева. Это пример человека, в котором есть «живые стихии» русской жизни, но который оплодотворен мыслью Запада. Не случайно Шубин называет его «будущим посредником между наукою и российскою публикой». Тургенев намеренно сближает Берсенева с Инсаровым. Не случайно Елена едва не полюбила Берсенева. Она как бы жалела, что в Инсарове (мужчине, бойце) нет берсеневских черт (кротости, мягкости). Елене кажется, что Берсенев не обладает волей, но это далеко не так. Его воля, не отражаясь в его внешности, служит ему не хуже, чем Инсарову. Есть у него благородная цель и идея (пусть не такая яркая и великая!): память об отце, передавшем ему перед смертью «светоч» науки и благословившем его на служение ей. Он всегда с книгой, за изучением философии и истории. «Недаром мне говаривал отец, – вспоминает Берсенев, – мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики – мы труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастие!»
Правда, предмет его занятий далек от насущных нужд России, его не употребишь в деле подготовки текущих реформ… Он устремлен в будущее, ложится в основу просвещения грядущих поколений (Берсенев хотел «идти по следам» знаменитого историка Грановского)… Он нисколько не эгоист. «Я люблю говорить с Андреем Петровичем, – пишет Елена в дневнике о Берсеневе, – никогда ни слова о себе, все о чем-нибудь дельном, полезном». Поступки Берсенева благородны, но он как бы не сознает этого, то есть они естественны. Он, например, сообщает Елене, которую всей душой любит сам, о любви к ней Инсарова. Просиживает у постели Инсарова дни и ночи и спасает его от верной смерти. Желание помогать, спасать да еще светлая печаль живут в его сердце. В этой светлой печали слышится душа самого Тургенева («самого печального человека на свете», как о нем говорили, что весьма напоминает рыцаря Печального Образа, то есть Дон-Кихота…). «Всё очень тихо вокруг, – пишет Тургенев в июле 1859 года М. А. Маркович, – слышатся детские голоса и шаги (у г-жи Виардо прелестные дети) – в саду воркуют дикие голуби – а малиновка распевает; ветер веет мне в лицо – а на сердце у меня – едва ли не старческая грусть. Нет счастья вне семьи – и вне родины; каждый сиди на своем гнезде и пускай корни в родную землю… Что лепиться к краешку чужого гнезда!..» Те же чувства и те же слова у Берсенева: «Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда?..»
«О вы, русские, золотые у вас сердца!» – восклицает Инсаров, имея в виду главным образом Берсенева. Жизнь сердца – действительно главное в Берсеневе. Тургенев показывает, что во всех тех героях, которые ему хоть сколько-нибудь симпатичны, эта жизнь сердца играет большую роль. Мягкость души, сердечность русского человека нередко выражается в его способности плакать (может быть, это происходит от способности русского человека к глубокому покаянию, в православном понимании слезы – великий Божий дар). Как отмечают современники, этой способностью обладал сам Тургенев… Все герои «Накануне», кроме «железного» Инсарова, Зои да «машины» Курнатовского, имеют этот дар. Впрочем, и железная душа Инсарова однажды смягчилась. «Он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь… чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу, и никогда еще не изведанные слезы навернулись на его глаза…» Слезы их – Елены, Шубина, отца и матери Елены, в особенности Берсенева, – очищающие и примиряющие, идущие от полноты сердца, – льются в минуты счастья и в те редкие минуты, когда душа раскрывается для добра, прощения, соединения, как, например, лились эти слезы у отца Елены в прощальной сцене его последнего родительского благословения.
Не принимая идеи об общине и общинном сознании как идеале русской жизни, Тургенев показывает в «Накануне», что в крайние, поворотные моменты жизни почти все его герои способны отказаться от личных – эгоистических – интересов, забыть о себе (а это и есть проявление общинного сознания). Это означает, что они – живые души. Так с великим трудом, но все же преодолевает свой эгоизм Шубин, осознав его со «смиренномудрием» (не случайно здесь Тургенев употребляет слово православного богословского словаря), так Берсенев, не страдая «многоглаголанием» (и это слово оттуда), тихо и незаметно совершает чудо самопожертвования. Так мать Елены делает все, чтобы отец простил Елену, а когда уже у нее готов сорваться с языка укор Инсарову, она поднимает глаза и, увидя его больным, забывает свои упреки, ее охватывает жалость. В особенности эти свойства русского человека сказываются в характере отца Елены. Тургенев рисует его пошловатым, опустившимся, иногда жестоким, смешным, капризным, и ни герои романа, ни читатель не принимают его всерьез. Но сцена отъезда Елены и Инсарова и прощание с ними Николая Артемьевича принадлежат к самым сильным и потрясающим эпизодам в русской прозе. Широта натуры, отцовское горе, полное забвение себя и своих обид, яркая вспышка любви – все слилось в этой сцене отцовского напутствия…
Тургенев, подобно Гоголю, придавал огромное, почти мистическое значение языку народа – русскому языку, – видя в нем его живую душу (вспомним его стихотворение в прозе «Русский язык»: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!..»), хранительницу всех качеств народа. Откуда в Стахове вдруг появилось это безоглядное благородство (а вместе с тем и народные, национальные качества)? Да оно жило в его душе, как живет в душе всякого русского, ожидая своего решительного часа, чтобы воплотиться в действие… Жило в памяти, в слове…
Герои «Накануне», все эти Гамлеты и Дон-Кихоты – поистине «живые души», несущие в себе зародыши будущего. Но этого будущего для России Тургенев не мыслит без участия Европы. И он отправляет туда сначала Берсенева (в Гейдельберг, Берлин и Париж), который стал ученым и публикует статьи, готовясь в профессора… потом Шубина в Рим, где он как скульптор не встречает понимания богатых русских заказчиков, предпочитающих ему поверхностных французов… Шубин в Риме думает о России. «Помните, я спрашивал у вас… будут ли у нас люди? – пишет он Увару Ивановичу, – и вы мне отвечали: «Будут». О черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего «прекрасного далека», снова вас спрашиваю: «Ну что же, Увар Иванович, будут?» – Шубин цитирует Гоголя… Следующей фразой Тургенев кончает роман: «Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор».
Так, с явным воспоминанием о Гоголе (с характерным для него Римом, где плодотворнее всего работал он над «Мертвыми душами») Тургенев расстается со своими героями и сам, как бы вместе с Гоголем, задумывается о России – он, как и Гоголь, видит ее по большей части из своего «прекрасного далека»…
Виктор Афанасьев
Накануне
I
В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью – беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.
В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.
– Отчего ты не лежишь, как я, на груди? – начал Шубин. – Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку – вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж – смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!
Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфекты), и, не дождавшись ответа, продолжал:
– Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?
– Что? – проговорил, встрепенувшись, Берсенев.
– Что! – повторил Шубин. – Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.
– Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.)
– Важный пущен колер, – промолвил Шубин. – Одно слово, натура!
Берсенев покачал головой.
– Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.
– Нет-с; это не по моей части-с, – возразил Шубин и надел шляпу на затылок. – Я мясник-с; мое дело – мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны… Пойди поймай!
– Да ведь и тут красота, – заметил Берсенев. – Кстати, кончил ты свой барельеф?
– Какой?
– Ребенка с козлом.
– К черту! к черту! к черту! – воскликнул нараспев Шубин. – Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики – те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда – Бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулим. Клюнет – браво! а не клюнет…
Шубин высунул язык.
– Постой, постой, – возразил Берсенев. – Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоем искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь…
– Эх ты, сочувственник! – брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенев задумался. – Нет, брат, – продолжал Шубин, – ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах… в девушках, да и то с некоторых пор…
Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.
Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.
– Кстати, о женщинах, – заговорил опять Шубин. – Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?
– Нет.
– Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо… Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством Бог благословил этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе[1]. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.
– А Елены Николаевны бюст, – спросил Берсенев, – подвигается?
– Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было… Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только вы ражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо… странное существо, – прибавил он после короткого молчания.
– Да; она удивительная девушка, – повторил за ним Берсенев.
– А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!
Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал. Берсенев вообще не грешил многоглаголанием и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, – тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа – все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обессиливало… Он был очень нервический молодой человек.
Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.
– Заметил ли ты, – начал вдруг Берсенев, помогая своей речи движениями рук, – какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любуемся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?
– Гм, – возразил Шубин, – я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа – та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь… какое сильное, горячее слово! Природа… какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!»[2] – или нет, – прибавил он, – не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компрене[3].
Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.
– Зачем насмешка, – проговорил он, не глядя на своего товарища, – зачем глумление? Да, ты прав: любовь – великое слово, великое чувство… Но о какой любви говоришь ты?
Шубин тоже приподнялся.
– О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил…
– От всей души, – подхватил Берсенев.
– Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено… Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел ее глазами, чувствовал не своим, одиноким, а ее чувством, – не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!
Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.
– Я не совсем согласен с тобою, – начал он, – не всегда природа намекает нам на… любовь. (Он не сра зу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных… да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.
– И в любви жизнь и смерть, – перебил Шубин.
– А потом, – продолжал Берсенев, – когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога[4] (Берсеневу стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), – разве и это…
– Жажда любви, жажда счастия, больше ничего! – подхватил Шубин. – Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастия, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог – бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! – продолжал Шубин с внезапным порывом, – мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастие!
Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенев поднял на него глаза.
– Будто нет ничего выше счастья? – проговорил он тихо.
– А например? – спросил Шубин и остановился.
– Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья… Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?
– А ты знаешь такие слова, которые соединяют?
– Да; и их не мало; и ты их знаешь.
– Ну-ка? какие это слова?
– Да хоть бы искусство, – так как ты художник, – родина, наука, свобода, справедливость.
– А любовь? – спросил Шубин.
– И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.
Шубин нахмурился.
– Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.
– Номером первым, – повторил Берсенев. – А мне кажется, поставить себя номером вторым – все назначение нашей жизни.
– Если все так будут поступать, как ты советуешь, – промолвил с жалобною гримасой Шубин, – никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.
– Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.
Оба приятеля помолчали.
– Я на днях опять встретил Инсарова, – начал Берсенев, – я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой… и с Стаховыми.
– Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли?
– Может быть.
– Необыкновенный он индивидуум, что ли?
– Да.
– Умный? Даровитый?
– Умный?.. Да. Даровитый? Не знаю, не думаю.
– Нет? Что же в нем замечательного?
– Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти.
Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?
– Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута… я недаром артист: я на все заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..
Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенев двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.
II
Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.
– Я бы опять выкупался, – заговорил Шубин, – да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.
– У нас есть русалки, – заметил Берсенев.
– Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора… Когда же, Боже мой, поеду я в Италию? Когда…
– То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?
– Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и…
– Не договаривай, пожалуйста, – перебил Берсенев.
– И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидал там такие типы, особенно женские… Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!
– Ты поедешь в Италию, – проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, – и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!
– Ставассер полетел же…[5] И не он один. А не полечу – значит, я пингуин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, – продолжал Шубин, – там солнце, там красота…
Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.
– Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! – крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.
Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:
– Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.
– Что я слышу? – заговорил, всплеснув руками, Шубин. – Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.
– Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, – возразила не без досады девушка, – отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, – прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.
– Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну исступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.
Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу.
– Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.
– О, Боже! – простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча.
Девушка топнула ножкой.
– Павел Яковлевич! Я рассержусь! Helène пошла было со мною, – продолжала она, – да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.
Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица.
Приятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутились перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцево. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головой для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.
III
Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные – бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом платье с куафюрой из маленьких роз». Она берегла эту куафюру… Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться; с первою мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, – и всегда держался того мнения, что нельзя.
Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето 53-го года он не переехал в Кунцево: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его frondeur[6]; это название очень ему понравилось. «Да, – думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, – меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» – или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Всё это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его: Mein Pinselchen[7].
Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила: стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала, что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемо гала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.
Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию; тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера – и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным, – его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.
IV
– Пойдемте же кушать, пойдемте, – проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую. – Сядьте подле меня, Zoe, – промолвила Анна Васильевна, – а ты, Helène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoe. У меня голова болит сегодня.
Шубин опять возвел глаза к небу; Zoe ответила ему полуулыбкой. Эта Zoe, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.
Обед продолжался довольно долго; Берсенев разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенною жадностию, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматической улыбочкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять?» – но, не дождавшись ответа, прибавила: «Сыграйте мне что-нибудь такое грустное…»
– «La dernière pensee» de Weber?[8] – спросила Зоя.
– Ах да, Вебера, – промолвила Анна Васильевна, опустилась в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.
Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шепотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь.
– Опять старые шутки, – произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.
– Старые шутки, – повторил Шубин. – Предмет-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения выводит.
– Это почему? – спросила Елена. – Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка…
– Конечно, – перебил Шубин, – она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично… польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей приятно… К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать, – прибавил он сквозь зубы. – Впрочем, вы теперь другим заняты.
И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.
– Итак, вы желали бы быть профессором? – спросила Елена Берсенева.
– Да, – возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. – Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого… Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда…
Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепетывал.
– Вы хотите быть профессором истории? – спросила Елена.
– Да, или философии, – прибавил он, понизив голос, – если это будет возможно.
– Он уже теперь силен, как черт, в философии, – заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине, – на что ему за границу ездить?
– И вы будете вполне довольны вашим положением? – спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.
– Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича… Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да… смущением, которого… которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело… Я никогда не забуду его последних слов.
– Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?
– Да, Елена Николаевна, в феврале.
– Говорят, – продолжала Елена, – он оставил замечательное сочинение в рукописи; правда ли это?
– Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.
– Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?
– Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные…
– Андрей Петрович, – перебила его Елена, – извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?
Берсенев слегка улыбнулся.
– Шеллингианец, это значит последователь Шеллинга, немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга…
– Андрей Петрович! – воскликнул вдруг Шубин, – ради самого Бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!
– Вовсе не лекцию, – пробормотал Берсенев и покраснел, – я хотел…
– А почему ж бы и не лекцию, – подхватила Елена. – Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.
Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.
– Чему же вы смеетесь? – спросила она холодно и почти резко.
Шубин умолк.
– Ну полноте, не сердитесь, – промолвил он спустя немного. – Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках.
– Да; и о французских романах, о женских тряпках, – продолжала Елена.
– Пожалуй, и о тряпках, – возразил Шубин, – если они красивы.
– Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах.
Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.
– А, вот как? – начал он неверным голосом. – Я понимаю ваш намек; вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний?
– Я не думала отсылать вас отсюда.
– Вы хотите сказать, – продолжал запальчиво Шубин, – что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка? Не так ли-с?
Елена нахмурила брови.
– Вы не всегда так о ней отзывались, Павел Яковлевич, – заметила она.
– А! упрек! упрек теперь! – воскликнул Шубин. – Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти свежие, пошлые щечки… Но если б я захотел отплатить вам упреком и напомнить вам… Прощайте-с, – прибавил он вдруг, – я готов завраться.
И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.
– Дитя, – проговорила Елена, поглядев ему вслед.
– Художник, – промолвил с тихой улыбкой Берсенев. – Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы. Это их право.
– Да, – возразила Елена, – но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки.
Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился; Берсенев снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем свободно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удается высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполовину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем.
V
Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе, Млечный Путь забелел и звезды запестрели, когда Берсенев, простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучался.
– Кто там? – раздался голос Шубина.
– Я, – отвечал Берсенев.
– Чего тебе?
– Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не стыдно?
– Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.
– Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня. Мне нужно с тобою поговорить.
– Ты не наговорился еще с Еленой?
– Полно же, полно; впусти меня!
Шубин отвечал притворным храпеньем. Берсенев пожал плечами и отправился домой.
Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило; и Берсенев, охваченный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы, – ему бы хотелось выступать совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку: он чутьчуть вздрогнул и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу; Берсенев тихо воскликнул: «А!» – и опять остановился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом: осталось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки; всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенев шел, потупя голову, и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он приник ухом: кто-то бежал, кто-то догонял его; послышалось прерывистое дыхание, и вдруг перед ним, из черного круга тени, падавшей от большого дерева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при свете луны, вынырнул Шубин.
– Я рад, что ты пошел по этой дороге, – с трудом проговорил он, – я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя. Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?
– Домой.
– Я тебя провожу.
– Да как же ты пойдешь без шапки?
– Ничего. Я и галстух снял. Теперь тепло.
Приятели сделали несколько шагов.
– Не правда ли, я был очень глуп сегодня? – спросил внезапно Шубин.
– Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй! Из-за каких пустяков?
– Гм, – промычал Шубин. – Вот как ты выражаешься, а мне не до пустяков. Видишь ли, – прибавил он, – я должен тебе заметить, что я… что… Думай обо мне что хочешь… я… ну да! я влюблен в Елену.
– Ты влюблен в Елену! – повторил Берсенев и остановился.
– Да, – с принужденною небрежностию продолжал Шубин. – Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила другого.
– Другого? кого же?
– Кого? Тебя! – воскликнул Шубин и ударил Берсенева по плечу.
– Меня!
– Тебя, – повторил Шубин.
Берсенев отступил шаг назад и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него.
– И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.
– Что за вздор ты мелешь! – произнес наконец с досадой Берсенев.
– Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим? Пойдем вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился; но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически опрятная личность, ты… постой, я не кончил, ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, – нет, не которыми, – коими столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства! А во-вторых, Елена на днях застала меня целующим руки у Зои!
– У Зои?
– Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хороши.
– Плечи?
– Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обедом я в ее присутствии бранил Зою. Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противоречий. Тут ты подвернулся: ты идеалист, ты веришь… во что бишь ты веришь?.. ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить… и… и… между тем…
Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы.
Берсенев приблизился к нему.
– Павел, – начал он, – что это за детство? Помилуй! Что с тобою сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову, и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.
Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось.
– Андрей Петрович, – заговорил он, – ты можешь думать обо мне что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание.
Он встал.
– Какая ночь! серебристая, темная, молодая! Как хорошо теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петрович?
Берсенев ничего не отвечал и ускорил шаги.
– Куда ты торопишься? – продолжал Шубин. – Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня службу; но ты все-таки не спеши. Пой, если умеешь, пой еще громче; если не умеешь – сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звезды только и делают, что смотрят на влюбленных людей, – оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович?.. Ты не отвечаешь мне… Отчего ты не отвечаешь? – заговорил опять Шубин. – О, если ты чувствуешь себя счастливым, молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных струях, под этими звездами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!.. Берсенев, ты счастлив?
Берсенев по-прежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами, находилась мелочная лавочка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином: из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света, Шубин глянул во внутренность лавки, остановился и крикнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Аннушка!» – повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу, налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные мелочные торговцы, крякнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсеневу со словами: «Это… это, вот видишь… тут есть у меня знакомое семейство… так это у них… ты не подумай…» – и, не докончив речи, побежал за уходившею девушкой.
– Утри, по крайней мере, свои слезы! – крикнул ему Берсенев и не мог удержаться от смеха. Но когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения; он не смеялся более. Он ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово, им произнесенное, запало глубоко ему в душу. «Павел меня дурачил, – думал он… – но она когда-нибудь полюбит… Кого полюбит она?»
У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенев присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке и, как почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Павел, – думал он, – я предчувствую: этот вечер не повторится». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том «Истории Гогенштауфенов» Раумера[9] – и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.
VI
Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имела бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие: она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, Бог знает в кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, – а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, – и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь.
Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила докончить воспитание своей дочери, – воспитание, заметим в скобках, даже не начатое скучавшей барыней, – была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо; она то и дело влюблялась и кончила тем, что в пятидесятом году (когда Елене минуло семнадцать лет) вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стишки; она приохотила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольною важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей; зато отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничанье и уверял, что от собак да кошек в доме ступить негде. «Леночка, – кричал он ей, бывало, – иди скорей, паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибегала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая», – иронически замечал отец; но она его не слушала. На десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички – игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши, за кустом крапивы; с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на всей Божьей воле; с тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на Катю, и все в ней тогда – ее черные, быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье – казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о Божьей воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков: она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свиданье с Катей и запачкала себе платье; отец увидал ее и назвал замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся – и страшно и чудно стало ей на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую солдатскую песенку; Елена выучилась у ней этой песенке… Анна Васильевна подслушала ее и пришла в негодование.
– Откуда ты набралась этой мерзости? – спросила она свою дочь.
Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла.
Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут…
А годы шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: изо всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима; она зажила собственною своею жизнию, но жизнию одинокою. Ее душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви? а любить некого!» – думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки; потрясенный до основания, весь ее организм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог справиться: последние следы болезни исчезли наконец, но отец Елены Николаевны все еще не без озлобления толковал об ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые, не взлетевшие крылья; но эти порывы не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее «странностей».

