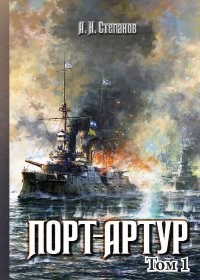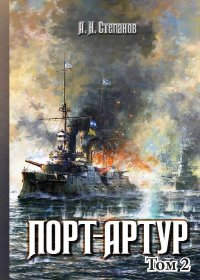Читать онлайн Семья Звонаревых. Том 1 бесплатно
- Все книги автора: Александр Николаевич Степанов
© А. Н. Степанов, наследники, 2020
© Издательство «РуДа», 2020
© В. М. Пингачёв, иллюстрации, 2020
Загадки «Семьи Звонарёвых»
Когда говорят «писатель задумал продолжение книги» – это не означает, что произошло всё по щелчку пальцев: раз – и задумал сразу, приступая к написанию первой. Скорее всего, действует другой принцип из серии «аппетит приходит во время еды». Дело не в успехе первого эпического полотна – романа «Порт-Артур», который писатель хотел бы повторить. А в том, что в процессе работы, в творческом поиске не только второстепенные персонажи, необходимые для целостности сюжета, внезапно обрастают плотью, но и главные герои зачастую становятся родными, вполне себе реальными и осязаемыми. И это неспроста.
Избранный метод работы над «Порт-Артуром», благодаря которому все персонажи Александра Степанова предстают настоящими, человечными, в диалоги и поступки которых веришь безусловно, требует от автора решений чуть ли не по Станиславскому. Будто бы писатель наделяет их частичкой своей души, вживается в каждого, сам становясь то ершистым Борейко, то вкрадчивым Фоком. Оттого герои произведения предстают далеко не схематичными – они вызывают сочувствие, поскольку их поведение становится понятным исходя не только из биографических предпосылок, но и из черт характера. Казалось бы, как можно пожалеть предателей Сахарова или Стесселя? Но и им автор находит оттенки: один авантюрист по природе своей, второй плотно под каблуком жены, – благодаря этому читатель представляет их себе воочию, словно знакомых поблизости.
И даже эпизодических своих героев писатель забыть не может.
Например, в Керченской крепости в 1909 году служил Владимир Николаевич Страшников, порт-артурец – персонаж, в первом романе не слишком заметный, но знаковый: именно с сообщения Страшникова о бое в море узнают о начале войны.
И всё-таки, нельзя объять необъятное. Заведомо отказавшись от документальности описания, которой придерживались В. Семёнов и А. Новиков-Прибой, историческую достоверность в романе «Порт-Артур» А. Степанов сочетает с художественным вымыслом. Мы же никогда доподлинно не узнаем, что сказал художник Верещагин адмиралу Макарову на краю их гибели, и сказал ли что-либо вообще, но Степанов так умело оформил их образы, что не возникает сомнений: выдуманный им диалог имел место на самом деле. Именно желание автора отобрать из массы фактов наиболее характерные, из характеристик исторической фигуры предъявить наиболее их оживляющие – вызывает динамичность повествования. Писатель умело распоряжается имеющимся у него огромным материалом, создавая увлекательный рассказ о героических днях Порт-Артура так, что как бы сам собой формируется дух времени, а картины событий воссоздаются ярко до кинематографичности.
Но когда полный драматизма сюжет – от вероломно напавших японских кораблей до последних дней защиты крепости – себя исчерпывает, приходит понимание: автор приложил столько сил, чтобы читатель полюбил его героев, что и самому жалко расставаться с ними. Да и сдача крепости не закрывает несколько щедро разбросанных сюжетных линий.
Роман «Порт-Артур» заканчивается известием о том, что герой обороны крепости Борейко жив и находится у японцев. Насколько серьёзны его ранения? И воссоединится ли он со своей возлюбленной Ольгой? Если читатель может предположить, как разовьются отношения Звонарёва и Вари, то на дальнейшую судьбу героического мальчонки Васи света не проливается. Что станет с вновь овдовевшей Надей Акинфиевой? Это тоже читателю любопытно. Куда заведут поступки обычных солдат, воспылавших ненавистью к предателям-офицерам? Яркое заявление Блохина «пойду Вамензона убивать» и учинённый им самосуд неминуемо должен был сказаться на его дальнейшем мировосприятии.
Наконец, читателя обязательно должно волновать, каким будет наказание высших чинов, сдавших крепость ради корыстных целей. Так заведено в художественном произведении, что совершившие злодеяния должны понести какое-либо наказание, а добродетели будут должным образом вознаграждены. Это сейчас, благодаря интернету, возможно получить если не детальную, то общую информацию как о судьбе того или иного реально существующего участника обороны Порт-Артура, так и о том или ином историческом событии. Но не следует забывать, что в середине ХХ века сведения о суде над высшим руководством баталий русско-японской войны были труднодоступны. Советские учебники об этом не упоминали вовсе, растворив это событие в более крупных исторических реалиях того времени: революция 1905–1907 года, период реакции, первая мировая война. Где-то даже справедливо, поскольку прошедший судебный процесс легко стало возможным «пристегнуть» как к последствиям поражения в войне, так и к осуждаемым действиям царского правительства. Однако для самих участников кровопролитных боёв суд над теми, кто украл все их победы, не дав до конца исполнить солдатский долг перед Отечеством, никак нельзя назвать маловажным. Но интересоваться процессом Стесселя либо Рожественского годы спустя становилось сложным. Необходимо было бы уже поднимать не только архивы официальных документов, но и подшивки старых газет. Порой на этом пути могла поджидать опасность из-за интереса к «царскому» быть обвинённым в антисоветчине. Возможно, именно звание лауреата государственной премии помогла писателю заглянуть в некоторые архивы для объективного освещения темы. Иначе не объяснить приводимые им цитаты из прессы того времени.
Открытые финалы сюжетных линий, образовавшаяся привязанность писателя к своим персонажам логично требовала продолжения работы. Оттого в 1945 году в статье «О книге «Порт-Артур» Александр Степанов пишет: «Есть у меня и продолжение «Порт-Артура», которое я собираюсь озаглавить «Семья Звонарёвых». Повествование охватывает период времени между 1907 и 1934 гг. …Главными действующими лицами в них являются уже знакомые читателю… супруги Звонарёвы, затем Борейко, Блохин, Вася Зуев. Действие разворачивается на фоне империалистической войны 1914–1918 гг., Октябрьской революции, гражданской войны и восстановительного периода. Заканчивается оно боями под Хасаном»[1]. Тем не менее, осуществить всё задуманное полностью писателю не удалось. В 1961 году вышла первая книга романа «Семья Звонарёвых», в которой повествуется о революции 1905 года и предвоенной поре. Вторая книга, посвящённая первой мировой войне, увидела свет в 1963 году. Над третьей книгой, действие которой происходило в годы гражданской войны, писатель работал до последних дней жизни, но закончить её не успел.
Загадочной оказалась судьба и первой книги, с которой большинству молодых читателей предстоит познакомиться впервые. Грубый факт: всё, что в настоящее время предлагает интернет из произведения «Семья Звонарёвых» и выдаёт это за целое – всего лишь книга вторая, посвящённая первой мировой войне. В период оцифровки советских литературных произведений по какой-то причине первую книгу проигнорировали. Книготорговые сайты наперебой предъявляют книгу номер два и сообщают, что это весь текст; периода с 1905 по 1912 год, с их точки зрения, у автора не существует. Остаётся только гадать – произошла досадная ошибка, недоразумение, либо это преднамеренное искажение, которое, безусловно, ухудшает впечатления от произведения в целом. Ведь без первой книги большинство сюжетных линий совершенно непонятны; возникновение и исчезновение тех или иных персонажей никак читателю, получается, не объяснено. Если судить о произведении только по второй книге, никто не возьмёт в толк, откуда взялась, например, Манька Завидова, кто такие доктор Краснушкин или Иван Герасимович?
Остановимся на озвученных версиях, которые являются существенными с точек зрения современного книгоиздания и сохранения литературного наследия. Наиболее вероятно, что некто, первым оцифровывающий текст «Семьи Звонарёвых», совершил оплошность, не ответственно выполнил имеющиеся задачи. За ним перекопировало информацию множество сайтов, не перепроверив, так же проявляя безразличие к книге. Что привело к неполноценным переизданиям, некачественному электронному продукту, на котором так или иначе стараются заработать, вводя читателей в заблуждение – неосознанно, разумеется. К слову, для этого издания редакционным коллективом была проведена самостоятельная оцифровка текста по книге, вышедшей в 1990 году в издательстве «Художественная литература».
Необходимо сказать, что и к книгам, изданным в советские времена, так же имеется ряд претензий. Подобно озвученной выше ситуации – некогда одно из издательств подготовило книгу к печати некачественно, с огромным количеством орфографических ошибок и отсутствием необходимой базы примечаний, в отличие от изданий «Порт-Артура». Вослед текст перенимали другие издательства, продолжая множить некачественные переиздания точно с такими же упущениями. Они так же перекочевали в современные электронные версии. Поэтому для этой книги была проведена значительная корректорская работа и специально подготовлены примечания.
Но возможно, такая небрежность напрямую пересекается со вторым предположением? Отчего только вторая книга предъявляется читателю как целое произведение, а первая осталась за скобками? Назовём эту версию идеологической. Действительно, в первой книге много внимания уделяется вопросу – как бы его обозначили в советские времена – «роста революционного самосознания рабочего класса». Плотно освещаются нюансы подпольной работы большевиков, в которую постепенно втягиваются полюбившиеся персонажи.
С первых страниц вниманием читателя овладевает деятельный, находчивый Филипп Блохин. Он оказывается едва ли не центральной фигурой романа, особенно его первой книги, где многочисленные приключения Блохина связывают воедино сюжет.
История освобождения политических заключенных из Керченской крепости, в которой немалую роль играет Блохин, занимает почти треть книги. Надо сказать, что как самостоятельная повесть она была опубликована в журнале «Дон» под названием «В Керченской крепости» и только потом уже включена в роман. Так же и повесть «Стальной рабочий отряд» о боях под Нарвой в феврале 1918 года, опубликованная в 1958 году и переизданная под названием «Бои под Нарвой» в 1987 году, должна была по замыслу автора войти в третью книгу «Семьи Звонарёвых». Блохин здесь уже командир красноармейского рабочего отрада Стального завода – одного из тех, который стоял у истоков образования Красной Армии.
Блохин в этом романе уже не тот солдат, который инстинктивно чувствует необходимость социальных перемен. Его порт-артурское негодование продолжается по тем же причинам: некомпетентность руководства в сочетании с равнодушием к интересам простого рабочего человека. В романе развёрнуто показывается развитие рабочего движения не только во время боевых действий на Красной Пресне, но и в годы так называемой реакции. Описывая удручающие картины быта Выборгской стороны, рассказывая о положении рабочих на одном из военных заводов, где работает в конструкторском бюро Звонарёв, а в механическом цехе Блохин, писатель предъявляет своё виденье роста революционной активности. Позже, опять-таки через фигуру Блохина, затронет и проблемы крестьянства.
Дважды в ХХ веке – в его начале и в конце – происходила гуманитарная катастрофа в связи с политическими преобразованиями. Если пришедшие к власти большевики лихо отодвинули в сторону огромный пласт культурного наследия только на том основание, что оно создавалось «при царе», а лояльность деятелей культуры определяли на основании их происхождения и политического прошлого, то по схожему принципу, начиная с периода перестройки, формировалась тенденция отторжения всего советского. И литература того периода зачастую выплёскивалась, как по пословице – «вместе с грязной водой и ребёнка». Мало чем отличается требование Владимира Маяковского «сбросить Пушкина с корабля современности» от написанной в конце 80-х статьи Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе», где он высказывается «…я буду последним человеком, который будет плакать на её похоронах, но я с удовольствием скажу надгробное слово»[2]. Предъявляемые Ерофеевым формальные признаки вполне объективны.
Советская литература и тогда, и сейчас отталкивает большинство по многим причинам. По выражению Георгия Адамовича, «… средняя советская книга поражает прежде всего дурным качеством «выделки»… Понижение писательского мастерства и особенно понижение читательских требований, объяснимое причинами, далеко выходящими за пределы литературы, сказывается… Ощутительнее всего потеря иронии, этой важнейшей приправы во всякой литературной кухне. Советская словесность пресна. В большинстве советских произведений, – как и почти всегда в творчестве малоразвитой культуры, – действие подчинено формуле «от мрака к свету»: коснел кто-нибудь в заблуждении, был несчастлив, – познал истину, стал счастлив… Рабочий пьянствовал, нищенствовал; приятели уговорили его сходить на собрание в «ячейку»; там его образумили; он записался в партию, понял величие борьбы за социализм и другим стал подавать пример… Сразу с первых страниц знаешь, чем дело кончится, и даже в тех случаях, когда торжество добродетели и посрамление порока не так очевидно, как я только что предположил, всё-таки можно быть уверенным что коммунист окажется прав, а всякий другой человек неправ…»[3].
Действительно, и Александр Степанов в том числе не мог отвернуть от ужё чётко хронологизированных идеологическими службами сюжетных канонов: конспиративная деятельность большевиков, борьба с политическими оппонентами до Октябрьской революции и после неё; восстания 1905–1907 годов с обязательным выносом на знамя Красной Пресни; ещё более законспирированная деятельность вплоть до октябрьских событий; пропагандистская большевистская работа, в том числе и во время первой мировой войны. Другой истории знать не дозволялась, другой литературный взгляд на это время, как, например, у Аркадия Аверченко, Ивана Бунина, Леонида Андреева, давно и добротно спрятан с глаз долой советского читателя. Эта резвость по моментальному изъятию из читательского обращения авторов, ставших советской власти вдруг неугодными, не только обедняло отечественную культуру, но отчасти и привело к падению этой власти, когда всё ранее запрещаемое в 80-е массово прорвалось к читательскому вниманию.
Есть только одна проблема: не все писатели Страны Советов легко и штампованно укладываются в формулы «скудность языка» и «понижение писательского мастерства», очень даже наоборот. Если применять к литературе тождественность с наукой – то есть, в данном случае, наукой сохранения и приумножения языка, то целая плеяда отечественных авторов, живших в те времена, разработала собственные методологические подходы к этой проблематике.
Не забываем при этом, что А. Степанов искренне и преданно верил в правоту революционного движения, сражался за свои идеалы; принимал участие в разгроме Юденича, воевал против деникинцев и, провалившись под лёд во время боёв под Нарвой, приобрёл впоследствии сильно развившееся заболевание. Именно прикованным к постели, от вынужденного бездействия Степанов «взялся за перо». И теперь мы имеем его замечательные книги, при чтении которых, опять-таки, не следует забывать его метод, если угодно – творческую особенность: подобно демиургу он вдыхает искренность в своих персонажей, и им хочется верить, в сочетании их характеров и поступков не сомневаешься.
Поэтому нет никакой наигранности или искусственности в действиях Блохина после Порт-Артура; вполне логично объяснено втягивании Ольги Семёновны в большевистскую работу, куда она постепенно вовлекает и своего мужа, царского офицера Борейко. Взрывной характер Вари при её заботливом сердце по тем временам могли привести только к ссылке, а уж на этой беде, вослед иному, происходившему на глазах, поколебались и взгляды её супруга.
Вообще, тема пути интеллигенции к революции занимает в романе «Семья Звонарёвых» особое место. А. Степанов убедительно показывает, что этот путь, подчас противоречивый, для каждого персонажа – свой. При этом «одаривая» своих персонажей различными трудностями и драматическими переживаниями, писатель вроде как раскладывает перед нами всю колоду, показывая различные слои населения – от проститутки Маньки до членов царской фамилии. Протест Вари, в характере которой ещё много от прежней взбалмошной генеральской дочки, носит стихийный характер. Однако тюрьма, ссылка в Сибирь, встреча с революционерами многому её научили. И в её поведении появляются несвойственные раньше выдержка и спокойствие, которые помогают ей не только в подпольной работе, но и в личной жизни, а дальше понадобятся на фронтах первой мировой войны. Помогая Блохину и рабочим, Сергей Звонарёв изначально движим состраданием к обездоленным, исходит из передовых экономических пониманий производственных процессов, при этом с иронией относясь к любым революционно настроенным идеям. Не сразу, постепенно закрадываются в нём сомнения, и только когда едва ли не все члены «семьи Звонарёвых», под которой автор, конечно же, понимает близость духа порт-артурского боевого братства, оказываются вовлечёнными в противостояние с существующей властью; когда явная несправедливость коснулась непосредственно и его семьи, ему приходится выстрадать и свою точку зрения на происходящее.
И именно об этом продолжает размышлять Георгий Адамович в критической статье «Литературные заметки. Книга 1»: «Величайшею ценностью старой русской литературы было её представление о личности, – т. е. о человеке. Первый вопрос, который мы к теперешней литературе обращаем, таков: какое представление о человеке создала она, – и в лихорадке всех теперешних «строительств» какой тип личности она ищет и вырабатывает?.. Наиболее значительные и зрелые произведения советской литературы написаны на тему этих вопросов, наиболее важные диалоги в ней ведутся вокруг них. Губительность индивидуализма ощущается всеми… Пафосом общности можно было бы назвать то, что одушевляет советскую литературу. Если же пытаться дать определение тому, против чего она в самых страстных своих устремлениях направлена, то надо сказать: против одиночества, против индивидуализма, против замкнутости человеческого сознания в самом себе… Одних этих слов достаточно, чтобы признать, что советская литература говорит не о пустяках…»
И мы видим в произведениях Степанова, что в «Порт-Артуре» события и персонажи группируются вокруг фигур Звонарёва и Вари, как и в продолжении повествования. Возникшая в первом романе некая общность сблизившихся людей получает в дальнейшем более обширное, закрепляющее определение. Всех их, бывших участников обороны Порт-Артура, сплотили похожие взгляды, отношения к событиям, стремление к борьбе; они ощущают себя единым, о котором Борейко в конце романа говорит: «Соберутся все свои, одна семья… Звонарёвых». И хотя в книге самим Звонарёвым автор уделил меньше внимания, выводя на большие роли других персонажей, тем самым писатель тоже подчёркивает, что «Семья Звонарёвых» приобретает уже символический смысл.
Михаил Стрельцов, член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра
Часть первая
Глава 1
Воинский эшелон медленно подошёл к Рязанскому[4] вокзалу. На перроне выстроились рослые широкоплечие солдаты лейб-гвардии Семёновского полка[5] в серых шинелях, подпоясанных белыми гвардейскими ремнями. У каждого на ремне были надеты два патронных подсумка, на винтовках поблескивали штыки. Лихо заломленные бескозырки с синими околышами и синие погоны с императорскими вензелями придавали солдатам особо торжественный и грозный вид. Офицеры, в ремнях с револьверными кобурами и чуть приподнятыми из ножен шашками, находились в полной боевой готовности.
– Что, брат, никак для встречи героев собрались? – осипшим голосом спросил один из солдат своего соседа.
– Эге. Разве не видишь? Аккурат для встречи! И винтовочки, и патрончики. Всё в полном порядке. Попробуй пошебуршись!
– Разговоры!.. – пронзительно резким голосом протянул старший офицер, щеголеватый гвардейский капитан. – Открыть вагоны! Прибывшим не отходить от эшелона. Солдаты сгружают вещи и выстраиваются в две шеренги около своих вагонов. Господ офицеров попрошу находиться при своих взводах и строго следить за выполнением моих распоряжений.
Окинув быстрым взглядом весь эшелон, капитан двинулся к классному вагону, из которого уже вышли несколько артиллерийских офицеров. Один из них подошёл к капитану и, вытянувшись перед ним, представился:
– Начальник эшелона демобилизованных солдат Квантунской крепостной артиллерии[6] прапорщик Звонарёв!
– Лейб-гвардии Семёновского полка капитан фон Поппе! – отрекомендовался гвардеец, пожал прапорщику руку и справился, кто находится в классном вагоне.
– Его превосходительство бывший командир Квантунской крепостной артиллерии генерал-лейтенант Белый и артиллерийские генералы Тахателов и Мехмандаров, а также несколько раненых офицеров. Среди них один тяжелораненый – поручик Борейко, – доложил Звонарёв.
Капитан предложил ему ознакомиться с распорядком выгрузки эшелона, а сам зашёл в офицерский вагон. Здесь он представился Белому[7] и другим генералам.
– Ваши превосходительства и господа офицеры могут пройти в буфет первого и второго класса. Окна там завешены, вокзал охраняется, так что вы будете находиться в полной безопасности.
– В Питер-то поезда ходят? – поинтересовался Белый.
– Раз в сутки под усиленной воинской охраной, – сообщил капитан и кратко познакомил прибывших офицеров с обстановкой. – Весь путь от Москвы до Петербурга охраняется войсками. Положение здесь, в Москве, тоже крайне напряжённое. Уже с неделю идут бои с рабочими. Мы, как только приехали, сразу очистили от них всю Каланчевскую площадь, заняли все три вокзала и мастерские. Пришлось прибегать к жестоким мерам – вплоть до расстрелов на месте. Даже артиллерию пускали в ход.
– Неужели артиллерию? Против рабочих? – не поверил Тахателов. – Это всё равно что из пушек по воробьям палить!
Капитан чуть усмехнулся краешком губ.
– Напрасно вы так думаете, ваше превосходительство! Эти проклятые «воробьи» только в моей роте убили двух и ранили с десяток солдат. Кроме того, пострадали два моих офицера. Стреляют отовсюду: из-за угла, из форточек, с крыш домов. Бросишься искать – никого нет, будто сквозь землю проваливаются. Но у меня гвардейцы – ребята первый сорт. На них можно положиться. Всю эту вшивую рвань уничтожат в два счёта.
– Без суда и следствия? Позвольте, как же это можно так расправляться с людьми! – возмутился Мехмандаров. – Ведь не все же стреляют по вас?
– Миндальничать, ваше превосходительство, тоже нельзя, – решительно возразил капитан. – Иначе нас всех из-за угла перебьют, как куропаток. Взять, к примеру, эту площадь. Стоило нам прикончить здесь несколько человек, – я имею в виду захваченных инсургентов, – и сразу стало тише…
– Да, ваша задача не из почётных, – заметил Тахателов. – Не завидую вам.
Фон Поппе недовольно передёрнулся.
– Я, прежде всего, офицер и должен беспрекословно выполнять приказы начальства, – отчеканил он раздражённо.
Генералы вышли из вагона и в сопровождении денщиков с чемоданами направились на вокзал. Немного проводив их, фон Поппе вернулся к эшелону.
Артурцы в мохнатых маньчжурских папахах вытаскивали из вагонов свои вещи и складывали их на перроне. Гвардейцы-семёновцы строго следили за тем, чтобы никто из солдат не отходил от эшелона. Всех, кто нарушал эти указания, они бесцеремонно оттаскивали за шиворот на место и подталкивали в спину прикладами.
– Довоевались мы… Как паршивых собак, взашей гонят, – озорно сверкнув голубыми глазами, крикнул молодой артурец.
– Ну-ну, поговори ещё, – замахнулся прикладом солдат.
– Ты, дядя, не очень-то балуй. А то знаешь, что с такими игривыми бывает? Враз посурьёзнеешь…
Нарастающее возмущение артурцев остановил резкий свисток фон Поппе. На перрон быстро выкатили два пулёмета. Стволы были враждебно направлены на толпу. Безоружные артиллеристы, бранясь и хмуро поглядывая на карателей, нехотя выстраивались возле своих вещей.
– Ваше благородие, – обратился один чернобородый, с широким шрамом на лбу артурец к Звонарёву, – что же это получается? Целый год Артур защищали, кровь свою не щадили там, а тут за шиворот хватают, да ещё и пулемётами стращают.
– Ничего не могу сделать, братцы, – развёл руками Звонарёв. – Тут сейчас идёт настоящая война.
– С бабами да детишками воюют, – крикнул кто-то язвительно. – Оно и видно – гвардейцы!
– Прекратить галдёж! – зло заорал фон Поппе.
– А вы не дюже, вашскородие, – зашумели артурцы. – Неча нас, как собак, на морозе держать.
– Водочки б поднесли!
– Жди от такого!
– Куда дальше едете? – сбавив немного тон, обратился к солдатам фон Поппе. – Кому на юг, тех на Курский вокзал отправим. Там формируются эшелоны на Курск, Харьков, Екатеринослав, Ростов-Дон. Кто на запад или в Польшу, тот на Смоленский вокзал пойдёт. Оттуда на Вязьму, Смоленск, Минск, Варшаву. Будете идти строем, под конвоем моих солдат. Всякий, кто отстанет или убежит, будет считаться дезертиром. А за это – расстрел на месте. Понятно?
– То япошки целый год молотили нас из пушек и ружей, теперь свои замахиваются, – крикнул чернобородый со шрамом на лбу.
– Это тебе награда за артурские подвиги! – полетело насмешливо в ответ. – Сейчас гаркнут «шагом арш!» и всех – прямо в тюрьму…
– В тюрьму сажать не станем, а за такие разговоры расстреливать будем на месте, – пригрозил фон Поппе.
Солдаты начали перестраиваться, трогательно, по-братски прощались друг с другом. Больше всех оказалось южан – на Курский вокзал, затем на Смоленский.
Сравнительно немного оставалось на Рязанском вокзале – ехать назад, к Волге.
Первой подготовили к отправке партию на Курский вокзал. Солдаты уже собирались уходить, когда, с трудом передвигаясь на костылях, из классного вагона вышел Борейко. Его поддерживали под руки Блохин и денщик.
Завидя поручика, взводный фейерверкер первого взвода Родионов зычно скомандовал:
– Смирно, равнение направо!
Солдаты-артурцы сразу подтянулись. Они знали, что перед ними тот самый Медведь, который в трудные минуты в самых опасных местах был всегда около них. С ними он попал в японский плен, с ними вместе возвращался в Россию, и теперь настала минута расставания. Борейко и солдаты были сильно взволнованы. Лицо поручика дёргалось от нервного тика.
– Братцы! – дрогнувшим голосом обратился он к славным защитникам Порт-Артура. – Вышел я проститься с вами. Не мог не проститься, братцы. Вот мы и вернулись в Россию. Но вернулись не победителями, а побеждёнными. Правда, не вы в этом виноваты, не с вас за это будет спрос. Но тень поражения пала и на нас с вами, хотя воевали мы не за страх, а за совесть. Больше половины защитников Артура навсегда осталось лежать в земле. В минуту нашего расставания вспомним же их тёплым, тихим словом, – растроганно промолвил Борейко и снял фуражку. За ним обнажили головы и солдаты. После минутного молчания поручик сказал: – Не хочу говорить вам скверного слова «прощайте». Верю, что ещё встретимся мы с вами. В жизни бывает всякое. До свидания, ребята! Желаю вам скорее добраться до дому и найти там свои семьи здоровыми и счастливыми!
– Счастливо оставаться, вашбродие! Скорее поправляйтесь! – дружно откликнулись солдаты.
– Качать нашего Медведя! – предложил кто-то. Но Родионов замахал руками:
– Отставить! Забыли, что Борис Дмитриевич тяжело ранен?
Борейко помахал над головой фуражкой.
– Спасибо за всё, братцы! Не забывайте своего Медведя!
– И вы, вашбродие, не поминайте нас лихом, – неслось в ответ.
Несколько минут спустя большая колонна солдат-артурцев покинула перрон и, окружённая охраной, похожей на конвой, направилась на Курский вокзал.
Глава 2
Вскоре разошлись по другим вокзалам и остальные солдаты. Звонарёв отправился в буфет и доложил Белому о расформировании эшелона.
– Теперь можно и нам двигаться на Николаевский вокзал![8] Тут ведь только через площадь перейти, – произнёс генерал.
– Площадь простреливается с крыш домов революционерами, так что без охраны переходить её нельзя, – предупредил подоспевший фон Поппе.
– Значит, не вы, а они – хозяева положения? – иронически спросил его Тахателов.
– Не извольте беспокоиться, – козырнул капитан. – Сейчас я организую охрану для ваших превосходительств и господ офицеров, едущих в Петербург.
– Будьте любезны! – слегка кивнул ему Мехмандаров.
Фон Поппе ушёл. Генералы поднялись. Денщики стали собирать офицерские чемоданы.
Белый подошёл к Борейко, обнял и крепко поцеловал его.
– Желаю вам, Борис Дмитриевич, скорейшего выздоровления! Вот мой петербургский адрес. Пишите, всегда буду рад получить от вас весточку или помочь чем смогу. Чувствую себя как бы в долгу перед вами. Ещё в Японии я составил список офицеров, заслуживших боевые награды. Вас я представил к Георгиевскому кресту и к золотому оружию, но, сами знаете, вопрос о награждении решается на заседаниях Думы Георгиевских кавалеров. Там могут решить вопрос по-иному, – как бы извиняясь, сказал в заключение генерал.
– Спасибо на добром слове, Василий Фёдорович! – поблагодарил Борейко. – Желаю, чтобы и вы были удостоены тех наград, которые, по-моему, из генералов только вы один и заслужили в Артуре. Если, конечно, не считать покойного генерала Кондратенко.
– Значит, мы, дюша мой, не заслужили наград в Артуре? – с обиженной миной спросил Тахателов.
– Там вы и генерал Мехмандаров были ещё полковниками, – отшутился Борейко.
Распростившись с офицерами-артурцами, остававшимися на Рязанском вокзале, Белый решил идти на Николаевский вокзал, не дожидаясь охраны. Звонарёв подошёл к Борейко и торопливо сказал ему:
– Жди меня здесь, Боря. Я провожу Василия Фёдоровича и вернусь.
– Ну вот, будешь из-за меня туда-сюда мотаться. Это сейчас небезопасно, – попытался было протестовать Борис Дмитриевич, но Звонарёв и слушать его не захотел.
– Когда сдам тебя Ольге Семёновне в целости и сохранности, тогда уж избавишься от меня, – пошутил прапорщик.
Проводив взглядом Белого и Звонарёва, Борейко с помощью Блохина проковылял к печке и опустился на скамью возле неё. В печи горел дымный синеватый огонь. Сквозь разбитое стекло окна врывался морозный воздух. Слышались гудки паровозов, стук вагонных буферов, изредка – отдалённая перестрелка.
– В целости и сохранности, – горько улыбнулся Борейко, вспомнив слова Звонарёва, и обернулся к Блохину: – Как думаешь, Филя, узнает меня Ольга Семёновна?
– Как же не признать? – удивился Блохин. – Вот коли б она вас в Нагойе[9] увидела, то, пожалуй бы, не признала. Этакий здоровенный куль – с ног до головы в марле. Только и было видно – глаза да рот. А теперь ходите, без малого не танцуете. Дело на поправку идёт.
– Скорее бы увидеть её… – мечтательно промолвил Борейко.
– А вы давайте адрес, смотаюсь, – предложил Блохин.
Поручик достал из кармана письмо жены, пробежал его глазами.
– Вот… Немецкая улица, школа. Около Немецкого рынка[10], на углу. Спросить учительницу Наташу Туманову. Это Олина подруга. Она пока у неё остановилась.
Но Блохина даже не выпустили с вокзала.
– Отправлять одного денщика на поиски квартиры вашей супруги нельзя, господин поручик, – заявил фон Поппе. – Его могут арестовать на улице и расстрелять как дезертира. Я дам в провожатые своего солдата-семёновца, снабжу его пропуском. Так будет надёжнее.
– Ну и порядки! – недовольно протянул Борейко.
– Что поделаешь? Город на осадном положении! – пожал плечами фон Поппе. – С темнотой никому не разрешается выходить на улицу без специальных пропусков. Но и пропуск не всегда является надёжной гарантией безопасности. Покажется патрулям, что он поддельный, и могут пристрелить раба божьего тут же, на месте, без долгих разговоров. Потом и концов не найдёшь!
– Слушайте, это же возмутительный произвол! – воскликнул Борейко. – Интересно, кто сейчас командует тут, в Москве?
– Адмирал Дубасов[11].
– А, кремлёвский адмирал!.. – насмешливо протянул Борейко. – Слыхали про такого. Ему бы командовать бумажными корабликами на Яузе или на Москве-реке.
– Не забывайтесь, господин поручик! – вспыхнул фон Поппе. – Только ваше тяжёлое ранение и может извинить подобное высказывание. За эти слова недолго попасть под военно-полевой суд. Если хотите знать, двух прапоров уже расстреляли за порицание распоряжений адмирала…
– Надо поскорее выбираться из Москвы, пока и меня не постигла такая же участь! – шутливо проговорил Борейко, не желая ввязываться в спор с капитаном.
Фон Поппе вызвал к себе ефрейтора Семёновского полка и поручил ему помочь Блохину разыскать госпожу Борейко и доставить её на вокзал.
– Живо мне! Чтоб одна нога была здесь, другая – там.
– Я, Ваше высокоблагородие, плохо знаю Москву, – признался ефрейтор. – Дозвольте городового захватить с собой. Они хорошо знают здесь все ходы и выходы.
– Ладно, бери, – разрешил капитан и в свою очередь посоветовал достать извозчика, чтобы не тратить зря времени на ходьбу.
Блохин и ефрейтор-семёновец ушли.
Было уже больше восьми часов вечера, на дворе давно стемнело. На едва освещённых редкими керосинокалильными фонарями улицах было пустынно и глухо. Только одинокие патрули солдат и полиции неторопливо передвигались по тротуарам, держа наготове заряженные винтовки и ежеминутно ожидая выстрела из-за угла. В окнах домов тускло светились лампы и свечи. Электричества в городе не было.
Дул пронзительный, морозный ветер. Под ногами поскрипывал снег, в лицо хлестала мелкая ледяная крупа. Редкие пешеходы крались вдоль стен домов, с опаской прислушиваясь к ружейным выстрелам. Иногда пулемётная очередь разрезала сторожкую тишину.
Экипаж, на котором ехали Блохин, ефрейтор и городовой, долго петлял по затемнённым улицам и переулкам, прежде чем впереди показался тёмный силуэт какой-то церквушки.
– Вот и доехали, – сообщил извозчик. – Теперича сами ищите нужный вам дом.
– Вали вперёд! – распорядился семёновец, подталкивая городового в спину. – А мы тебя будем охранять от нападения.
Городовой барабанил во все выходящие на улицу парадные двери, но мало где отзывались на этот грохот.
– Боятся, черти! – ворчал городовой. – Грабителей развелось – страсть. Сами ж дружинники и грабят.
– Не может того быть, чтобы рабочие грабили! – возразил Блохин. – Это, наверное, настоящие грабители ходят под видом рабочих.
– Насмотрелись мы тут за эти дни, – вставил семёновец. – Идут вроде девки и бабы, а спрятались за угол – и бьют с винтовок как миленькие.
– Бабами, что ли, рабочие переодеваются? – поразился Блохин.
– Нет, самые что ни на есть настоящие бабы да девки под юбки ружья прячут и, чуть зазевался, бьют нашего брата беспощадно, – пояснил городовой.
– Выходит, весь народ в Москве супротив властей поднялся? – медленно, как бы размышляя, проговорил Блохин.
– Народ не народ, а разная там мастеровщина да железнодорожники, кое-кто из конторщиков, – сказал ефрейтор. – Словом, мелкота всякая, а порой и просто ребятишки. Вчера один сорванец, лет тринадцати, не более, офицера нашего укокошил, прямо из паршивого ливорверта в живот ему выстрелил. Помер тот офицер сегодня.
– А с мальчишкой что? – спросил Блохин.
– На штыки мы его подняли, вот что! – ответил ефрейтор. – Верещал, как поросёнок резаный. Не сразу мы его прикончили. Аж сейчас в ушах слышится, как вопил он…
Блохин внимательным взглядом глубоко запавших глаз посмотрел на семёновца.
– Жаль небось? – осторожно спросил он.
Ефрейтор не ответил на вопрос, только вздохнул:
– Такие-то тут дела!..
После долгих розысков, наконец, нашли около Немецкого рынка небольшую школу. На стук вышел мужчина средних лет и, увидев городового с солдатами, заявил твердо:
– Ежели с обыском пришли – ордер давайте. Без него в школу не пущу. Я сторож, Рудников моя фамилия.
Блохин спросил, как ему велел Борейко, учительницу Туманову.
– Сейчас её дома нету. В участок, что ли, забирать пришли?
– Да нет! Нам подруга её нужна – Борейко Ольга Семёновна. К мужу на вокзал её свезём, раненый он, из плена прибыл, – пояснил Блохин.
На шум вышла Ольга Семёновна в накинутом на плечи платке. Блохину она показалась выше ростом и значительно старше, чем была в Артуре.
– Ольга Семёновна? – неуверенно спросил он, приглядываясь к её лицу при свете огарка.
– Боже мой, кто это? – прижала руки к груди Борейко, потом вдруг рывком выхватила огарок у Рудникова и поднесла его к самому лицу Блохина. – Филипп Иванович! Вы ли? – испуганно вскрикнула она и дрожащей рукой притронулась к его руке: – Говорите, не мучьте… Что с Борей?
– Не извольте беспокоиться, Ольга Семёновна, – расплылся в улыбке Блохин. – Жив Борис Дмитриевич. Правда, ранен, трудновато ему ещё, ранение-то тяжёлое. Но ничего. Он ведь завсегда у нас молодцом был. Сидит сейчас на Рязанском вокзале, вас дожидается.
– Филипп Иванович, дорогой! – едва не задохнувшись от счастья, простонала Ольга и крепко поцеловала Блохина прямо в губы, чуть не сбив при этом папаху с его головы. – Что же я стою? – засуетилась она. – Голодный ведь, холодный… Проходите в комнату. Или лучше на кухню. Там теплее. Поешьте, обогрейтесь. А я пока соберу медикаменты да тёплые вещи для Бориса. Я скоренько.
Блохин и солдат-семёновец прошли вслед за Ольгой и Рудниковым, оставив городового в пролётке.
На кухне, в небольшой комнате, было чисто и уютно. Около стола, покрытого клеёнкой, стояли скамейка и табурет.
– Садитесь, погрейтесь немножко, – говорила Ольга, расставляя на столе тарелку с хлебом, стаканы, крынку с молоком, крутые яйца, соль. – А я сию минуту… – Но тут же спохватилась: – Филипп Иванович, дорогой мой, наверное, о Шуре хотите узнать, хотя и молчите. А? – улыбнувшись Блохину, спросила она. – Не беспокойтесь. Шура в деревне.
С потеплевшими глазами Блохин уселся поудобнее на лавке, не спеша снял шапку, большой рукой с заскорузлыми, негнущимися от мороза пальцами провёл по усам, широким кустистым бровям; расстегнул шинель и, взяв большой кусок ржаного хлеба, принялся с аппетитом жевать.
– Сейчас у нас в Москве тоже война идет, не хуже чем в Артуре, – присев напротив Блохина на табурет, принялся рассказывать Рудников. – Воюют войска с рабочими, а страдаем больше всего мы, мирные люди, особенно от войск. Убьют одного дружинника да полсотни ни в чём не повинных людей. Особенно артиллерия. Бьёт, не разбирая, кто попал под обстрел.
– А вы не прячьте тех, кто по нас стреляет, тогда и вас трогать не будут, – возразил семёновец. – В толпе не углядишь, кто в тебя стрелял. А вы, цивильные, скрываете бунтовщиков.
В шубке и белом пуховом платке, с медицинской сумкой и узлом в руках, на кухню вошла Ольга.
– Ну, Филипп Иванович, поехали, в добрый час.
На том же извозчике Блохин доставил Ольгу Семёновну на Рязанский вокзал. Там их уже поджидал Звонарёв. Ольга Семёновна бросилась к нему.
– Серёженька, здравствуйте, дорогой! Где Боря? Ведите меня к нему. Скорее, ну скорее же!
– Пошли, пошли, – подхватил её под руку Сергей Владимирович. – Только учтите… он ещё не совсем здоров… Я должен предупредить…
– Всё равно! Какой бы он ни был… Это же счастье, что он жив, вернулся, – говорила она, плача от радости.
Войдя в буфет, Ольга Семёновна сразу увидела мужа.
Навстречу ей поднялся высокий и очень худой человек. Родной до боли в груди, до слёз, самый близкий… Те же глаза, тот же упрямый рот, который сейчас пытался улыбнуться. И вместе с тем незнакомое – робкое, тревожное выражение поразило её. Сердце сжалось от любви к этому большому, сильному, но сейчас беспомощному человеку.
– Мой, мой… вернулся. Боренька! – припав к его груди, рассматривая и осыпая его лицо поцелуями, повторяла она. – Я верила… ждала… Родной!.. Как я верила… Сейчас же поедем отсюда…
– Тебе будет тяжело со мной, – горестно усмехнулся Борейко. – Может быть, мне сразу в госпиталь?
– Нет, нет, ко мне! – вглядываясь в его глаза, шептала Ольга Семёновна. – Завтра я покажу тебя врачам… и вот увидишь, быстро поставлю тебя на ноги. Ты веришь, что будет так?
– Верю! – улыбнулся Борейко.
Блохин, повинуясь взгляду Ольги Семёновны, подхватил чемоданы и понёс их к экипажу.
– Опять госпиталь, врачи, эскулапы!.. – со вздохом произнёс Борейко.
– Совсем не опять! Я ведь буду около тебя, ни на шаг от тебя не отойду. Буду жить в одной палате с тобой. Обо всём этом я договорюсь с начальником госпиталя. Ворчливый такой, но предобрый старикан. Я живо подниму тебя на ноги, – решительно произнесла Ольга Семёновна.
Звонарёв проводил чету Борейко до извозчика. Прощались долго и никак не могли расстаться.
– Смотри же, Серёжа, не забудь передать от меня привет твоей супружнице, – напомнил Борис Дмитриевич. – Уж она-то сразу возьмёт тебя в медицинский оборот. На этот счёт хватка у неё крепкая…
– Знаешь, Борька, даже не верится, что мы вернулись, – потрепал его по плечу Звонарёв. – Варя… Надюша… Семья! Оля, вы давно видели мою Варю? – порывисто обернулся он к Ольге Семёновне. – Как она, как дочурка?
– С месяц тому назад. Варя учится, Надюшка растёт… Обе ждут не дождутся своего папочку. А Надюша – вылитая Звонарёва! – особо отметила Ольга Семёновна.
– Крепко поцелуйте от меня Варю и дочку и пишите нам. Не забывайте о Борейко.
– А вы о Звонарёвых, – ответил прапорщик.
Наконец друзья расстались, и Звонарёв отправился на Николаевский вокзал, где его ждал Белый.
Супруги Борейко и Блохин благополучно добрались до Немецкого рынка и отпустили извозчика.
– Мы переночуем здесь, ты отдохнёшь, а завтра переберёмся на другую квартиру. У меня уже и ключ от неё есть, – говорила Оля, радостно заглядывая в глаза мужа.
Удобно усадив его в кресле и закутав в плед, Оля начала хлопотать об ужине. Блохин вызвался ей помочь растопить печку-голландку.
– Послушаем, Филя, как наши жёны из Артура в Россию добирались после сдачи крепости, – обратился Борейко к Блохину.
– Сейчас, только печурку растоплю. – Оля ловко уложила принесённые Блохиным дрова, зажгла пучок лучин, умело сунула его под нижний ряд сухих и тонких поленьев. – Дрова сухие, горят великолепно, – весело говорила она, присаживаясь к столу. – Ну, слушайте!
Когда русских офицеров и солдат забрали в плен и увезли в Японию, нас, женщин, принялись выселять из Артура в китайские деревни. Оставались только те, кто работал в госпиталях. Варя устроила Шуру и вашу тёщу, Филипп Иванович, в сводный госпиталь санитарками. Там после ранения лежала и я. Постепенно из Артура вывозили раненых и больных. Многие из них умерли уже после окончания войны. Лечили по-прежнему наши врачи. На весь госпиталь было четыре японских надзирателя. Приставали они к нам с ухаживаниями, но Варя была нашим верным стражем. Японцы относились к ней с почтением – генеральская дочь. Боялись – напишет отцу, а тот в Японии пожалуется кому следует. В госпитале Варя была старшей сестрой милосердия. К нам часто наведывались иностранцы – расспрашивали, фотографировали, записывали. Японцы боялись, чтобы в иностранной печати не появлялось жалоб на их плохое отношение к пленным и русскому медицинскому персоналу. Варя знала это и поэтому, чуть что не так, грозила японцам пожаловаться иностранцам…
Так дожили мы до апреля. В годовщину гибели адмирала Макарова, помню, в госпитале отслужили общую панихиду по нём.
Вскоре подошёл к Артуру немецкий пароход «Европа». Остановился он на внешнем рейде, и нас перевезли на него в шлюпках. С нашего Утёса отплывали… Перед отъездом побывали на кладбище, наплакались вволю…
– Много осталось там, на Утёсе, наших, – печально промолвил Борейко. – Вечная слава им!
– Каждый камень там кровью русской полит, – добавил задумчиво Блохин.
С минуту царило молчание.
– Наш госпиталь вместе с госпиталем Красного Креста поместили на пароход и повезли морями и океанами вокруг Азии, – продолжала Ольга Семёновна. – Я и Шура сравнительно легко переносили качки. Зато Елена Енджеевская и Шурина мать с кровати не вставали в штормовую погоду. Варю хоть и мутило порой, но держалась она молодцом.
– И долго ехали водой? – поинтересовался Блохин.
– Около двух месяцев, – ответила Ольга Семёновна. – Про цусимскую трагедию[12] в Порт-Саиде узнали от русского консула. Это известие потрясло всех нас, но особенно морских офицеров. Помню, один мичман, совсем молоденький, выбежал на палубу заплаканный, долго молчаливо смотрел в морскую даль, потом покачал головой, вздохнул тяжело. «Нельзя, – говорит, – такого позора пережить!» И застрелился тут же, на палубе. – Помолчали. Ольга, задумавшись, смотрела в окно, тихо гладила руку мужа. – Вот мы и дома, в России, снова вместе, но то, что пережили в Артуре, вовек не забудется.
– Что верно, то верно, – подтвердил Блохин. – Не забудем и не простим…
– А вам как жилось в плену, как добирались до дому? – поинтересовалась Ольга Семёновна.
– Я провалялся в госпиталях и Японии, по существу, не видел, – медленно проговорил Борейко. – А госпитали во всем мире, по-моему, одинаковы: мучают и терзают больных, а те капризничают по всякому поводу и без повода. В общем пожаловаться на японские госпитали не могу – врачи и сёстры были ко мне внимательны, донимали перевязками и операциями в меру, кормили хорошо, только на свидания со мной почти никого не пускали. Правда, наших генералов – Белого, Тахателова и Мехмандарова пропускали без разговоров и были с ними очень почтительны. Что ни говори, а генерал везде генерал, а японцы очень дисциплинированны и своих генералов весьма уважают. С Белым часто приходил и Звонарёв. Он состоял при Белом адъютантом, помогал Василию Фёдоровичу составлять отчёт о деятельности Квантунекой крепостной артиллерии во время обороны крепости. Получился у них весьма объёмистый труд. Заходил и Стах Енджеевский[13]. Того пускали реже и с большим трудом, зато Блоха с утёсовцами бывали у меня чуть ли не каждый день. Как они умудрялись пробираться, ума не приложу. Здорово они меня поддержали. Если бы не они, не знаю, что и было бы: совсем тоска заела. Чужбина, плен, одиночество. Что же может быть хуже? И болезнь… сознание, что ты беспомощен, всецело зависишь от других…
– Милый, не надо… Не вспоминай. Филиппу Ивановичу и утёсовцам спасибо. Теперь всё позади. Я всегда знала, что самые верные друзья узнаются в беде. Простой человек сам знает, почем фунт лиха, и другого не подведёт.
– Что вы, Ольга Семёновна, за что спасибо-то? – хриплым голосом, смущаясь, проговорил Блохин. – Мы с Борисом Дмитриевичем теперь вроде как породнились: вместе кровь проливали, вместе на чужбине были, вместе и о доме думали. А вот теперь вместе и вернулись. Да… А пробирались мы к Борису Дмитриевичу через мусмешек, девки так по-японски прозываются. Они прислуживали в госпитале. Полюбезничаешь с ней, цветочек подаришь аль конфетку, ну и довольна – враз в офицерскую палату пропустит. Да ещё посторожит, чтобы на доктора не нарваться. А то и ей несдобровать. Вот, доложу я вам, смешное дело получилось. Народ-то у них махонький. Нашего Бориса Дмитриевича за великана принимали, да и Сергея Владимировича тоже. С него японки просто глаз не сводили. Отбоя не было. Рослый, румяный, красивый – ну, мусмешки за ним стаей ходили. Куда он, туда и они. Сидит в палате, а сёстры да санитарки чуть ли не со всего госпиталя сбегаются и ждут под дверью, чтобы не пропустить, полюбоваться на него.
– Вероятно, Серёжа там ухаживал напропалую? – улыбаясь, справилась Ольга Семёновна.
– Нет, что вы! Они страсть степенные были, ни на кого не смотрют и ни с кем не разговаривают. Женатые ведь! Сурьёзные стали, как оженились, – хитро ухмыляясь, ответил Блохин.
– Под присмотром тестя особенно не погрешишь, – усмехнулся Борейко.
– Как жилось вам, Филипп Иванович?
– Да ничего. У русского человека жила крепкая, не то выдюжит. Всё, как говорится, было б в аккурат, одно плоховато – харчи японские жидковаты. Мы привыкли три фунта хлеба в день уминать, а нам давали фунт с небольшим. Да вместо каши рыба всякая. Сколько её надо, чтобы утробу наполнить! Ну, ясное дело, сидели впроголодь. На хозяйственные работы гоняли, порядку требовали – страсть. Чуть что оплошаешь – беда! Палками били всех, кто под руку подвернётся. Правда, книжки всякие давали читать про свободу. Но, однако, – Блохин вскинул глаза на Борейко и, помедлив немного, добавил: – путаницы там много, туману всякого напускают. Правду рабочую еле-еле отыщешь.
– Вот как, вы уже и в эсерах разбираетесь, и большевиков, наверное, знаете? – внимательно посмотрев на Блохина, живо спросила Ольга Семёновна.
– А как же, – взглянул на свою собеседницу Блохин, – рабочему человеку нужно во всём доподлинно разбираться. Самому. Чтоб никакой фальши не было.
Нужда-то – она не тётка, всему научит. А правду искать надо, пора, самая пора пришла.
– Да, – откликнулся молчавший Борейко. – Это ты справедливо заметил, Филя, друг ты мой сердечный. Правду искать надо. Не мешает это делать всегда, а сейчас и подавно. Время-то какое! Ехали и не думали, что тут война идёт. Настоящая революция! Во Владивостоке узнали – забастовка! Наш эшелон не пропускают. Потом манифест 17 октября. Что ж, говорим, свобода – даёшь Москву! Не тут-то было. Больше трёх недель держали, пока, наконец, разрешили отправку. Ну, думаю, нечего сказать – свобода! Едем дальше по Сибири, говорят – волнения в народе, революция. Ты бы видела, Оля, как забеспокоились наши генералы! А мне весело стало. Что ж, думаю, вот и дожил, посчитаюсь и я, наконец-то, со стесселями, дошёл и до них черёд. И так-то мне вдруг здорово стало. Веришь, поправляться сразу начал. Говорю себе: давай, брат, вставай, хватит разлёживаться, а то без тебя перцу на хвост Стесселю[14] насыплют. Приехали в Москву, а тут – война. Нас с пулемётами встретили, с конвоем. Что, думаю, охраняют, или нас боятся?.. А? Олечка, расскажи-ка, что у вас здесь происходит?
– Что происходит? Революция, конечно, Борис. Народ восстал. Нет больше у него сил терпеть. Не хочет. Царский манифест, о котором ты говоришь, оказался филькиной грамотой, не в обиду вам будь сказано, Филипп Иванович. Рабочие сразу это поняли. Знаешь, что они о нём поют:
- Царь испугался —
- Издал манифест:
- Мёртвым – свобода,
- Живых – под арест!
Правда, хорошо? Лучше и не скажешь. Вся суть манифеста – в двух словах. Верно и сильно! Потом правительство испугалось, начались аресты, репрессии, арестовали Петербургский Совет рабочих депутатов. Москва ответила всеобщей забастовкой. Боря, – помолчав, тихо продолжала Оля, – я познакомилась с интересными людьми через Клавочку Страхову и Наташу, моих подруг по женским курсам. Помнишь, я о них рассказывала? Они себя называют большевичками. Если бы ты знал, что это за люди! Смелые, отважные, честные, как они преданы своему делу, как верят в него! – Ольга Семёновна повернула порозовевшее от волнения лицо к Блохину: – Знаете, Филипп Иванович, этим людям нельзя не верить. Они – сильные. Будущее принадлежит им. Я это отчетливо поняла.
– Эх, милая Ольга Семёновна, это-то мы давно поняли, кому можно верить, а кому нельзя. Мы люди простые и ошибаться не имеем никакого права. А вот то, что и вы это поняли, очень даже для нас приятно. Выходит, правда-то не только нашему брату нужна. Выходит, что в нашем полку прибыло.
Глаза Блохина тепло остановились на лице маленькой учительницы. Он с удивлением для себя отметил, как изменилась она вся, эта маленькая, хрупкая женщина. Будто стала выше, строже, и голос стал звонче и увереннеё.
Внимательно смотрел на свою жену и Борейко. «Что-то в ней появилось новое… Вроде вся та же – милая, родная, добрая. И что-то новое. Что же? Да, изменились глаза. И не сами глаза, – глаза-то те же, голубые и ясные, – а выражение глаз. Не озорное, мальчишеское, беспечное. В них появилась какая-то зрелость, спокойная уверенность, будто она знает то, чего ещё не знает он, Борейко, и в то же время уверена, что он будет это знать, потому что это очень важно.
– Олечка, – Борейко взял её за руку, заглянул в глаза, – ты очень изменилась.
– Что, постарела? – лукаво сверкнув глазами, засмеялась Ольга.
– Нет, что ты! Ты красивая, даже ещё красивее стала. Но в тебе появилось что-то новое… Я даже не знаю, как это назвать, – новое выражение: что-то смелое, независимое. Что-нибудь случилось, девочка моя?
– Ничего не случилось, родной. Просто жить стало очень интересно. Помнишь, раньше, в Порт-Артуре, как было трудно, сколько вокруг было дикости, несправедливости и горя. Мы все это видели и страдали, потому что помочь ничем не могли. Стессель, Стессельша и вся эта компания были силой. А сейчас я знаю, что им пришёл конец. Да, да, не качай головой, пришёл конец, и в этом ты сам скоро убедишься.
Она встала, одёрнула туго облегающую её стройную фигурку кофточку, прошлась по комнате.
– А теперь уже поздно, давайте чай пить, и, пожалуйста, хватит серьёзных разговоров на сегодня. Я сейчас самая счастливая: ко мне вернулся ты, мой муж. Я тебя долго, очень долго ждала. И я хочу быть с тобой: смотреть на тебя, гладить твои волосы, целовать твои глаза. Понимаете, Филипп Иванович, я могу всё это исполнить. Не думать об этом, не мечтать, а просто подойти и обнять его, поцеловать. Это ли не счастье?
Она подошла к креслу, в котором откинувшись сидел Борейко, положила ему на плечи руки, прижалась щекой к волосам.
– Молодец вы, Ольга Семёновна. Как это хорошо услышать такие слова солдату. Дай-то бог и мне дождаться такого.
Он увидел, как Борейко своими огромными руками осторожно и нежно взял маленькие ручки жены и, поцеловав каждую в ладонь, благодарно прижал к глазам.
– И в самом деле, что это мы разговорились, как будто завтрашнего дня не будет. Муж с женой встретился, а я сижу, пень берёзовый, и уши развесил. А у самого дело. Знакомец тут есть у меня, я с братаном его в госпитале лежал. Умнейший был человек, да не выжил, болячка придушила. Вот, письмецо должен я передать братану да на словах кое-что. Борис Дмитриевич, вы меня уж отпустите денька на два.
– Во-первых, Филя, давай садись к столу. Без ужина никуда не пойдёшь. И потом на ночь глядя куда идти? Переночуй, пойдёшь завтра. А во-вторых – финтишь ты что-то. Говори прямо: куда идёшь?
– Борис Дмитриевич, – прямо смотря в глаза Борейко, сказал Блохин, – вам ещё Блохин никогда не врал. Правду говорю – есть дело. И мне оно очень даже нужное. Иду на Пресню. А насчёт ужина – с нашим удовольствием, солдату от хлеба-соли отказываться негоже. И опять же – я в гостях. А говорят – в гости как знаешь, а из гостей как пустят.
– Нет, Филипп Иванович, ты не гость. Запомни это: в этой семье ты свой человек.
– Правда, Филипп Иванович, оставайтесь переночевать, а завтра утром поедем вместе. Поможете мне перевезти Бориса Дмитриевича на другую квартиру. Она в центре, у Патриарших прудов. Оттуда на Пресню – рукой подать. А сейчас давайте садиться за стол.
Глава 3
Ольга Семёновна открыла глаза.
Сквозь тюлевую занавеску чуть брезжил рассвет. В комнате было холодно, и она осторожно натянула сбившееся одеяло на плечо мужа. Он спал. Лицо его в предрассветных сумерках было бледно, но спокойно. Резко выделялись широкие чёрные брови. Сегодня она расскажет ему, как жила последние дни. Сколько волнений, сколько новых впечатлений и мыслей вдруг открылось ей. У неё появились новые друзья. Она расскажет, и он поймёт. Он не может не понять её. Он будет другом и для её друзей.
Закинув руку на подушку, Ольга Семёновна задумалась. Перед глазами встали картины недавно пережитого.
Она приехала в Москву 18 октября, сразу же, как только получила письмо от мужа, извещавшего о своём скором приезде. Остановилась пока у своей подруги по женским курсам – Наташи Тумановой, девушки скромной, работавшей учительницей и жившей в маленькой комнатке при школе около Немецкого рынка.
Утром, уходя на службу, Наташа задержалась в дверях и, поправляя на голове большой шерстяной платок, сказала:
– Черносотенцы убили революционера Баумана. Сегодня рабочие Москвы будут его хоронить. Я зайду за тобой, Ольга.
Было уже двенадцать часов, когда запыхавшись в комнату вбежала Наташа.
– Идём скорей, – задыхаясь проговорила она. – Пора.
Ольге бросилась в глаза траурная повязка на рукаве у Наташи – красная с чёрными кантами лента.
На улице их подхватил поток людей. Ольга заметила, что люди шли не спеша, деловито, как на работу, – шли исполнить свой долг. Ольгу поразило, что многие были между собой знакомы. Они молча пожимали друг другу руки и шли рядом, плечом к плечу, сосредоточенные и серьёзные, как перед боем.
Чем ближе подходили к Елоховской площади, тем поток людей становился гуще. Он был уже похож на полноводную реку, текущую медленно и сильно. Ольге показалось, что улица Ново-Басманная, такая знакомая, узенькая, упрямо бегущая вверх, вдруг стала шире, дома потеснились и уступили дорогу людям, которые всё шли, шли…
Порывистый холодный ветер налетел сзади, ударил в спину. Оля крепко схватила Наташу за руку.
– Наташа, ты посмотри, сколько их… Я совсем не знала, что их так много, рабочих…
– Си-и-ла!
Ольга подняла голову и встретилась с открытым, ясным взглядом подруги.
– Посмотри. – Наташа показала рукой на окна домов: из окон, из форточек, несмотря на холод, высовывались люди, в их руках трепетали красные полотнища. – Это всё друзья. Их много. Но много и врагов. Они спрятались сейчас, затаились, но бой с ними ещё впереди. Он, – Наташа посмотрела туда, где высоко над народом медленно плыл, утопая в венках и цветах, гроб, – он мечтал собрать всех рабочих под знамёна и вот собрал…
За окном отчётливо прогремел выстрел. Ольга вздрогнула и тревожно посмотрела на мужа. Не проснулся бы… Но всё было тихо. Улица ещё спала.
…Да, ей не забыть того дня. Они шли через весь город восемь часов: по Мясницкой, через Лубянскую площадь к Театральной, по Моховой и Большой Никитской…
Поравнялись с консерваторией, и вдруг неожиданно, покрывая шум улицы, зазвучали торжественные звуки похоронного марша:
- Вы жертвою пали в борьбе роковой
- Любви беззаветной к народу.
Мощно звучал оркестр консерватории, звонко лились молодые голоса.
- Вы отдали всё, что могли, за него,
- За жизнь его, честь и свободу, —
ответили рабочие с улицы. Пели дружно, вдохновенно: песня роднила, сближала всех. Шаг выровнялся, стал ритмичным. Она, Ольга, не заметила, как стала петь громко, во весь голос, уверенно ведя грустную и мужественную мелодию.
Идти было тесно. Рядом шёл высокий рабочий в надвинутой на самые глаза меховой шапчонке. Не сбиваясь с шага, он просто, по-деловому, как помогают товарищу, когда тот устал, взял её под руку. Так и шли они, взявшись за руки…
В сумерках при свете факелов на Ваганьковском кладбище люди говорили о свободе, о революции, о борьбе с самодержавием. Говорили открыто, никого не боясь. Сегодня они были хозяева. Ольга слушала затаив дыхание эти жгучие слова. Она забыла о холоде, об усталости, она видела сильных, смелых людей, которые не боялись смерти, они побеждали её во имя своей идеи. Ольга поняла, в чём должен быть смысл жизни.
А потом долго, захлёбываясь словами, торопясь, Ольга рассказывала Наташе о Порт-Артуре, о предательстве генералов, о Стесселе, о Блохине и муже, её Борисе…
Так завязалась их дружба с Наташей.
Однажды вечером Оля возилась с печкой: сырые дрова упорно не хотели загораться. В комнате было холодно и неуютно. Так же холодно и неуютно было на душе. Тревожные мысли о муже не давали покоя. Она любила его, ждала его, больного, калеку, – всё равно ждала, ему хотела отдать всю себя… А теперь? Нет, она не могла с собой лукавить – теперь этого ей было мало. Свежий октябрьский ветер ворвался в её жизнь, заставил дышать полной грудью. Она раскрыла глаза и увидела, какая может быть интересная, яркая, полная высокого смысла жизнь. Она увидела людей сильных, отважных, – борцов. Как она хотела быть с ними! А Борис? Поймёт ли он её? Конечно, поймёт. Разве может он не понять?..
Она не расслышала, как хлопнула тяжёлая дверь парадного, кто-то быстро пробежал по коридору. Стремительно распахнулась дверь в комнату: на пороге стояла Наташа, в расстёгнутой короткой шубке, с пунцовыми от холода щеками.
– Ольга, что ты сидишь, как крот, впотьмах? Зажги свет! Знаешь, какое сегодня число? Шестое декабря! Так вот, запомни этот день. Сегодня Московский Совет рабочих депутатов принял решение о всеобщей политической стачке. Я была на заседании. Вела протокол. Понимаешь? Завтра, в среду, в двенадцать часов дня, остановятся все фабрики, заводы, железные дороги. Московский пролетариат возьмётся за оружие. Так и записано: «Объявить в Москве со среды, 7 декабря, с 12 часов дня, всеобщую политическую стачку и стремиться перевести её в вооружённое восстание». Ура, Ольга! Ставь самовар – будем пить чай. А завтра – за работу! Восьмого идём с тобой на митинг, грандиозный митинг в «Аквариуме». Я дала слово тебя привести.
– Кому ты дала слово? – спросила Оля, подбирая за Наташей разбросанные по стульям и кровати шубку, платок, варежки.
– Помнишь красу и гордость вашего курса…
– Клавочку Страхову?! – ахнула Оля. – Красавицу с длиннющими косами?
– Да, её. Только теперь она не Клавочка, а товарищ Клава. Вот она и просила привести тебя. Я ей о тебе рассказала. Пойдёшь?
– Разумеется, ещё спрашиваешь! – загораясь, ответила Ольга.
Пробраться в театр «Аквариум» оказалось не таким простым делом: так было много людей, собравшихся послушать митинг.
– Устраивайся здесь. А я сейчас, мне нужно разыскать одного человека, – проговорила Наташа, усаживая Олю неподалеку от дверей. – Всё равно хорошо слышно.
Оля осмотрелась. Вокруг сидели, стояли, по-видимому, люди разных профессий: здесь были и рабочие, и мелкие чиновники, и прислуга, кое-где виднелись студенческие фуражки.
– …Нас не обманешь царскими свободами, – доносилось со сцены. – Манифестик издали, а сами что делают? Тюрьмы битком набиты, аресты идут повальные…
– Вас ли я вижу, милая Оленька? – тихо проговорил женский голос.
Оля резко обернулась. Перед ней стояла высокая стройная женщина. Мягко улыбались чуть прищуренные серые знакомые глаза. И брови, очень знакомые брови, пушистые, почти сросшиеся на переносице.
– Клавочка! Здравствуйте, дорогая! Как я рада вас видеть, знали бы вы…
– Я тоже, – так же тихо и мягко ответила Клава. – Очень. Мне много о вас говорила Наташа. И хоть она горячая голова и часто увлекается, я ей привыкла верить. Потом мы же с вами однокашники, я вас хорошо помню. Видите, как мир тесен. Отойдёмте в сторонку. Могут же старые знакомые немного поговорить…
Они вышли в сад. Падал снег, медленно, как бы нехотя, большими хлопьями. Они ложились на землю, покрывая деревья, скамейки, воротники и шапки группами стоявших людей. Было тихо и мирно.
– Как хорошо, – вздохнув всей грудью, сказала Клава. – Как хорошо… Давайте присядем. – Она смахнула пушистой варежкой снег со скамейки. – Посмотрите, какой он лёгкий, его сдуть можно.
Оля не отрываясь смотрела на свою собеседницу. Всё нравилось в ней: крепкая, стройная фигура, уверенные, спокойные движения, манера говорить тихо и мягко и главное – лицо, чудное, милое лицо.
«Бог мой, до чего же ты хороша!» – подумала Оля, глядя в большие, ставшие в сумерках тёмными глаза.
– Видите ли, Оля, – нарушила молчание Клава. – Ваше стремление отдать свои силы борьбе за свободу, – она помолчала, а затем с особым ударением сказала, – вернее, за освобождение народа, – благородно и красиво. Но знаете ли вы, что путь, на который вы хотите вступить, не только красив, но труден и опасен? Здесь нужны сила, выдержка, характер. А главное – нужна вера, беззаветная вера в своё дело. А вы не одна. У вас семья, муж… он офицер. Да, да, я знаю, я слышала, что он портартурец, что был не в чести у начальства. Это всё так. Однако подумайте, взвесьте. В нашем деле нельзя ошибаться.
– Я сейчас смотрела на вас и думала: какая вы красивая, какая вы удивительная, – помолчав немного, сказала Оля, – и вы боретесь, у вас есть силы и воля. Я самая обыкновенная, но я хочу, понимаете, Клава, я не могу не быть с вами. И муж мой – он тоже будет со мной… Я всё решила. Если я смогу вам немного помочь – на любой работе, я буду счастлива.
– Ну что ж, – Клава улыбнулась, – вашу руку, товарищ. Грамотные, преданные люди нам нужны.
Оля пожала теплую руку подруги.
– А теперь пошли. Сейчас будут выступать наши. – Клава встала, захватила полную горсть чистого, нежного снега, сжала в комок, откусила и стала сосать. – Попробуйте, до чего вкусно. Первый снег!
Оля, смеясь, тоже собрала в пригоршню снега.
– Детям есть снег запрещается, – раздалось за их спинами. Подруги вздрогнули и одновременно повернули головы, стукнувшись лбами.
– А это к дружбе, – смеясь, сказал (Оля теперь видела) высоченный мужчина в распахнутой овчинной куртке. Зубы ослепительно блестели на его смуглом лице.
– Ох, Андрей, ты испугал нас, – проговорила Клава. – Вечно ты с фокусами… Оля, познакомьтесь. Это Андрей, самый талантливый гравёр с Прохоровки и самый блестящий оратор. В этом вы скоро убедитесь.
– Очень рад, – пожимая Олину руку, проговорил Андрей. – На аттестацию не обращайте внимания. Клава всегда надо мной подтрунивает. Она меня не любит. Такова судьба. Зато я её люблю. Это тоже судьба. А вас я уже немного знаю – Наташка обо всём доложила. Что ж, будем работать вместе. А сейчас надо идти – а, Клавочка?
Он взял её руку и заглянул в глаза. И по тому, как бережно и нежно Андрей держал эту руку в пушистой варежке, как осторожно отряхнул с неё снег, Оля поняла, что он не шутил, он действительно любил Клаву.
– Да, иди, Андрюша, – проговорила Клава, медленно вынимая руку из его тёплых ладоней. – И мы сейчас.
Андрей улыбнулся Оле и, покачивая широкими плечами, пошёл к театру.
– Я хотела спросить у вас, Оля, как вы, уже устроились, нашли комнату? Ведь, вероятно, ваш супруг должен скоро приехать?
– Да, на днях жду. Комнату подыскала, но ещё не переехала. С Наташей веселей. А что?
– Да ничего особенного. Просто я хотела вам кое-что подсказать. У Патриарших прудов освободилась квартирка. Маленькие две комнатки, но отдельный вход. Хозяйка должна срочно выехать в Петербург. Вот и сдаёт по весьма сходной цене. Возьмите с собой Наташу. Она поможет вам, и ей ближе… к делу. Да и нам это удобно – так, на всякий случай. Ведь ваша семья вне подозрений: муж портартурец, герой, офицер.
– Что ж, я с радостью, – сказала Оля.
– Ну и отлично. Можете съездить посмотреть, а можете переезжать сразу. Вот адрес и ключ.
Когда подруги открыли дверь театра, Андрей уже говорил. – Крупное сражение, которое пролетариат дал царизму, закончилось нашей первой победой, – гремел его сильный голос. – Царь пошёл на уступки и выпустил манифест, где была обещана свобода слова и печати, союзов и собраний, обещан созыв законодательной Государственной думы с привлечением к выборам всех классов населения. Но это оказалось лишь уловкой царского правительства, чтобы выиграть время и собраться с силами для наступления на революцию. Банды черносотенцев вместе с полицией по указанию жандармов и самого царя убивают наших лучших, передовых людей – революционеров, студентов, сознательных рабочих, нападают на собрания и митинги. Так на деле выглядит дарованная манифестом «неприкосновенность» личности и «свобода собраний». Политическая стачка нанесла царскому правительству серьёзный удар, она сплотила нас. Пролетариат почувствовал, что он – сила. Но одной забастовкой стереть с лица земли царское правительство нельзя. Надо идти дальше – на открытую борьбу с царской монархией с оружием в руках. Пролетариат не боится вооружённой борьбы, как бы трудна она ни была.
Люд, восставший за свободу, сокрушит твой царский трон, Долю лучшую народу в битве завоюет он.
Долой самодержавие… Да здравствует революция!
– Браво, браво, Андрей, – воскликнула Оля. – Он и вправду оратор.
– Послушаем, что этот господин нам скажет, – тихо проговорила Клава.
Место Андрея на трибуне занял невысокого роста, худощавый, с гладко зачёсанными волосами человек.
– Подумайте, прежде чем вступать с борьбу с войсками царя, – взмолился он, простирая к народу руки. – Солдаты вооружены ружьями и пушками, а у вас, дружинников, и ножей нет. Объективно восстание не имеет никаких шансов на успех. Оно обречено на разгром и поражение, а его участники – на истребление, поголовное истребление…
– Меньшевистские песенки. – Глаза Клавы презрительно сощурились, злая усмешка искривила губы.
Как всегда, стремительно подошла Наташа, взяла Клаву под локоть, тихо и отчётливо проговорила:
– Театр окружён войсками. Приказ – немедленно уходить. Наши знают. За мной.
Уже в дверях до Оли донесся растерянный голос председателя:
– Прошу не волноваться… Мы окружены войсками… Недоразумение…
Последние слова потонули в гуле возмущённых голосов:
– Вот тебе и свобода!
– Что за безобразие!
– Надо жаловаться…
– Бить их надо, а не жаловаться!
Наташа быстро прошла через двор к забору. В нём оказалась разобранная большая брешь. В проломе стоял человек.
– Скоренько, товарищи, не задерживайтесь. В Комиссаровское училище, оттуда в Благовещенский переулок.
В Комиссаровском училище среди дружинников Оля увидела Андрея. Он горячо говорил, положив руку на плечо коренастому человеку в поношенном демисезонном пальто. Сдвинутая со лба шапка открывала его с сильной проседью густые волосы.
– Здравствуй, Клавдия, – мягко проговорил он, пожимая протянутую руку Клавы. – Вот Андрей говорит, что в воздухе запахло порохом. – Он крепко пожал руки Наташи и Оли. – Как ты думаешь?
– Как я думаю, Иван Герасимович, вы знаете. Думаю так же, как вы. И думаю так давно. Хватит разговоров. Пора браться за оружие. И чем скорей, тем лучше. Если Московский комитет не призовёт к вооружённой борьбе, рабочие завтра сами пойдут на баррикады. Видите, царь-батюшка уже пошёл в наступление…
– Да, товарищи, вы правы, тысячу раз правы, – размеренно, веско бросая слова, сказал Иван Герасимович. – Надо действовать, и мы будем действовать. Сегодня же, немедленно. Надо запасать оружие – разоружать городовых, полицейских, захватить оружейные магазины… Пресня готова к борьбе. Пусть это будет нашим ответом на арест товарищей.
– Какое всё-таки несчастье! Лишиться руководителей – Марат, Южин… И когда! Когда они больше всего нужны. – Андрей, закуривая, зажёг спичку.
– Что и говорить… – Отблеск маленького пламени вырвал из темноты осунувшееся, в крупных морщинах лицо Ивана Герасимовича. – Что и говорить, – повторил он с горечью и болью. – Однако незаменимых людей нет. Будем решать сообща. А сейчас, девушки, по домам. Андрей, ты проводи их в Благовещенский переулок. А сам потом на Пресню. Соберёмся у тебя, Клавдия.
Нет, Оле не забыть этого дня. Всегда она будет вспоминать его с благодарностью. В этот день она почувствовала себя не одинокой, в кругу друзей. С ней говорили, шутили, о ней думали. Её приняли в свою семью. Не забыть ей и следующего дня – девятое декабря. Кровавым заревом витает он перед глазами…
Глава 4
В тот день они встали рано. Наташа, наскоро поев, отправилась на Пресню в Совет, Оля собралась идти на вокзал – узнать, когда прибудет поезд с порт-артурскими солдатами. С большим трудом разыскала начальника вокзала, но узнать ничего не удалось:
«Почитай, сами ничего не знаем, чистая карусель идёт».
Ещё на вокзале Оля услышала тревожные разговоры, что в центре, у Страстного монастыря на Тверской улице, идёт целое сражение. «Палят из ружей, убитых валяется – страсть, а кровищи – видимо-невидимо, пожарные смывают». Сердце заколотилось, стало трудно дышать.
«Наверное, там наши, надо идти». Открыла сумочку, посмотрела: пропуск «Борейко О. С., жена офицера…» лежал на месте. В него вложила адрес. Прочитала: «Патриаршие пруды, дом 8, Смирнова Анна Ильинична. Вход со двора». «Доберусь до Мясницкой, а там по бульварам…» Но уже на Трубной стало тревожно, слышались выстрелы, люди собирались во дворах около лавочек, испуганно прислушиваясь. У Петровских ворот путь преградила толпа народа.
– Сердешная, куда же ты идёшь? Не слышишь, что ль, что творится? Басурманы-то, погибель на их голову, в честной народ палят. Видано ли это дело?
Отчётливо слышалась перестрелка.
– Стреляют… Драгуны, говорят…
– Но и дружинники молодцы. Показали им кузькину мать…
– Убитых, кажись, много. Царствие им небесное.
– Да, мать, лучше бы это царствие на земле.
Оля попыталась подняться выше, к Малой Дмитровке. На пути стоял разъезд драгун. Пьяные, красные рожи.
– Ты куда, пули спробовать захотела?! А ну вертайсь, вертайсь, говорят!..
Уже вечерело. Но света не зажигали. Магазины были закрыты, окна припёрты деревянными щитами.
Пройти к площади Старых Триумфальных ворот, а оттуда к Патриаршим прудам тоже не удалось: на площади, у «Аквариума», на Большой Садовой появились баррикады. Строили из камней, ящиков, ворот, повалили несколько телеграфных столбов, фонарей, сняли железную решётку вокруг фонтана… Городовые, засевшие в верхнем этаже углового дома, выходящего на Садово-Триумфальную и Оружейный переулок, обстреливали дружинников и прохожих. Драгуны избивали всех встречных.
«Да, Клава права: царь-батюшка наступает», – подумала Оля. Надо было что-то делать, как-то найти Наташу, узнать, по крайней мере, что происходит. И, повернув к Цветному бульвару, Оля бросилась бежать обратно.
Когда добралась до Чистых прудов, было совсем темно, ноги подкашивались от усталости. Ольга вспомнила, что с утра ничего не ела.
Ярко светились окна реального училища Фидлера. «Зайду – может, здесь наши. Или, по крайней мере, узнаю, какие новости». У входа её остановили, спросив пропуск. Она назвала имя Страховой, Ивана Герасимовича. Этого оказалось достаточно. Внутри здания в ярко освещённом электричеством зале она увидела несколько гимназистов, реалистов, были студенты и курсистки. За роялем сидела девушка с пышной косой, пела, ей охотно подпевали. В углу тихо разговаривали несколько дружинников. Оля спустилась в подвальное помещение, где была столовая, принялась закусывать. Рядом за столиком ужинали двое рабочих из Казанских мастерских. По их встревоженным, возбуждённым лицам Оля поняла, что говорили они о событиях сегодняшнего дня.
Вдруг вбежал юноша и срывающимся голосом, испуганно крикнул:
– Мы окружены войсками! Нам предъявили ультиматум о сдаче!
Помня историю в «Аквариуме», Оля заторопилась к выходу. Но в вестибюле она увидела уже расположившихся полукругом жандармов и городовых. Около лестницы, заложив руки за спину, расхаживал офицер. Оля бросилась наверх.
В зале закипел митинг.
– Вы подумайте, какая наглость: предложить сдаться свободным гражданам! Будто здесь война, а они победители, – кричал гимназистик, то и дело поправляя буйную шевелюру.
– Ни за что не сдадимся. Лучше умрём. Умирать вместе – это так красиво!
– Да, Леночка. Но ведь они же будут стрелять…
– Вот и хорошо. А мы будем перевязывать раненых.
«Боже мой, какая зелёная молодежь. Почти дети!»
Оля подошла к группе дружинников и рабочих.
– Товарищи, что будем делать? Посмотрите, ведь здесь дети!
– Мы сдаваться не можем. У нас есть оружие, мы будем драться. Женщины и все, кто пожелают, должны покинуть помещение, – ответил пожилой, с прокуренными усами рабочий.
– Сдавайтесь все, только все, – холодно заявил офицер. – Частичную капитуляцию не признаём. Советую поторапливаться. Если через четверть часа вы не измените решения, перестреляем всех, как паршивых собак!
«Ах, «паршивых собак»! Ты перестреляешь, гадина… Тебя не было там, в окопах, в Порт-Артуре, когда гибли люди, – закипело в груди у Оли. – В тылу отсиживался, а сейчас с девчонками захотел воевать. «Сдаваться»? Не бывать этому!»
Дружинники баррикадировали вестибюль, лестницу, нижний этаж партами, досками, реалисты откуда-то принесли ящики, старые стулья, люстру.
«Надо организовать перевязочный пункт. Ведь действительно могут быть раненые. А может, попугают, как вчера в «Аквариуме». Не может быть, чтобы стреляли в безоружных людей».
Наверху хозяйничала девушка с пышной косой – та, которой хотелось «умереть красиво».
– Здесь мы раскинули перевязочный пункт. Не правда ли, очень мило! – сказала она, кокетливо улыбнувшись.
– Посмотрите-ка, Леночка, – драгуны, – проговорила её подруга, смотревшая в окно. – И пушки. Странно, зачем им пушки?
Оля подошла к окну. В полосах света, падающих от окон, было видно, как драгуны спокойно, перебрасываясь словами, устанавливали пушки. «Что это они собираются делать? Стрелять из пушек? В кого?»
Заиграл сигнальный рожок, ещё… На улицу вышел офицер, драгуны вытянулись. Вдруг со страшной силой ударил взрыв – как подкошенный упал офицер, схватившись за плечо, повалился солдат, заржала лошадь.
«Бомбу бросили с четвёртого этажа. Ну, теперь держись!» – подумала Оля, отходя от окна.
Снова запел сигнальный рожок.
– Девушки, ложитесь на пол, быстро!
Оля не успела договорить, как прогремел выстрел, за ним другой. Со свистом и грохотом влетела шрапнель, ударилась в потолок, разорвалась, наполнив комнату пороховым дымом, пылью падающей штукатурки, звоном разбитых стекол… Погас свет. С криками ужаса все бросились к дверям – в коридор, на лестницу, на первые этажи. Две девушки-санитарки упали в обморок, но тут же пришли в себя и с визгом и плачем кинулись вслед за остальными. Ударил второй залп. Со стоном упал юноша, бежавший вместе с Олей. Оля нагнулась над ним, приподняла его голову, положила к себе на колено, судорожно стала рвать пакет. По руке потекло тёплое и липкое. Залп осветил безжизненно-бледное, залитое кровью лицо. А залпы всё гремели и гремели. Пятый, седьмой, десятый…
Страх ушёл из сердца, его место заполняла дикая, страшная злоба. Стало трудно дышать. Дрожащей рукой Оля пыталась расстегнуть пуговицу, но пальцы не слушались, с силой рванула воротник, глотнула воздух пересохшим ртом.
– Ироды, убийцы! Будьте прокляты, будьте трижды прокляты! Из пушек стрелять в людей… – Оля не замечала, что кричала хрипло, надсадно. Слёзы заливали лицо, мешая смотреть, а она, прижимая к груди безжизненную окровавленную голову, кричала:
– Бейте их, бейте!
Тишина наступила неожиданно. В разбитые окна Оля ясно увидела, как от солдат отделились двое, держа на штыке белый платок.
– Сдавайтесь! – кричали они. – Всё равно всех перебьём!
– Врёшь, гадина, не перебьёшь всех, нас много! – сквозь зубы, с перекошенным от ненависти ртом проговорил дружинник. Он поправил винтовку, прицелился и выстрелил. – Вот вам ответ от дяди Акима, царские холуи!
И вновь загрохотали залпы. Раненых становилось всё больше и больше. Уже не хватало бинтов, йода…
Силы были слишком неравные. Исход борьбы стал очевиден.
– Вот что, братцы, – сказал дядя Аким. – Нам сдаваться нельзя, мы из Казанских мастерских, большевики. Нас всё равно к ногтю. Но и подыхать рановато. Я ещё не рассчитался с ними. А дюже охота посчитаться. Потому айда за мной – попытаем через чердак.
– Серёга, бери-ка меня за шею, – обратился он к рабочему, раненному в ногу. – А ты, Михей, помоги-ка Митрию. Кто с нами – пошли!
Когда солдаты ворвались в училище, то многие из дружинников уже успели скрыться. Пленных выводили партиями человек по сорок. Оля вышла со второй.
На улице было темно и холодно, от пережитых волнений била нервная дрожь. Оля подняла воротник и, зябко поёживаясь, засунула руки в карманы. Вдруг из переулка на всём скаку вылетел отряд драгун.
– Руби эту рвань! – заорал мчавшийся впереди офицер. Выхватив шашку и размахивая ею над головой, он нёсся прямо на безоружную толпу. Испуганные люди бросились врассыпную, не обращая внимания на крики и угрозы конвоя.
Оля бежала, не чувствуя под собою ног, сердце толчками билось в груди. «Ещё немного, только добежать вот до тех ворот – и спасение». Слышала, как за нею кто-то бежал, хрипло дыша. «Кто это, драгун или рабочий? Оглянуться бы», – мелькнула мысль, и в тот же миг почувствовала, что падает, – подвернулась нога, больно стукнулась лицом. Не двигаться, замереть… Кто-то тяжело упал рядом.
– Спрячь голову, прикрой рукой, – услышала прерывистый шёпот. Послушалась. И сейчас же – топот копыт и пьяная ругань офицера:
– Что это за куча валяется, руби её!
– Баба это, Ваше благородие, от страха сомлела, – голос солдата.
– Ишь, большевистская сволочь, в снег зарылась – шашкой не достать.
«Ну всё, конец», – пронеслось в голове. Горячее дыхание коня, свист сабли и резкая боль, как ожог, в руке. Открыла глаза, увидела, как, пружиня в стременах, офицер легко изогнулся и полоснул шашкой там, где лежал рабочий. Тошнотворно запахло горячей кровью.
Раздался треск выстрелов. Стреляли сверху, с четвертого этажа. Лошадь офицера на бегу споткнулась, упала, подминая под себя хозяина. «Наши выручают, скорей бежать…» Последнее, что осталось в памяти, что унесла Оля с собой на всю жизнь, – это распростёртое на снегу тело с расколотой надвое головой, кровь и пар от тёплого человеческого мозга…
А потом бежала, бежала… Ворота, двор, переулок, опять ворота, опять двор и снова переулок, пока не остановилось сердце и чёрная, мутная дурнота не заволокла глаза. Упала в снег и долго лежала, тяжело дыша и глотая запекшимся ртом снег, перемешанный с кровью. В висках стучало, и вместе с биением сердца и кровью в жилах билась мысль о ненависти к палачам – до последнего вздоха, до последней минуты, о борьбе беспощадной, вместе, плечом к плечу с теми, с кем она сегодня была по одну сторону баррикад, с кем породнилась кровью навеки.
Оля поежилась: от окна дуло. Осторожно спрятала под одеяло руку: ныл локоть, сильно стянутый бинтом. Взглянула на окно – светало. Тихо, чтобы не разбудить мужа, повернулась на левый бок – так будет удобнее смотреть на Бориса – и вздрогнула, встретившись со взглядом широко открытых, внимательных глаз.
– Что с тобой, милая? Я давно на тебя смотрю. О чём ты думаешь? Всё-таки что-то случилось. Почему ты не хочешь мне рассказать?
– Да, я расскажу тебе, я всё тебе расскажу… – Оля села в кровати, накинула на плечи шерстяной платок. – Я расскажу тебе всё с того самого дня, как я приехала в Москву…
Глава 5
Утром Блохин помог чете Борейко перебраться на новую квартиру. Вещей было немного, и всё легко поместились в санях извозчика. Добраться в центр было трудно. Весь город покрылся баррикадами.
Но помог пропуск Борейко – раненого героя Порт-Артура.
Перетащив вещи и подробно расспросив Ольгу Семёновну, как добраться до Курбатовского переулка, Блохин простился с хозяевами, дав слово «не пропадать» и вернуться к вечеру.
На Спиридоновке Блохин увидел солдат без оружия, но с сундучками и вещевыми мешками за спиной.
Нетрудно было догадаться, что это были тоже демобилизованные из Маньчжурской армии.
– Куда путь держите, земляки? – окликнул Блохин одного из солдат, тащившего тяжёлый сундук.
– Мы-та? – оглянулся тот. – В деревню, по домам путь держим, а пакеда брядём на чугунку, что на Смоленск идёт.
– Значит, мне по пути с вами, – заметил Блохин и, пристроившись к колонне, предложил собеседнику помочь поднести сундук.
– А ты его не сопрёшь, часом? – недоверчиво посмотрел на непрошеного помощника солдат.
– Коль не веришь, в середину колонны зайдём, – предложил Блохин. – Там, ежели вздумаю бежать, мигом схватят.
Довод показался солдату вполне убедительным.
– Откель и куда путь держишь, служба? – справился Блохин, чтобы продолжить разговор.
– С Маньчжурии, с Моршанского полка. Может, слыхал про такой?
– Не слыхивал… А дом где?
– Под Вязьмой деревня наша, верстов десять, не боле. А ты откуда?
– Из Минска. В мастерских работал там до войны, – ответил Блохин.
– Из мастеровых, значит? – уточнил солдат.
– Из них.
– Нехорошее дело они, мастеровые, задумали, – осуждающе проговорил солдат. – На царя поднялись, целую войну в Питере и Москве открыли.
– Если бы не допекло, не лезли б в драку, – нахмурился Блохин. – Погоди, доберёшься домой – может, сам взвоешь. Не зря, видно, мужики поместья дворянские палят.
– Так-то оно так! Всё могёт быть! – согласился солдат и, опустив голову, задумался.
Добравшись с колонной демобилизованных до Большой Грузинской улицы, Блохин отстал от неё и пошёл в ту сторону, откуда слышалась частая ружейная перестрелка.
– Куда прёшь, голова садовая? – останавливали его встречные. – Под расстрел попасть вздумал?
– За что же это стрелять меня? – недоуменно поглядывал на них Блохин. – Иду, никому не мешаю. И нешто можно людей зазря, как бешеных собак, убивать?
Миновав Тишинскую площадь, Блохин вышел на угол Малой Грузинской и Курбатовского переулка. Дальше идти было нельзя. Малую Грузинскую перегораживали несколько баррикад. Кем они были заняты, сразу трудно было понять. На ближней из них копошились солдаты, на дальней развевался красный флаг, но никого не было видно.
«Значит, там наши, рабочие», – взволнованно подумал Блохин, не в силах оторвать глаз от кумачового полотнища флага, полоскавшегося на холодном ветру.
Вдруг где-то рядом грохнул выстрел, и один из солдат, взмахнув руками, повалился на утоптанный снег. Оглянувшись, Блохин увидел, как человек в штатском соскочил с забора во двор и скрылся среди надворных построек. В тот же момент к Блохину подбежали несколько солдат с офицером.
– Кто стрелял? Откуда? – рявкнул офицер.
– Не могу знать, вашбродие, не видел… Должно, с той стороны улицы, – ответил Блохин и ткнул пальцем совсем не в том направлении, куда убежал дружинник.
– А ты что здесь делаешь? Кто такой? Где твоя часть? – набросился на него офицер.
Блохин обстоятельно рассказал о родственнике жены, даже спросил, как «сподручнее» попасть на Курбатовский переулок.
– Я тебе покажу Курбатовский переулок! – гаркнул офицер. – Марш отсюда! Ежели увижу ещё раз, пристрелю на месте, как собаку!
Перед самым носом Блохина замелькал кулак с крепко зажатым наганом.
– Слушаюсь, вашбродие! Разрешите идти? – вытянулся Блохин.
– Проваливай ко всем чертям!
Пройдя квартал, Блохин перебежал улицу и оказался в Курбатовском переулке. Там он довольно быстро отыскал нужный ему номер дома.
– Серёгин Никифор Павлович здесь живёт? – справился он у старой женщины, стоявшей у приоткрытой калитки.
– Проваливай, пока цел, – грубо бросила старуха.
– Зачем же так, мамаша? – обиделся Блохин. – Ведь не каратель я. А Серёгин мне очень нужен.
– Кто будешь? – пристально посмотрела ему в глаза старуха.
– Солдат, артурец… из плена японского я, – сообщил Блохин. – С Дмитрием Павловичем вместе…
– Погоди, погоди, – прервала его старуха. – Да неужто от Митеньки, племянничка моего? – спросила она уже сквозь слёзы и громко крикнула в глубь двора: – Никиш, скорее, тебя кличут!
На её зов из дома вышел мужчина средних лет, в очках, пышноусый и бритый.
– Кто кличет? – строго взглянул он на Блохина.
– Да вот он, солдатик, от Митеньки, – объяснила старуха.
Блохин торопливо достал из кармана шинели письмо, передал Серёгину.
– А сам он где же? – побледнел тот, и скулы его будто закаменели.
Блохин молча опустил голову. Старуха припала к забору, заголосила. Серёгин прикусил нижнюю губу, глухо кашлянул, потом медленно прочитал письмо.
– Нерадостную весть принёс ты нам, Филипп Иванович, – промолвил он, наконец. – Хорошо про тебя пишет Митяй наш здесь. Спасибо тебе, что жалел брательника моего. Заходи в дом, коль не из пугливых.
– Я вроде не из таких, – отозвался Блохин.
В комнатке маленькой, но чистой, с накрахмаленными марлевыми занавесками и с геранью на окнах Блохин увидел стоявшего у стола коренастого мужчину с морщинистым лицом и пышной, тронутой сединой шевелюрой.
– Вот познакомься, Иван Герасимович, – обратился к нему Серёгин, входя вместе с Блохиным в комнату. – Интересно тебе будет. Солдат, слуга царя и отечества, порт-артурский герой. Прямо из плену, с Маньчжурии, хочет нашего пороха понюхать.
– Ну что ж, – пожимая руку Блохину, сказал Иван Герасимович. – Это можно. Сам-то кто будешь: мужик или рабочий? Рабочий? Выходит, наш брат. И много у вас таких?
– Да, почитай, добрая половина солдат. Горюшка хватили через край. Попили с нас кровушки – поумнеешь враз. Такого навидались: как генералы продавали нас японцу с потрохами, а царь-батюшка кресты им на пузо вешал за геройство. Если б воля моя была да силы поболе – повесил бы всех на первом поганом суку. А тут едем эшелоном, слышу – бунтует народ расейский… Вот думаю, мать честная, это дело по мне. Жив не буду, если не подмогну.
Блохин разволновался под пристальным, внимательным взглядом Ивана Герасимовича, душой почуял: башковитый, сильный мужик. Этот знает, куда идти. Этот правде научит, не подведёт.
– Братцы, я уж с вами, – проговорил Блохин. – Век благодарен буду.
– Да что ты взмолился? – Серёгин положил Блохину руку на плечо. – Желаешь, идём с нами. Нынче демонстрация рабочих Пресни. Вот поглядишь, как народ расейский бунтует.
Когда они вошли во двор Прохоровки, Блохин ахнул от удивления: такого собрания народу он отродясь не видывал. Всюду, куда хватало глаз, сидели, стояли люди. Море голов – шапки, картузы, платки… Слышались смех, песни. На ветру развевались кумачовые полотнища…
– Ай да ну, сколько вас! – с восхищением проговорил Блохин.
– Сейчас будет митинг, рабочие будут говорить. Вон там видишь деревянное одноэтажное здание? Это Малая кухня. На крыльце стоят депутаты Совета. Видишь, Иван Герасимович, Страхова – это наша учителька, серьёзная женщина, а вон шапку снял, седой весь, – это начальник военно-боевого штаба Седой, – пояснял Серегин.
Митинг открыл Иван Герасимович. И с первых слов, брошенных оратором в народ, Блохин замер. Он первый раз слышал: люди открыто, не таясь, говорили о свободе, они звали к борьбе кровавой против самодержавия.
То, о чём он думал, сидя в окопах, о чём мечтал, боясь поделиться своей мечтой с товарищем, что понял всем своим нутром бедняка, об этом люди говорили… Он видел радостные, светлые лица, будто люди дождались праздника.
– Товарищи, – доносилось до Блохина, – Совет рабочих депутатов предлагает устроить демонстрацию. Пройдём с флагами и знамёнами по улицам, покажем свою сплочённость…
– Даёшь! – дружно ответили ему. – Ура!
Без суеты, организованно, как-то по-особенному весело, с шутками люди разделились на десятки, становились друг за другом, образуя шествие.
- Вставай, подымайся, рабочий народ!
- Вставай на врага, люд голодный! —
запел звонкий девичий голос. Песню дружно подхватили. Она окрепла, налилась силой и уже грозно и могуче звала людей:
- Раздайся клич мести народной:
- Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд!
– Смотри-ка, друг, – взволнованно проговорил Серёгин, – вот и с Даниловского сахарного пришли, а вон рабочие с завода Шмита, с Грачёва, Оссовецкого… Выходит, вся Пресня поднялась. Почитай, тыщ десять будет!
Демонстрация направилась к Пресненской заставе, потом повернула к Большой Пресне. Подходили к Зоологическому саду.
Вдруг задние ряды дрогнули, заволновались.
«Казаки!» – увидел Блохин. Волнение в народе нарастало, песня замерла. Неожиданно из толпы навстречу казакам бросились две девушки, красное знамя на тонком древке замерло в их руках.
Блохин почувствовал, как похолодели ноги, кровь медленно, толчками ушла из сердца, к горлу подкатил ком, перехватило дыхание. Он схватил руку Серёгина, до боли сжал её и, не отрываясь, смотрел туда, где стояли две тоненькие девичьи фигурки под трепещущим алым полотнищем.
– Наши, прохоровские, – услышал он прерывистый шёпот Серёгина. – В белом платье Наташка, в Совете работает, а та, в цветастом, – Татьянка из прядильного цеха! Смотри, смотри, грудью пошли на казаков. Вот это девки, вот это молодцы!
Блохин увидел, как девушки, вскинув знамя над головой, решительно двинулись вперёд.
– Стреляйте в нас, – зазвенел девичий голос, – убейте нас, живыми мы знамя не отдадим!
Блохин перевёл взгляд на казаков. Те замерли в нерешительности. На их лицах было написано смущение и удивление. Они хмуро посматривали на офицера.
– Казаки, неужели вы будете в нас стрелять? – раздалось из толпы. – За что? Мы такие же люди, как вы!
– Бейте своих офицеров, переходите к нам!
Вдруг задние ряды казаков, повернув коней, рысью двинулись обратно, вверх по Пресне. Глядя на них, повернули коней и остальные.
– Да здравствуют братья казаки!
– Ура!
Блохин кричал вместе со всеми, бросая вверх свою шапку.
Толпа, расступившаяся перед казаками, вдруг сомкнулась и бросилась к девушкам. Их посадили на сплетённые руки, подняли высоко над головами людей и понесли. А они крепко держали знамя и счастливо смеялись.
Глава 6
Все эти дни после демонстрации на Пресне Блохина не покидало странное, впервые переживаемое им состояние восторга и ликования. Где бы он ни был и что бы он ни делал – строил ли вместе с рабочими баррикады, делал ли оружие, слушал ли речи депутатов в Совете, нёс ли охрану вместе с дружинниками – его наполняло чувство радости и счастья от мысли, что он, солдат Блохин, здесь, вместе со всеми, своими руками делает революцию, создаёт свою, рабочую власть.
Многое одобрял Блохин в новой власти: выгнали взашей всех полицейских с Пресни – правильно: что им здесь, толстомордым, делать? Создали при штабе свой рабочий суд, который судил предателей и провокаторов, – и это верно: не предавай рабочее дело. Мастерили сами оружие, в фабричной лаборатории, как он слышал, даже готовили бомбы – по-хозяйски, рассуждал он, потому без оружия что за война?
Но больше всего удивлял и радовал его Совет. «Вот ведь, – нередко думалось ему, – Иван Герасимович простой ткач, мужик, как я или кто другой, к примеру. А как ведёт дело – удивление одно. Или Страхова. Слов нет: образованная, учительница, да ведь баба. А посмотри, как у неё всё башковито получается. Потому и слушает народ и верит». А что слушал и верил народ Совету – это Блохин доподлинно знал. Вот освободились места в спальнях – народ сразу в Совет. И Совет решает: дать их рабочим, которые жили на частной квартире. Или решает Совет закрыть винные лавки, пивные и трактиры, и народ понимает, что это верно, потому как от вина одно безобразие, а сейчас нужон революционный порядок. Бабы поспорили – бегут в Совет, и Совет разбирает. Мужики из соседних деревень, – мало ли у них всяких невзгод, – тоже идут в Совет, потому знают, что Совет – власть своя, посоветует. Э, да мало ли дел у Совета…
Вот и сейчас только что кончилось заседание рабочего суда. Судили начальника охранного отделения Войлошникова. Арестовали его дружинники на улице и сразу привели на Прохоровку. Судили рабочие по всей форме, тут же при всём народе и осудили за преступления расстрелять. Народ одобрил, потому собаке собачья смерть.
Блохин прошёл в Большую кухню. Спустился в столовую. Получил свою порцию каши, сдобренную салом, уселся поближе к окну. Там среди дружинников шёл оживлённый разговор.
Дружинники вспоминали о боях с карателями, перебрасывались шутками, подсмеиваясь друг над другом. Настроение у всех было бодрое, приподнятое. «До чего живуч русский человек, – подумал Блохин. – Ведь намедни какой был бой у Горбатого моста – страсть. Пушки били вперехлёст – с Кудринской, с Ваганьковского и с Николаевских казарм. Да как били! Что тебе Цзинджоу![15] Почитай, залпов двести дали! И ничего. Стоят рабочие. Каратели наблюдательный пункт устроили на колокольнях, на Кудринской, в Большом Девятинском переулке, содят оттуда из винтовок да пулемётов. И опять ничего. Стоит Пресня насмерть!
И ничегошеньки правители с ней не могут сделать. Вот это я понимаю».
– А ну стихни, братцы, на минуту, – сказал молодой дружинник с окладистой светлой бородкой. – Видели, как у Горбатого моста на баррикаде Иван Герасимович дрался? Вместе с нами и впереди всех! Ничего не боится, жизнью своей не дорожит. А почему, хочу я вас спросить? А потому, что он душевный человек. Идёт за наше рабочее дело.
– Ну что ты нам рассказываешь! – сразу набросилось на оратора несколько голосов. – Сами, что ль, не знаем? Он да Седой – всему голова…
– А коли вы такие умные, так не видели ли, во что одет Иван Герасимович? Вот то-то и оно, повесили головы. А что одет он в плохоньком пальтишке, да в такой мороз, пожилой человек, должно быть стыдно нам. Потому я с себя, тёпленький, – парень расстегнул овчинную куртку. – А мне и в пальто жарко. Во мне ещё молодая кровь играет, хоть у бабы моей спросите.
Дружный хохот покрыл слова парня.
– Это ты верно, умно подметил. Он как отец нам…
– Только, поди, не возьмёт…
– Возьмёт, – уверенно сказал парень. – Не может не взять, потому как это от всего сердца, любя, народ ему…
Блохин заглянул к дружинницам. В небольшой комнате с чисто вымытым полом кипела работа: готовились бинты, вата, инструменты. Блохин увидел Ольгу Семёновну в белом фартуке и сестринской косынке. Она что-то энергично доказывала Страховой.
– Нет, Оля, ты не права, тысячу раз не права. Здесь тебе делать нечего. Обучать сандружинниц? Ничего. Это сделает Наташа. Ты же нам нужна для другого. Пойми: мы отрезаны от центра, а связь нужна до зарезу. Сведения, которые ты нам приносишь, – бесценны. Выполнить эту задачу можешь только ты. Сама понимаешь – у тебя пропуск, удостоверение – не придерёшься. Иди, дорогая, храбрая… Мы очень тебе благодарны. – Клава поцеловала Ольгу Семёновну и, обняв за плечи, повела в другую комнату.
Повернувшись, Оля увидела Блохина, приветливо помахала ему рукой, крикнула:
– Филипп Иванович, ты уж поберегись…
– И вы тоже, – улыбнулся ей Блохин. – Поклон от меня Борису Дмитриевичу.
– Непременно.
Блохин вышел во двор, скрутил козью ножку, закурил. Прислушался: было тихо. Изредка кое-где завязывалась перестрелка, и снова всё замирало.
– Поганая тишина, – проворчал себе под нос. – Солдата не проведёшь – затишье перед грозой бывает.
Клава в дверях столкнулась с Андреем.
– Идём с нами, дело есть, – проговорила она, беря его под руку.
В комнате Ивана Герасимовича было накурено так, что люди ходили, будто в тумане плавали. Дружинники пересчитывали боеприпасы – патроны, винтовки из отбитого накануне обоза.
– Отойдём в сторонку, Иван Герасимович, разговор важный.
Иван Герасимович, мягко улыбнувшись, поздоровался с Олей.
– Какие-нибудь новости? – спросил он, отходя к окну.
– Да. И очень неутешительные, – проговорила Клава. – Прибыли семёновцы. Правительственные войска увеличились на тридцать четыре роты и на несколько отделений артиллерии. Восстание в основном подавлено во всем городе. Осталась Пресня. Сам понимаешь, Дубасов сейчас обрушит на нас все свои силы. Надо посоветоваться, что делать. Седой пошёл на Пресненский мост. Скоро будет.
Иван Герасимович сел на подоконник, закусив губу, задумался.
– Послушайте, что же тут думать, когда вопрос яснее ясного…
– Остынь, Андрей, не закипай. Я твоё мнение знаю. Слышал его вчера в штабе, когда ты крушил этих меньшевистских предателей. И был с тобой полностью согласен. Выродки! Распустить свои дружины! Агитировать за прекращение восстания! Вот на деле показали, какие они друзья рабочему классу. Гнать этих капитулянтов с Пресни!
– А ты знаешь, Иван Герасимович, многие из рядовых меньшевиков и эсеров возмущены поведением своих лидеров и переходят в большевистские дружины! – сказала Клава.
– Знаю. И очень этому рад.
– Иван Герасимович, – вставила своё слово Ольга Семёновна. – Я должна буду передать вам ещё письмо от Московского Совета.
– «Решение Московского комитета партии и Московского Совета о продолжении борьбы московского пролетариата»… – глуховатым от волнения голосом читал Иван Герасимович.
– Ура! – ликуя, в один голос крикнули Клава и Андрей.
– Подождите орать, молодежь. Вечером соберёмся в штабе, потолкуем. Андрей, собери начальников дружин, а ты, Клавдия, скажи депутатам. Посоветуемся, что скажет народ.
Расходились из штаба поздно. Впереди была ещё уйма дел: заложить фугасы у Бирюковских бань на Большой Пресне, у Горбатого моста, на заставе, на углу Малой Грузинской и Охотничьего переулка, занять дома и чердаки, что неподалеку от главных баррикад, штабу перебраться в школу Копейкина-Серебрякова, ближе к переднему краю обороны, подтащить патроны, бомбы… Пресненские рабочие готовились к решительному бою.
Андрей догнал Клаву у переулка.
– Клавочка, мне на Пресненский мост, по пути. Пойдём вместе.
– Пойдём, Андрей.
Снег повизгивал под сапогами. Холодно. Тихо. Ясное звёздное небо низко опрокинулось над головами. Дружинники жгли костры у баррикад, грелись. Клава потёрла варежкой руки, подышала на них, потом зябко засунула в рукава шубейки, взглянула на Андрея, улыбнулась и тихо спросила:
– Андрюша, о чём ты сейчас думаешь?
– Завтра, по всему видать, будет трудный день. Седой верно говорил: надо ждать окружения. А думать об этом сейчас не хочется, сейчас… когда я с тобой. О тебе думаю, родная моя, любая… Веришь, вот днём на баррикаде, бой идёт, и всё равно о тебе думаю, будто ты рядом со мной… Потому – люблю очень. Хочу быть всегда с тобой, всю жизнь рядом… Идти вместе, держать твою руку. – Андрей обнял Клаву за плечи. Они остановились, прислонясь к воротам.
– Озябла?
Он расстегнул кожух, распахнул полы, прикрыв ими Клаву, крепко обнял. Клава прижалась холодной щекой к тёплой груди Андрея, услышала медленные и сильные удары сердца. Просунула руки ему под мышки, обняла, крепко прижавшись, подняла ясное, счастливое лицо.
– Родной…
Андрей поцеловал её в глаза, в заиндевевшие ресницы, в щёки, губами отодвинул платок, нашёл губы и приник к ним. Так и стояли они, забыв обо всём на свете, среди баррикад мятежной Пресни, счастливые, одни со своей любовью.
Совсем рядом грохнул выстрел. Оба вздрогнули, очнувшись.
– Андрюша, надо идти…
– Ну подожди немного, – шептал Андрей. – Не могу от тебя уйти. Подожди…
– Надо, Андрюша. – Клава потихоньку освободилась из объятий Андрея, застегнула ему кожух, взяла его горячие руки в свои. – Андрюша, пора. Завтра увидимся.
– Да, завтра увидимся, – повторил Андрей, снова целуя её глаза, губы, руки в пушистых варежках…
Утром 16 декабря стало очевидным полное окружение Пресни. У Дорогомиловского моста, у Ваганьковского кладбища враг установил артиллерию. Пехота с пулемётами залегла на берегу Москвы-реки, казаки – близ Шелепихи. Пехота с артиллерией двинулась на Горбатый и Пресненский мосты.
В семь часов лёгкая артиллерия ударила по Прохоровской мануфактуре. Одновременно загрохотали пушки возле баррикад Пресненского и Горбатого мостов.
Наташа сидела на бревне возле опрокинутой бочки. Бой шёл, по её предположению, уже несколько часов. Она привыкла к грохоту пушек, к свисту пуль. Не впервой на баррикадах! Её санитарный пункт работал исправно. Вечером Клавдии придётся её похвалить. Шутка ли, на самой боевой баррикаде возле Пресненского моста! Впрочем, если по-серьёзному, то хвалить, конечно, не за что. Подумаешь, перевязать раненого! Вот драться самой, с винтовкой в руках, это да, это она понимает!
Наташа посмотрела на дружинников. Многие были ранены, но никто не покинул баррикады. Вон Андрей: пуля зацепила его в плечо, а ему и горя мало, командует всей баррикадой. А этот, неподалеку от неё, солдат, порт-артурец. Ишь как бьёт: редко, но наверняка.
Артиллерийская канонада стихла.
– Приготовься, братцы, – хрипловато крикнул Блохин. – Сейчас пойдут в атаку.
– Разберите бомбочки, подпустите поближе! – голос Андрея.
Наташа выглянула в просвет между досками, увидела, как бежали, пригибаясь к земле, люди в серых шинелях. Уже в который раз сегодня они вот эдак пытались взять баррикаду, но откатывались обратно, оставляя на снегу убитых. Она уже знала: сейчас их подпустят поближе, потом Андрей крикнет…
– Готовсь, ребята, – раздался голос Андрея. – Бей их! Огонь!
Грохот разорвавшихся бомбочек, треск винтовочных залпов. Солдаты смешались и бросились назад. И тут же, покрывая все звуки улицы, ударили пушки. Всё злее, всё ожесточённее гремели залпы.
– Хоть бы одну пушечку, – чуть не плакал Блохин. – Мы б им показали кузькину мать…
Раненых становилось больше. Наташе уже некогда было смотреть, как идёт бой. Она еле успевала перевязывать, а тяжелораненых отводить с баррикады во двор, в безопасное место. На помощь ей подошли другие женщины.
– Патроны! – раздался голос Андрея. Наташа бросилась к ящикам. Первый, пустой, она оттолкнула ногой, открыла другой и в ужасе замерла: патроны были на самом дне.