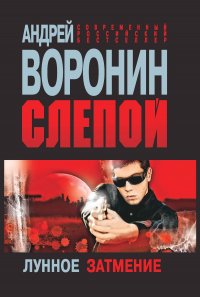Читать онлайн Спецназовец. За безупречную службу бесплатно
- Все книги автора: Андрей Воронин
© Подготовка и оформление Харвест, 2013
© А.Н. Воронин, 2013
© ООО «Издательство ACT», 2013
Глава 1
Городок стоял на высоком обрывистом берегу, растянувшись вдоль неширокой, тихого нрава равнинной речки. Судоходной в нынешнем понимании этого слова данная водная артерия не была никогда, но те, кто в тридцатые годы прошлого столетия пытался придать городу современный, с налетом модной в те времена имперской помпезности, вид, развернули его лицом к реке, по которой сроду не плавало ничего крупнее рыбацких плоскодонок. Капитаны этих, с позволения сказать, судов вряд ли были способны по достоинству оценить тяжеловесные архитектурные изыски воздвигнутых на берегу зданий горсовета и землемерного техникума – единственного учебного заведения, в котором местные школяры при желании могли продолжить свое образование. Береговой обрыв на этом участке сменялся относительно пологим склоном, что позволило тогдашним градостроителям протянуть вдоль него коротенькую набережную. От набережной к трехэтажному вместилищу местной администрации поднимались две широкие лестницы, с момента постройки и до сего дня служившие для отцов города постоянным источником головной боли: толку от них не было, почитай, никакого, а тратиться на поддержание их в приличном состоянии приходилось регулярно.
Вправо и влево от этой архитектурной бессмыслицы, долженствующей, по замыслу, служить городу визитной карточкой, вдоль берега протянулся город как таковой – скопление почерневших от времени и непогоды бревенчатых срубов, могучих покосившихся заборов, замшелых от старости садов и прочих прелестей российской глубинки, каковые прелести, судя по виду, тихо гнили здесь, над изрытым гнездами стрижей песчаным обрывом, со времен царя Гороха. Собственно, теперь это были городские зады; настоящий город с капитальными строениями и асфальтированными улицами уходил в сторону от ненадежного обрыва, потихоньку подбираясь корпусами новостроек к автомобильному мосту, который перекинули через реку в начале семидесятых и который здесь до сих пор именовался новым.
Старый пешеходный мост связывал город с заречными заливными лугами, среди которых поблескивала тихой прозрачной водой целая россыпь небольших озер. Слева за лугами у самого горизонта зеленел кронами сосновый бор, некогда, если верить утверждениям здешних краеведов, служивший источником мачтовой древесины чуть ли не для всего российского флота; справа, тоже на приличном удалении от города, отсвечивал сусальным золотом куполов монастырь, стены которого хорошо помнили лихого казачьего атамана Стеньку Разина. На протяжении многих десятилетий в этих стенах размещалось ПТУ механизаторов, что, разумеется, не пошло на пользу монастырским постройкам. В начале девяностых наполовину превратившийся в руины монастырь вернули церкви, и теперь в тихую погоду в городе был слышен далекий колокольный звон.
Летом погода здесь стояла неизменно жаркая, сухая, с нечастыми, но зато сильными проливными дождями. В окрестных лесах было полно грибов; луговые опята за рекой собирали мешками, а озера, глубина которых сплошь и рядом позволяла из края в край проходить их с бреднем, изобиловали рыбой. Там же, на озерах, гнездились утки; словом, за вычетом чисто провинциальных мелких неудобств, летом здесь было хорошо. Да что говорить! Классика все равно не переплюнешь, а о том, что такое лето в российской глубинке, самым исчерпывающим образом высказался еще Александр Сергеевич: «О, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль, не комары да мухи…» Написано без малого двести лет назад, а что с тех пор изменилось? То-то, что ничего.
Зимы тут, как и в большинстве центральных областей России, были снежные, с крепким пахучим морозцем и великим множеством ясных, солнечных, с искрами и пушистым инеем дней. В такие дни хорошо было встать на лыжи и, забросив за спину старенькую тульскую двустволку, отмахать сколько-то там десятков верст по заснеженным лесам – не ради добычи, без которой в наше время вполне можно обойтись, а для собственного удовольствия. И не менее хорошо было вечером принести с улицы охапку звонких, пахнущих морозом березовых поленьев, развести в печке огонь и, покуривая в поддувало, наблюдать за древней как мир пляской рыжего языческого бога в закопченной пещере топки.
Эти простые, незатейливые радости ценились Николаем Ивановичем Камышевым особенно высоко потому, что выпадали сравнительно редко: по роду своей профессиональной деятельности он мог вырываться к родным пенатам не чаще раза в два, а бывало, что и в три, и в четыре года. Он был человек военный – не тыловое чучело в погонах, дрессирующее новобранцев, а по выходным поливающее на даче кабачки, которые растут медленнее, чем его брюхо, а боевой офицер, застреливший своего первого врага еще в Афганистане. Поэтому возможность навестить родные края у него всегда зависела не от графика отпусков, а от оперативной обстановки, которая со времен все того же Афганистана крайне редко бывала спокойной.
К тому же родители Николая Ивановича давно умерли, сестра вышла замуж, а старый дом в пяти минутах спокойной ходьбы от реки продали каким-то незнакомым людям – в общем, родных пенатов как таковых не осталось. Конечно, в большом кирпичном особняке, который зять отгрохал в выросшем за рекой коттеджном поселке, Камышеву всегда были рады, но родным домом это место он назвать не мог при всем своем желании. Город изменился, знакомые лица на его улицах теперь встречались едва ли не реже, чем в Москве, и Николай Иванович постепенно, как-то незаметно для себя расстался с лелеемой некогда мечтой, выйдя в отставку, поселиться здесь. То есть такой вариант тоже рассматривался, но уже не в качестве приоритетного, а на общих основаниях – как один из многих, и притом не самый привлекательный.
Нельзя сказать, чтобы Камышев так уж прямо и мечтал поскорее покинуть службу и, пустив корни в провинции, обзавестись упомянутыми несколько выше огородом и брюшком. Напротив, о том, чем станет заниматься, когда выйдет в отставку, он старался не думать. Тем более что на фоне его трудовых будней такие размышления выглядели пустой тратой времени: ты до нее сначала доживи, до пенсии-то, а после уж решай, как убить остаток жизни. Потому что пенсия за горами, а в горах – бородатые джигиты, которые приложат все усилия к тому, чтоб ты до нее не дотянул. Раньше прилагали, сейчас прилагают и впредь будут прилагать, такие уж это упорные сволочи…
Впрочем, полковник ФСБ Камышев и сам относился к разряду упорных сволочей – разумеется, в хорошем смысле слова. Джигитам он оказался не по зубам, хотя дырок за десятилетия службы они в нем наковыряли столько, что, случись все его ранения одновременно, через него запросто можно было бы отцеживать макароны. Список боевых отметин достойно увенчала полученная за два месяца до достижения пресловутого предельного возраста контузия, так что из госпиталя полковник Камышев выписался уже генерал-майором – увы, генерал-майором в отставке. Генеральские погоны, золотые часы с гравировкой от самого президента и очередной боевой орден ему со сдержанной помпой вручили прямо в больничной палате; пенсия, о которой всегда думалось как о чем-то далеком и нереальном, настигла его, как выпущенная снайпером с дальней высотки пуля, в мгновение ока переведя матерого вояку в разряд праздношатающихся штатских лоботрясов без определенных занятий.
Именно в этом непривычном и не шибко приятном для него качестве Николай Иванович Камышев прибыл в феврале в родной город, где не показывался уже почти полных два года. Мог бы приехать и раньше, но с контузией шутки плохи – пришлось подождать, пока светило военной медицины, с сомнением качая плешивой головой, не дало добро: скажу вам откровенно, батенька, хорошего мало, но лучше уже не станет, так что желаю удачи. Только вы уж, будьте так любезны, поосторожнее там. Главное, голову берегите – кирпичи об нее ломать вам отныне не рекомендуется…
Выслушав это напутствие, Николай Иванович сдержанно поблагодарил и удалился. Позвонил сестре, убедился, что его по-прежнему ждут, собрал вещички, заседлал свой не первой молодости джип и утречком, затемно еще, покатил по скрипучей свеженькой пороше в восточном направлении.
Встретили его, как обычно, тепло, хотя, ввиду его теперешнего вольноопределяющегося статуса, с известной долей настороженности. Настороженность эту сестра и зять старательно прятали, но Камышев ее заметил и, хоть и не сразу, понял, в чем ее причина. Причина же, несомненно, была в родительском доме – вернее, не в доме, а в деньгах, которые за него выручили. Старый пятистенок сестра продала с ведома и согласия брата, а деньги, вся сумма, как-то сами собой, без обсуждений, семейных советов и нотариально заверенных расписок, остались у нее: всем было понятно, что там, на войне, они ни к чему. Жили родственники Николая Ивановича небедно, и их реакция на его появление, за которым на сей раз мог не последовать отъезд, служила лишним подтверждением старой горькой истины: щедрые люди богатыми не бывают.
Камышева такое некрасивое поведение родни, мягко говоря, огорчило, и, будучи человеком по-военному прямым, не склонным к дипломатическим реверансам, он безотлагательно, не особенно стесняясь в выражениях, высказал свое огорчение открытым текстом: ежели вы насчет денег за избу беспокоитесь, так не парьтесь – не нужны они мне. Раньше не были нужны, а уж теперь и подавно – своих достаточно, слава богу, без жены и детишек накопил столько, что при моих привычках на три жизни хватит. С лихвой хватит, и вам еще останется. Извините, конечно, что живой вернулся, только сильно-то не переживайте: такие, как я, в пенсионерах надолго не задерживаются. Это, знаете, как в армии шутят: снял портупею и рассыпался…
Насчет «извините, что живой» он, конечно, здорово перегнул палку. Сестра разревелась, как белуга, племянница, гневно сверкнув глазами, сказала родителям: «Довольны?» – и вышла, хлопнув дверью. А зять, кряхтя и морщась, как от сильной зубной боли, вынул из бара бутылку с пятью звездочками и предложил спрыснуть это дело – за приезд, за генеральское звание, для полной ясности и за мир во всем мире. «Зря ты так, Николай», – сказал он, и Камышев, уже успевший остыть, лишь молча пожал плечами: ну, может, и зря. Он действительно жалел, что не сдержался и затронул больную тему, вылез с обвинениями, которых сестра и зять, очень может статься, не заслужили. И чего, спрашивается, развоевался? Хорошо еще, что рубаху на груди рвать не стал: пока я там за родину кровь проливал, вы тут, понимаешь, жирели на родительском наследстве… Тьфу, срамотища! И ведь, казалось бы, трезвый… Да-а, долгонько придется привыкать к гражданской жизни!
При полном согласии сторон инцидент был замят. Но осадок остался, и, когда зять предложил устроить его к себе на завод – для начала, пока освоится и войдет в курс дела, заместителем, а позже, когда нынешний, как давно грозится, уедет за длинным рублем в Москву, полновластным начальником службы безопасности, – Николай Иванович обещал подумать, просто чтобы от него отстали и из нежелания обострять ситуацию. Что не останется тут ни за какие коврижки, он уже понял; понял это, похоже, и зять, но, будучи мужиком неглупым, почел за благо промолчать, не вдаваться в ненужные подробности.
Зять свежеиспеченного (лучше поздно, чем никогда) генерал-майора Камышева, Михаил Васильевич Горчаков, был в городе фигурой заметной, поскольку возглавлял единственное на всю округу по-настоящему серьезное современное предприятие. Самым крупным оно, конечно, не было, в штате числилось всего-то пятьдесят три человека, но производил этот затерявшийся на просторах российской глубинки заводик не банные веники и не жестяные тазы, как можно было ожидать, а какую-то шибко мудреную, местами даже засекреченную электронику. Среди контрактов, подписываемых лысеющим толстяком, которого Камышев по-родственному называл Мишаней, а то и Мойшей, встречались бумаги, украшенные печатями Министерства обороны и даже Роскосмоса. О том, что именно они там разрабатывают и собирают в своих цехах и лабораториях, Мишаня, понятно, не распространялся, но не раз давал понять, что это не телефонные аппараты и не дверные замки с числовым программным управлением, а действительно серьезные, умные, сплошь и рядом уникальные приборы и устройства. Посему служба безопасности на заводе должна была соответствовать (и, надо думать, соответствовала) самым строгим стандартам, ввиду чего сделанное зятем предложение можно было рассматривать как лестное и весьма заманчивое: это тебе не тремя сторожами пенсионного возраста командовать!
Осторожно спускаясь по обледеневшей дороге к пешеходному мосту через замерзшую реку, Николай Иванович снова так и эдак вертел в голове предложение зятя. С того памятного вечера, когда он из-за своей склонности резать людям правду-матку прямо в глаза чуть было не разорвал и без того не особенно прочные родственные узы, прошла уже полная неделя. Пора было и честь знать: либо прощаться и выметаться в пустую московскую квартиру, либо принимать предложение и начинать присматривать в городе отдельное жилье – квартирку, а лучше небольшой, уютный домик с садом и банькой, желательно около реки. Горечь и обида давно прошли, и Камышев понемногу начал понимать, что и впрямь хватил через край, попытавшись подойти к гражданским людям с их не до конца понятными заботами и представлениями о жизни со своими военно-полевыми, окопными мерками. Ведь, если он буквально на пустом месте так-то взъелся на родственников, каково ему будет с чужими людьми?! А здесь его, по крайности, поддержат, надоумят, не дадут в обиду – хотя бы поначалу, на первых порах. А после видно будет: не понравится – ну кто его удержит? Один, при деньгах и московской квартире – кум королю, сват министру!
Склон понемногу становился круче, по обеим сторонам дороги воздвиглись, становясь все выше, погребенные под глубокими, искрящимися в лунном свете сугробами откосы. Здесь окраинная улица превращалась в некое подобие оврага, полого прорезавшего крутой берег, и, идя по ней, Камышев всякий раз вспоминал, как давным-давно, до того, как дорогу заасфальтировали, во время особенно сильного ливня ее размыло ко всем чертям, и она превратилась в самый настоящий овраг – глубокий, с почти отвесными краями, куда жители окрестных домов незамедлительно приноровились сбрасывать мусор.
Над западным горизонтом еще дотлевала малиновая полоска заката, но темное небо уже изрешетили пулевые пробоины по-зимнему колючих, ледяных звезд. Протянуть сюда, к реке, осветительную линию так никто и не удосужился, но маленькая холодная луна светила, как авиационный прожектор, с успехом заменяя отсутствующие фонари. Рассыпчатый снег сверкал в ее свете миллионами алмазных искр, дыхание оседало на цигейковом воротнике армейского бушлата игольчатым инеем. Впереди в темном поле приветливым желтым светом сияла россыпь огней заречного поселка, и Николай Иванович невольно ускорил шаг: после одиноких посиделок в тошниловке, которую у ее владельца хватило наглости называть рестораном, в голове ощущался неприятный шум, а во рту было пакостно, как в сильно запущенном привокзальном сортире. Хотелось поскорее очутиться в тепле, наедине со стаканом крепкого, горячего, настоянного на лесных травах чая, который, несмотря на многолетний достаток, так и не разучилась заваривать сестра.
Впереди уже показался пешеходный мост – черные фермы на синевато-белом фоне, похожие на схематичный рисунок пером, – когда дорогу генералу заступили двое каких-то типов. Низко надвинутые шапки и поставленные торчком заиндевелые воротники вкупе с темнотой мешали разглядеть лица, но, судя по поджарым фигурам и молодой легкости движений, до богадельни этим ребятам было еще далеко.
– Я извиняюсь, мужчина, – вместе со словами выталкивая изо рта облачка подсвеченного луной пара, с развязной вежливостью обратился к Николаю Ивановичу тот, что был повыше ростом и пошире в плечах, – у вас сигаретки не найдется?
– А лучше бы парочку, – сипло уточнил второй. – Курить охота – ну просто до смерти!
Николай Иванович мысленно пожал плечами. Гопники? Возможно, да; если так, у ребят нынче выдался не самый удачный вечер. Люди меняются медленнее, чем окружающий мир, сознание просто не поспевает за множащимися в геометрической прогрессии переменами. На земной орбите не протолкнуться из-за спутников, мобильный телефон и компьютер давно превратились из выдумки писателей-фантастов в неотъемлемую часть повседневного обихода. На территории единой и неделимой России, буквально в нескольких сотнях километров от этого вот места десятилетиями тлеет и все никак не погаснет самый настоящий военный конфликт. Через его горнило прошли тысячи людей, и те, кому посчастливилось вернуться живыми, по необходимости превратились в профессиональных убийц, в живые истребительные механизмы. И, прекрасно все это зная, гнездящееся в заплеванных подворотнях подвыпившее быдло, как двести лет назад, пребывает в наивной уверенности, что двое молодых, здоровых парней заведомо, по определению сильнее пожилого, невысокого, не отличающегося богатырской шириной плеч прохожего.
Ну-ну.
– Угощайтесь, ребята, – сказал он, протягивая высокому открытую пачку сигарет.
Высокий спокойно взял пачку из его руки и опустил в карман – понятное дело, в свой.
– А вот это ты зря, – миролюбиво проинформировал его Камышев.
– Ты чего, в натуре, оборзел? – дурашливо набросился на приятеля сиплый. – Слышишь, Зуда, отдай! Ты что, не видишь – человек в годах…
– Да ладно, уже и пошутить нельзя, – неожиданно легко сдался долговязый Зуда. Он снова вынул пачку из кармана и протянул ее Камышеву. – Извини, отец, я, как выпью, всегда чудить начинаю. Потом, бывает, вспомнишь и сам себе удивляешься: и в кого, думаешь, я такой уродился?..
– Ты сигаретку-то возьми, – напомнил Николай Иванович, принимая у него пачку.
– Да ладно, хрен с ней, с сигареткой, – прозвучало в ответ. – Перехотелось чего-то.
– И то верно, – согласился Камышев. – Здоровее бу…
У него за спиной негромко скрипнул снег. Он начал оборачиваться, и в этот момент сиплый коротышка с неожиданным проворством сорвал у него с головы шапку. Генерал сделал резкое движение рукой, и сиплый, коротко вякнув, вверх тормашками улетел в сугроб. Николай Иванович не успел порадоваться этой маленькой победе: тот, кто подкрался сзади, с силой ударил его по затылку чем-то твердым и тяжелым – как показалось, одним из тех самых кирпичей, которые усиленно не рекомендовало ломать об голову плешивое светило военной медицины.
* * *
– Аккуратнее с отчетностью, Сарайкин, – сытым начальственным баритоном вещала телефонная трубка. Трубка, как часто случается с подобными устройствами, несла разнузданный бред, но звонили из областного управления, и бреду приходилось почтительно внимать, глубокомысленно поддакивая в нужных местах.
– Так точно, товарищ полковник, – торопливо поддакнул подполковник Сарайкин. – Есть быть аккуратнее. А что, опять у моих орлов орфография хромает?
– Не перебивай старших по званию, – благодушно одернул его собеседник, – тогда не придется задавать дурацкие вопросы. Про орфографию, а также синтаксис и пунктуацию, я вообще молчу. Не говоря уже о стиле и лексике – ты таких слов, поди, и не знаешь, не говоря уже о твоих… гм… орлах. Но уж больно у тебя там все гладко. Как будто ты не в Поволжье сидишь, а в жандармском участке Сан-Тропе в разгар мертвого сезона. Смотри, Сарайкин, поймают на сокрытии преступлений – мало не покажется. И я, если что, за тебя впрягаться не стану – пробкой из органов вылетишь, а в таком приключении я тебе не компаньон.
«Да уж, – подумал подполковник, – кто бы сомневался! Это ж не в сауне с бабами за мой счет кувыркаться…»
– Так что насчет отчетности ты себе хорошенько заруби на носу, – продолжал собеседник. – Это, Анатолий Павлович, дело серьезное, и следить за его исполнением обязан не Пушкин Александр Сергеевич, а ты – лично, персонально, как начальник и, считай, хозяин вверенного тебе населенного пункта. Усвоил?
– Так точно, – почтительно поддакнул Сарайкин и мученически закатил глаза: да сколько же можно, в конце-то концов! Он что – издевается?
– Вот и молодца, – одобрила его понятливость трубка. – Да, и вот еще что… Ты слушаешь?
– Весь внимание, товарищ полковник, – быстро сказал Анатолий Павлович, уже нацелившийся, было, положить трубку на рычаг и лишь в самое последнее мгновение краем уха уловивший реплику собеседника. Его обдало нехорошим холодком. Полковник, пропади он пропадом, во многом был прав: Сарайкин действительно расслабился и едва-едва не погорел, через пустяковую оплошность нажив себе крупные неприятности. Да и не такой уж это пустячок – бросить трубку, не дослушав, что еще хотело сказать тебе высокое областное начальство. На таком пустячке ничего не стоит загубить карьеру – уволить из органов, может, и не уволят, но житья точно не дадут.
– Тут серьезные люди из Москвы интересуются одним вашим… э… скажем так, учреждением. Разговор не телефонный, да и говорить о чем-то конкретном покамест рано. Но ты имей в виду: скоро к тебе обратятся. Не сегодня и не завтра, а, так сказать, во благовремении – может, через месяц, а может, и через год. Придет человечек, скажет, что от меня, и объяснит что к чему…
– Я понял, товарищ полковник, – осторожно сказал Сарайкин.
– Не перебивай, сколько раз тебе говорить! Так вот, усвой: человечек этот нужный, правильный, и мешать ему ты даже в мыслях не держи. Понадобится помощь – поможешь, но, покуда не попросят, сиди и не рыпайся, как будто тебя там и вовсе нет. Ну, что молчишь? Ты, вообще, на проводе?
– Так точно, – уже в который раз повторил подполковник. – Я все понял, сделаю, как надо.
– В накладе не останешься, – пообещала трубка. – Если, конечно, не напортачишь.
Закончив, наконец, разговор, Анатолий Павлович положил нагревшуюся об его ухо трубку, закурил и, откинувшись на спинку кресла, посмотрел в окно. Там, внизу, на расчищенной от снега стоянке перед крыльцом горотдела стоял его новенький внедорожник с синим ведерком проблескового маячка на крыше. В последние годы подполковник жил припеваючи и ни в чем не нуждался, так что, будь его воля, не ударил бы пальцем о палец, чтобы помочь заезжему московскому фраеру подгрести под себя чей-то бизнес. Он не любил хлопоты и волнения, неизменно возникавшие всякий раз, когда в размеренное течение провинциальной жизни грубо вламывались эти набитые шальными деньгами столичные варяги. Но деньги лишними не бывают, да и свой статус полновластного хозяина города надо постоянно поддерживать, подтверждать. Это как в звериной стае, где ушлая молодь все время пробует вожака на зуб: а вдруг скиксует, уступит полномочия?
И потом, все это ерунда. Что бы он ни думал по этому поводу, звонок из области ему не приснился. А с начальством не поспоришь; оно, в случае чего, на зуб тебя пробовать не станет – куснет разок мимоходом, и нет подполковника Сарайкина, словно никогда и не было. Такой звонок, как этот, равноценен полученному в официальном порядке приказу. Так что думать и, тем более, говорить тут не о чем – приказы, как известно, не обсуждаются.
Его размышления были прерваны коротким, энергичным стуком в дверь. Тонкости столичного этикета до здешних патриархальных мест еще не добрались (а те, что добрались, далеко не везде сумели прижиться), и стучавший просунул голову в кабинет, не дождавшись ответа, которым, к слову, никто и не собирался себя затруднять.
Стучавшим оказался начальник отдела оперативно-розыскной работы майор Малахов (подпольная кличка – «Маланья» – была дана ему за рыхлую бабью физиономию и широченный, как у кустодиевской купчихи, зад). Оперативник и сыскарь из него был, как из дерьма пуля, но на должность начальника уголовного розыска Сарайкин поставил его не за дедуктивные способности. С общим руководством он справлялся неплохо и, что самое ценное, был у Анатолия Павловича в кулаке – сожми покрепче, и только косточки хрустнут. Поэтому интриг или, упаси бог, предательства с его стороны подполковник не опасался. А что до сыскной работы, так ею, когда подпирала настоящая нужда, занимались другие – те, кто был помоложе и хоть что-то в этом смыслил. А Маланья руководил, поддерживал в отделе дисциплину и, когда поступала команда, мастерски, так, что комар носа не подточит, шил дела на неугодных начальству людей. По имени-отчеству он был Семен Михайлович, но из-за уже описанной негероической внешности никому даже в голову не пришло прозвать его Буденным. Хотя, если учесть мужицкое происхождение легендарного командарма и тот факт, что приличный отрезок своей жизни он провел в седле, корма у него, надо полагать, была едва ли не шире, чем у Маланьи. А может, и просто шире, безо всяких «едва ли»…
– Чего тебе? – без особенной приветливости поинтересовался подполковник.
– Тут такое дело, Анатоль Палыч… Клиент какой-то странный попался, даже не пойму, чего с ним делать. Мутный какой-то, стремный, одно слово – москвич.
– Москвич? – заломив бровь, насторожился Сарайкин. Только что состоявшийся разговор с областным начальством в заключительной и, без сомнения, главной своей части (ради которой он и был затеян, насчет этого даже к гадалке не ходи) касался ожидаемого визита какого-то москвича. И, если москвич тот самый… Ой-ей-ей, что тогда будет! Хорошо зная орлов, состоявших в подчинении у Маланьи, подполковник Сарайкин с большой долей уверенности мог предположить, что обещанного начальством поощрения ему не видать как своих ушей. Зато неприятности не заставят себя долго ждать, и масштаб их будет напрямую зависеть от того, насколько круто Маланьины костоломы обошлись со столичным гостем. Не сегодня и не завтра, напомнил себе Сарайкин слова полковника, но утешение было слабое: мало ли, что у них там могло измениться, какая вожжа попала им под хвост! – Это какой же такой москвич? А ну, давай по порядку, да не юли – выкладывай все, как есть, не то я тебя прохвоста, в порошок сотру вместе с твоими дуроломами!
– Так ведь затем и пришел, Анатоль Палыч, – обиженно кривя бабье лицо, сообщил Маланья и, получив, наконец, приглашение садиться, стал выкладывать – ну, или докладывать, тут уж кому что нравится.
В его изложении история выглядела следующим образом. Вчера около двадцати трех часов патруль, следовавший по улице Луговой (бывшая Ленина) едва не переехал шагнувшего из темноты прямо под колеса полицейского «бобика» гражданина. Гражданин был уже немолодой, весь расхлюстанный и расхристанный, без шапки и перчаток, с головы до ног вывалянный в снегу и густо покрытый какими-то темными пятнами – как выяснилось буквально в следующую минуту, кровавыми. Гражданин шатался как пьяный, издавал отчетливый запах алкоголя и нес какую-то околесицу, из которой патрульные ровным счетом ничего не поняли. Денег, документов и того, что принято именовать ценными вещами, при нем не оказалось, зато на коротко остриженном, обильно посеребренном сединой затылке обнаружилась преизрядных размеров гуля. Кожа в этом месте была рассечена, волосы, воротник и плечи армейского бушлата покрывали кристаллы и целые нашлепки свернувшейся, смешавшейся со снегом, смерзшейся в багровые ледышки крови.
На взгляд патрульных, все было ясно как белый день: подгулял, хватил лишнего, ввязался в драку и получил по кумполу. Или просто поскользнулся и треснулся затылком о тротуар. А что карманы вывернуты, так это дело обыкновенное: чтобы не обчистить валяющегося в придорожном сугробе алкаша, надо быть святым. Среди знакомых патрульных святых не было; сами они тоже привыкли худо-бедно обходиться без нимбов, и отсутствие в карманах едва не попавшего под колеса «уазика» старого пьяницы какой бы то ни было поживы их слегка раздражило. Пребывая в этом состоянии, они отказались от мысли просто бросить алкаша на дороге; кроме того, он был явно не местный, что, если призадуматься, могло стать неплохим подарком для оперов из угро, которым вечно не на кого повесить свои пыльные «глухари». А поскольку оплачивать доставку задержанного в больницу для оказания первой медицинской помощи никто не собирался, ребята привезли его в отделение и сгрузили в «обезьянник», как был – с разбитой башкой, с головы до ног в кровище и так далее.
На этом прелюдия закончилась. Ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания. Вел он себя, вопреки опасениям дежурного, тихо – не то спал, не то валялся без сознания. А наутро, то ли проспавшись, то ли просто придя в себя, заговорил. Да как бойко!
– Ну, и что он сказал? – спросил терзаемый дурными предчувствиями подполковник Сарайкин.
– Назвался генералом ФСБ в отставке, – сообщил Маланья. – Из Москвы. Говорит, приехал в гости к родственникам. Вышел прогуляться, поужинал в «Синей птице», немного выпил…
– Ничего себе – немного, – хмыкнул Сарайкин.
– Да, вроде, не врет. По голове ведь его отоварили, а у него свежая контузия. Оттуда, с Кавказа. Встретили у пешеходного моста, попросили закурить, ну и…
– Как обычно, – закончил за Маланью Сарайкин. – Небось, опять Зуда за старое взялся?
– Он так и сказал: трое, мол, их было, и у одного кличка – Зуда.
– М-да, – сказал подполковник.
Зуда был великовозрастный балбес из приличной семьи и гоп-стопом занимался не ради хлеба насущного, а исключительно для собственного удовольствия. Ну, и еще потому, что чувствовал полную безнаказанность: он приходился племянником мэру, который, в свою очередь, являлся зятем губернатора. Этого было достаточно; с кем состоит в родстве, с кем парится в бане и выпивает по выходным губернатор, было не его, подполковника Сарайкина, ума дело. В свете широко пропагандируемой в последнее время борьбы с коррупцией и кумовством такая, с позволения сказать, пищевая цепочка выглядела достаточно одиозно, но что с того? Они в своей Москве чего только ни выдумают – сперва сами коррупцию разведут, потом сами же с ней и борются, создают комитеты, которые только тем и заняты, что высасывают деньги из государственного бюджета. А Россия – настоящая, та, что расположена за пределами московской кольцевой – живет, как жила, и плевать хотела на шумные новомодные кампании: пошумят и перестанут…
– Дальше, – потребовал он.
– Ну, что дальше… – Маланья развел руками. Ладошки у него были маленькие, пухлые, розовые, с толстенькими, сужающимися на концах пальцами – ну, бабьи и бабьи, что тут еще скажешь. – Ребятки мои сгоряча его прессанули – сами ведь знаете, сколько у нас висяков. А тут, вроде, самый что ни на есть подходящий клиент – и не местный, и без документов… Одно слово – бомж!
– Бомж, – недовольно проворчал Сарайкин. – Вот издох бы он у вас в камере – чего бы делать-то стали, умники? Еще один висяк оформлять? Вы хотя бы удосужились проверить его показания? У кого, говоришь, он тут гостит?
– У Горчакова – директора «Точмаша», стало быть, – сообщил Маланья. – Сестра его, вроде, за ним замужем – в смысле, за Горчаковым.
– Так это что же – Камышев? – ахнул подполковник.
С одной стороны, у него отлегло от сердца: задержанный москвич явно был не тот, о грядущем визите которого его предупредили по телефону. А с другой, посаженный в обезьянник орденоносец, боевой генерал спецназа ФСБ, человек, которым по праву гордится город… Гордится, а в лицо не помнит. Лупит фомкой по контуженной голове и выворачивает карманы… А, – с крайне неприятным чувством вспомнил он, – его ведь еще и прессовали! Н-да, ситуёвина…
– Камышев, – подтвердил Маланья. – Именно так он назвался. Я послал человека к Горчаковым, они все подтвердили, нашли его паспорт – точно, он.
– И что же, – с горькой язвительностью поинтересовался Анатолий Павлович, – родная сестра его за целую ночь не хватилась?
– Натянутые отношения, – с умным видом объяснил Маланья, – столкновение имущественных интересов. В общем, они решили, что ему стало невмоготу, и он заночевал у кого-то из старых друзей… А вы что, его знаете?
– Героев надо знать в лицо, – сказал подполковник. – Эх, Ма… майор, хороший ты мужик, но дурак, каких мало.
– Погодите. – Маланья переменился в лице. – Камышев? Это что же, тот самый?
– Тот самый, тот самый, – хмуро покивал Сарайкин. – Помнится, ты, лично, на политзанятиях статейку о геройском земляке с выражением декламировал – так сказать, в назидание личному составу, для поднятия боевого духа и прочее в этом же роде… Баран ты, Сеня. Он же, если захочет, всех нас раком поставит – отсюда до самой, мать ее, Москвы. Ну и что теперь прикажешь делать?
– Анатолий Палыч, – прижав пухлые ладошки к сердцу, умоляюще молвил осознавший масштабы своего окаянства Маланья, – товарищ подполковник! Я же не знал! Ни сном, ни духом… Пока все явились на службу, пока допрос, пока мне сообщили… Я думал…
– Странная штука получается, Семен Михайлович, – доверительным тоном перебил его Сарайкин. – С одной стороны, ты, начальник уголовного розыска, думать обязан по долгу службы. А с другой, это занятие, как я погляжу, тебе строго противопоказано. Парадокс! Может, уволить тебя к чертовой матери, чтоб не мучился, не страдал от этого противоречия?
Маланья с видом человека, которого вот-вот хватит инфаркт, потянул книзу узел галстука. Никакого облегчения это ему не принесло: галстук был форменный, на резинке, и, будучи отпущенным, немедленно вернулся на прежнее место: щелк!
– Ты его отпустил? – Маланья горестно помотал головой. – Нет? Ну я же говорю, дурак… Хотя, с другой стороны…
Маланья оставил в покое галстук и подобрался, как ждущий команды служебный пес.
– Так, может?.. – осторожно предложил он.
– Ты что, сбесился? – мгновенно отреагировал подполковник Сарайкин, только что отбросивший заманчивую мыслишку, которую едва не озвучил майор. – Какая муха тебя сегодня покусала, чего ты с утра нанюхался? Это ж известный человек, герой, генерал ФСБ!
– А что? – неожиданно заупрямился Маланья. – Все под богом ходим – и герои, и простые смертные…
– То-то, что все. Твои ребята у Горчаковых засветились, теперь они знают, что Камышев ночевал у нас… Что же теперь – и их в расход? Чтобы через три дня здесь московские умники из ФСК, ФСБ и Генпрокуратуры, как мухи над навозной кучей, толклись? Ты этого хочешь, майор? Тогда подожди, пока я уйду на пенсию, а потом уж давай волю своим суицидальным наклонностям!
– Так, а… э… – Маланья откровенно завис, как старенький слабосильный компьютер, получивший от неопытного пользователя несколько противоречащих друг другу команд. – Так что же делать?
«Жать „Alt-Control-Delete“», – чуть было не сказал Сарайкин, но сдержался: майор, скорее всего, его бы просто-напросто не понял.
– Действовать по закону, – произнес он вслух. – Освободить законопослушного и ни в чем не повинного гражданина Российской Федерации из-под стражи, принести извинения и, если придется – а я думаю, что придется, – принять у него заявление о разбойном нападении. Вот так, и никак иначе. Вашу мать! – не сдержавшись, воскликнул он и с силой хлопнул ладонью по столу. – С самого утра настроение изгадили, черти. Вот заставить бы тебя самого перед ним расшаркиваться! Да только, боюсь, ты таких дров наломаешь, что потом и за год не разгрести. Ладно, давай его сюда, буду отдуваться… Да, и вот еще что. Пошли кого-нибудь из своих, пусть приведут Зуду. Чтоб через час был здесь, как штык!
– А мэр? – опасливо спросил Маланья.
– Да имел я его в противоестественной форме! – пренебрежительно и зло отмахнулся Сарайкин. – Сколько можно, в самом-то деле?! Этот его племяш скоро средь бела дня людей на улице резать начнет – просто так, чтобы поглядеть, что у них внутри. Он же, паршивец, и нас с тобой, и дядьку своего, и губернатора под монастырь подводит. Пора его окоротить, не то поздно будет. А если мэр этого не понимает, значит, у него задница вместо головы, и нечего ему тогда в своем кресле делать… Зуду сюда, – повторил он, для убедительности постучав пальцем по крышке стола, – через час. Свободен, майор!
Когда Маланья вышел, без стука прикрыв за собой дверь, Анатолий Павлович снова посмотрел в окно. Денек выдался ясный, солнечный, с легким морозцем. Сугробы искрились, будто присыпанные алмазной пылью, ветви берез на противоположной стороне улицы оторочило пушистое кружево инея. В голубое, без единого облачка, небо вертикально поднимались белые дымы из печных труб, все вокруг было бело-голубое с просинью и позолотой, радостное и свежее. Но, глядя из окна своего служебного кабинета на это зимнее великолепие, подполковник Сарайкин не испытывал ни малейшего душевного подъема: как он и говорил, день был изгажен окончательно и бесповоротно.
И что-то подсказывало, что счет сегодняшним неприятностям еще далеко не закрыт.
Глава 2
Заскочив в обеденный перерыв домой, Михаил Васильевич Горчаков застал брата своей жены Валентины Николая во дворе, забрасывающим в багажник потрепанного японского внедорожника тощий армейский вещмешок с немногочисленными пожитками. Выбираясь из-за руля своей новенькой серебристой «тойоты», директор частного научно-производственного предприятия «Точмаш» Горчаков мимоходом опять подивился тому, насколько простецкая, не генеральская наружность у его родственника: среднего роста, худощавый и подтянутый, он был одет в пятнистый армейский бушлат с цигейковым воротником, обычные джинсы и недорогие ботинки на искусственном меху. Шапка с поднятыми, несмотря на мороз, ушами из-за марлевой нашлепки на затылке была сильно сдвинута на лоб, что придавало Николаю Ивановичу залихватский, неуставной, прямо-таки дембельский вид. Собственно, он и был дембель – заслуженный, в чинах, честно отдавший долг Отечеству и, как это частенько случается, довольно неласково встреченный на гражданке. Генеральского в его облике не было ничего – даже золотые часы с именной благодарственной гравировкой от самого президента, и те пропали.
Этот украденный грабителями дорогой швейцарский хронометр был единственной потерей, о которой Камышев по-настоящему жалел – не потому, что золотой, швейцарский и стоящий, как новенькая «Лада», а потому, что именной. За неделю, в течение которой Николай Иванович отлеживался в доме Горчаковых, мучимый сильными головными болями, грабителей, разумеется, не нашли. Откровенно говоря, Михаил Васильевич, прожив в городе десять лет и неплохо разобравшись в здешних обычаях и нравах, очень сомневался, что их кто-нибудь искал; более того, он был процентов на девяносто пять уверен, что оставленное Камышевым в полиции заявление было уничтожено сразу же после его ухода – или будет уничтожено в ближайшее время.
Просвещать на этот счет шурина он не стал: тот и так пребывал в расстроенных чувствах. Его, ветерана спецназа, опытного и умелого бойца, пусть отставного, но все-таки генерала спецслужб, сначала ударили по голове и обобрали, как подгулявшего ларечника, а потом еще полсуток мурыжили в полиции, выбивая признание в каких-то залежалых, поросших пыльным быльем, нераскрытых со времен застоя преступлениях. Любые упоминания об этом инциденте он воспринимал крайне болезненно, и его было легко понять: сочувствие, мало того, что бесполезное, в данном случае граничило с откровенной издевкой.
Камышев захлопнул багажник и, казалось, только теперь заметил присутствие хозяина.
– О, вот и ты, – обрадовался он. – А я уж думал, что придется тебя на заводе разыскивать.
– Ну это, положим, не так просто, – с улыбкой заметил Горчаков, пожимая протянутую шурином руку.
– Вот заодно и проверил бы, просто или нет, – ухмыльнулся Николай Иванович. – Может, твоя хваленая служба безопасности вообще мышей не ловит – спит себе в шапку, а зарплата капает.
Они немного посмеялись. Валентина и двадцатилетняя дочь Горчакова Марина стояли на крыльце, наблюдая за мужчинами и одинаково кутаясь в наброшенные поверх домашних халатов шубки – Валентина в черно-бурую, а Марина в серебристую.
– А ты проверь, – наполовину в шутку, наполовину всерьез предложил Михаил Васильевич.
– Проверю обязательно, – все еще улыбаясь, но уже без шутливых ноток в голосе пообещал Камышев. – В следующий раз. Как приеду, так прямо с этого и начну.
– Все-таки уезжаешь, – вздохнул Горчаков. – Черт, нехорошо как-то получилось. Встретили, называется, героя! И деньги эти… Может, все-таки возьмешь? Сумма-то по нашим временам небольшая, но все-таки…
– Да забудь ты, наконец, про эти деньги! – сердито отмахнулся Николай Иванович. – Ну, если так сильно свербит, обещаю: если понадобятся, попрошу.
– Точно? – недоверчиво переспросил Михаил Васильевич.
– Слово офицера – тебе что, этого мало?
– Генерала, – машинально поправил Горчаков.
– Да какой из меня генерал! – вздохнул Камышев. – Я в этом звании и дня не прослужил. Это как с покойником: при жизни ходит человек в какой-то засаленной рванине, на которую глядеть тошно, а в гробу лежит одетый с иголочки, как будто не червям на корм, а к президенту на прием собрался. А в крематории, слышь-ка, и того веселее. Помню, видел однажды. Все как положено: траурная церемония, цветы, речи, музыка органная… А перед тем, как гроб закрыть, тамошняя служительница, гляжу, берет ножницы и костюмчик на покойнике – чик-чик, чик-чик… В два счета в лохмотья почикала, да так ловко! Вдова ей: что же это вы, говорит, делаете? А та в ответ: рабочие, мол, внизу, где печи, повадились покойников раздевать и костюмчиками с рук приторговывать…
– Да будет тебе! – пугливо покосившись на женщин – не слышали ли, – оборвал его Михаил Васильевич. Он потер ладонью замерзшее, уже начавшее неметь ухо. – Что ты все время каркаешь? То снял портупею и рассыпался, то кладбище, то крематорий… Рано тебе об этом думать!
– Об этом, Мишаня, думать никогда не рано, – возразил Камышев. – Думать и готовиться, чтоб, когда придет твой срок, долгов после тебя не осталось. Кому, скажи на милость, охота по чужим счетам платить? Тут со своими-то дай бог разобраться…
В этой реплике Михаилу Васильевичу почудился какой-то мрачный, чуть ли не зловещий подтекст, и он поспешил сменить тему.
– Уезжаешь, значит, – повторил он. – Жалко.
– А ты не жалей, – посоветовал Камышев. – Я ведь ненадолго – надо же, в самом деле, вещички собрать, квартиру, как положено, законсервировать, то да се… В общем, привести дела в порядок. Надеюсь, твое предложение еще в силе?
– Это насчет места в службе безопасности? – удивленно уточнил Горчаков. – Да ради бога, с дорогой душой! Просто мне казалось, что ты… Ну, в общем, что тебе это не нужно.
– Было не нужно, – согласился Николай Иванович, – а теперь вот понадобилось. Так что надоесть я тебе, Мойша, еще успею хуже горькой редьки. Так вот, чтоб не надоел, присмотри-ка ты мне, браток, по-родственному какую-никакую хибару. На дворцы не замахивайся, главное, чтоб над головой не капало, и чтоб речка недалеко… Сможешь?
– Да это не вопрос, не купим, так построим… А с чего это ты вдруг так резко передумал?
– Ничего не вдруг, – проворчал Камышев. – Говорю же: не люблю оставлять после себя неоплаченные счета. А в этом городе я кое-кому крепко задолжал. Я их, стервецов, обещал вывести на чистую воду, и выведу непременно!
– Кому это ты обещал? – уже начиная понимать, что дурное предчувствие его не обмануло, осторожно спросил Горчаков.
– Да этому вашему, как его… Фамилия у него еще такая дурацкая – не то Барачный, не то Замарайкин… Короче, вашему главному менту!
– Сарайкину?
– Во-во, Сарайкину. Такая отвратная рожа, тебе не передать! Так бы и хрястнул по ней кулаком, насилу сдержался, честное слово…
– Это ты зря, – снова покосившись на женщин и слегка понизив голос, произнес Михаил Васильевич.
– Чего зря – сдержался? Может, и зря. Но он же при исполнении был, а это, вроде, уже другая статья… Оно мне надо?
– Да нет, – нетерпеливо отмахнулся Горчаков и снова рассеянно потер мерзнущее ухо. – Заелся ты с ним напрасно, вот что я тебе скажу. Злопамятный он. И подлый. А в этом городе без его ведома и лист с дерева не упадет.
– Вот я и говорю: знает ведь, огрызок, наверняка знает, кто меня по кочерыжке отоварил! Знает и молчит, и мер никаких принимать не собирается. Стало быть, менты у вас – у нас, то есть, – с бандитами заодно. А меня такое положение вещей, извини, не устраивает. Сроду я бандюкам не кланялся! Наоборот, это они передо мной носом в землю ложились – которые живые, а которые так… Да ты не дрейфь, Мишаня! Я им не кто попало, меня голыми руками не возьмешь! Подключу своих ребят с Лубянки, они эту местную шайку-лейку в два счета мехом внутрь вывернут! Или я их, или они меня – другого не дано, не умею я по-другому. Это ведь мой родной город, мне здесь жить и работать, и с этим вашим Сарайкиным мне тут уже тесно. Не уживемся мы с ним, да и ни к чему это – с оборотнем в погонах уживаться. Оборотню серебряная пуля полагается, и я ему ее отолью, можешь не сомневаться.
Михаил Васильевич вздохнул. Звучало все это довольно заманчиво – как, впрочем, и любая хорошая сказка о добрых волшебниках и благородных, непобедимых рыцарях. А с другой стороны, почему обязательно сказка? Сарайкин и ему подобные живут припеваючи ровно до тех пор, пока все шито-крыто. Но рано или поздно они зарываются, как тот печально известный директор дорожно-строительного управления, который с первого и до последнего дня своего директорства занимался исключительно продажей налево имущества вверенного ему предприятия. И все было тихо, пока рабочие не обратились в прокуратуру – не по поводу бесследно исчезающей с территории базы техники, нет, а из-за полугодовой задержки зарплаты. Тут-то шило и вылезло из мешка, тут-то все и сели – и предприимчивый директор, и те, кто его покрывал. Потому что центральная власть должна время от времени предпринимать какие-то решительные шаги для поддержания своего авторитета, должна доказывать, что действительно заботится о народе и неустанно трудится во имя построения демократического, правового государства. А за Сарайкиным и иже с ним числится столько, что хватит на три громких, на всю страну, показательных коррупционных процесса. И генерал ФСБ с прочными дружескими связями на Лубянке – как раз тот человек, который хотя бы теоретически способен обратить внимание Москвы на давно торчащее из здешней провинциальной котомки шило.
Так что, очень может статься, угрозы шурина в адрес подполковника Сарайкина – не простое сотрясение воздуха. Может, эта сказка и впрямь когда-нибудь станет былью. Хорошо бы, кабы так! Сарайкин этот, действительно, отвратный тип, и дышать в городе без него, несомненно, станет легче. Ведь невозможно же! Да, привыкли, приспособились, но, если вдуматься – невозможно! Ни жить невозможно, ни работать, скоро этим упырям за каждый глоток воздуха платить придется…
И как славно, в самом-то деле, будет иметь при себе начальником службы безопасности такого человека, как Николай! Мимо него муха не пролетит, и положиться на него можно, как на себя самого, целиком и полностью. Сейчас это было бы особенно кстати, вокруг завода уже некоторое время идет какая-то глухая возня, а тут еще этот секретный заказ Минобороны – и без Сарайкина голова кругом, а он, как назойливая муха, так и вьется вокруг… Да нет, не как муха – как черный ворон из той старой казачьей песни. Так что, если бы Николай сдержал слово и вернулся, чтобы скрутить подполковника в бараний рог и возглавить службу безопасности фирмы, это и впрямь было бы славно. Эх, если бы да кабы…
Камышев, наконец, заметил, как он энергично трет то одно, то другое ухо, покосился на зябко переминающихся на крыльце женщин – и холодно, и уйти, не попрощавшись, нельзя, – и сказал:
– Ладно, ребятушки, пора и честь знать, пока вы тут всем скопом в эскимо не превратились. Спасибо за хлеб-соль, пора мне – дорога неблизкая, а темнеет нынче рано.
Проводив его, семья Горчаковых вернулась в дом. На кухне, подавая обед, Валентина всплеснула руками: сверток с приготовленными брату в дорогу бутербродами и термос с его любимым, настоянным на лесных травах чаем так и остались лежать на подоконнике. Она схватилась за телефон, но Михаил Васильевич ее остановил: возвращаться – плохая примета, а удача шурину сейчас явно была нужнее, чем бутерброды с копченой колбасой.
* * *
Бутербродов и термоса он хватился почти сразу, примерно на половине кружного, через весь город, пути к «новому» автомобильному мосту. Возвращаться за ними, естественно, не стал: и примета плохая, и вообще – бутерброды ведь, всего-то навсего, а не портмоне с документами!
Как всякий опытный солдат, генерал Камышев мог не есть по несколько дней кряду, но, когда позволяли обстоятельства, питаться предпочитал регулярно и плотно, свято соблюдая старое солдатское правило, согласно которому основой любого мероприятия является полный желудок. Посему, углядев справа от дороги вывеску продуктового магазина, он притормозил и с ходу, как клинок в пузо арабского наемника, вогнал покрытый белесыми разводами соли внедорожник в изъезженный колесами, основательно смерзшийся сугроб перед крыльцом.
Выбор продуктов в магазине был не ахти, и Николаю Ивановичу при всей его непривередливости пришлось-таки поломать голову, составляя свое походное меню. Пока он этим занимался, набежавшая откуда-то ребятня затеяла вокруг его машины игру в снежки. Поскольку на улице было без малого минус двадцать, снег лепился плохо – вернее сказать, вообще никак не лепился, – и пацаны использовали в качестве метательных снарядов смерзшиеся комья, один из которых на глазах у Камышева с тупым лязгом отскочил от крыла джипа. Николай Иванович побросал в корзинку первое, что подвернулось под руку, и заторопился к кассе. Он не предъявлял завышенных требований к внешнему виду своего авто и не хватался за сердце при виде царапины на бампере: машина должна ездить, все остальное – просто пыль в глаза. Но перспектива лишиться ветрового – да пусть себе бокового или даже заднего, хрен редьки не слаще – стекла и проехать семьсот верст с ветерком по двадцатиградусному морозу ему, мягко говоря, не улыбалась. Тем более что ребятня, если приглядеться, была не такая уж и ребятня – подростки в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, вполне способные при удачном попадании превратить эту предполагаемую перспективу в суровую реальность. Вот тогда-то точно придется возвращаться к сестре и сидеть у них с Мойшей на шее, пока местные левши и кулибины не вставят разбитое стекло…
К тому моменту, когда Камышев с пакетом в руке вышел из магазина, боевые действия вокруг его машины еще не прекратились. Какая-то случайная тетка, закутанная до полной невозможности на глаз определить ее возраст, издалека грозила участникам перестрелки хозяйственной сумкой и выкрикивала бессвязные угрозы и предупреждения, из коих следовало, что ее тоже волнует судьба попавшей под беглый перекрестный огонь иномарки. Тетку благополучно игнорировали: реальной, непосредственной опасности она не представляла, а прерывать веселую забаву никому не хотелось.
Силы воюющих сторон были неравны: четверо против двоих. Один из этих двоих укрылся от града ледяных обломков за машиной, время от времени высовываясь, чтобы сделать ответный бросок, а другой и вовсе ухитрился залезть под днище и выглядывал из-за переднего колеса, пряча голову всякий раз, когда смерзшийся снежный ком отскакивал от покрышки или разлетался вдребезги, ударившись о стальной обод.
– Брысь, – негромко скомандовал Николай Иванович.
Банда бросилась врассыпную – несомненно, из уважения. Непонятно было только, что именно они уважают: право собственности или силу, которую мог применить к ним взрослый, крепкий мужчина в армейском бушлате. Последнего из них, того самого, что сидел под машиной и немного замешкался, выбираясь оттуда, Камышев нацелился, было, проводить напутственным шлепком по мягкому месту, но пацан увернулся с ловкостью, говорившей если не о наличии у него на затылке еще одной пары глаз, то, как минимум, о немалом опыте.
Забросив полупустой пакет на сиденье справа от себя, Николай Иванович забрался за руль и запустил двигатель. Мимо, тарахтя, как колхозная молотилка, медленно прокатился сине-белый «уазик» ППС – возможно, тот самый, что едва не переехал генерала неделю назад, в тот недоброй памяти вечер, когда родной город так неласково с ним поздоровался. Глядя в зеркало, Камышев заметил, что сидящий рядом с водителем мордатый мент, повернув голову, внимательно уставился на его машину, и с трудом подавил желание сделать в ту сторону неприличный жест: накося, выкуси! Руки у вас коротки, а скоро вам эти руки и вовсе с корнем вырвут, чтоб не воровали… Тоже мне, блюстители порядка, законные представители власти!
Он включил заднюю передачу, выбрался, хрустя смерзшимися комьями, из сугроба, переключил скорость и направил машину к выезду из города. Вскоре ему пришлось снова забраться левыми колесами на заснеженную обочину, чтобы обогнать по-хозяйски ползущий по самой середине дороги сине-белый «бобик». Ментовская тарахтелка даже не подумала посторониться, и, проезжая мимо, Камышев снова увидел, как водитель и пассажир, одинаково повернув головы, смотрят прямо на него. Ему показалось, что на заднем сидении тоже кто-то есть, но вглядываться он не стал: ну, есть и есть, ему-то что за дело? Баб, небось, катают. Или каких-нибудь своих дружков – может, даже тех самых, с моста…
Вид полицейской машины вызвал не самые приятные воспоминания, а те, в свою очередь, всколыхнули злость, которая за эту неделю успела отстояться и осесть, как оседает глиняная взвесь на дно глубокого колодца. Встреча с уличными грабителями – обыкновенная, широко распространенная неприятность, которая может произойти с любым человеком в любой точке земного шара. Жалко было именных часов, да и контуженая голова вызывала некоторые опасения; все остальное можно было с чистой совестью списать на мелкую, нелепую неприятность: поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся – гипс… Да, вот именно, списать и забыть – с кем не бывает! Но вот предводитель местных ментов, подполковник Сарайкин, разозлил генерала Камышева всерьез. Экая, прости господи, скользкая сволочь! И слова говорил, вроде, правильные, и разобраться обещал, и заявление принял как положено, а у самого глаза так и виляют, так и бегают из угла в угол, и никак в них не заглянуть – ускользают, как намыленные!
Как любой по-настоящему хороший командир, Камышев был неплохим психологом, отлично разбирался в людях и превосходно видел, что во время их беседы подполковник врал, как сивый мерин – и насчет того, что во всем разберется, и насчет того, что кличку «Зуда» слышит впервые в жизни, и насчет всего прочего, кроме, разве что, своей фамилии, имени-отчества, должности и звания. Да он и не особо напрягался, стараясь придать своему вранью хотя бы видимость правдоподобия – возможно, по скудости ума полагал себя великим хитрецом и большим актером, а скорее всего, просто не считал нужным усердствовать: чего там, и так сойдет! Он чувствовал себя полновластным хозяином – как города, так и текущей ситуации, – и даже не пытался это скрывать. Выказывая в отношении генерала ФСБ и героя боевых действий на Кавказе надлежащий, хотя и явно притворный, пиетет, он при этом не забывал корчить из себя благодетеля: вот видите, мы во всем разобрались и отпускаем вас с миром, а могли ведь и не отпустить! Как говорится, отсутствие у вас судимостей – не ваша заслуга, а наша недоработка. Еще пара-тройка дней непрерывных допросов, и ты, голубчик, как миленький подписал бы чистосердечное признание во всех эпизодах, которые тебе предъявили. Да еще и придумал бы что-нибудь, лишь бы оставили в покое, дали отлежаться на голых нарах…
Вспомнив о допросе, Камышев оторвал от баранки левую руку и потрогал кончиками пальцев скулу. Боль давно прошла, как и синяк, но ощущение унижения осталось: сопливый лейтенантишка, вряд ли нюхавший порох где-либо, кроме служебного тира, посмел ударить его, боевого офицера, по лицу, и не один раз. Двое держали его, прикованного наручниками к железному стулу, за плечи, а третий обрабатывал – сначала голыми руками, потом резиновой дубинкой, потом снова руками… Крови Николай Иванович не боялся – ни своей, ни чужой, – и ничуть не обольщался по поводу того, что такое допрос пленного в полевых условиях. Но он был не пленный, а законопослушный гражданин России, обратившийся за помощью к блюстителям порядка. А что до полевых условий, то он твердо положил себе их организовать для господ ментов – хоть с помощью друзей на Лубянке, хоть без нее, самостоятельно.
Поднявший меч от меча и погибнет; генерал Камышев умел воевать, но объявлять кому-либо войну ему пока не приходилось. Так ведь и эту драку затеял не он, а раз так, правда за ним…
Город давно остался позади. У моста он повернул налево, в сторону Москвы. Какое-то время по сторонам дороги двумя тесными рядами бронзовых колонн тянулась заповедная роща мачтовых сосен, потом лес кончился, будто обрезанный ножом, и вокруг не осталось ничего, кроме серой ленты шоссе с подвижными струйками легкой поземки да пустой, чуть всхолмленной, дремлющей под толстым снеговым одеялом равнины с редкими щетинистыми купами каких-то кустов. Время едва перевалило за полдень, но низкое солнце уже начало клониться к западному горизонту. Оно било прямо в глаза, и генерал опустил козырек, а потом, когда оказалось, что искрящийся снег слепит не хуже солнца, вынул из бардачка и пристроил на переносицу темные очки. Отдавшись во власть невеселых размышлений, он все сильнее давил на газ, незаметно для себя наращивая скорость. Потом машину слегка занесло на скользкой наледи, Николай Иванович спохватился, убрал ногу с педали и посмотрел в зеркало.
Там, на приличном удалении, но все еще отлично различимый в ярком солнечном свете, маячил на фоне облака пара из выхлопной трубы сине-белый полицейский «бобик».
– Вот уроды, – пробормотал генерал Камышев, снова увеличивая скорость.
Это могло быть простым совпадением, а могло и не быть. Впрочем, волноваться раньше времени Николай Иванович не собирался: что бы ни затевали здешние оборотни в погонах, его японский джип, хоть и далеко не молодой, запросто мог дать сто очков вперед своему российскому собрату.
– Москва – Воронеж, хрен догонишь, – сообщил Николай Иванович сине-белому отражению в зеркале заднего вида.
Отражение ответило яркой вспышкой солнечного света на плоском ветровом стекле. Оно мало-помалу уменьшалось; проблесковые маячки не работали, сирена молчала, и Камышев окончательно успокоился, придя к выводу, что ментам с ним просто по пути. Ясно, такие попутчики ему не нужны даже с приличной доплатой, но дорога общего пользования потому так и называется, что ездить по ней имеют право все, кто потрудился получить водительское удостоверение.
Он еще немного прибавил газу, и раздражающая картинка в зеркале заднего вида исчезла, скрытая плавным поворотом дороги. Справа на обочине показались красно-белые стрелы указателя, предупреждающие о том, что впереди его ждет новый поворот, уже не такой плавный. Далеко не впервые задавшись вопросом, кому и на кой ляд понадобилось сооружать все эти изгибы и петли посреди абсолютно пустого, ровного поля, Камышев отпустил газ и начал аккуратно, чтобы не пойти юзом, притормаживать. Машина немного замедлила ход и начала входить в поворот, который оказался действительно, по-настоящему, без дураков крутым – крутым настолько, что на такой скорости пройти его было бы проблематично даже летом, по сухому асфальту. Николай Иванович вовремя заметил опасную крутизну дорожного изгиба и спокойно нажал на тормоз. Водителем он был опытным, дисциплинированным, никогда не суетился за рулем и всегда все успевал.
Успел он и сейчас – вернее сказать, успел бы наверняка, если бы педаль тормоза вдруг не провалилась под ногой, не оказав ни малейшего сопротивления. Скорость при этом не уменьшилась ни на йоту; он рванул на себя рычаг ручного тормоза, который проверял буквально перед выездом из Москвы, но и это не произвело никакого эффекта.
Перед глазами, как наяву, встала увиденная каких-нибудь полчаса назад картинка: разбивающиеся о стальной диск переднего колеса комья смерзшегося снега и выглядывающая из-за покрышки раскрасневшаяся от беготни и мороза мальчишечья физиономия. Вспомнилось, что лет пацану на вид было никак не меньше четырнадцати, а если уродился мелким, то могло быть и все шестнадцать. Да какая разница, сколько именно! Для того чтобы подрезать тормозной шланг, ни большого ума, ни аттестата зрелости, ни, тем паче, университетского диплома не требуется. Что для этого требуется, так это хорошо наточенный ножик, а этого добра в России-матушке хватало во все времена, как и тех, кто навострился ловко с ним управляться…
Все это промелькнуло в мозгу за какие-то доли секунды и унеслось назад, развеявшись по ветру. Раздумывать, что, как и почему, было недосуг, а тормозить двигателем – поздно. Он круто вывернул руль, стараясь вписаться в крутой изгиб дороги и уже понимая, что не впишется; потом был удар, лязг и скрежет сминаемого железа, короткий беззвучный полет в невесомости и новый удар – один, потом еще один, и еще…
Проломив стальное ограждение, тяжелый внедорожник пролетел несколько метров по воздуху, ударился об откос дорожной насыпи, перевернулся и, кувыркаясь, оставляя на взрытом, развороченном снегу россыпи стеклянных осколков и обломки пластика, скатился на дно кювета. Задранные к небу, одетые в новенькую шипованную резину колеса все еще вращались, постепенно замедляя ход, заглохший двигатель потрескивал, остывая, от облепленной тающим снегом выхлопной трубы в безмятежно-синее небо валил сырой, пахнущий горячим железом пар.
Через несколько минут к месту аварии, двигаясь со свойственной данной разновидности транспортных средств неторопливостью, подкатил и, скрипнув тормозными колодками, остановился сине-белый полицейский «уазик». Водитель не стал глушить мотор, и его неровное бормотание заглушило доносящиеся со стороны перевернутого джипа звуки – журчание вытекающей откуда-то жидкости, тихий шорох делающих последние медленные обороты колес, хруст и потрескиванье исподволь сминающегося под собственной тяжестью металла и шипение испаряющейся талой воды.
Потом около перевернутой машины послышался скрип снега, какая-то возня, глухой стон, дверца со стороны водителя толчком приоткрылась, и, к удивлению тех, кто сидел в «бобике», оттуда мешком вывалился Камышев – сильно помятый, но живой. С трудом поднявшись на ноги, обхватив ладонями голову, пьяно шатаясь и почти по пояс увязая в снегу, он начал карабкаться наверх по оставленной кувыркающимся джипом рыхлой борозде.
Тогда задняя дверь «уазика» открылась, выпустив наружу долговязого молодого парня в темном китайском пуховике и надвинутой до самых глаз лыжной шапочке. Парень неуверенно оглянулся, как будто ему хотелось забраться обратно в салон. Оттуда что-то коротко, приказным тоном сказали, дверца захлопнулась с металлическим лязгом, и долговязый, засунув правую руку в карман, все так же неуверенно сошел с асфальта на заснеженную обочину, сразу же по колено увязнув в рыхлом снегу.
На середине склона Камышев поскользнулся, упал и некоторое время лежал неподвижно, как мертвый. Мимо, не снижая скорости, прогромыхал какой-то грузовик с нездешними номерами. Молодой человек снова оглянулся на окутанный сырым паром из выхлопной трубы «уазик», но тут Камышев зашевелился, уперся руками в землю и, застонав от натуги, встал – сначала на колени, а потом и во весь рост.
Задняя дверца «уазика» приоткрылась.
– Давай, чего ты? – отчетливо послышалось оттуда.
Молодой человек в последний раз неуверенно оглянулся и вынул из кармана руку, в которой блеснул вороненым металлом пистолет. В морозном, искрящемся подсвеченной солнцем снежной пылью воздухе раскатисто хлопнул выстрел. Камышев пошатнулся, но остался стоять, с болезненным недоумением глядя снизу вверх на стрелка, которого, казалось, только теперь заметил. Издав странный, сдавленный звук, подозрительно похожий на панический визг, долговязый выстрелил снова и продолжал давить на спусковой крючок, пока затвор «Макарова» не застрял в крайнем заднем положении, сигнализируя о том, что обойма опустела.
Камышев мягко опустился на колени в разрытый, развороченный снег, два раза качнулся, пытаясь удержать равновесие, и все так же мягко повалился лицом вниз. Долговязый попятился, не сводя с убитого глаз и по-прежнему держа его под прицелом разряженного, ходящего ходуном пистолета, нащупал у себя за спиной дверную ручку и неловко, задом, забрался в воняющее сапожным кремом и табачищем тепло автомобильного салона.
Сидевший рядом с водителем человек в форме старшего лейтенанта полиции выключил и зачехлил небольшую цифровую видеокамеру.
– Это что? – только теперь заметив камеру, растерянно спросил долговязый. – Это зачем?
– Затем, – ответил расположившийся слева от него на заднем сиденье подполковник Сарайкин. Рука в кожаной перчатке аккуратно вынула из трясущихся пальцев долговязого пистолет и, держа за ствол, аккуратно опустила в полиэтиленовый пакет для вещественных доказательств. – Затем, Зуда, что ты мне надоел. Или, выражаясь твоим языком, задолбал по самое некуда. За-дол-бал! Ясно?
– Но вы же говорили… обещали… что услуга за услугу…
– Правильно, обещал, – не стал отрицать Сарайкин. – А ты мне сколько раз обещал завязать с гоп-стопом? Вот теперь мы оба с тобой свои обещания и выполним – сначала ты, потому что первый начал обещать, а потом я. Ты завяжешь, а я эту запись и пистолетик с твоими пальчиками спрячу подальше – туда, где никто не найдет. Там они и будут лежать – ровненько до тех пор, пока тебе опять не вздумается пошалить. Решать, конечно, тебе, но поимей в виду: как только услышу, что ты со своей гоп-компанией опять за старое взялся, дам делу законный ход. А от мокрухи с такими доказательствами тебя не только дядя-мэр – сам губернатор не отмажет. Ты хоть понимаешь, кого убил? Это ж герой, генерал ФСБ! Знаешь, как такие деяния уголовный кодекс квалифицирует? Терроризм! А это, дружок, пожизненным попахивает.
– Да вы… Да вы охренели, что ли?! – не найдя других слов, вяло вскинулся Зуда.
– А знаешь, – после непродолжительной паузы, в течение которой задумчиво, как какую-то невидаль, разглядывал свежеиспеченного террориста, сказал Сарайкин, – я, наверное, и впрямь погорячился. Пистолет – это ладно, пусть лежит до поры до времени. А вот кино с тобой в главной роли я, пожалуй, кое-кому покажу – копию, конечно. Оригинал, сам понимаешь, дорог мне как память. Покажу я его, к примеру сказать, нашему губернатору… А? Чем плохо? Ну, вот хоть ты, – толкнул он в плечо сидящего рядом с водителем старлея, – скажи, разве плохо звучит: начальник областного управления внутренних дел генерал-майор Сарайкин?
– Нормально звучит, – согласился старлей. – Солидно. Солиднее, по крайней мере, чем подполковник.
– А подполковник – солиднее, чем старший лейтенант, – продолжил смысловой ряд Сарайкин. – Подполковник Ветлугин – чем плохо? И капитан Мазин, – добавил он специально для водителя, на погонах которого сиротливо поблескивали облупившейся позолотой одинокие звездочки младшего лейтенанта.
– Это дело, – оживился заскучавший, было, водитель.
– А я как же? – растерянно спросил Зуда, уже наполовину раздавленный тяжестью этой троицы, твердо вознамерившейся въехать в рай на его костлявых плечах.
– А ты сиди тихо и не рыпайся, – посоветовал Сарайкин, пряча в сумку пакет с пистолетом. – За ум, наконец, возьмись, поступи куда-нибудь – вот, для примера, хотя бы и в наш техникум. С твоими-то связями ты уже к концу второго курса начальником областной землеустроительной службы заделаешься. Будешь одной рукой земельные участки распределять, а другой конвертики с откатами в ящик письменного стола смахивать – милое дело! Другой на твоем месте давно бы в администрации президента груши околачивал, а ты все лохов по подворотням опускаешь… Ветлугин, ты не в курсе, кто из экспертов нынче дежурит? Ветлугин! Ты уснул, что ли?
– А?.. Никак нет, – встрепенулся старлей, грубо вырванный из мира сладких грез, где он уже примерял на себя погоны с двумя, а то и тремя большими звездами. – Кто из экспертов? Да Михайлов, кажется.
– Когда кажется, креститься надо, – сварливо проворчал будущий генерал Сарайкин.
– Точно, Михайлов, – сказал окончательно утвердившийся на грешной земле Ветлугин.
– Хорошо, – кивнул подполковник, – значит, проблем не будет. Не то что с этой жидовской мордой… Ну, раз так, звони, вызывай бригаду. Да, и гаёвым тоже брякни – как-никак, ДТП! Не справился с управлением на крутом повороте – кому это оформлять, если не им?
Отдав необходимые распоряжения, подполковник снял перчатки и опустил руку в карман форменного бушлата. Пальцы коснулись гладкого, бархатистого на ощупь корпуса, солидная увесистость которого ласкала самолюбие и лишний раз напоминала о том, что золото – не только один из самых дорогих, но еще и самый тяжелый металл во всей таблице Менделеева. Самыми кончиками осязательных нервов подполковник Сарайкин почувствовал едва уловимую, скорее воображаемую, чем ощутимую на самом деле, вибрацию изготовленного и собранного с филигранной точностью, безотказного, безупречно работающего механизма. Реквизированный у заигравшегося в казаки-разбойники Зуды механизм и впрямь был отменный – точный, как швейцарские часы, только безо всяких «как», потому что это именно они и были.
Вынув часы из кармана, Сарайкин неторопливо защелкнул на запястье золотой браслет. Теперь он мог себе это позволить, поскольку законный владелец хронометра был уже не в том состоянии, чтобы качать в принадлежащем Анатолию Павловичу Сарайкину городе свои вонючие права.
Глава 3
Когда зазвонил телефон, Юрий Якушев стоял у кухонной плиты и курил на голодный желудок, наблюдая за кофе, который, судя по некоторым верным признакам, собирался вот-вот закипеть. Телефон, естественно, остался в спальне, на прикроватной тумбочке, а звонить мог кто угодно – например его превосходительство, который просто обожал делать вот такие неурочные, приходящиеся некстати звонки.
Пока Юрий бегал за телефоном, кофе, естественно, тоже не стал сидеть на месте. Когда Якушев вернулся на кухню, половина плиты была залита, а над верхним краем джезвы вспухла подвижная, пузырящаяся шапка грязно-коричневой пены. «Ну вот что стоило убавить газ?» – подумал Юрий, уже далеко не впервые отметив про себя, что, как большинство нормальных русских мужиков, крепок задним умом.
Он выключил конфорку и раздраженно ткнул пальцем в клавишу соединения, заставив замолчать истерично верещащую трубку.
– Дрыхнешь, боец? – послышался в трубке жизнерадостный, знакомый до боли голос. Звонил отставной подполковник ВДВ Роман Данилович Быков, бывший ротным командиром Якушева во времена, о которых классик русской литературы Александр Сергеевич Пушкин писал в «Руслане и Людмиле»: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» – Солдат спит, а служба идет – так, что ли?
– Привет, Данилыч, – сказал Юрий с невольной улыбкой. – Ничего я не сплю, просто завтрак готовлю, а телефон…
– Пивко разогреваешь? – перебил его Быков.
– Никак нет, – довольно ядовито отрапортовал Якушев. – Чашка кофе, два бутерброда – один с сыром и один, соответственно, с колбасой. С копченой, если интересуешься. Кофе, кстати, по твоей милости убежал – или, как выражаются в определенных кругах, подорвал.
– Хило, – констатировал Быков, которого везде, где ему доводилось служить, рано или поздно начинали за глаза называть Ти-Рексом за внушительные габариты, всесокрушающую физическую силу, быстроту реакции, а главное, характер, роднивший его с самым грозным хищником юрского периода – тиранозавром. – Ты там часом в ботаники не записался? Что это за завтрак для солдата – пара бутербродов?
– А ты их видел? – парировал Юрий. На самом деле бутерброды были самые обыкновенные, но Быков их действительно не видел, а у Юрия не было настроения ввязываться в диетологический диспут с оппонентом, способным не только убить кулаком быка, но и съесть его после этого целиком, причем в любом, в том числе и сыром виде.
– Другое дело, – удовлетворенно пробасил Ти-Рекс. – Основа любого мероприятия – сытый желудок. Только я не понял насчет кофе. Ты?.. Утром третьего августа?.. Кофе?!
Юрий улыбнулся: ну да, конечно. А как же! Утром третьего августа всем, кто по праву носит тельник в голубую полоску, полагается лежать пластом и прямо так, лежа, сосать через соломинку из оцинкованного ведра коктейль, состоящий из смешанных в равных пропорциях водки и огуречного рассола. Потому что второе августа – день Ильи-пророка, а заодно и день ВДВ, небесным покровителем которых почти что официально считается данный святой.
– Да и ты, судя по голосу, похмельем не страдаешь, – продолжая улыбаться, заметил он.
– Я – другое дело, – возразил Быков. – Меня ничего не берет, ты же сам знаешь. Да и потом, обстоятельства всякие…
– А эти обстоятельства, часом, не Дарьей Алексеевной зовут? – ехидно осведомился Якушев. – Передавай обстоятельствам привет.
– Поговори у меня! – грозно громыхнул Ти-Рекс и, немедленно сбавив тон, с легким смущением добавил: – Она тебе тоже кланяется. Так ты что же, так всухомятку и отпраздновал?
– Я, Данилыч, праздновал на работе, – сообщил Якушев.
– Ты ж мне сам звонил, поздравлял…
– Поздравил и дальше стал работать. Что не так-то?
– Да нет, все нормально… Вот же угораздило тебя с этой твоей работой!
Юрий на мгновение прикрыл глаза. В темноте под сомкнутыми веками зажглись, осветив низкий коридор с сырыми кирпичными стенами, тусклые редкие лампы в решетчатых проволочных колпаках, замигали косматые вспышки дульного пламени, и остро, как наяву, потянуло кислым пороховым дымом. Кто-то плачущим голосом кричал по-арабски – то ли молился, то ли ругался последними словами, в суете и грохоте было не разобрать; кто-то монотонно, на одной ноте, стонал, умоляя его добить – тоже по-арабски, но это Юрий почему-то разобрал и запомнил очень отчетливо. И над всей этой какофонией поголовного, отменно организованного уничтожения реял глубокий оперный бас генерала Алексеева: «Во избежание ненужного кровопролития предлагаю всем сдаться! Бросить оружие, всем лечь на землю, руки за голову!»
Да, подумал Юрий, что угораздило, то угораздило.
– Я чего звоню-то, – продолжал Быков. – Ты телевизор включи. НТВ врубай, не ошибешься. Там как раз вчерашний выпуск новостей начали повторять, минуты через полторы-две будет самое то. Вот жгут ребята! Это я понимаю – празднуют люди. А то – работа, обстоятельства… Нет бы собраться, посидеть, как встарь…
– Где? – выковыривая из пачки новую сигарету, спросил Якушев.
– Да какая разница? Хоть у тебя, хоть у нас…
– Разница в цене, – объяснил Юрий. – Москву заново отстраивать дороже, чем твою Рязань.
– Плохо я тебя в свое время воспитывал, – сокрушенно вздохнул Быков, – мало гонял. Как был ты дураком, так дураком и остался. Телевизор включи, клоун!
И положил трубку. Юрий чиркнул зажигалкой, прикурил, включил телевизор и, пока тот нагревался, одним глотком выхлебал из шершавой от присохшей кофейной гущи джезвы все, что в ней осталось. За окном кухни шумел, воняя выхлопными газами и горячим, несмотря на сравнительно ранний час, асфальтом Кутузовский проспект. Часы показывали восемь с какими-то минутами – естественно, утра, – но небо над крышами желтовато-серых сталинских многоэтажек уже утратило свежую голубизну, став мутно-белесым, как застиранная до последнего мыслимого предела джинсовая ткань. Все форточки в квартире были открыты, но в постепенно раскаляющемся воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения. Сигаретный дым лениво клубился в густом, как слегка остывший кисель, воздухе, и не столько рассеивался, сколько равномерно распределялся по всему объему квартиры, пропитывая занавески, скатерти, простыни и все остальное, что имело волокнистую структуру, способную его впитать.
– …танк Т-34, – заставив задумавшегося Юрия вздрогнуть, приятным женским голосом сообщил нагревшийся телевизор. – Подъезжая к перекрестку, самозваный и далеко не трезвый механик-водитель в голубом берете не сумел вовремя затормозить, и старая боевая машина, с большой скоростью проскочив под запрещающий сигнал светофора, вылетела на пересечение оживленных городских улиц. Будучи задержанным, сидевший за рычагами угонщик пояснил, что просто не справился с управлением.
– Махина-то, гляньте, какая, – без видимого раскаяния забубнил появившийся на экране не первой молодости гражданин в рыжеватых усах, лихо заломленном на правую бровь голубом берете и десантном тельнике без рукавов. – Да асфальт горячий, да гусеницы – это ж вам железо, а не гоночные покрышки! А главное – вес…
Говорил он так, словно какие-то злоумышленники нарочно подсунули ему вместо гоночного болида ископаемую «тридцатьчетверку» и отправили сражаться за гран-при на трек «Формулы-1» в Монако.
Юрий фыркнул – впрочем, без особенного веселья. Данилыч, конечно, был прав: ребята таки отожгли, да так, что нарочно не придумаешь. Ха-ха, и так далее. Но! Если разобраться, ничего веселого тут нет. Взрослые, серьезные дяди в погонах взяли за шиворот вчерашних школьников, большинство которых вовсе этого не хотело, и принялись умело, без лишних нежностей делать из них, сопляков, настоящих мужчин, защитников Отечества – короче говоря, хороших, грамотных, обученных солдат, которые способны не погибнуть и не побежать, побросав оружие, в первом же бою.
Или, говоря еще короче и проще, профессиональных убийц.
И сделали. А потом, когда истек положенный срок, министр обороны подписал приказ, ликующие пацаны с головы до ног, как новогодние елки, обвешались самодельными аксельбантами, накупили в станционных ларьках водки и радостно, горланя строевые песни, двинули по домам. А когда отгуляли, оторвались, выпили со всеми школьными друзьями и перепортили всех, до каких только сумели дотянуться, школьных же подруг, когда проспались и очухались, вдруг оказалось, что на гражданке томно и скучно, и приложить полученные в армии навыки не к чему.
А ведь впечатления и опыт, накопленные в юности, остаются с человеком до самой смерти. Именно они самые яркие, наиболее бережно хранимые, неизгладимые и, стало быть, главные. Ну, и как при таких условиях смирившемуся со всем, обремененному семьей, отрастившему рыжие усы и бюргерский животик слесарю-инструментальщику или мелкому чиновнику из районной управы в день Ильи-пророка не угнать ржавеющий без дела во дворе какого-нибудь КБ или в городском парке семидесятилетний танк?
Два сапога – пара; оба застоялись, как жеребцы в конюшне, обоим хотелось прокатиться с ветерком – так, чтоб все вокруг офонарели от такого зрелища… Вот и прокатились. Ну, положим, десантникам это все как с гуся вода – заплатят штраф, и ладушки. А танку-то каково? Полвека простоял, один раз тряхнул стариной, и опять на задний двор?
«Философия», – как живой, прозвучал у него в голове глубокий бас генерала Алексеева. «Кухонная», – мысленно добавил от себя Юрий. Он сполоснул под краном испачканную кофейной гущей джезву, набрал в нее воды, засыпал кофе и снова поставил на огонь, после чего, дотянувшись до пульта, переключил телевизор на спортивный канал.
Здесь, как и следовало ожидать, транслировали олимпиаду. На дорожку как раз выходили фехтовальщики – вернее, фехтовальщицы, китаянка и немка. Противницы опустили на лица маски – не из проволочной сетки, как та, которой в юности пользовался Якушев, а современные, с прозрачными прямоугольными окошками, выглядевшими как стеклянные, – стали в позицию, дождались сигнала, прыгнули друг на друга, как бойцовые петухи, и разошлись, снимая маски, под басовитое гудение зуммера электрофиксатора. Оператор включил замедленный показ. На малой скорости схватка выглядела красиво: китаянка нанесла укол, метя в корпус, а немка, низко присев, припав на одно колено и пропустив над собой чужой клинок, коротко и точно уколола снизу вверх.
Юрий вздохнул и выключил телевизор. Красоту встречного укола он оценил и без замедленной съемки, потому что привык наблюдать за быстро перемещающимися объектами, имел хорошую реакцию и когда-то сам неплохо фехтовал. Но для неискушенного зрителя все это наверняка выглядело довольно скучно и ни капельки не драматично: ни тебе звона скрещивающихся клинков, ни мудреных финтов, ни выпадов, ни защит – ничего, что с детства ассоциируется со словом «фехтование». Просто сошлись, ткнули друг в друга рапирами и разошлись – один победителем, другой побежденным. Это, конечно, вершина мастерства, но смотреть-то не на что! Этак они скоро и вовсе перестанут фехтовать – выйдут на дорожку, поглядят друг на друга и разойдутся: тебе медаль, а мне дырка от бублика. Как в том старом анекдоте про компанию любителей анекдотов: рассказчик называет номер, и все смеются. Э, что тут говорить! Профессиональный спорт – это тебе не «Три мушкетера»…
Вот интересно, подумал Юрий, гася под струей воды из крана окурок и спроваживая его в мусорное ведро, – интересно, как выглядела бы схватка одной из этих девиц с компанией королевских мушкетеров или, скажем, гвардейцев кардинала? Никто бы, наверное, и не понял, что и как произошло. «Сударыня, мы имеем честь вас атаковать. Защищайтесь!» И – тишина. Только что вот тут, на этом месте, стояла компания веселых, наверняка подвыпивших, вооруженных, уверенных в себе профессиональных вояк, и вдруг их не стало – остались только разбросанные по брусчатке в неестественных позах тела в форменных плащах. И еще «сударыня», в своем облегающем белом костюме и с громоздкой маской под мышкой похожая на пилота инопланетного космического корабля…
Сам Юрий оставил этот вид спорта на очень дальних подступах к тому уровню, который демонстрировали участники международных соревнований. Пару раз поучаствовал в республиканских турнирах, поприсутствовал на союзных, посмотрел, как фехтуют настоящие чемпионы, и понял, что ему это неинтересно: никакой романтики, одна только техника, скорость и холодный расчет. А в фехтование он пришел именно из романтических побуждений – грубо говоря, поиграть в мушкетеров.
Да, подумал он, выключая газ и снимая с плиты пузырящуюся кофейной пеной джезву, – да, романтика… Ничто не проходит бесследно, и все на свете имеет причину. Если бы он только мог предположить, куда в конце концов заведет его мальчишеская тяга к романтике, то, верно, записался бы в секцию бокса, чтобы спарринг-партнеры и соперники на ринге пудовыми кулаками выбили из головы блажь. Романтика… Сначала он привела его в спорт, потом увела оттуда, а потом, более не размениваясь на мелочи, взяла за шиворот, выдернула, как морковку из рыхлой земли, из учебной аудитории философского факультета МГУ и швырнула в смрадную топку первой чеченской кампании. И там он довольно быстро осознал, что никакой романтики не существует, что это не предмет и не явление природы, а просто состояние человеческой души – молодой, неопытной, еще не знающей, чего конкретно она хочет, и даже отдаленно не представляющей, какую цену придется за это заплатить.
Тени на асфальте становились все короче и прозрачнее, свирепое, почти как в Африке, солнце исподволь, крадучись, огибало старый дом на Кутузовском, чтобы заглянуть в окно кухни и посмотреть, чем занят майор спецназа ФСБ Якушев – а вдруг чем-нибудь полезным или хотя бы любопытным? Хорошо зная, чем чреваты эти утренние визиты, Юрий задернул плотные желтые шторы, чтобы хоть как-то отгородиться от грядущего беспощадного, душного зноя. Кроме того, сегодня предъявить дневному светилу было нечего: он просто расхаживал по кухне в мятых трусах, курил, пил кофе и философствовал в гордом одиночестве, немного напоминая себе хронического алкоголика, в таком же гордом одиночестве распивающего первую за день бутылку плодово-ягодного.
Он допивал вторую чашку кофе и дожевывал последний бутерброд, подумывая, не соорудить ли еще один, когда в прихожей пронзительно задребезжал дверной звонок. Чертыхнувшись, – кого это принесло ни свет ни заря? – Якушев встал из-за стола, босиком прошлепал по теплому, уже слегка нуждающемуся в циклевке паркету в прихожую и отпер дверь. Поворачивая ручку, он вспомнил, что щеголяет неглиже, но решил, что сойдет и так: незваный гость хуже татарина, и никто не обязан в такую чертову жарищу расхаживать по собственной квартире в парадном костюме и при галстуке только потому, что в дверь может неожиданно позвонить какой-нибудь праздношатающийся обалдуй.
Открыв дверь, он отступил на шаг и удивленно хмыкнул: праздношатающимся обалдуем оказался не кто иной, как его горячо любимый шеф, генерал Алексеев. Он стоял в душноватом, пахнущем цементом и соседской стряпней сумраке лестничной площадки, почти целиком загораживая дверной проем своими чудовищной, нечеловеческой ширины плечами, из-за которых почти буквально соответствовал определению «поперек себя шире». Светлый летний пиджак маскировал внушительную мускулатуру, которой позавидовал бы любой тяжелоатлет, придавая Ростиславу Гавриловичу обманчивый вид растолстевшего увальня; на переносице поблескивали темными стеклами своеобычные солнцезащитные очки, а обезображенная страшным, похожим на дохлую морскую звезду шрамом лысина пряталась под старомодной сетчатой шляпой с узкими полями. Словом, его превосходительство, как всегда, напоминал карикатуру на главу небольшого мафиозного клана – напоминал, следует добавить, ровно до тех пор, пока не начинал говорить или действовать. Тогда сходство с персонажем рисунков Бидструпа бесследно исчезало, и господин генерал делался похожим на атакующий танк.
– Ну? – нетерпеливо произнес его превосходительство и, не дожидаясь ответа, двинулся вперед.
Юрий попятился еще на два шага, не в силах отделаться от ощущения, что в прихожую его квартиры, лязгая гусеницами и коверкая траками паркет, вползает упомянутый истребительный механизм – та самая «тридцатьчетверка», которую накануне угнали пьяные десантники, или, скорее, немецкий «тигр».
– Милости прошу, – закрывая за генералом дверь, сказал он. – Случилось что-нибудь?
– Почему обязательно случилось? – своим знаменитым басом откликнулся Алексеев. – Просто проезжал мимо. Дай, думаю, заскочу на минутку!
«Ну-ну», – скептически подумал Якушев.
– Кофе? – сказал он вслух.
– Что я тебе – бразилец, чтобы в такую жару кофе хлестать? – отказался от предложенного напитка его превосходительство. – Если найдется что-нибудь холодненькое, со слезой…
– Водка? – с готовностью предположил Юрий.
– Иногда мне кажется, – задумчиво сообщил генерал, – что до армии ты учился не в МГУ, а в эстрадно-цирковом училище. Спасибо, водки не надо. Сойдет и минеральная вода. Только не торопись, можешь для начала одеться.
– Пардон, – сказал Юрий и скрылся в спальне.
Когда он вышел оттуда, одетый в шорты и вылинявший десантный тельник без рукавов, генерал уже расположился за столом на кухне, забравшись в любимый угол хозяина и для верности, чтобы не грянуться об пол, когда рассыплется не выдержавший его непомерного веса табурет, опершись лопатками о стену.
– Н-да, – неопределенно молвил он, окинув взглядом из-под темных очков легкомысленный наряд Якушева, который в связи со вчерашним праздником наверняка наводил на размышления. Впрочем, у Юрия было алиби: почти весь вчерашний день они с генералом провели вместе – там, в подземелье, в компании веселых парней, которые приехали в Москву, чтобы погибнуть во славу всемогущего аллаха.
Оставив без ответа прозвучавшее междометие, Юрий открыл холодильник и выставил на стол бутылку минералки – как и просил его превосходительство, запотевшую, со слезой. На всякий случай он снабдил начальство еще и стаканом, хотя точно знал, что при необходимости Ростислав Гаврилович, не моргнув глазом, напьется из лужи.
– Можешь курить, – разрешил генерал, неодобрительно покосившись на переполненную пепельницу, и с треском вскрыл бутылку.
Юрий высыпал окурки в мусорное ведро, вымыл пепельницу под краном, протер сухой тряпицей и поставил ее, чистенькую, сверкающую, на прежнее место посреди стола. После этого он уселся и, поскольку Алексеев уже дымил как паровоз, закурил сам.
– Лето нынче какое жаркое, – нарочито обывательским, кухонным тоном изрек он, глядя в противоположную стену. – В такую погоду только на пляже под зонтиком лежать и коктейли со льдом потягивать.
– Подавляющее большинство простых россиян довольствуется теплым пивом, – попивая минералку, между глотками уточнил Ростислав Гаврилович. – А также водкой той же температуры и, гм… – он красноречиво покосился на тельняшку Якушева, – купанием в фонтане.
– Тут вы неправы, – возразил Юрий, – фонтан – это не для всех, а только для элиты вооруженных сил. Да и то всего один день в году.
– Мы долго будем переливать из пустого в порожнее? – капитулируя, раздраженно буркнул генерал.
– Мне показалось, что вы именно за этим и пришли, – закрепляя свою маленькую победу над большим человеком, невинно округлил глаза Якушев. – Что, разве нет? Тогда прошу прощения… Так что же все-таки случилось?
– Да, по большому счету, пустяк, – снова наполняя покрытый каплями конденсата стакан пузырящейся минералкой, сказал Ростислав Гаврилович. – Обычный рейдерский захват.
– А, – с легким разочарованием произнес Юрий, – действительно, пустяк. Привычная, будничная деталь повседневной российской реальности. А к нам с вами это каким боком?.. Что захватили-то – надеюсь, не Лубянку?
– Да кому она нужна, – отмахнулся генерал Алексеев. – Тоже мне, прибыльное коммерческое предприятие… Нет, речь идет о небольшом, я бы даже сказал маленьком, заводике, расположенном верст, этак, за шестьсот – семьсот отсюда.
– Ого, – сказал Юрий.
– Если быть точным, в Мокшанске, – добавил генерал.
– Ага, – уже совсем другим тоном произнес майор Якушев и озадаченно почесал в затылке.
* * *
Начальника безопасности мокшанского филиала научно-производственного объединения «Точмаш» Мамалыгина за глаза – а случалось, что и прямо в лицо – называли вовсе не Мамалыгой, не Мамой и не Мамаем, как можно было ожидать, а Бурундуком. Происходило это из-за его круглой, толстощекой физиономии, веселого, дружелюбного нрава и привычки постоянно что-нибудь жевать, действительно придававшей Андрею Владимировичу некоторое сходство с грызуном.
Роста он был небольшого, рано обзавелся уверенно прогрессирующей лысиной, а телосложение имел плотное, мужицкое. Про таких иногда говорят: склонный к полноте, но не полный; так вот, именно таким он и был, хотя в одежде, особенно зимней, здорово смахивал на веселого располневшего колобка, которому осталось всего ничего, чтобы превратиться в настоящего толстяка весом в полтора центнера.
Из-за почти комической внешности, смешливого характера и чуть ли не по-деревенски простецких манер мало кто в городе воспринимал Бурундука Мамалыгина всерьез, а многие, особенно при первом знакомстве, только диву давались: и как такому клоуну могли доверить ответственную должность?
Те, кого это интересовало, знали, что до прихода на «Точмаш» Бурундук служил в каких-то войсках – одни, ссылаясь на его собственные слова, утверждали, что в ПВО, а другие, якобы почерпнувшие информацию из того же источника, говорили, что в РВСН, – и будто бы дослужился до майора. Расхождения в биографических данных никого не настораживали – в первую очередь, потому, что это никому не было всерьез, по-настоящему интересно, как не был интересен и сам Бурундук.
Некоторые (неважно, кто именно) все-таки им интересовались – не как человеком, разумеется, а как должностным лицом, занимающим ответственный, ключевой пост на очень любопытном, с какой стороны ни глянь, предприятии. Этих корыстно любопытствующих господ неизменно постигало горькое разочарование: пытаясь разобраться в деталях биографии Андрея Мамалыгина по кличке Бурундук, все они рано или поздно убеждались, что есть сведения, которыми военкомы не делятся ни с кем и ни за какие деньги – в основном, потому, что сами этими сведениями не располагают.
И лишь очень немногие не подозревали и не догадывались, а точно знали, что веселый Бурундук обучен вещам, о которых среднестатистический российский обыватель имеет лишь самое общее и притом весьма смутное представление. И не просто обучен, а ничего не забыл, по-прежнему пребывает в превосходной форме и еще может сильно удивить любого, кто, обманувшись его безобидной наружностью, вздумает проверить на прочность систему безопасности завода.
Именно так, если бы его сильно попросили, а он бы вдруг взял да и согласился, вкратце рассказал бы о себе сам Бурундук. Еще сегодня утром он был уверен, что этот в меру туманный и уклончивый рассказ не содержит в себе ничего, кроме правды – разумеется, далеко не всей, потому что рассказать о себе все, до самого донышка, он не имел ни желания, ни права. Есть такой зверь, называется – подписка о неразглашении; кроме того, на свете полным-полно вещей, о которых людям лучше не знать.
Но лгать о себе ему было незачем – достаточно было просто кое о чем помалкивать. И еще сегодня утром он действительно считал, что возглавляемая им служба безопасности работает, как часы, и надежно гарантирует завод как от нежелательных проникновений извне, так и от попыток нечистых на руку сотрудников что-нибудь вынести за территорию предприятия.
Наверное, так оно и было – особенно в той части, которая касалась расхищения персоналом материальных и интеллектуальных ценностей. И, лежа на замусоренном, скользком от крови полу за наспех сооруженной из перевернутых лабораторных столов баррикадой, Бурундук между делом размышлял о том, что своей добросовестной работой сам накликал беду. Говорят, от любви до ненависти один шаг; говорят также, что грань между идеальной красотой и окончательным, доведенным до совершенства уродством тонка и неуловима. Поляки по этому поводу выражаются проще: «Цо занадто, то не здрово», что в переводе на русский означает: слишком хорошо – уже нехорошо.
Вот простой пример: копилка. Стоит себе где-нибудь на полке, у всех на виду, глиняная свинья или, там, кошечка, или еще какая-нибудь ерунда, служащая весьма сомнительным украшением интерьера. Но смысл ее вовсе не в эстетической ценности, а в том, что внутри нее деньги. Это самый простой и понятный всем и каждому пример, потому что деньги нужны всем. Искушение потихонечку, тайком от всех, запустить руку в копилку и прикарманить хотя бы малую толику ее содержимого может быть сильнее или слабее, но человек несовершенен, сатана не дремлет, и оно, это искушение, присутствует всегда. Потому-то копилка так и устроена, что взять деньги, не разбив симпатичную глиняную хрюшку вдребезги, невозможно.
Если тебе дорога хрюшка, не клади в нее деньги. Если постоянно нуждаешься в мелочи на карманные расходы, не заводи копилку. А если тебя посадили внутрь большой копилки и велели охранять то, что в нее набросал кто-то другой, – ну, тогда, приятель, ты попал, причем по полной программе.
Он закупорил все дыры, законопатил все щели, чуть ли не загерметизировал завод, как колбу электрической лампочки. Он просто не мог поступить иначе, потому что добросовестно относился к работе, которая в противном случае просто не имела бы смысла. И именно потому, что из вверенной его попечению копилки ничего нельзя было потихонечку вытряхнуть, кто-то, потеряв, наконец, терпение, взялся за молоток.
А хорошо спланированный и профессионально произведенный рейдерский захват – это, братцы, такая штука, против которой даже усиленная заводская охрана так же эффективна, как легкий кевларовый бронежилет против фугасного снаряда. Или как покрытая глазурью шкура фаянсовой хрюшки против килограммового молотка: трах, и вдребезги.
Лежа на боку в луже собственной крови, он выщелкнул из рукоятки пистолета пустую обойму и вставил взамен нее полную. Это была его вторая и последняя обойма; впрочем, он и не рассчитывал, что сможет вечно отстреливаться от двух десятков обученных, вооруженных до зубов профессионалов. А в том, что против него играют настоящие профи, Бурундук не сомневался: уж очень ловко, прямо как в кино, они работали. Картинка со всех, сколько их насчитывалось на территории, следящих камер была, помимо всего прочего, выведена и на монитор, что стоял сбоку на его рабочем столе. Он давно выработал привычку время от времени поглядывать на этот монитор, проверяя, все ли в порядке, и все-таки заметил нападавших слишком поздно, когда юркие черные фигурки в спецназовских трикотажных масках уже ручейками разбежались по всему заводу. Оказанное пятью находившимися на дежурстве охранниками сопротивление не стоило упоминания; насколько мог судить Бурундук, никто из них серьезно не пострадал, и это был один из двух утешительных моментов, которые виделись ему во всей этой поганой, дьявольски неприятной истории. Более того, это был главный утешительный момент и, пожалуй, единственный, о котором он мог с уверенностью сказать: да, так оно и есть, охрану нейтрализовали мягко, без стрельбы, ножей, удавок и прочего членовредительства.
Он дослал в ствол «Стечкина» патрон, осторожно, без стука, положил пистолет на замусоренный бумагой и битым стеклом кафельный пол, сдернул с шеи галстук и, перевернувшись на спину, чтобы получить возможность действовать двумя руками, наложил жгут на простреленное бедро. Левая штанина до самого низа пропиталась кровью, нога онемела, перестала слушаться и тупо ныла, как больной зуб. Она воспринималась как мертвый посторонний предмет и уже не помогала, а, напротив, мешала двигаться, потому что оказалась дьявольски тяжелой, прямо как сырое еловое бревно. Потуже затянув жгут, он вытащил из-под ремня подол рубашки, поднатужившись, оторвал от него длинную полосу и кое-как, прямо поверх набрякшей красным штанины, забинтовал рану.
Закончив, весь в липком поту, дыша, как беговая лошадь после продолжительной призовой скачки, он снова перевернулся на бок и осторожно выглянул из-за своей баррикады. В лаборатории было пусто, над полом плотными слоями плавал подсвеченный люминесцентными лампами пороховой дым. От двери к баррикаде по полу тянулась красная смазанная полоса, отмечавшая нелегкий путь, проделанный Бурундуком к последнему рубежу обороны. «След кровавый стелется по сырой траве», – с кривой улыбкой подумал он.
Дверь с разбитым армированным стеклом осталась открытой, и было слышно, как в коридоре топчутся, хрустя осколками стекла и кафеля, и переговариваются между собой рейдеры. «Договаривались же без жмуриков! – недовольно гундел один. – Что вы тут устроили филиал Бородинского сражения?» – «А мы виноваты, что он боевыми шмаляет? – сердито отвечали ему. – Бешеный какой-то! А главное, сука, меткий…»
Первый голос показался Бурундуку смутно знакомым, и это было довольно странно: он не сомневался, что рейдеры не местные, в их захолустном Мокшанске такую бригаду было невозможно набрать ни за какие деньги. А уж о том, чтобы скрыть ее существование от него, Бурундука, не стоило даже мечтать. Потому что он, как никто в этом городе, знал: разведка – залог успеха не только нападения, но и обороны.
«То-то и оно, – подумал он. – Так что нечего удивляться, дружок. Просто их разведка сработала лучше твоей, в результате чего мы имеем то, что имеем…»
И сейчас же вспомнил, где ему доводилось слышать этот гнусавый, вечно недовольный голос. Ну конечно же, а как же иначе! Без этой сытой гниды в славном городе Мокшанске не обходится ни одна подлянка. И, если у тебя вдруг, ни с того, ни с сего, началась полоса неприятностей, можешь не сомневаться: так или иначе, не мытьем, так катаньем, это его рук дело. Либо ты, сам того не ведая, перешел дорогу ему или кому-то из его дружков, либо им приглянулось что-то, принадлежащее тебе – причин может быть великое множество, а следствие, оно же результат, всегда одно: ты по уши в дерьме, и жаловаться некому.
Рассчитывать на помощь извне, таким образом, не приходилось. Собственно, в подобных случаях рассчитывать на нее не приходится никогда. Словосочетание «правовое общество» в России означает следующее: прав тот, у кого больше прав. А прав нынче, как и миллион лет назад, больше у того, кто сильнее.
– Эй, служивый! – окликнули из коридора. – Хватит дурака валять! Обалдел, что ли – в живых людей боевыми палить? Выходи, не тронем!
– А ху-ху не хо-хо? – задиристо откликнулся Мамалыгин.
Он продолжал хорохориться, хотя отлично понимал, что вот именно валяет дурака. Окон в лаборатории не было, расположенная в дальнем углу вторая дверь вела в кладовку размером с платяной шкаф, и все активы последнего защитника «Точмаша», таким образом, помещались в обойме его пистолета. Большого толку от этих активов ожидать не приходилось, да и оборона имела смысл лишь до тех пор, пока рейдеры думали, что у него есть, что защищать. Вся эта дурацкая перестрелка была затеяна только затем, чтобы увести их подальше от третьего с краю окна в коридоре второго этажа административного корпуса – с виду такого же, как все прочие, а на самом деле, если Бурундук правильно все понял и не ошибся в произведенных на скорую руку расчетах, золотого. Да нет, не золотого даже, а… черт, сразу ведь и не сообразишь, какое вещество нынче ценится дороже всех остальных!
В общем, если Бурундук не просчитался, пресловутое окошечко стоило поболее города Мокшанска со всеми его пригородами, промышленными предприятиями, а также пахотными, охотничьими и прочими угодьями.
– Эй, Мамалыгин! – позвал из коридора знакомый голос. – Слышишь, Бурундук? Давай потолкуем!
Бурундук выставил поверх баррикады руку с пистолетом и наугад пальнул в открытую дверь. В коридоре с треском брызнули осколки кафеля, кто-то охнул, и все тот же знакомый голос прочувствованно воскликнул:
– Твою ж мать!..
– Своей займись! – крикнул ему Бурундук. – По-родственному, как ни крути, дешевле выйдет!
– Ну, хватит, – сказал в коридоре звучный, властный голос, который Мамалыгин слышал впервые. – Сколько можно возиться с этим клоуном? Кончайте с ним. Ясно ведь, что…
– Погодите, – встрял земляк Бурундука, – так мы не договаривались. Постойте, я сейчас. Бурундук! – позвал он. – Ты что там, белены объелся? Ты хоть понимаешь, что творишь? За что умирать-то собрался – неужто за эту груду кирпичей?
– Так вот и мне же интересно: за что? – вступил, наконец, в конструктивный диалог с пустым дверным проемом Мамалыгин. – Вы б хоть объяснили для начала, что вам надо. А то – пиф-паф, ой-ой-ой… Я-то, грешным делом, решил, что вы по мою душу!
– Я же говорю: клоун, – убежденно повторил властный голос.
– Папку отдай, и свободен, – сказал земляк.
– Какую папку? – очень натурально изумился Бурундук.
– Сам знаешь, какую. Синюю!
– Мужики, да вы что? – воззвал к разуму рейдеров Бурундук. – Откуда у меня какая-то папка? Все папки либо в спецчасти, либо в кабинете у директора! И синие, и красные, и зеленые в горошек…
– Нет ее там, – сказали из коридора.
– А вы хорошо смотрели?
Не успев сдержать неразумный порыв, он задал этот вопрос с сильно утрированным еврейским акцентом: «А ви хо'ошо смот'ели-и?», как будто играл старого еврея-часовщика в любительской постановке пьесы, написанной по мотивам одесских рассказов Бабеля.
– Вот козел, – сказал властный голос, а земляк уже не предложил, а довольно грубо потребовал:
– Папку отдай, дурак! Убьют ведь!
– Сам ты дурак, – сказал ему Бурундук. Он нашарил в кармане завалявшийся там кусочек ванильной сушки, бросил его в рот и, с хрустом жуя, добавил: – Нет у меня никакой папки!
Это была чистая правда – целиком, от первого до последнего слова. И папки у него не было, и землячок был дурак, каких поискать. С какой стороны на него ни глянь, все равно дурак. Дурак, что во все это ввязался, и дурак, что, ввязавшись, подал голос. Если думал, что Бурундук его по этому голосу не опознает – дурак, и если вообразил, что, опознав, Мамалыгин ему поверит – дурак в квадрате, даже в кубе.
Ясное дело, Бурундук знал, где папка – сам ведь спрятал, если это можно так назвать. И только сейчас, обозвав собеседника нехорошим словом, осознал, что и сам недалеко от него ушел.
Потому что с того мгновения, когда землячок подал голос, шансов выжить у Бурундука не осталось. Он мог сказать, где папка, а мог и не говорить – теперь это не имело для него, лично, никакого значения.
Ощутив острый укол сожаления, он мысленно сказал себе: ну-ну, спокойно! Давай-ка без истерик. Как говорили взводные сержанты британской армии в Первую Мировую: ты что, собираешься жить вечно?
Вечно не вечно, но ему было всего тридцать восемь, и еще сегодня утром он вовсе не планировал умирать. И, между прочим, свободно мог бы протянуть еще с полвека, если бы значительная и самая главная часть его биографии не скрывалась под грифом «Совершенно секретно». Там, под этим грифом, ему кое-что крепко вбили в голову – да нет, не в голову даже, а куда-то в самую основу его естества. Он, как все простые смертные, относился к денежным знакам со сдержанным пиететом и старался заработать их как можно больше, с каковой целью планировал со временем, когда подыщет себе достойную замену, перебраться в столицу. Ему случалось ловчить и обманывать – разумеется, в корыстных целях, – но он всегда твердо знал: есть вещи, которые не продаются. Времена переменились, великие державы убрали с глаз долой свои ядерные дубины, но убрали недалеко: на губах вежливая улыбка, а рука за спиной, и угадайте с трех раз, что в ней? Правильно, дети: ядерный потенциал! У кого дубина тяжелее, тот улыбается широко и искренне, а у кого она полегче, тому остается лишь держать хорошую мину при плохой игре и шарить глазами по сторонам в поисках булыжника, которым можно утяжелить свой международный авторитет.
Вот-с. Чтобы выжить, Бурундуку, собственно, ничего не надо было делать – то есть вообще ничего. Просто отдать людям в трикотажных масках ключи от кабинета и сейфа, дать себя обыскать, выйти во двор, сесть в машину и уехать домой, а оттуда – в Москву, навстречу давней мечте о шикарной столичной жизни. И то, что кто-то после этого положил бы в карман сумму, превосходящую годовой бюджет Поволжского региона, его бы нисколько не волновало – от каждого по способностям, каждому по труду, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, и так далее.
В общем, все было бы просто превосходно, если бы не пресловутый ядерный паритет. Головой он понимал, что этот самый паритет – не его ума дело, что там, наверху, с паритетом прекрасно разберутся и без майора запаса Мамалыгина по кличке Бурундук. Да, голова все прекрасно понимала, но ее аргументы решительно заглушал исходящий откуда-то из подсознания властный голос: нельзя! Ну нельзя, и нельзя! Невозможно. Так же, примерно, как невозможно, не будучи исполнителем циркового трюка «человек-змея» или каким-нибудь там йогом, укусить себя за спину. У землячка, что стоял сейчас в коридоре, это, конечно, получилось, но каждому свое: Бурундук давно убедился, что у этого слизняка нет ни хребта, ни офицерской чести, ни обыкновенной человеческой совести.
Как бы там ни было, момент, когда синюю папку можно было обменять на жизнь, он безнадежно проворонил. А может, его, этого момента, и вовсе не было: с землячком у него давние счеты, и тот вряд ли упустил бы такой хороший случай свести их чужими руками.
Он вспомнил, сколько раз мог погибнуть и только чудом оставался в живых, и мысленно пожал плечами: сколь веревочке ни виться…
– Я пас, – отчетливо прозвучал в коридоре голос землячка.
– Кто бы сомневался, – пренебрежительно хмыкнул властный и отрывисто бросил: – Заканчивайте!
Дверной проем в мгновение ока заполнился черными безликими фигурами, которые двигались с неправдоподобной, хорошо памятной по былым лихим денечкам быстротой и ловкостью. Бурундук выстрелил, один из атакующих сбился с шага и упал, а в следующий миг на импровизированную баррикаду обрушился плотный шквал автоматного огня, который грохотал еще секунд двадцать после того, как майор запаса Мамалыгин перестал дышать.
Глава 4
– Значит, Мокшанск, – задумчиво произнес Юрий Якушев.
О существовании населенного пункта с таким названием он узнал почти ровно полгода назад, во второй половине февраля. Зима в этом году выдалась запоздалая, но зато морозная и снежная – словом, настоящая; придя с большой задержкой, она не торопилась уходить, и на исходе ее последнего месяца телевизионные дикторы вслух, на всю страну, мечтали даже не о весне, а хотя бы об оттепели. Над европейской частью России, сменяя друг друга, вдоль и поперек гуляли циклоны, солнечные дни можно было пересчитать по пальцам одной руки, и по утрам, особенно если не выспался, начинало казаться, что такая погода установилась надолго – возможно, даже навсегда.
Поэтому, когда в один из серых, пасмурных, сырых и морозных одновременно, характеризующихся пониженным атмосферным давлением дней Юрию позвонил генерал Алексеев и без предисловий приказал незамедлительно явиться в крематорий, Якушев, не удержавшись, спросил: «Белые тапочки надевать?»
«Форма одежды произвольная, – буркнул его превосходительство и, помолчав, добавил: – Камышев погиб, через час похороны».
Юрий мысленно ахнул: как погиб?! Почему? Он точно знал, что полковник Камышев, с которым ему несколько раз приходилось пересекаться во время командировок на Кавказ, недавно получил контузию и был с почетом отправлен на покой в звании генерал-майора – живой и здоровый настолько, насколько может быть здоровым перештопанный врачами вдоль и поперек ветеран всех, сколько их было со времен Афганистана, локальных вооруженных конфликтов.
Задавать вопросы по поводу причин и обстоятельств смерти Камышева он не стал, потому что точно знал еще одну вещь: если Ростислав Гаврилович располагает интересующей его информацией, и если он сочтет, что Юрию будет небесполезно эту информацию получить, он предоставит ее сам, без расспросов. А если решит, что майору Якушеву эти сведения ни к чему, их из него калеными клещами не вытянешь. И потом, каленые клещи и генерал Алексеев – сочетание, мягко говоря, небезопасное: того и гляди, отберет и засунет тебе эти клещи туда, откуда их потом без опытного проктолога не вынешь…
Алексеев сказал: погиб, – что автоматически исключало инфаркты, инсульты, свиной грипп и прочие ругательные словечки из лексикона терапевтов. Погиб – значит умер насильственной смертью. Выпал из окна, сорвался с крыши, попал под машину, схватился за оголенный провод под напряжением… Или убит.
И это после стольких лет, практически безвылазно проведенных на войне!
На похороны, Юрий, естественно, пошел, и не только потому, что таков был приказ генерала Алексеева. Его знакомство с покойным было, по большому счету, шапочным, но Юрий чувствовал в Камышеве родственную душу: как и он сам, Николай Иванович был настоящим, да вдобавок еще и очень хорошим солдатом, ввиду чего командование вечно норовило заткнуть им очередную брешь на самом горячем участке обороны.
На траурную церемонию командование не поскупилось. Там было все, чему полагается быть в таких случаях: бархатные подушечки с боевыми наградами, почетный караул с примкнутыми штыками и траурными повязками на рукавах, оружейный салют, пропасть шитых золотом погон и черных цивильных пиджаков и даже прицепленный к бронетранспортеру артиллерийский лафет, на котором закрытый гроб с телом покойного подвезли к зданию крематория. Были прочувствованные речи с перечислением превосходных человеческих качеств и неоценимых заслуг дорогого Николая Ивановича перед Отечеством, и какой-то незнакомый Юрию майор срывающимся от волнения и сдерживаемых слез голосом прочел отрывок из поэмы Лермонтова «Бородино»: «Полковник наш рожден был хватом – слуга царю, отец солдатам. Да жаль его: сражен булатом, он спит в земле сырой…»
На взгляд Юрия, майор был дурак. А впрочем: чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.
К тому же, если не обращать внимания на способ выражения мыслей, по сути майор был прав: да, вот именно, верный служака и заботливый отец. Хотя забота его, как это часто случается промеж суровых военных людей, сплошь и рядом принимала довольно причудливые формы. В разное время и в разных местах Камышева за глаза называли то Камешком, то Камышом, то просто Кремнем. Юрию больше нравилось поэтическое прозвище Камыш. «Шумел камыш, деревья гнулись», – бывало, говорили с кривоватой улыбочкой его подчиненные после устроенного Николаем Ивановичем разноса. Именно после, а не во время, потому что, когда Камыш шумел, «деревьям» оставалось только помалкивать в тряпочку и гнуться. И, что характерно, никто не обижался. Потому что не было случая, когда Камыш шумел зря, исключительно ради удовольствия послушать свой хорошо поставленный командный голос. И еще потому, что знали: когда наступит время опять идти в самое пекло, Камыш не подкачает, не станет прятаться за чужие спины и просто так, за здорово живешь, не пошлет на убой ни одного человека, будь этот человек хоть самым распоследним разгильдяем.
Там, в крематории, Юрий имел случай впервые в жизни увидеть немногочисленных родственников Камышева: заплаканную женщину лет сорока, не красавицу, но очень обаятельную, симпатичную молодую девицу, тоже в слезах, и какого-то хорошо одетого штатского колобка с бледной, растерянной, какой-то пришибленной физиономией. Колобок не плакал, потому что был мужчина, хоть и шпак, но почему-то из всех троих именно он показался Юрию самым подавленным и убитым горем – действительно, краше в гроб кладут.
И, кстати, о гробе: его так и не открыли.
По окончании фарса, в который неизменно выливается любая, даже самая искренняя попытка людей выразить свои чувства официальным порядком, с соблюдением всех обычаев, традиций и правил, генерал Алексеев усадил Юрия в свою машину и дал, наконец, разъяснения, в которых Якушев к этому времени уже начал остро нуждаться.
Дело обстояло следующим образом. После выхода в отставку, выписки из госпиталя и непродолжительного периода реабилитации свежеиспеченный генерал-майор Камышев отправился погостить в свой родной город Мокшанск, расположенный на реке Мокше, где (в городе, разумеется, а не в реке) у него до сего дня проживала сестра с мужем и дочерью. Это были те самые люди, которых Юрий видел в крематории – сестра Камышева Валентина, племянница Марина и зять Михаил Горчаков, директор местного филиала НПО «Точмаш». (Тут Юрий слегка удивился: это ж какой души должен быть человек, чтобы так горевать не об отце или матери, а всего-то о брате жены!)
Погостив у родни чуть более двух недель, Камышев собрался восвояси, в Москву. Выехал засветло, в середине дня, трезвый, как стеклышко, и без каких-либо признаков недомогания, но километрах в двадцати от городской черты Мокшанска отчего-то не справился с управлением, вылетел с трассы на крутом повороте и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, скончался из-за полученных в результате аварии, несовместимых с жизнью травм. «Этими самыми травмами, надо полагать, и объясняется то обстоятельство, что хоронили его в закрытом гробу», – закончил Ростислав Гаврилович, и Юрию почему-то очень не понравилось это как бы между прочим, для красного словца, ввернутое «надо полагать».
Далее выяснилось, что его превосходительство, состоявший с Камышевым в давних приятельских, почти дружеских отношениях, незадолго до начала траурной церемонии успел переговорить с родственниками погибшего. Ничего нового и интересного родственники ему не рассказали: да, гостил, да, уехал… Гостил тихо, в рамках приличий, без гусарства, лишнего на грудь не принимал, скандалов и, упаси бог, драк не затевал, в уличных инцидентах не участвовал, врагов в городе не имел ввиду многолетнего отсутствия… Господи, горе-то какое! Ведь столько лет на войне, весь в дырках, как решето, а погиб средь бела дня в какой-то нелепой дорожной аварии…
Составленный прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД протокол не поддавался двоякому истолкованию: превысил скорость, не вписался в поворот и слетел с дороги. Врачи осторожно добавляли: возможно, на быстроте реакции сказались последствия недавней контузии.
В общем, человеку внезапно и очень не вовремя стало нехорошо – голова закружилась, потемнело в глазах, а может, просто отвлекся или слишком глубоко задумался…
Если подумать, Юрий не видел в этой ситуации ничего сверхъестественного или хотя бы просто необычного. С контузией не шутят, а чуть меньше тысячи километров за рулем по скользкой зимней дороге – не пустяк даже для абсолютно здорового человека. Дорога есть дорога; один знакомый гибэдэдэшник как-то признался Юрию, что очень большой процент дорожно-транспортных происшествий происходит по совершенно непонятным, необъяснимым, а сплошь и рядом просто невозможным причинам: этого не могло случиться, но это случилось, и что тут еще скажешь?
«Вполне возможно, – сказал, выслушав это глубокомысленное рассуждение, Ростислав Гаврилович. – Но я спинным мозгом чую: что-то тут не так». – «Так я смотаюсь в этот Мокшанск», – подавив недовольный вздох, предложил Якушев.
Немедленно выяснилось, что господин генерал им абсолютно неправильно понят, и что со своим предложением Юрий сильно поторопился. Случай был прямо-таки уникальный: его превосходительство, как оказалось, затащил майора Якушева в свою машину не затем, чтобы поставить перед ним очередную боевую задачу, а чтобы посоветоваться. «Тебе что, больше нечем заняться? – сказал господин генерал, сердито поблескивая темными стеклами очков. – Я уже послал туда человека, чтобы навел справки и осмотрел машину, и обратился к серьезным людям в МВД с просьбой хорошенько разобраться в этом деле. Так что в Мокшанск тебе ехать незачем. Не печалься: насколько я понял, ты от этого ничего не потеряешь. Просто чувство какое-то странное, сам не пойму, откуда оно взялось. То ли гроб этот закрытый мне покоя не дает, то ли погода на мозги давит… Так ты думаешь, тут все чисто?» – «Ничего я на самом деле не думаю, – честно признался Юрий. – Чтобы что-то думать и, тем более, делать выводы, нужно располагать информацией. То, что вы мне сейчас рассказали, это не информация, а официальная версия. Никаких противоречий я в ней не наблюдаю, но это еще ни о чем не говорит. В общем, если считаете нужным разобраться – разбирайтесь. Вернее, пусть ваши знакомые из МВД разбираются. Если это убийство, то спланировали и осуществили его наверняка не спецслужбы – кому это надо, он ведь был солдат, а не шпион. Да и джигиты с Кавказа вряд ли поехали бы за ним в эту дыру. А если бы поехали, то не стали бы мудрить, обставляясь под несчастный случай, у них в этом плане все просто и ясно: или бомба под капотом, или очередь в упор… Так что возможных мотивов убийства всего два: или корыстные побуждения, или месть. Городок, если я вас правильно понял, маленький, все у всех на виду, и найти виновных ребятам из следственного комитета не составит никакого труда. А что до ваших ощущений, так это, товарищ генерал, извините, голые и вполне объяснимые эмоции. Был хороший человек, и вдруг его не стало – кому это понравится? Нехорошо это, несправедливо. И сразу хочется кого-то за эту несправедливость наказать. Дорогу не накажешь, даже если она в чем-то виновата, вот вам упыри по углам и мерещатся…»
«Советчик из тебя, как из филина пианист, – оценил его старания Ростислав Гаврилович. – А еще философ!» – «А зачем ударяться в философию там, где вполне достаточно простого здравого смысла?» – возразил Якушев. «Ну, может, ты и прав», – неохотно признал генерал. Выглядел он, несмотря на показное недовольство умственными способностями подчиненного, слегка успокоившимся, и на этом дискуссия завершилась ввиду полной бесполезности дальнейшего переливания из пустого в порожнее.
Очень скоро Юрий не то чтобы забыл об этом разговоре, а просто положил данное воспоминание на дальнюю полку рядышком с другими: как совершенно справедливо заметил генерал Алексеев, у него хватало собственных дел и забот. Время шло, Ростислав Гаврилович более не упоминал ни о Камышеве, ни о Мокшанске, и мало-помалу Юрий пришел к выводу, что тогда, сидя в генеральской машине и сквозь запотевшее оконное стекло любуясь зданием крематория, был прав: Камыш погиб случайно, и все, что можно предпринять в связи с этим печальным событием, это смириться и сохранить о покойнике светлую память.
И вот теперь генерал опять заговорил о Мокшанске, причем в совершенно неожиданной и довольно странной связи.
– Ну, – не дождавшись продолжения, ворчливо буркнул он, – еще что-нибудь скажешь?
– Рейдерский захват в Мокшанске, – раздумчиво, будто пробуя это предложение на вкус, проговорил Якушев. – Да, прогресс таки не стоит на месте. Вот уже и до глубинки добрался… А захватили, как я понимаю, этот, как его… «Точмаш», да? Ну, где зять покойного Камышева директором.
Ростислав Гаврилович немного помолчал, дымя сигаретой и вертя на столе полупустой стакан с минеральной водой.
– Все-таки котелок у тебя варит, – признал он, наконец. – Как догадался?
– Простая цепочка ассоциаций – поверхностных, первого порядка, – пожав плечами, объяснил Юрий. – Мокшанск – Камышев – его зять, он же директор завода, – «Точмаш». И потом: во-первых, этот «Точмаш» – единственное предприятие в Мокшанске, о котором я слышал. А во-вторых, рейдерский захват молокозавода, комбината хлебопродуктов, лесопилки, или чем там еще может похвастаться эта дыра, – вещь, хотя и теоретически возможная, но вряд ли способная заинтересовать наше ведомство. И, в частности, вас, товарищ генерал.
– Действительно, все просто, – подозрительно ровным тоном согласился Алексеев.
– Интересно, что это за «Точмаш» такой, – задумчиво произнес Якушев. – Точные машины какие-нибудь? Или точильные?..
– Да нет, сынок, – усмехнулся Ростислав Гаврилович, – не точильные и не точеные, а вот именно точные. Заводик-то любопытный, непростой. Если интересно, послушай.
– Весь внимание, – сказал Юрий, про себя подивившись многообразию форм, в которые его превосходительство ухитрялся облекать такой простой, незамысловатый процесс, как постановка перед подчиненными боевой задачи.
* * *
Когда автоматчики, закончив работу и прихватив с собой раненого, покинули помещение, они вошли в разгромленную, затянутую густым, кисло пахнущим пороховым дымом лабораторию. Под ногами звенели, перекатываясь, стреляные гильзы, хрустели осколки стекла, кафеля и разнесенных вдребезги автоматными очередями приборов, на полу валялись разбросанные в полном беспорядке бумаги, и темнели пятна крови. Исклеванные пулями кафельные стены, дырявая, как решето, дверь кладовки, импровизированная баррикада из двух опрокинутых набок лабораторных столов, выглядящая так, словно какие-то безрукие неумехи годами учились на ней забивать гвозди, – все это напоминало кадры военной кинохроники, а не научную лабораторию, в которой разрабатывались и собирались опытные образцы уникальных электронных приборов.
– Ой-ей-ей, – стягивая с головы трикотажную маску, изумленно протянул подполковник Сарайкин, – вот это наломали, так наломали!
– Да, – дрожащим от страха и волнения голосом подтвердил щуплый темноволосый человек с острым, как птичий клюв, носом и круглыми, тоже как у птицы, воспаленными глазками, испуганно моргавшими за толстыми стеклами очков, – лаборатория уничтожена полностью. Одного оборудования на добрых полмиллиона долларов. А может, и на миллион…
В отличие от своих спутников, он был одет не в черный комбинезон спецназовца, а в синий рабочий халат и серые, вздувшиеся на коленях пузырями, брюки. Под халатом виднелась серая рубашка с темным однотонным галстуком, из нагрудного кармашка халата выглядывал засаленный блокнот, с которым соседствовала шариковая ручка. Человек этот звался Игорем Витальевичем Ушаковым и работал на «Точмаше» начальником производственного отдела, каковую должность надеялся сохранить за собой и при новых хозяевах.
– Папку ищи, – полупрезрительно скомандовал ему Сарайкин. – Должна быть тут, не зря же он, как бешеный, отстреливался.
Ушаков нерешительно переступил с ноги на ногу и осторожно, бочком, двинулся к баррикаде, позади которой на полу плавало в луже крови почти разорванное на куски автоматными пулями тело. Обозленные упорным сопротивлением автоматчики поработали так основательно, что в этой бесформенной куче истерзанного, кровавого мяса даже родная мать вряд ли сумела бы опознать начальника службы безопасности Мамалыгина по прозвищу Бурундук. Глядя на это месиво, подполковник Сарайкин и трусил, и злился одновременно: ну что за дуболомы! Вот это, что ли, у них в Москве и называется «аккуратно, точно и без лишнего шума»?
Досада подполковника была вполне оправданной: беря под контроль «Точмаш», рейдеры приложили явно избыточную силу, как будто штурмовали не маленький приборостроительный заводишко, а крупный металлургический комбинат. Те, кто все это затеял, явно считали себя самыми умными людьми на свете и, ничему не желая учиться, измерили крошечный провинциальный Мокшанск своим непомерно длинным столичным аршином. Копилку, что незадолго до смерти пришла на ум Бурундуку, разбили даже не молотком, а кузнечным молотом, и заметать далеко разлетевшиеся осколки предстояло не кому-нибудь, а подполковнику Сарайкину.
Если бы подполковник знал, насколько далеко они разлетелись, его участие в описываемых событиях закончилось бы немедленно, равно как и пребывание в должности начальника местного полицейского управления, и вообще проживание в городе Мокшанске. Он бежал бы на край света, бросив все и предоставив рейдерам самостоятельно расхлебывать кашу, которую они заварили. Но он ничего не знал и, наивно полагая, что здесь, на своем участке, полностью контролирует ситуацию, просто стоял и с брезгливым неудовольствием наблюдал, как начальник производственного отдела Ушаков неуверенно, будто слепой, по сужающейся спирали приближается к трупу Бурундука. Игорь Витальевич внимательно осматривал шкафы и полки, ворошил разбросанные по полу бумаги, как будто у убитого было время куда-то засунуть папку, и явно не торопился приблизиться вплотную к огромной кровавой луже и тому, что в ней плавало.
Ушакова можно было понять. Если папка действительно была у Бурундука при себе, то она и сейчас находилась где-то в непосредственной близости от тела – вполне возможно, прямо под ним. А при мысли о том, чтобы прикоснуться руками к этой груде мокрых, склизких, сочащихся кровью лохмотьев, даже у видавшего разные виды подполковника полиции Сарайкина подкатывал к горлу ком.
К сожалению, мысль о полной неспособности Ушакова выполнить поставленную перед ним задачу пришла в голову не одному подполковнику. Командир рейдеров, до этого молча стоявший за спиной со скрещенными на груди руками, подал, наконец, голос, сказав:
– Вы бы тоже не стояли столбом, уважаемый Анатолий Павлович. Рекомендую принять посильное участие. Прошу вас, не стесняйтесь! Толку от вас пока что, как от козла молока, а гонорар надо отработать. К тому же здесь и так достаточно грязно. Не хватало еще, чтобы этот деятель тут все заблевал!
Голос у него был сильный, властный – голос человека, привыкшего распоряжаться и вряд ли представляющего себе, что такое неподчинение. Держался он соответственно, как невесть каких размеров шишка на ровном месте, а на окружающих взирал сверху вниз с выражением холодного превосходства. Роста этот тип был высоченного, подтянутый, как кадровый офицер, и ухитрялся выглядеть столичным щеголем даже в черном комбинезоне с напяленным поверх него бронежилетом. Льдисто-серые глаза спокойно и холодно поблескивали сквозь прорези трикотажной маски, которую он так до сих пор и не снял – явно не потому, что скрывал от Сарайкина свое лицо, которое тот уже видел, запомнил и хоть сейчас мог описать во всех подробностях, а просто потому, что она ему не мешала.
Словом, дядечка был непростой, и, глядя на него, Сарайкин вдруг преисполнился крайне неприятной уверенности, что еще хлебнет шилом патоки с этим столичным фруктом.
Делать, однако, был нечего. Твердо ступая, подполковник направился к баррикаде, оттолкнул с дороги нерешительно топчущегося на месте однофамильца знаменитого русского адмирала, перешагнул через перевернутый стол и, задержав дыхание, склонился над трупом. Выбрав на изорванном в клочья пиджаке местечко почище и посуше, крепко за него ухватился и рывком перевернул тело на спину.
От увиденного его по-настоящему замутило, а главное, все это было зря: под телом не оказалось ничего, кроме нескольких насквозь пропитавшихся кровью листков бумаги. Подобрав валявшуюся в стороне от кровавой лужи шариковую ручку, Сарайкин пошевелил ею лохмотья изодранного пулями пиджака, но тщетно: папки не было и на теле.
– Нет, – сказал он, выпрямляясь.
– Здесь ничего нет, – сдавленным эхом откликнулся Ушаков.
– Значит, он не солгал, – спокойно констатировал рейдер. – Папки у него действительно не было.
– Прошу прощения, – больным голосом вмешался в их разговор Ушаков, – на минуточку… мне надо…
Обогнув труп по широкой дуге, он неверным шагом, как пьяный, направился к двери кладовки, потом вдруг побежал, рванул дверь на себя, нырнул в темноту, и сейчас же стало слышно, как его мучительно и обильно выворачивает наизнанку. Ударившаяся о стену дверь отскочила и медленно прикрылась, частично заглушив производимые начальником производственного отдела отвратительные звуки.
– Ни черта не понимаю, – брезгливо покосившись в сторону кладовки, с досадой признался Сарайкин. Он отошел от тела, оставляя на полу цепочку четких темно-красных следов, вынул из кармана пачку сигарет и принялся раздраженно в ней ковыряться. – Зачем он тогда отстреливался – с перепугу?
– Сомневаюсь, – все так же спокойно возразил рейдер. – Общаясь с вами несколько минут назад, он не произвел на меня впечатления напуганного человека. Вообще, у этого вашего Бурундука, похоже, была весьма интересная, насыщенная событиями биография. Вы выяснили, кем он был раньше?
– Пытался, – чиркая зажигалкой, сердито буркнул Сарайкин, – да только хрена лысого узнал. Как заколдованный: куда ни ткнись, везде глухая стена. И никто ни гу-гу.
– Вот видите, – произнес рейдер таким тоном, словно подполковник был туповатым учеником, только что методом тыка ухитрившимся решить сложную задачу. – Скажу вам больше: я тоже пытался навести о нем справки, и с тем же результатом. Из чего следует, что покойный был очень грамотным, отлично подготовленным специалистом в весьма и весьма специфической области. Такие люди ничего не делают просто так и, тем более, от испуга. Нет, подполковник, он действовал обдуманно и очень толково. Уверен, если бы ему хватило времени, он укрылся бы за бронированной дверью спецчасти, откуда мы бы его без взрывчатки не выковыряли.
Сарайкин упрямо дернул плечом.
– Времени, чтоб добежать до спецчасти, у него было навалом, – объявил он. – А он побежал сюда и по дороге устроил пальбу…
– Причем перестрелку затеял именно он, находясь при этом в крайне невыгодной позиции, – добавил рейдер. – Видели когда-нибудь, как птица уводит хищника от гнезда с птенцами, притворяясь подранком?
– Доводилось, – буркнул Сарайкин, – чай, не в Москве живу. За рекой, в лугах, этих птиц, как грязи… Вы к чему это клоните?
– Рад, что вы вообще изволили заметить, что я к чему-то клоню, – с холодной насмешкой сообщил рейдер. – Остается только задействовать серое вещество, причем не то, из которого пошит ваш форменный китель, а то, которое по замыслу создателя должно находиться внутри вашей черепной коробки. Смотрите, что мы имеем. Грамотный, опытный, хорошо обученный начальник службы безопасности видит, что охраняемый им объект подвергается захвату – фактически, уже захвачен. Он понимает, разумеется, что охрана нейтрализована в первые же секунды, что он остался один и уже ничего не может сделать, чтобы отстоять завод: партия проиграна, сопротивление бесполезно. Остается только сложить полномочия, сдать ключи от служебных помещений и в полном соответствии с правилами игры, которые ему, без сомнения, известны, целым и невредимым покинуть территорию предприятия. А он вместо этого затевает перестрелку, бежит, раненый в ногу, под огнем через открытое место к лабораторному корпусу, забивается в этот подвальный тупик, откуда заведомо нет выхода, и здесь принимает последний бой… Бессмыслица? Глупость? А может быть, трезвый расчет? Вы вспомните птичку!
– Хотите сказать, что он нас нарочно за собой уводил? – догадался Сарайкин.
– Вне всякого сомнения. Из чего следует, что папка до сих пор где-то здесь, на территории завода. Он либо сунул ее куда-то на бегу, либо кому-то передал. Либо просто пытался отвлечь наше внимание от кого-то, у кого, как он точно знал, она в это время находилась. Из руководства в момент захвата в административном корпусе находился только директор, и папка, вероятнее всего, лежала в его кабинете. Сейчас ее там, конечно, нет, но я сильно подозреваю, что этот Горчаков точно знает, где она находится. Им я займусь сам. Весь персонал, находящийся на территории завода, тоже надо обыскать и допросить, но это не ваша забота. Вы, подполковник, поедете к Горчакову домой и тихо, без шума и пыли, не привлекая внимания широкой общественности, доставите сюда его жену и дочь. У него ведь дочь, я не ошибся? Превосходно. Боюсь, наш Михаил Васильевич станет упрямиться, и мне понадобится, гм… дополнительный рычаг давления.
– Черт, – огорченно воскликнул Сарайкин, – так это ж целая история! А говорили: полчаса, от силы час…
– Человек предполагает, а бог располагает, уважаемый Анатолий Павлович, – напомнил рейдер. – Кто же мог знать, что между нами и папкой встанет этот чудак? Надо же, себя не пожалел из-за стопки исчирканных бумажек…
– Далась вам эта папка, – с досадой сказал подполковник. – Целый завод в вашем распоряжении, а вам вынь да положь какую-то папку…
Рейдер посмотрел на него со смесью жалости и презрения, как на умственно отсталого, перевел взгляд на дверь кладовки, из-за которой опять слышались утробные звуки и плеск, и снова воззрился на Сарайкина все с тем же выражением презрительной жалости.
– Анатолий Павлович, – задушевным тоном произнес, наконец, он, – дорогой мой человек! Не лезли бы вы, ей-богу, не в свое дело! Не вашего оно ума, поверьте на слово! Просто поймите и усвойте: пока не найдем папку, я и мои люди отсюда не уйдем. Чем скорее найдем, тем скорее освободим вас от нашего присутствия. А заводишко этот нам нужен, как козе баян… Что вы так смотрите? Удивлены? Вы что же думали – что это рейдерский захват? Да господь с вами, голубчик! Сами посудите, на что нам этот хлам? И согласитесь, что захват предприятия, выполняющего заказы Минобороны и Роскосмоса, – это же о-го-го! Такие вопросы решаются на уровне Кремля, куда уж нам, грешным, с посконным рылом в калачный ряд… Папка – вот все, что мне нужно.
– Так я вам ее куплю, – пообещал обозленный его снисходительным тоном Сарайкин. – Какая, говорите, вам требуется – синяя?
– Попытка пошутить зачтена как неудачная, – помолчав, холодно сообщил рейдер. – Не надо острить, подполковник, у вас это плохо получается. Да и я не всегда благосклонно воспринимаю остроты определенного сорта – такие, как та, что только что прозвучала. Займитесь-ка лучше семьей Горчакова и постарайтесь не слишком сильно наследить у него в доме.
– А знаете что, дорогой мой человек, – язвительно передразнил его Сарайкин, – займитесь-ка вы всем этим сами! А мое серое вещество мне подсказывает, что настало самое время выйти из игры. Мы так не договаривались, и разгребать дерьмо, которого вы тут уже навалили выше крыши и собираетесь навалить еще больше, я не намерен. Ищите свою папку сами и имейте в виду, что времени у вас…
Дверь кладовки вдруг распахнулась, опять со стуком ударившись о стену, и оттуда, пьяно покачиваясь и с брезгливо-болезненной гримасой утирая рукавом халата испачканный рот, вышел Ушаков.
– Не торопитесь с решением, Анатолий Павлович, – глядя на начальника производственного отдела, сказал Сарайкину рейдер. – Вспомните лозунг большевиков: кто не с нами, тот против нас. Верно, Игорь Витальевич?
– Что? – вяло встрепенулся Ушаков. – А, да, наверное. Конечно… Простите, мне что-то не по себе… Можно, я пойду?
– Разумеется, можно, – разрешил рейдер и, неожиданно для присутствующих вынув из висящей на животе, как у какого-нибудь эсэсовца, кобуры большой черный пистолет незнакомой Сарайкину системы, выстрелил навскидку.
Даже не пискнув, Ушаков свалился на пол и замер там кучкой пыльного серо-синего тряпья. Сарайкин поспешно отвел глаза от большой, с брызгами, лениво оплывающей красной кляксы на белой кафельной стене.
– Из этого помещения существует всего два выхода, – не торопясь убирать пистолет обратно в кобуру, спокойно и даже чуточку печально сообщил рейдер, – на поиски синей папки или…
Он едва заметно кивнул подбородком в сторону убитого начальника отдела, очки которого неподвижно, мертво блестели, отражая свет люминесцентной лампы.
– Надо подумать, куда поместить Горчаковых, – деловито произнес Сарайкин.
– Ну, с этой задачей вы, полагаю, справитесь блестяще, – убирая с глаз долой все еще слабо дымящийся пистолет, сказал рейдер. Маска скрывала лицо, но по голосу чувствовалось, что он улыбается. – А вы разумный человек, подполковник. Хотя и чуточку ветреный. Сердце красавицы склонно к измене… Только не пытайтесь снова переменить решение. Это будет уже третья попытка, а она всегда и везде последняя – и в сказках, и в спорте, и в жизни.
– Угораздило же меня с вами связаться, – уныло вздохнул Сарайкин.
– Снявши голову, по волосам не плачут, – напомнил рейдер. – Это серьезная игра с очень высокими ставками, подполковник. Говоря о двух выходах из этого подвала, я, поверьте, имел в виду не только вас, но и себя тоже. Надеюсь, это вас хоть немного утешит. Вы совершенно правы, времени у нас чертовски мало. Поэтому не стоит тратить его не бессмысленные сетования. Что сделано, то сделано, и хочу напомнить, что на аркане вас сюда никто не тащил. Действуйте, Анатолий Павлович. Да, и, кстати, хорошенько осмотритесь у Горчакова дома – вдруг эта чертова папка там?
– Что хоть в ней? – все так же уныло спросил Сарайкин. – Это я к тому, – заметив, как остро, нехорошо прищурился собеседник, быстро добавил он, – что папка – это просто картонные корочки. А то, что внутри, могли куда-нибудь переложить. А как искать, не зная, на что оно похоже?
– На техническую документацию, – перестав сверлить его многообещающим взглядом, устало произнес рейдер. – Тащите сюда все, что подпадает под это определение, на месте разберемся…
Покачав головой, он вышел из лаборатории. Сарайкин, по-прежнему оставляя на полу кровавые отпечатки подошв, последовал за ним, но на пороге задержался, чтобы через плечо бросить испуганный взгляд на труп начальника производственного отдела Ушакова.
Глава 5
– Начну с небольшой преамбулы, – сказал генерал Алексеев. – Просто чтобы ты не отвлекался на посторонние предметы и не строил по ходу разговора версии, основанные на догадках и предположениях. Вот ты сказал – Камышев. Можешь пока о нем забыть, и я объясню, почему. Тем более что кое-какую информацию об этом «Точмаше» я получил от ребят, которые прорабатывали версию о причастности к смерти Николая его родственников, Горчаковых.
Юрий прервал манипуляции, связанные с приготовлением кофе, и бросил на генерала удивленный взгляд через плечо.
– А… А, ну да. Убийство из корыстных побуждений, один из самых распространенных мотивов. Чаще, чем из корысти, в России убивают только по пьяному делу… Типа, родительское наследство не поделили. Оно и понятно! Человек столько лет на войне, и все эти годы родные ждали, что его вот-вот убьют. Неважно, со страхом ждали или с нетерпением, важно, что ждали долго – так долго, что, сами того не замечая, мысленно уже занесли его в списки «двухсотых». А он возьми да и вернись. Как гайдаровский Бумбараш – пришел с войны, а его домой не пускают: убили тебя, вот же бумага казенная, где все про твою геройскую смерть прописано! Избу твою поделили, корову продали – ступай, откуда пришел, нечего покойнику промеж живых слоняться! Так?
– Более или менее, – сдержанно кивнул явно недовольный его многословием генерал. – Изба, действительно, имела место быть, и ее действительно продали, а деньги… Ну, ты сам понимаешь: зачем ему на войне лишние деньги? В общем, Горчаковы и не думали отрицать, что с деньгами вышло не совсем красиво и что, когда Николай вернулся, у них насчет этих денег состоялся не шибко приятный разговор – так, легкая вспышка раздражения на фоне обоюдного недопонимания. Потом Камышев остыл, последовали взаимные извинения, и от денег он отказался наотрез: дескать, сестре и племяннице они нужнее.
– Это они так говорят, – не оборачиваясь, вставил колдующий у плиты Якушев.
– И я не вижу оснований им не верить, – сказал Ростислав Гаврилович. – Место там не особенно бойкое – прямо скажем, не Ницца, – изба была старая, обыкновенный пятистенок, и ушла за три тысячи зеленых американских рублей, чему имеется документальное подтверждение. Сопоставь половину этой суммы с такими фигурами, как директор работающего на оборонный комплекс предприятия и генерал ФСБ, и что останется от твоей «корыстной» версии?
– Пшик, – честно признал Юрий. – Погодите, вы сказали: оборонный комплекс?
– Не забегай вперед, – проворчал Алексеев. – Экий ты, право, прыткий… Так вот, несмотря на доказанную несостоятельность таких правдоподобных версий, как корыстные побуждения и месть, я продолжал подозревать Горчакова. К этому имелись основания – правда, только косвенные. Наш человек отыскал на штрафной стоянке разбитую машину Камышева и внимательно ее осмотрел. Досталось ей, спора нет, крепко, внутри были следы крови, но, по словам агента, чтобы погибнуть при такой аварии, надо было родиться очень уж невезучим. Тормозная система разобрана буквально по винтику – в процессе экспертизы, как ты понимаешь, – половина деталей исчезла без следа. В числе прочего испарились и тормозные шланги…
– Которые являются наиболее уязвимой частью поименованной системы, – подсказал Юрий. – Да, выглядит поганенько. И никакой определенности: может, их изъяли, чтобы скрыть надрез, а может, просто прикарманили.
– Вот то-то и оно. Поэтому я и решил повнимательнее присмотреться к этому Горчакову – в конце концов, он, единственный во всем городе, имел отличную возможность спокойно, не торопясь, поковыряться в тормозах камышевского джипа – машина-то стояла в его гараже!
– И? – спросил Юрий, ставя перед генералом курящуюся ароматным паром чашку.
Забыв о своем недавнем категорическом отказе от кофе, Ростислав Гаврилович взял чашку, понюхал, подул на нее, а затем шумно, с видимым удовольствием отхлебнул.
– Да ничего, – сказал он, утирая губы салфеткой. – Я же говорю, забудь. Просто, присматриваясь к Горчакову, я мимоходом присмотрелся и к возглавляемому им заводу.
– Оборонный комплекс, – с понимающим видом кивнул Якушев, ставя на стол вторую чашку и присаживаясь напротив генерала.
– Дело даже не в этом, – сказал тот. – Выиграть тендер на разработку какой-нибудь электронной козявки, которую потом впаяют в танковый прицел или в подштанники с электроподогревом для высшего командного состава, в наше время теоретически может любая шарашка. Дело, брат, в том, что «Точмаш» – предприятие с историей, и тем, чем занимаются сейчас, там занимались еще при Хрущеве.
– Да ладно! – не поверил Юрий. – В такой-то дыре?!
– Если мне не изменяет память, атомную бомбу собирали тоже не в Кремлевском Дворце съездов, и Гагарин не с Красной площади стартовал. Дыра дыре рознь, да и секретность соблюсти в таком населенном пункте, согласись, легче. Стоит себе радиозаводик, выпускает какие-то приемники и портативные радиотелефоны. Радиотелефоны, ясно, не для широких масс – в тогдашние-то времена! – а для армии, отсюда, стало быть, и секретность… В общем, все шито-крыто, как это было заведено в Союзе.
– А на самом деле?
– А на самом деле, сынок, люди там работали очень серьезные, настоящий цвет отечественной науки, и занимались они очень и очень серьезными проектами, сплошь и рядом совершенно секретными. Ну а потом началось: Горбачев, перестройка, путч, развал Союза, лихие девяностые… В те годы, считай, вся оборонка, чтобы не загнуться с голодухи, перешла на изготовление утюгов и кастрюль. Помнишь это импортное словечко – «конверсия»? Анекдотов на эту тему ходила масса, и я как ветеран компетентных органов могу с полной ответственностью тебе заявить, что добрая половина этих анекдотов изначально таковыми вовсе не являлась.
– Как, собственно, и любых других, – поддакнул поверх чашки Якушев.
– Возможно. Даже, пожалуй, наверняка. Люди иногда такое учудят, что никакому писателю-сатирику и за год не придумать. В общем, всесоюзное НПО «Гранат», структурным подразделением которого являлся «Точмаш» с филиалом в Мокшанске, развалилось, заказов не стало, и мокшанский заводик пытался выжить, как все. Какая-то умная голова разработала дизайн и конструкцию ширпотребовского радиоприемника, наладили массовый выпуск… Приемники, к слову, были очень неплохие, знающие люди, по слухам, до сих пор за ними охотятся: предприятие-то оборонное, так что ловили эти машинки все подряд, на любых волнах и в любых диапазонах, не то что нынешние бормоталки. Хочешь – «Голос Америки» слушай, а хочешь – о чем корабли в океане морзянкой перестукиваются… А в тогдашние времена тотального дефицита приемники эти расхватывали, как горячие пирожки в вокзальном буфете. Но это к делу не относится, выжили и выжили – не растащили оборудование по домам, не распродали, сохранили все до последнего мотка проволоки, честь им за это и хвала.
– Да, – сказал Якушев, – удивительно. Прямо сказка какая-то…
– Сказка, – со странной интонацией повторил генерал. – Да нет, сынок, не сказка. Просто объект был режимный, а тогдашний начальник режима – или, как нынче выражаются, шеф секьюрити, – оказался мужиком въедливым, старой закалки, с принципами. А главное, с головой: понял, что под шумок на барахолку может перекочевать не только ценное оборудование, но и кое-какие разработки, которые способны существенно повлиять на обороноспособность страны. Тогда это мало кого волновало – даже в Кремле и на Лубянке, не говоря уже о Мокшанске, – но, как говорится, не перевелись еще богатыри на земле русской: человек, о котором я тебе толкую, запер спецчасть на три замка, положил ключи в карман и объявил во всеуслышание: дудки! Только через мой труп. Идите, говорит, пока суд да дело, конверсией своей занимайтесь. И табельный «парабеллум» в руке.
– Они и пошли, – догадался Якушев.
– А то как же! Интеллигентные ведь люди, инженеры-электроники, не десантура какая-нибудь – куда им против «парабеллума»?
– Наш человек, – одобрил поведение незнакомого ему начальника режима Якушев. – Жив он, не знаете?
– Умер два месяца назад в районном доме престарелых, – сообщил генерал Алексеев. – Там, у себя… Но встретиться я с ним успел…
– Встретиться? Вы?
– Ну да. – Темные очки по-прежнему скрывали глаза генерала, но Юрию почему-то показалось, что Ростислав Гаврилович смущенно отвел взгляд. – Видишь ли, эта история меня как-то заинтересовала, что ли… К тому времени я уже понял, что подозрения в адрес Горчакова безосновательны, но… А черт, что я перед тобой оправдываюсь! Имею я право на простое человеческое любопытство или нет?
– Конечно, имеете, – кротко подтвердил Юрий. – Только мне почему-то всегда казалось, что простое человеческое любопытство в сфере секретных военных разработок называется как-то иначе, намного короче, а главное, точнее… Слово забыл, иностранное какое-то – часом, не шпионаж?
– Идиот, – тоном констатации произнес генерал.
– Нет, – с самым серьезным и вдумчивым видом возразил Якушев, – идиот – это то ли из медицины, то ли из литературы – Достоевский, помните? А тут что-то другое… Эпатаж?.. Декупаж?.. Пилотаж?.. Да нет, точно – шпионаж! На кого работаете, гражданин?
– Не заставляй меня жалеть, что обратился к тебе, а не послал туда роту спецназа, – ровным голосом попросил Ростислав Гаврилович. – Время идет, а там, между прочим, живые люди. И не только. Тот человек, Агеев была его фамилия, проработал на «Точмаше» аж до две тысячи седьмого года. К тому времени предприятие уже снова прочно встало на ноги и, хотя перешло в собственность акционеров, опять занялось разработками в сфере высоких, в том числе и оборонных, технологий. Очень многое из того, что сегодня летает, плавает, ездит, стоит на боевом дежурстве, стреляет по удаленным целям и вертится на орбите, хотя бы отчасти начинено их электроникой. Так вот, Агеев утверждал, что хранящийся в спецчасти архив остался в полной неприкосновенности. А в архиве этом, по его словам, лежали некоторые проекты и разработки, на десятилетия опередившие свое время. Тогда, в середине восьмидесятых, просто не существовало технологий, с помощью которых их можно было бы воплотить…
– А теперь эти технологии появились, – кивнув, закончил за него Юрий. – То-то же я удивляюсь: что это еще за рейдерский захват оборонного предприятия? Кто это, думаю, вздумал с Министерством обороны бодаться? Кому это до такой степени жить надоело?
– Зришь в корень, – слегка перефразировав Козьму Пруткова, похвалил генерал. – Никакой это не рейдерский захват, а самый обыкновенный бандитский налет, предпринятый с целью наложить лапу на одну из разработок – возможно, старых, а возможно, свеженьких, с пылу, с жару. Короче! Поскольку мы с тобой обсудили и отбросили все нежизнеспособные версии, совместно обмозговали имеющуюся информацию и пришли к общему мнению, я с твоего позволения перейду непосредственно к фактам. Сегодня утром, примерно за полчаса до начала рабочего дня, мокшанский филиал «Точмаша» был захвачен неизвестными людьми – полагаю, вооруженными, но точная информация на этот счет отсутствует. Директор предприятия, известный тебе господин Горчаков, как обычно, прибыл на работу заблаговременно. Он успел позвонить жене и крикнуть, что завод – цитирую – захвачен рейдерами. После чего связь прервалась, и все попытки мадам Горчаковой перезвонить мужу остались безрезультатными. Она позвонила в полицию, где ей пообещали во всем разобраться, а затем, видимо, не очень-то поверив обещанию, – мне. Я оставил ей свою визитку еще тогда, в феврале, и вот, как видишь, пригодилось…
– Не понимаю, – сказал Юрий, толчком отодвинув чашку с кофе, который вдруг сделался безвкусным, отвратительным, как болотная жижа.
– Чего ты не понимаешь?
– Не понимаю, что мы с вами здесь и сейчас делаем. Рейдерский захват – процедура в меру жесткая, но достаточно цивилизованная, без мокрухи. А налет – это налет. Тут возможно все – и трупы, и заложники… А вы рассказываете сказочки про конверсию. Мне. Здесь, у меня на кухне. Вот я и не понимаю: это задание или вам просто захотелось поболтать? Если поболтать, так давайте обсудим что-нибудь более приятное – например, успехи наших олимпийцев в Лондоне. А если вы по делу, то в чем, собственно, оно заключается? Там, действительно, нужна рота спецназа или хотя бы ОМОНа, которая прекрасно со всем справится и разберется без моего участия. Хотя, пока суд да дело – пока все эти звонки, пока вы ехали… Полагаю, если они пришли за чем-то конкретным, то эта вещь уже у них, а их самих давно и след простыл.
– Видишь ли, сынок… – Судя по тону, его превосходительство пребывал в явном, хотя и решительно непонятном Юрию затруднении. – Мой первый позыв был именно таким: позвонить в местное управление и поставить там всех на уши, чтобы через четверть часа завод был взят в плотное кольцо, через которое муха не пролетит. И я бы наверняка поступил именно так, если бы не два маленьких «но». Первое: Горчакова первым делом позвонила в полицию, и меры, о которых я только что говорил, по идее, уже приняты. А второе – эта мутная история с Камышевым. Там все, вроде бы, гладко, но сомнения, как ты сам заметил, все равно остаются. Что-то не срастается, причем не срастается именно в материалах расследования – слишком уж складно у них получается, а все сомнения и противоречия, даже самые очевидные, побоку. Да, менты – и в Африке менты, а уж в нашей глубинке и подавно. Но я лично просил человека с очень крупными звездами на погонах, работающего в центральном аппарате МВД, разобраться что к чему. И он мне это твердо обещал. А воз и ныне там – оснований для возбуждения уголовного дела, видишь ли, нет. Возможно, я просто старый параноик. Но, если в этом деле хоть каким-то боком замазаны органы, первый же мой звонок, первое движение в том направлении вызовет цепную реакцию: они начнут заметать следы, и первыми жертвами станут заложники. А это, как я подозреваю, Горчаков и его семья – если ты не забыл, родственники Камыша, его сестра, племянница и зять. Нам с тобой, русским офицерам, достаточно того, что они граждане России. Но они еще и близкие Николая, и рисковать их жизнями я не вправе. Звучит высокопарно, не спорю, но что есть, то есть. Возможно, мы уже опоздали, возможно, все уже кончилось – более или менее скверно, но кончилось. Наверняка я знаю одно: тридцать пять минут назад рейдеры еще были на территории завода. Захват произошел больше двух часов назад – более чем достаточно, чтобы взять, что надо, и тихо уйти. Но я пробовал звонить туда из уличного таксофона. Ни один из телефонных номеров «Точмаша» не отвечает, и это вселяет некоторую надежду: похоже, они все еще там – ищут и никак не могут найти то, за чем пришли.
– Я понял, – сказал Юрий, залпом допил кофе и встал.
– Задание выслушаешь? – спросил Ростислав Гаврилович, глядя на него снизу вверх сквозь темные стекла очков.
– Не-а, – отмахнулся Якушев. – Чего там слушать? Заложники – это раз, архив спецчасти – это два. Приоритеты, извините, расставлю на месте, когда и если узнаю, о чем, конкретно, идет речь. Разрешите выполнять?
– Оденься, – второй раз за утро посоветовал Ростислав Гаврилович.
Якушев быстрым шагом вышел из кухни, тихонько напевая: «Десантник – это боевой патрон, десантник крепче стали и гранита…» Ростислав Гаврилович запоздало спохватился, что забыл отчитать этого философа с музыкальным уклоном за злостное нарушение субординации и пререкания со старшим по званию, но лишь пожал плечами и закурил очередную сигарету: на свете есть вещи, ценность которых заключается именно в том, что они никогда не меняются.
* * *
Без шума и пыли – именно так, помнится, сформулировал стоящую перед подполковником Сарайкиным задачу командир рейдеров, который на поверку оказался обыкновенным главарем шайки налетчиков.
То есть, разумеется, не совсем обыкновенным. Подполковник очень хорошо помнил звонок из областного управления – тогда, в феврале, когда стараниями патрульных и оперативников майора Маланьи приключилась эта глупая история с генералом Камышевым. В том телефонном разговоре упоминались какие-то очень серьезные люди из самой Москвы, интересующиеся «Точмашем». Следовательно, ноги у сегодняшнего приключения росли из такого места, до которого Анатолий Павлович не мог допрыгнуть, даже взяв очень солидный разбег.
И тем не менее, подполковник Сарайкин не испытывал ярко выраженного стремления слепо, без рассуждений, выполнять приказы этого надменного убийцы с генеральскими замашками. Пиетет перед начальством – это, конечно, хорошо, но и свою голову на плечах надобно иметь. Начальство – то самое, которое по телефону усиленно рекомендовало делать, что скажут, и не выступать с сольными номерами, – может, и знать не знает, и ведать не ведает, что тут творится, кого оно, не подумавши, впустило на подведомственную ему территорию. А если и знает, что с того? Дело большого начальства – стратегическое планирование, а тактикой, сиречь воплощением этих планов, всегда приходится заниматься рядовым работникам на местах.
И, кроме того, кто о тебе, подполковнике из захолустного городишки, позаботится, если не ты сам? Без шума и пыли… Ха! Провернуть порученное дело без шума и пыли – пара пустяков. Надеваешь форму, звонишь в дверь и говоришь: «Здравствуйте, Валентина Ивановна. Тут такое дело… Надо бы вам с нами проехать». Она, само собой, спрашивает: куда? Да на завод же, к супругу вашему, Михал Васильичу. Вы не волнуйтесь, с ним все в порядке, просто ситуация требует его присутствия, а он срочно хочет вас видеть – говорит, что должен лично передать что-то важное, но, по-моему, просто соскучился… Нет-нет, и дочка тоже. Давайте, Мариночка, я вам помогу – вот сюда, сюда ручку давай, вот он, рукавчик… Пусть повидаются, убедятся, что оба целы и невредимы, обнимутся, что ли… Это ж такое дело, что я просто не знаю… Рейдеры. У нас! В Мокшанске-то! Ай-ай-ай, что творится, куда мир катится, подумать страшно!..
И все. Ни шума, ни пыли – все, как говорится, по доброй воле, при полном обоюдном согласии сторон: сели в машину и поехали.
Ну, а дальше-то что? Дальше – допросы, пытки, а в не столь уж отдаленной перспективе – пистолет, который этот упырь таскает на брюхе, как какой-то пальцем деланный штандартенфюрер. И хорошо, если так. А ну как выживет которая? Выживет и скажет где надо: это Сарайкин, мол, рейдеров на завод привел, это он, оборотень в погонах, нас в заложники взял – ату его, гражданин следователь, фас! Защитит его тогда высокое областное начальство? Да как же, разбежались! Сапогом на голову наступят и втопчут поглубже в дерьмо, чтобы о том телефонном звонке даже пробулькать не успел.
В общем-то, подполковник Сарайкин был не настолько туп, чтобы не понимать: без шума и пыли – это не обязательно в форме, с использованием авторитета представителя закона, о котором (в смысле, об авторитете) подавляющее большинство россиян вспоминает, только попав в беду. Не в пользу подполковника говорит только тот факт, что он предавался размышлениям на эту тему добрых десять минут.
Однако принятое в результате этих тягостных раздумий решение было правильным, и через полчаса после разговора в разгромленной, залитой кровью лаборатории «Точмаша» перед воротами дома Горчаковых в заречном коттеджном поселке, который в городе по старинке именовался Выселками, остановился потрепанный грузовой микроавтобус с густо, до полной невозможности что-либо разобрать, залепленными грязью и запорошенными пылью номерными знаками.
Планируя не шибко сложную операцию по захвату заложников, подполковник Сарайкин учел все, что только мог. Но все, что мог – это не совсем все, кое-какие вещи и явления учету просто не поддаются.