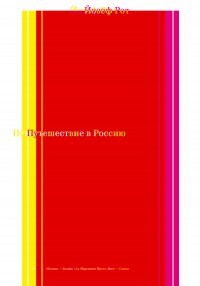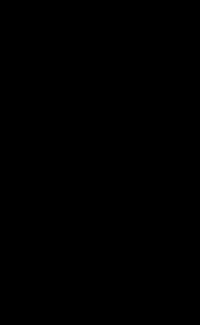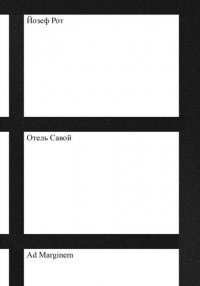
Читать онлайн Отель «Савой» бесплатно
- Все книги автора: Йозеф Рот
Joseph Roth
Hotel Savoy
В книге использованы фотографии из серии «Отель. Комната 47» (1981) Софи Калль
Перевод: Герман Генкель
© К. Митрошенков, предисловие, 2024
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012, 2024
Предисловие
Йозеф Рот (1894–1939) провел почти всю свою взрослую жизнь в отелях. В 1920-е и 1930-е годы он в качестве корреспондента Frankfurter Zeitung и других немецких изданий объездил бо́льшую часть Европы, побывав во Франции, Италии, Югославии, Польше, СССР и других странах. Рот был одним из самых востребованных журналистов Веймарской республики и получал баснословные по тем временам гонорары – дойчмарку за строчку[1]. За столиками гостиничных номеров он сочинял не только кормившие его фельетоны, но и многие свои романы. В их числе и «Отель „Савой“», опубликованный в 1924 году, когда Рот только начинал писательскую карьеру.
Как и многие другие произведения Рота 1920-х годов, «Отель „Савой“» рассказывает о солдатах, возвращающихся домой после Первой мировой войны. Гавриил Дан приезжает в неназванный город (исследователи предполагают, что прототипом ему послужила польская Лодзь) и останавливается в отеле. Он провел несколько лет в русском плену[2] и теперь вместе с другими военнопленными пытается добраться до дома. Отель «Савой» – лишь одна из остановок в путешествии Дана, но события развиваются таким образом, что он проводит в нем гораздо больше времени, чем изначально планировал. Герой влюбляется в одну из постоялиц, оказывается замешан в сложных внутриотельных интригах, встречает старого армейского товарища и наблюдает за забастовкой рабочих, которая выливается в вооруженный конфликт.
Дан воспринимает пребывание в отеле как возможность «скинуть с себя прежний образ жизни» и начать с чистого листа. Этому способствует сам характер жизни в гостинице, где легко выдать себя за другого человека. Постояльцы могут беседовать в лифте, делить обеденный стол и неделями жить в соседних номерах, оставаясь, по сути, незнакомцами. В исследовании, посвященном репрезентации отелей в английской литературе XX века, Эмма Шорт называет отели «по-настоящему модерными пространствами»[3]. С одной стороны, они олицетворяют собой мобильность и постоянную изменчивость, а с другой – неизбывную бездомность, характерную для мира модерна, где «дом – это всегда нечто временное», как сформулировал Эдвард Саид в «Размышлениях об изгнании»[4]. Отели служат перевалочными пунктами на долгом, потенциально бесконечном пути, в котором находится модерный субъект.
В отеле «Савой» живут такие же странники, как и Дан. Стася, в которую он влюбляется, танцует перед посетителями варьете и мечтает покинуть захудалый город. Санчин, живущий вместе с семьей на одном этаже со Стасей, работает клоуном в местном цирке. Гирш Фиш, к которому герои идут за чаем, зарабатывает на жизнь тем, что угадывает выигрышные номера лотерейных билетов – они якобы являются ему во сне. Звонимир, бывший сослуживец Дана, оказывается в городке проездом и решает возглавить восстание рабочих. Все они не планировали надолго останавливаться в отеле, но судьба распорядилась иначе. Как говорит один из персонажей романа, «случай играет с человеком».
Столь же случайный характер носят и связи между постояльцами отеля. Они хоть и проводят много времени в компании друг друга, но не могут установить устойчивые отношения. Особенно это заметно в случае Дана, главного героя и рассказчика. После сближения со Стасей, которая явно отвечает ему взаимностью, он начинает избегать ее, словно опасаясь, что их общение перерастет во что-то более серьезное. Дана вполне можно назвать «человеком без свойств». Он примеряет на себя разные маски и легко находит общий язык как с нищими циркачами, так и с американским миллиардером Бломфильдом, однако в конечном счете остается всем им чужим. Герой болезненно воспринимает эту отчужденность, тесно связанную с невозможностью полностью принять и осмыслить собственный опыт. «Я сам не знаю, что я такое. Раньше я собирался стать писателем, но пришлось пойти на войну, и мне кажется, что теперь писать бесцельно. Я человек одинокий и не могу писать за всех», – так он характеризует себя во время первого разговора со Стасей. В другом месте Дан обращает внимание на свою странную бесчувственность, когда вспоминает о времени, проведенном на фронте: «Я человек холодный. На войне я не чувствовал своей солидарности с товарищами по отделению. Все мы валялись в одной и той же грязи, и все ждали одинаковой смерти. Я же мог думать только о своей собственной жизни и о своей собственной смерти. Холодный и бессердечный, я шагал по трупам, и порой мне было тяжело, что я не ощущаю боли при этом».
Дан переживает то, что Вальтер Беньямин назвал «оскудением опыта». Говоря о солдатах, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны, критик замечает, что они «вернулись домой не обогатившимися, а обедневшими по части опыта, который можно передать другим»[5]. В знаменитом эссе «Рассказчик» (1936) Беньямин размышляет о том, как это оскудение связано с кризисом, который в XX веке переживает жанр устного рассказа[6]. Уже после Второй мировой войны его друг и коллега Теодор Адорно заметил, что в современную эпоху столь же проблематичным стало и положение рассказчика в романе: «Идентичность опыта, непрерывная в себе, и артикулированная жизнь, которая единственно и делает возможной позицию рассказчика, распались. Достаточно уяснить, что уже невозможно, побывав на войне, рассказывать о ней так же, как раньше можно было рассказывать о своих приключениях»[7].
Показательно, что Дан из «Отеля „Савой“» после пребывания на фронте разочаровался в идее писательства, так как понял, что написанное им не будет иметь ценности и значения для других людей. Но сам факт существования романа свидетельствует о том, что Дан всё же счел необходимым рассказать о произошедшем с ним. Впрочем, получившееся в итоге повествование не похоже на то, что мы можем обнаружить в реалистических романах XIX века. Относительную целостность ему придает не фигура главного героя (лишенная как раз всякой целостности), а пространство отеля, где и происходит бо́льшая часть действия романа. Беттина Матиас отмечает, что в произведении Рота отель служит не просто декорацией, но самим условием возможности повествования, которое начинается в тот момент, когда Дан переступает порог «Савоя», и заканчивается после того, как здание отеля оказывается разрушено, а рассказчик снова отправляется в путь[8]. Но функции отеля этим не ограничиваются. Делая его местом действия романа, Рот получает возможность исследовать целый ряд проблем, которые будут занимать его на протяжении всей жизни.
Отель, пишет Елена Шпрайцер, можно рассматривать как модель мультинационального сообщества, особенно с учетом того, что он располагается на постимперской территории. Заведением управляет загадочный грек по фамилии Калегурополос; национальность большинства постояльцев установить невозможно, но среди них, по всей видимости, присутствуют евреи, русские, немцы, поляки и выходцы с Балкан[9]. Для Рота, родившегося и выросшего в Австро-Венгрии, исчезнувшая империя Габсбургов, при всех ее внутренних противоречиях, служила образцом того, как представители разных народов могут на равных существовать в рамках одного госу-дарства. Еврей по происхождению, он с большим беспокойством смотрел на подъем национализма в 1920-е и 1930-е годы, хорошо понимая, к каким катастрофическим последствиям это может привести. В одной из газетных статей этого периода писатель, который только в 1928 году после долгих сражений с бюрократией получил австрийский паспорт, назвал себя «гостиничным патриотом», подчеркивая свое нежелание ассоциироваться с тем или иным националистическим проектом[10].
Однако изображение отеля в романе далеко от идеализации. Вскоре после прибытия Дан начинает понимать, что «Савой» представляет собой модель классового общества в миниатюре. Самые дорогие и комфортные номера расположены на первых этажах; чем выше, тем более невыносимыми становятся жилищные условия. Обитателям последнего, седьмого, этажа приходится соседствовать с прачечной, а в их номерах стоит пар: «Трудно привыкнуть к этому воздуху, который пребывает в постоянном движении, заставляет расплываться очертания, отдает запахом сырости и тепла и превращает людей в какие-то фантастические клубки». В конце первой части романа клоун Санчин, один из жителей седьмого этажа, неожиданно умирает. Причина – болезнь легких.
Современным читателям может показаться странным, что самые дешевые номера находятся на верхних этажах, но у этого есть историческое объяснение. До изобретения лифта стоимость номера была обратно пропорциональна тем усилиям, которые необходимо было затратить, чтобы добраться до него. Такая иерархия этажей, указывает Беттина Матиас, продолжала сохраняться даже после появления лифтов[11]. Стоит заметить, что в «Отеле „Савой“» лифт играет особо важную роль. В отсутствие загадочного хозяина лифт-бой по имени Игнатий становится воплощением невидимой, но вездесущей власти и социального порядка. Он точно знает, на каком именно этаже нужно выйти тому или иному гостю; в его присутствии Дан и Стася испытывают странное стеснение: «Мы не проронили ни слова больше вплоть до тех пор, как очутились с Игнатием в лифте. Тут нам стыдно его контролирующих взоров, и мы начинаем говорить о безразличных пустяках». Как выясняется в конце романа, именно Игнатий был настоящим владельцем отеля.
Некоторые исследователи считают, что лифт в «Отеле „Савой“» служит символом социальной мобильности [12]. В обществе модерна социальные группы больше не разделены непроницаемыми барьерами. При наличии таланта и/или связей любой человек может улучшить свое положение, словно на лифте вознесясь на верхние этажи социальной иерархии. Но, как показывает роман, это впечатление оказывается ложным. Дан может сойтись с членами привилегированных классов (для этого ему нужно совершить обратное движение и спуститься с верхних этажей на нижние), но ему никогда не стать в полной мере своим для них. В отличие от Бломфильда или Александра Белауга, к которому в итоге уходит Стася, у него нет ни собственного состояния, ни родительских денег. Ближе к концу романа Дан начинает понимать это, в нем ненадолго просыпается то, что можно назвать классовым сознанием: «В общении с кем живу я? Я живу в общении с обитателями отеля „Савой“. Мне приходит на ум Александр Белауг. И он теперь живет в „ближайшем соседстве“ со мною, но что у меня было общего с Александром Белаугом? Не с Белаугом у меня оно было, а с покойным Санчиным, задохнувшимся в испарениях прачечной, и со Стасей, и со многими жильцами пятого, шестого и седьмого этажей, со всеми теми, которые дрожали перед инспекторскими визитами Калегуропулоса, которые заложили свои чемоданы и на весь остаток дней своих заперты в этом отеле „Савой“».
В «Отеле „Савой“» можно увидеть влияние социа-листических идей, которыми Рот увлекся еще в юности. Однако, как демонстрирует Кэти Тонкин, политическая позиция писателя была довольно сложной. Рот активно сотрудничал с левыми и леволиберальными изданиями, но его как журналиста и писателя скорее волновала незавидная участь «маленьких людей» в послевоенном мире, нежели масштабные проекты преобразования общества. Более того, в его произведениях 1920-х годов отчетливо прослеживается мысль о том, что «никакая идеология или доктрина не может решить проблемы современности»[13].
В романе неоднократно упоминается Русская революция 1917 года, но изображается она как природное бедствие: «[Возвращенцы] шли из России и несли с собою дыхание великой революции. Казалось, революция изрыгнула их на Запад, подобно извержению лавы из пылающего кратера». В городе идет забастовка рабочих, и назревает то, что в марксистской терминологии называется «революционной ситуацией». Звонимир, друг Дана, занимается агитацией, но делает это не столько из идеологических соображений, сколько «из любви к беспокойной жизни». Когда в городе начинаются столкновения между рабочими и войсками, он пытается играть роль революционного вождя, но оказывается захвачен водоворотом событий и пропадает без вести – вероятно, погибает в одной из стычек. Дан не принимает участия в происходящем, наблюдая за разгулом стихии со стороны.
Майкл Хофманн, переводчик Рота на английский, заметил однажды, что центральное действующее лицо во всех его романах – это «судьба, а точнее die Fügung – слово, которое в немецком языке также может означать „послушание“ или „подчинение“. [Его] персонажи послушны и покорны, они даже не пытаются повлиять на происходящее или избежать того, что готовит для них будущее»[14]. Иными словами, в романах Рота в нарративной форме представлена характерная для XX века философия истории, согласно которой человек вовсе не творит свою судьбу, а подчиняется тому, что не в силах изменить.
В «Отеле „Савой“» таким неизбежным событием оказывается не только революция, но и война, которая также выведена за рамки повествования, но незримо присутствует в нем. Не только рассказчик, но и большинство мужских персонажей романа имеют военный опыт, который постоянно дает о себе знать. Звук автомобильного двигателя напоминает Дану об авианалетах, а прибытие богача Бломфильда он сравнивает с появлением «инспектирующего генерала»: «Бессознательно я подтянулся, выпрямился и стал ждать». Упоминания войны в романе не сопровождаются никакими дополнительными пояснениями о противоборствующих сторонах, хронологических рамках или причинах конфликта – не только потому, что в начале 1920-х годов для европейцев существовала только одна война, но и потому, что она воспринимается рассказчиком как стихийное бедствие наподобие урагана или наводнения, которое закончилось, но вполне может повториться: «Многие, у кого не было денег на отель „Савой“, устроились в бараках. Казалось, должна была начаться новая война».
Майкл Хофманн пишет, что в «Отеле „Савой“», впервые опубликованном по частям в Frankfurter Zeitung, заметно влияние журналистской практики Рота. Он относит его к числу «газетных романов» и отмечает, что при наличии множества хорошо проработанных эпизодов и ярких деталей ему не хватает четкой структуры[15]. Действительно, повествование в «Отеле „Савой“» фрагментировано, а некоторые сюжетные линии неожиданно обрываются. Например, если первая часть романа в основном строится вокруг взаимоотношений Дана со Стасей, то во второй части девушка исчезает из поля зрения, чтобы без всяких пояснений вернуться в заключительных главах. Последующие произведения Рота имеют гораздо более стройную нарративную структуру. Отчасти это связано с тем, что он просто-напросто набрался литературного опыта, но, как считают некоторые исследователи, свою роль также сыграли отход писателя от модернистской эстетики и обращение к реалистической манере письма.
В творчестве Рота обычно выделяют два этапа: 1920-е, характеризующиеся формальными экспериментами и интересом к социалистическим идеям, и 1930-е, когда писатель стал более консервативным как в эстетическом, так и в политическом отношении, и в основном сосредоточился на изображении исчезнувшей империи Габсбургов. Однако, как доказывает Кэти Тонкин, между двумя этими периодами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Произведения Рота разных лет в первую очередь объединяет внимание к политическим вопросам. Но если в 1920-е он писал о современности, то в 1930-е обратился к истории в попытке «понять и выявить истоки актуальных социальных и политических проблем»[16]. Именно к этому периоду относится, пожалуй, самое знаменитое произведение Рота – исторический роман «Марш Радецкого», рассказывающий о последних десятилетиях существования Австро-Венгрии через призму личной драмы трех поколений семьи фон Тротта.
В «Отеле „Савой“» тоже можно обнаружить отдельные черты исторического романа. Произведение Рота рассказывает о настоящем, но демонстрирует историческое мышление, которое Георг Лукач называл отличительной особенностью жанра. «Отель „Савой“» описывает последствия сразу нескольких важнейших событий XX века – Первой мировой войны, Русской революции, распада Австро-Венгрии – и их влияние на жизнь людей, неожиданно для себя оказавшихся под колесами истории. Говоря словами всё того же Лукача, Рот занимается «историзированным изображением современности»[17], постигая ее как результат социальных и политических процессов, уходящих корнями в прошлое и имеющих колоссальные последствия для будущего. Правда, в случае Рота эти процессы преподносятся как неподвластные отдельному человеку, что и объясняет странную пассивность его персонажей, о которой говорит Хофманн.
Роман заканчивается тем, что Дан снова отправляется в путь, на этот раз в Америку. Для него это не столько реальный континент, сколько собирательный образ далеких земель. Кроме того, «Америка!» – это любимое восклицание его без вести пропавшего друга Звонимира, которым тот сопровождал любое удачное предприятие. Бегство без конца, если процитировать название другого произведения Рота 1920-х годов, продолжается.
Таким же бегством была и дальнейшая жизнь писателя. Сразу после прихода нацистов к власти он навсегда покинул Германию. На следующие шесть лет его основными пристанищами стали парижские гостиницы, где он попеременно писал романы и газетные статьи. Рот, одним из первых осознавший всю опасность нацизма, беспомощно наблюдал за тем, как Европа приближается к новой войне[18]. Он скончался 27 мая 1939 года, вскоре после того как узнал, что его друг, писатель-антифашист Эрнст Толлер, покончил с собой в отеле «Мэйфлауэр» в Нью-Йорке.
Константин Митрошенков
Книга первая
I
Я прибываю в десять часов утра в отель «Савой», решив тут отдохнуть несколько дней или неделю. В этом городе живут у меня родственники – мои родители были русские евреи. Мне хочется раздобыть тут денег, чтобы продолжить свой путь на Запад.
Я возвращаюсь восвояси после трехлетнего пребывания в плену. Я жил в сибирском лагере для военнопленных и миновал ряд русских деревень и городов, где исполнял обязанности рабочего, поденщика, ночного сторожа, носильщика и подручного пекаря.
На мне русская рубаха, кем-то мне подаренная, короткие брюки, доставшиеся по наследству от умершего товарища, и сапоги, всё еще годные, хотя сам я уже не помню их происхождения.
Впервые после пятилетнего перерыва я вновь на пороге Европы.
Более европейским, чем все прочие гостиницы восточной части города, представляется мне отель «Савой», семиэтажная громада с золотою вывескою и ливрейным швейцаром. Гостиница эта сулит воду, мыло, английский клозет, лифт; горничных в белых наколках; радостно блестящие урыльники, подобные чудным сюрпризам в своих шкапчиках из темной фанеры; электрические лампочки, расцветающие за розовыми и зелеными абажурами, подобно чашечкам цветов; резко звучащие звонки, послушные нажиму пальца, и кровати с перинами, эластичные и мягкие, готовые принять мое тело в свои объятия.
Мне радостно, что я могу снова скинуть с себя старый образ жизни, как это уже столь часто случалось за последние годы. Я мысленно вижу солдата, убийцу, почти убитого, воскресшего, заключенного, странника.
Мне рисуется утренний туман, слышится бой барабанов марширующей воинской части, дребезжание раскрывающихся окон верхнего этажа; я вижу мужчину в белой рубашке, без сюртука, вижу подергивание солдат, вижу сверкающую росою лесную поляну; я бросаюсь на траву перед «фиктивным неприятелем» и чувствую чисто животное желание остаться здесь лежать, лежать вечно, на бархатной траве, нежно ласкающей мой нос.
Я слышу тишину больничной палаты, белую тишину. В одно летнее утро я встаю со своей койки, слышу трели звонких жаворонков, ощущаю вкус утреннего какао с белым хлебом, намазанным маслом, и запах йодоформа в стадии «первой диеты».
Я обитаю в белом мире, сплошь состоящем из неба и снега. Бараки, наподобие желтой проказы, покрывают почву. Я смакую последнюю сладкую затяжку из где-то подобранного окурка сигары, читаю страницу объявлений устарелой отечественной газеты, повторяя про себя хорошо известные названия улиц, узнавая знакомого торговца всякою всячиною, вспоминая о швейцаре, о блондинке Агнессе, с которою провел ночь.
Я слышу шум приятного дождя во время ночи, проведенной без сна, вижу быстро тающие на улыбающемся утреннем солнце ледяные сосульки, мыс-ленно хватаю могучие груди женщины, встреченной по пути и брошенной на покрытую мхом землю, вспоминаю белую роскошь ее членов. Я сплю одуряющим сном на сеновале, в сарае. Я шагаю по взрытым полям и прислушиваюсь к жидким звукам какой-то балалайки.
Столь многое может впитать в себя человек и при всём том остаться неизмененным физически, сохранившим прежнюю походку и осанку. Пить из миллионов сосудов, никогда не насытиться, сверкать, подобно радуге, всеми цветами и тем не менее оставаться прежнею радугою с одинаковой шкалою красок…
Я мог явиться в отель «Савой» с одною рубашкою и покинуть его в качестве владельца двадцати чемоданов, оставаясь неизменным Гавриилом Даном. Быть может, эта пришедшая мне на ум мысль и придала мне столько самонадеянности, гордости и повелительности во внешности и в обращении, что швейцар кланяется мне, бедному страннику в русской блузе, а мальчик-рассыльный услужливо застывает в ожидании моих распоряжений, хотя у меня и нет никакого багажа.
Я вхожу в лифт: стены его украшены зеркалами; прислужник, человек пожилой, пропускает прово-лочный канат, хватаясь за него руками; кабина поднимается со мною ввысь; я парю в воздухе – и мне кажется, что полет мой продолжится еще порядочное время. Я наслаждаюсь этим скользящим вверх движением. При этом я думаю о том, на сколько сту-пеней мне пришлось бы с трудом взбираться, если бы я не стоял сейчас в этом роскошном лифте. Тут я мысленно отшвыриваю всю свою горечь, бедность, все свои странствования бездомного скитальца, свой голод и нищенское прошлое вниз, глубоко в пропасть, откуда они меня, вздымающегося всё выше и выше, уже никогда больше не настигнут.
Моя комната – я выбрал одну из наиболее дешевых – расположена на шестом этаже и помечена номером 703. Число это мне нравится – я суеверен на числа; нуль посредине похож на даму, которую сопровождают более пожилой и молодой кавалеры. Постель покрыта одеялом желтого цвета. Слава богу, что не серым: оно напоминало бы военную службу. Я несколько раз включаю и выключаю свет, раскрываю дверцы ночного шкафчика, матрац подается под нажимом руки и эластичен, в графине сверкает вода, окно выходит на задние дворы, на которых весело развевается пестрое белье, кричат дети, прохаживаются куры.
Умывшись, я медленно проскальзываю в постель, всласть наслаждаясь каждою секундою. Я раскрыл окно; куры болтают громко и весело, но их болтовня напоминает сладкую снотворную музыку.
Без сновидений я сплю целый день.
II
Позднее солнце окрашивало багрянцем верхние окна противоположного дома. Белье, куры, дети исчезли со двора.
Утром, когда я прибыл, шел небольшой дождик. Так как с того времени погода прояснилась, то мне казалось, что я проспал не один день, а целых три. Моей усталости как не бывало. Сердце мое охватило радостное настроение. Я жаждал познакомиться с городом, с новою жизнью. Моя комната казалась мне такою близкою, как если бы я уже долго проживал в ней; звонок, кнопка, электрический штепсель, зеленый абажур на лампе, платяной шкаф, умывальник – представлялись мне старыми знакомыми. Всё было уютно-родным, как в комнате, где провел свое детство, всё успокаивало и излучало тепло, как бывает после дорогой встречи.
Новым был лишь плакат на дверях. Там стояло:
«Просим о соблюдении тишины после десяти часов вечера. За пропажу драгоценностей ответственности не несем. В доме имеется сейф.
С почтением,
Калегуропулос, хозяин гостиницы».
Имя это было чужое, греческое. Мне захотелось просклонять его: Калегуропулос. Калегуропулу, Калегуропуло – мне пришлось подавить в себе слабое воспоминание о неуютных школьных часах, об учителе греческого языка, восставшем в моей памяти в темно-зеленом пиджачке, как фигура, давно за минувшие годы забытая. Потом я решил прогу-ляться по городу, быть может, посетить кого-либо из родных, если для этого останется время, и пожуировать, если данный вечер и этот город предоставят соответствующую возможность.
Я иду по коридору в направлении к главной лестнице. И меня радуют прекрасный таметный пол этого коридора, красноватая чистота отдельных плиток, эхо моих твердых шагов.
Медленно спускаюсь с лестницы. Из нижних этажей до меня долетает звук голосов. Здесь, наверху, тихо, все двери замкнуты; как в старинном монастыре, проходишь мимо келий молящихся монахов. Пятый этаж точь-в-точь такой же, как и шестой; тут легко ошибиться; как там, так и здесь напротив лестницы повешены большие часы, только ход их не точен: часы шестого этажа показывают десять минут восьмого, на часах пятого – ровно семь, а на четвертом этаже – без десяти минут семь.
Плиты таметного пола в коридоре третьего этажа покрыты темно-красным с зеленою каймою ковром, так что уже не слышишь своих шагов. Номера комнат здесь не намалеваны на самих дверях, но обозначены на овальных фарфоровых дощечках. Навстречу попадается горничная с метелкой из перьев и корзиною для бумаги; по-видимому, тут обращается больше внимания на чистоту. Здесь проживают богачи, и хитрец Калегуропулос нарочно дает отставать часам, потому что богачи располагают временем.
На первом этаже обе створки одной из дверей широко распахнуты.
Это была большая комната в два окна; там виднелись две кровати, два шкафа, зеленый плюшевый диван, темно-коричневая изразцовая печь и специальная подставка для багажа. На дверях не видно было объявления Калегуропулоса: быть может, квартирантам этого этажа было предоставлено право шуметь после десяти часов; быть может, пред ними отвечали «за пропажу драгоценностей»; быть может, им уже было известно о сейфах или Калегуропулос лично сообщал им об этом?
Из одной из соседних комнат шумно вышла женщина, надушенная и в сером боа из перьев. «Это – дама», – говорю я самому себе и спускаюсь, непосредственно за нею, по немногим ступенькам, весело рассматривая ее маленькие лакированные сапожки. Дама на минуту задерживается около швейцара; я одновременно с нею достигаю выходных дверей. Швейцар низко кланяется, и мне лестно думать, что швейцар, быть может, принимает меня за спутника этой богатой дамы.
Не имея в виду определенного направления, я решил пойти вслед за этой особой.
Из узкого переулка, в котором находилась гостиница, она повернула направо. Передо мною лежала широкая площадь рынка. Был, вероятно, базарный день: на булыжной мостовой валялись в беспорядке сено и отруби. Как раз в это время запирались магазины. Раздавался стук ключей и лязг цепей; разносчики отправлялись домой со своими маленькими тележками, а женщины в пестрых головных платках, осторожно держа перед своими животами полные горшки, проходили, спеша, мимо меня; на руках их висели переполненные базарные мешки, из которых выглядывали деревянные кухонные ложки. Малочисленные фонари серебристым светом оделяли сумерки; на тротуарах началось гулянье, мужчины в форме и штатском размахивали изящными тросточками, и клубы русских духов повсюду то разносились, то исчезали. Со стороны вокзала плелись экипажи с горами наваленного багажа и закутанными пассажирами. Мостовая была плоха, имела выбоины и внезапные провалы; на поперечных местах были положены гниющие доски, изумительно трещавшие.
И всё-таки вечером город казался приветливее, чем днем. Утром он имел серый вид. Угольная пыль и чад близких фабрик заволакивали его, на углах улиц корчились грязные нищие, а в узких переулочках виднелись нечистоты и ведра с навозом. Темнота же скрывала всё: грязь, порок, заразу и бедность, скрывала милостиво, по-матерински, всепрощающе, всепокрывающе.
Дома, на самом деле только непрочные и попорченные, кажутся в темноте призрачными и таинственными, имеющими произвольную архитектуру. Покосившиеся мезонины мягко врастают во мглу, бедноватый свет таинственно мерцает в потускневших оконных стеклах, а в двух шагах, рядом, потоки света льются из огромных, в рост человека, витрин кондитерской, в зеркалах отражаются хрусталь и люстры, ангелы в нежно склоненных позах витают на разрисованном потолке. Это – кондитерская тех богачей, которые в этом городе добывают и тратят деньги.
Сюда именно прошла дама. Я не последовал за нею, соображая, что денег моих мне должно хватить на порядочное время, раньше, чем я смогу отсюда уехать.
Я продолжал свою прогулку, видел темные группы юрких евреев в лапсердаках, слышал громкое бормотанье, взаимные приветствия, гневные слова и длинные речи: пух и перо, проценты, хмель, сталь, апельсины – так и носились в воздухе, брошенные устами, направленные в уши. Какие-то мужчины с подозрительными взглядами и резиновыми воротничками были, по-видимому, полицейскими. Я машинально схватился за карман на груди, где лежал мой паспорт, и сделал это столь же непроизвольно, как хватался за козырек фуражки в бытность мою солдатом, когда вблизи появлялось начальство. Я возвращался из плена, бумаги мои были в порядке, опасаться мне было нечего.
Я подошел к городовому и спросил его, где улица Гибкая. Там жили мои родные, богатый дядя Феб Белауг. Городовой понимал по-немецки, многие тут говорили по-немецки: немецкие фабриканты, инженеры и купцы доминировали в обществе, деловой жизни и промышленности города.
Мне пришлось идти десять минут и размышлять о Фебе Белауге, о котором отец мой в венском Леопольдштадте всегда отзывался с завистью и ненавистью, возвращаясь домой утомленный и подавленный после сбора платежей в рассрочку.
Мне пришлось идти минут десять и размышлять о Фебе с уважением; казалось, будто речь шла действительно о боге солнца. Один только отец мой называл его не иначе как «подлец Феб» – за то, что дядя предположительно пустил в рост приданое моей матери. Мой отец был всегда слишком труслив, никогда не требовал выплаты этого приданого, а только ежегодно, всегда приблизительно в одно и то же время, справлялся в списке приезжих, не прибыл ли и не остановился ли Феб Белауг в гостинице «Империал». Если же тот оказывался в числе прибывших, отец отправлялся к своему свояку, чтобы пригласить его на чашку чаю в Леопольдштадт. Мать надевала тогда черное платье с облетевшим и поредевшим стеклярусом. Она уважала своего богатого брата, как будто он представлял нечто очень чужое ей, царственное, как будто бы не одно и то же лоно родило их обоих, не одни груди вскормили их. Дядя являлся, приносил мне какую-нибудь книгу; из темной кухни доносился запах пирожков. В этой кухне проживал мой дед. Он выходил из нее лишь в особо торжественных случаях, и тогда казалось, что он только что испекся: он появлялся свежеумытый, с белою крахмальною манишкою на груди, подмигивая сквозь слишком слабые для него очки и склоняясь вперед, чтобы взглянуть на сына своего Феба, гордость его старости.
Феб смеется широким смехом; у него жирный двойной подбородок и красные складки на шее; от него пахнет сигарами, иногда и вином. Он запечатлевает каждому из нас по два поцелуя, в каждую щеку по одному. Он говорит много, громко и весело. Когда же его спросишь, хороши ли дела, глаза его выпучиваются, он весь съеживается, ежеминутно он может затрястись, как мерзнущий нищий, и его двойной подбородок исчезает за воротником: «Дела не радуют в такое плохое время. Когда я был маленьким, я получал маковую рогульку за полкопейки, теперь же булка стоит гривенник, дети – сухо дерево, завтра пятница! – растут и нуждаются в деньгах; Александру ежедневно требуются они на карманные расходы».
Отец одергивал свои манжеты и тер их о край стола, улыбался слабо и выжидательно всякий раз, когда Феб обращался к нему в разговоре, и желал своему свояку умереть от сердечного удара. Спустя два часа Феб вставал, совал матери в руку серебряную монету, такую же подавал деду, а большую блестящую монету опускал в мой карман. Отец сопровождал его, так как было уже темно, вниз по лестнице, держа в высоко приподнятой руке керосиновую лампу, а мать восклицала:
– Натан, не забудь об абажуре! – Отец бережно относился к последнему, и, так как дверь оставалась еще полуоткрытой, слышалась бодрая брань Феба.
Через два дня Феб оказывался в отъезде, отец же заявлял: «Подлец уже уехал».
– Перестань, Натан, – отвечала на это мать.
Я добрался до Гибкой. Это – элегантная улица в предместье, с невысокими белыми домами, вновь построенными или отделанными. В доме Белауга я увидел ярко освещенные окна; но вход был уже заперт. Я стал несколько мгновений обдумывать, следует ли мне в столь поздний час еще подниматься к ним: время подходило приблизительно к десяти часам. Вдруг я услышал игру на рояле и звуки виолончели, женский голос и хлопанье ударяемых об стол карт. Я подумал, что непригодно в том костюме, который был на мне, появиться в этом обществе – ведь от моего первого визита зависело всё, – тогда я решил отложить свое посещение до завтрашнего дня и вернулся в гостиницу.
Напрасно проделанная дорога настроила меня на минорный лад; швейцар не поклонился мне, когда я вошел в отель, прислужник лифта не поторопился, когда я нажал кнопку. Он приблизился медленно, зорко исследуя выражение моего лица. Это был человек лет пятидесяти, в ливрее, тип пожилого лифт-боя. Я рассердился, что в этой гостинице подъемная машина не обслуживается маленькими краснощекими мальчишками.
Я вспомнил, что собирался бросить взгляд еще на седьмой этаж, и поднялся по лестнице. Наверху коридор был очень узок, потолок нависал особенно низко, из какой-то прачечной струился серый пар, и в воздухе чувствовался запах мокрого белья. Две-три двери оставались открытыми; слышны были голоса каких-то спорящих людей; коридорных часов, как я и предполагал, не было в помине. Я как раз собирался спуститься к себе вниз, как вдруг с треском приостановился лифт, дверцы его раскрылись, прислужник окинул меня удивленным взглядом и выпустил из кабинки девушку. На ней была маленькая серая спортивная шапочка. Девушка обратила в мою сторону смуглое лицо с большими серыми глазами, оттененными черными ресницами. Я поклонился и стал спускаться с лестницы. Что-то заставило меня снова поднять глаза, когда я уже был на последней ступеньке. И вот мне показалось, что желтые, цвета пива, глаза прислужника лифта были устремлены на меня со стороны перил лестницы.
Я запер свою дверь на ключ, испытывая чувство неопределенного страха, и начал читать старую книгу.
III
Спать мне не хотелось. Часы на церковной башне посылали свой мерный бой в мягкий воздух ночи. Над головой моей слышались шаги, мягкие, беспрерывные. Это, должно быть, женские шаги. Неужели это та девица с седьмого этажа непрерывно ходит взад и вперед? Что с нею?
Я взглянул вверх, к потолку, так как мне внезапно пришла в голову мысль, что потолок стал прозрачным. Быть может, тогда мне удалось бы увидеть грациозные ножки одетой в серое девушки. Прохаживалась она босиком или в туфлях? Или же в серых полушелковых чулках?
Я вспомнил, с каким вожделением я сам и многие из моих товарищей ожидали отпуска, который мог бы утолить жажду по паре женских светлой кожи полуботинок. Мы имели право располагать здоровыми ногами деревенских красавиц, ногами с широкими подошвами, оттопыренным большим пальцем, ногами, месившими грязь полей и глину большой дороги. Нам предоставлялись тела, для которых жестоко-твердая земля замерзшего осеннего жнивья была мягким ложем любви. Здоровые бедра, минутная любовь в темноте до наступления переклички. Я вспомнил о пожилой учительнице из какого-то этапного захолустья, о единственной в тех местах женщине, которая не спаслась бегством от войны и нападений. Это была костлявая девушка старше тридцати лет. Ее называли «проволочным заграждением». Но не было среди нас ни одного, кто бы не ухаживал за нею, потому что она на расстоянии многих километров в округе представляла единственную женщину в полуботинках и ажурных чулках.
В этой исполинской гостинице «Савой» с ее 864 комнатами, пожалуй, даже во всём этом городе, теперь не спали, быть может, только двое, я и девушка надо мною. Мы могли бы великолепно быть в обществе друг друга, я, Гавриил, и маленькая смуглая девушка с ласковым лицом и большими серыми, оттененными темными ресницами глазами. Как тонки должны были быть потолки этого здания, если я мог так ясно слышать поступь этой газели; я почти ощущал запах женского тела! Я решил удостовериться, действительно ли то были шаги именно этой девушки.
В коридоре горела темно-красная электрическая лампочка; перед дверями номеров стояли сапоги, башмаки, женские полуботинки, и все они были столь же выразительны, как человеческие лица. На седьмом этаже вообще не горело ни одной лампы, и слабый свет лился из матовых дверных стекол. Желтой тонкой струей проникал один луч сквозь щель. Это была комната номер 800. Там должна была жить неутомимо прогуливающаяся особа. Я могу взглянуть через замочную скважину – это и есть та девушка. Она ходит взад и вперед по комнате в каком-то белом одеянии – это купальный халат, – останавливается ненадолго у стола, смотрит в какую-то книгу и сызнова начинает свое странствование.
Я стараюсь уловить черты ее лица, но вижу только легкую округлость подбородка, четвертушку профиля, когда она останавливается, пучок волос и всякий раз, как халат ее распахивается при более значительном шаге, частицу смуглого тела. Откуда-то раздался тяжелый кашель, кто-то сплюнул в ведро: послышался громкий всплеск воды. Я вернулся в свою комнату. Когда я запирал дверь, мне почудилась в коридоре какая-то тень. Я быстро распахнул дверь, так что свет из моей комнаты озарил часть коридора. Однако там никого не было.
Шаги наверху прекратились. Девушка, вероятно, уже спала. Я бросился в одежде на постель и отдернул занавеску от окна. Нежный сумрак зачинающегося дня легкою серою дымкою обволок предметы в комнате.
Неумолимое наступление утра возвестили хлопанье какой-то двери и грубый окрик мужского голоса на неизвестном языке.
Появился слуга. На нем был зеленый фартук, какие носят сапожники, засученные рукава рубашки раскрывали мускулистые руки до локтя, покрытые курчавыми черными волосами. Горничные существовали, очевидно, только на трех первых этажах. Кофе оказался лучшего качества, чем можно было бы ожидать. Но какой от этого был прок, если отсутствовали девушки в белых наколках? Это было горьким разочарованием, и я стал размышлять, нет ли возможности переселиться на третий этаж.
IV
Феб Белауг сидит за блестящим медным самоваром, ест яичницу с ветчиною и пьет чай с молоком.
– Доктор прописал мне яйца, – говорит он, вытирая салфеткою усы, и со стула подставляет мне свое лицо для поцелуя.
Физиономия его пахнет мыльным порошком и одеколоном; она гладко выбрита, мягкая и теплая. На дяде широкий купальный халат. Он, наверное, только что вышел из ванной. Газета лежит на стуле. Открывается часть его волосатой груди в виде треугольника: на дяде еще нет рубашки.
– Ты выглядишь хорошо! – констатирует он на всякий случай. – Давно ли ты уже здесь?
– Со вчерашнего дня.
– Отчего ты пришел только сегодня?
– Я был вчера тут, слышал, что у вас гости, и не хотел в этом костюме…
– Ах, не всё ли равно? Совсем хороший костюм! В настоящее время люди не стыдятся. Сейчас и миллиардеры носят не лучшие костюмы! И у меня самого только три костюма! Костюм стоит целое состояние!
– Я этого не знал. Ведь я возвращаюсь из плена.
– Но там ведь тебе жилось недурно? Все говорят, что в плену живется хорошо.
– Порою бывало и плохо, дядя Феб!
– Так. А теперь ты собираешься ехать дальше?
– Да. Мне нужны деньги.
– И мне нужны деньги, – рассмеялся Феб Белауг. – Нам всем нужны деньги.
– У тебя они, по всей вероятности, имеются?
– Имеются? У меня? Откуда тебе известно, что у меня имеется? Мы вернулись как беженцы и стали соскребать свои средства. Я дал в Вене денег отцу твоему – его болезнь стоила мне хороших денег, а твоей покойной матери я воздвиг надмогильный памятник из красивого камня – уже тогда он стоил круглым счетом две тысячи.
– Отец мой умер в больнице.
– Зато мать скончалась в санатории, – с торжеством выпаливает Феб.
– Чего ты так кричишь? Не волнуйся, Феб! – заявляет Регина. Она появляется из спальни, держа в руке корсет и раскачивающиеся подвязки.
– Это Гавриил, – представляет меня Феб.
Я приложился к руке Регины. Она выразила мне свои соболезнования пожалела о моих страданиях в плену, пожалела о войне, тяжелых временах, о своих детях и муже.
– Алексаша тут, иначе мы просили бы вас ночевать у нас, – говорит она.
Появляется Алексаша в синей пижаме. Он делает поклон и шаркает туфлями. На войне он заблаговременно попал из кавалерии в обоз. Теперь он изучает в Париже «экспорт» – по словам Феба – и проводит свой отпуск на родине, в кругу своих.
– Вы проживаете в гостинице «Савой»? – спрашивает Александр с уверенностью светского человека. – Там живет одна красивая девушка, – он подмигивает одним глазом в сторону отца. – Ее зовут Стасей, и она танцует в «Варьете» – неприступна, уверяю вас, – мне хотелось взять ее с собою в Париж (он придвигается ближе ко мне), но – «она и одна отправится туда, если захочет», – сказала она мне. – Славная девушка!
Я остался обедать. Явилась дочь Феба со своим мужем. Зять «помогал в деле». Это был здоровенный, благодушный, рыжеватый человек с воловьей шеей. Он храбро справлялся со своим супом, заботился об очистке тарелок, делая всё это молча: громкие разговоры его, видимо, не интересовали.
– Я как раз думаю, – говорит тетка Регина, – твой синий костюм будет Гавриилу впору.
– А есть у меня еще синие костюмы? – вопрошает Феб.
– Да, – говорит Регина. – Я сейчас принесу его.
Я тщетно пытался отклонить этот дар. Александр хлопнул меня по плечу, зять проговорил: «Совершенно верно», а Регина принесла синий костюм.
В комнате Александра я примеряю его перед большим стенным зеркалом. Он мне впору.
Я соглашаюсь, соглашаюсь с необходимостью синего, «как нового», костюма, признаю необходимость галстуков с голубыми крапинками, неизбежность коричневого жилета и после обеда откланиваюсь с картонкою в руке. Я вернусь еще. Тихо во мне напевает свою песнь надежда на получение путевых денег.
– Вот видишь, вот я его и экипировал, – говорит Феб Регине.
V
Ее зовут Стасей. Имени ее нет на афише театра «Варьете». Она танцует на дешевых подмостках перед туземными и парижскими Александрами. В каком-то восточном танце ей приходится проделывать несколько движений. Затем она садится, скрестив ноги, пред курильницею с ладаном и ожидает конца. Видны ее тело, голубоватые тени под мышками, округлый верх смуглой груди, мягкая линия крутого бедра и верхняя часть ноги, там, где внезапно заканчивается трико.
Играла смехотворная духовая музыка; отсутствие скрипок ощущалось почти болезненно. Пелись старые забавные куплеты, раздавались затхлые шутки клоуна, показывался дрессированный осел с красными наушниками, терпеливо семенивший взад и вперед, были бледные кельнеры, от которых несло, как из пивных складов; они носились с пенящимися чрез края кружками среди темных рядов публики; отблеск желтого рефлектора косо падал из произвольно открываемых в потолке отверстий; зиявший темнотою, наподобие широко раскрытого рта, задний фон сцены отдавал чем-то кричащим; конферансье, вестник печальных клиентов, кряхтя объявлял что-то.
Я ожидаю у выхода. Опять, как бывало когда-то. Мне казалось, что я, еще мальчик, ожидаю в боковой уличке, спрятавшись в тени подворотни и совершенно сливаясь с нею, пока не раздаются быстрые молодые шаги, как будто расцветая и вырастая из мостовой и чудесно звуча на этих бесплодных булыжниках.
В компании женщин и мужчин шла Стася. Голоса их перемешивались.
Я долго был одинок среди тысяч людей. Существует миллион вещей, в которых я могу принять участие; например, вид кривого фронтона, ласточкино гнездо в уборной отеля «Савой», раздражающе-желтый, как пиво, глаз старика лифт-боя, горечь седьмого этажа, неприятная таинственность греческого имени Калегуропулоса, внезапно ожившего грамматического понятия, печальное воспоминание о злом софисте, о тесноте родительского дома, о неуклюжей смехотворности Феба Белауга и о спасении Алексашею своей жизни поступлением в обоз. Оживленнее стали живые вещи и некрасивее общеотвергнутые, ближе стало небо, подчинился мне мир.
Дверцы подъемной машины были открыты. В ней сидела Стася. Я не скрыл своей радости, и мы поздоровались как старые знакомые. Я ощущал всю горечь присутствия неизбежного лифт-боя; тот же делал вид, будто не знает, что мне нужно выходить в шестом этаже, и поднял нас обоих в седьмой. Тут Стася вышла и исчезла в своей комнате, между тем как лифт-бой ждал, как будто бы ему приходилось захватить здесь еще пассажиров. Чего ждал он здесь со своими желтыми глумящимися глазами?
Итак, я медленно спускаюсь с лестницы, прислушиваясь, двинулась ли в обратный путь подъемная машина, слышу наконец – я как раз на середине лестницы – с чувством облегчения хлопающий звук лифта и возвращаюсь обратно. На верхней площадке лифт-бой как раз собирается сойти вниз. Он в эту минуту пустил лифт порожняком, а сам медленно-злобно сходит вниз пешком.
Стася, вероятно, ожидала моего стука в дверь. Я собираюсь извиниться.
– Нет, нет, – говорит Стася. – Я бы и раньше пригласила вас, но боялась Игнатия. Он – самый опасный человек во всём отеле «Савой». Мне также известно, как вас зовут. Ваше имя Гавриил Дан, вы возвращаетесь из плена. Вчера я приняла вас за коллегу, артиста. – Она прибавляет последнее слово медленно; быть может, она боится оскорбить меня?
Я не был оскорблен.
– Нет, – сказал я. – Я сам не знаю, что я такое. Раньше я собирался стать писателем, но пришлось пойти на войну, и мне кажется, что теперь писать бесцельно. Я человек одинокий и не могу писать за всех.
– Вы живете как раз над моей комнатой? – проговорил я, не умея сказать ничего лучшего.
– Отчего вы ходите всю ночь взад и вперед?
– Я изучаю французский язык. Мне хочется уехать в Париж, чтобы заняться там чем-нибудь, но не танцевать. Один дурак собирался взять меня с собой в Париж – и с тех пор я думаю уехать туда.
– Это Александр Белауг?
– Вы его знаете? Вы здесь со вчерашнего дня?
– Да ведь и вы меня знаете.
– Разве вы также уже говорили с Игнатием?
– Нет. Но Белауг мой двоюродный брат.
– О, в таком случае извините меня!
– Нет, прошу вас, он действительно дурак.
У Стаси несколько плиток шоколаду, а спиртовку она достает из недр картонки для шляп.
– Этого не должен знать никто. Даже Игнатий об этом не знает. Спиртовку я ежедневно прячу в другое место. Сегодня она в шляпной картонке, вчера она лежала в моей муфте, однажды она хранилась в промежутке между шкафом и стеною. Полиция запрещает употребление спиртовок в гостинице. А между тем мы – я имею в виду нашего брата – только и можем жить в гостиницах, а отель «Савой» лучшая, какую я знаю. Вы собираетесь пробыть здесь долго?
– Нет, несколько дней.
– О, в таком случае вам не удастся ознакомиться с отелем «Савой». Тут рядом проживает Санчин с семьей. Санчин – наш клоун. Хотите познакомиться с ним?
Мне не особенно хочется. Но Стасе нужен чай. Санчины живут вовсе не «рядом», а на другом конце коридора, вблизи прачечной. Тут потолок покат и нависает настолько низко, что следует остерегаться удариться об него головою. На самом же деле до него достать не так-то легко; он только кажется таким страшным. Вообще в этом углу уменьшаются все размеры; это происходит от сероватого пара прачечной, одуряющего глаз, умаляющего расстояние и заставляющего стены набухать. Трудно привыкнуть к этому воздуху, который пребывает в постоянном движении, заставляет расплываться очертания, отдает запахом сырости и тепла и превращает людей в какие-то фантастические клубки.
И в номере Санчина стоит пар. При нашем входе жена Санчина поспешно запирает за нами дверь, как будто бы в коридоре притаился дикий зверь, могущий каждую минуту ворваться в комнату.
Чета Санчиных, обитающая в этом номере уже полгода, успела напрактиковаться в быстром запирании двери. Их лампа горит посреди серого облака пара, вызывая воспоминания о фотографиях созвездий, окруженных туманностями. Санчин приподнимается с места, вдевает одну руку в темный сюртук и наклоняет вперед голову, желая разглядеть гостей. Его голова, кажется, вырастает из облаков, подобно челу сверхземного видения на благочестивых картинах.
Он курит длинную трубку и говорит мало. Трубка мешает ему участвовать в беседе. Всякий раз, как он произнесет половину предложения, ему приходится приостанавливаться, хватать вязальную спицу жены и ковырять в головке трубки. Или ему необходимо зажечь новую спичку и надлежит поискать коробку со спичками. Госпожа Санчина кипятит молоко для ребенка, и ей спички нужны столь же часто, как и ее мужу. Коробка беспрерывно странствует от Санчина к умывальнику, на котором стоит спиртовка; иногда она застревает по дороге и бесследно исчезает в тумане. Санчин наклоняется, опрокидывает кресло, молоко кипит, его снимают и оставляют гореть спиртовку, пока на нее не «поставят» подогреть что-нибудь другое: есть опасность уже больше не найти спичек вовсе.
Я предлагал свои собственные спички попеременно то господину, то госпоже Санчиным, однако никто не захотел воспользоваться ими. Оба супруга старательно искали свою коробку и жгли спиртовку зря. В конце концов Стася заметила коробку со спичками в одной из складок одеяла.
Секундою позже госпожа Санчина стала искать ключи, чтобы вынуть чай из чемодана: из ящика его могли утащить.
– Я где-то слышу звон, – говорит Санчин по-русски, и мы приостанавливаем свой разговор, чтобы уловить звон ключей. Но всё остается безмолвным. – Но ведь не могут же они звенеть сами собою! – кричит Санчин. – Вам всем надо встряхнуться, тогда ключи дадут знать о себе!
Но ключи заявили о себе только тогда, когда госпожа Санчина заметила на своей блузке молочное пятно и быстро схватилась за передник во избежание повторного пятна. Выясняется, что ключи лежали в кармане передника. А в чемодане не находится ни крупинки чаю.
– Вы ищете чай? – внезапно задает вопрос Санчин. – Да я использовал его сегодня утром.
– Чего же ты сидишь как пень и не вымолвишь ни слова? – кричит его жена.
– Во-первых, я не молчал, – возражает Санчин, отличающийся строгою логичностью, – а во-вторых, ведь никто меня и не спрашивал. Должен вам сказать, господин Дан, что я здесь, в доме, последнее лицо.
У госпожи Санчиной мелькнула мысль: можно бы купить чаю у господина Фиша, если он случайно не спит. На то, что он одолжит немного чаю, не было никакой надежды. С пользою же он охотно продаст его.
– Пойдем к Фишу, – говорит Стася.
Фиша приходится сперва разбудить. Он живет в последней комнате гостиницы, в номере 864, безвозмездно, потому что местные купцы и промышленники, равно как знатные постояльцы первого этажа отеля «Савой», платят за него. Существует предание, что он когда-то был женат, пользовался почетом, был фабрикантом и богатым человеком. И вот теперь он всё растерял по пути жизни, быть может, по небрежности – кто его знает! Живет он за счет остающихся тайными благотворителей, но он отрицает это и выдает себя за удачливого игрока в лотерею. Ему присуща способность отгадывать во сне номера тех лотерейных билетов, которые безусловно выиграют. Он спит целыми днями, видит во сне номера и ставит на них. Но раньше, чем разыгрывается тираж, ему снова снятся уже другие номера. Он продает свой билет, покупает взамен другой, и оказывается, что прежний номер выиграл, на новый же выигрыша не выпало. Много людей разбогатело благодаря сновидениям Фиша, и теперь они проживают в первом этаже отеля «Савой». Из признательности они оплачивают комнату Фиша.