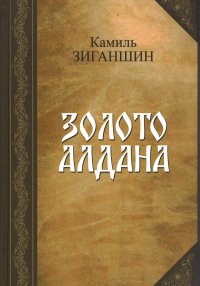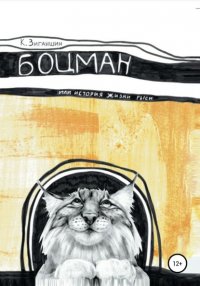Читать онлайн Скитники (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Камиль Фарухшинович Зиганшин
© Зиганшин К.Ф., 2011
© ООО «Издательский дом «Вече», 2011
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Сайт издательства www.veche.ru
Скитники
Моей ТАНЮШЕ, бесценному, прелестному дару судьбы, посвящаю. Твоя ВЕРА в меня и твоя ЛЮБОВЬ дали мне силы одолеть немало вершин
История Варлаама
Потомок знатного княжеского рода Василий Шмурьев вырос в родовом поместье близ Твери. Молодые родители, измученные бесконечными хворями сына, отослали его туда под присмотр престарелой тетки, когда малышу не было и двух лет.
Тихая размеренная жизнь в загородном имении способствовала не только укреплению здоровья их чада, но и развитию в нем самых добродетельных свойств и устремлений. Да и сама тетушка, глубоко верующая, просвещенная женщина, всячески поддерживала в мальчонке первородную чистоту и ласку ко всему живому.
Огражденный от пороков высшего света, Вася вырос одним из тех редких и чудных людей, у которых напрочь отсутствуют не только самолюбие, но и проявления обиды и ненависти: его смиренная душа любила всех и каждому желала добра.
Вернувшись в 1816 году в столицу, повзрослевший обладатель русой шевелюры и бархатного пушка над пунцовыми губами по настоянию отца поступил на службу, строгие порядки которой были не по нутру его вольной, нежной душе.
Батюшка с матушкой, стремясь помочь отпрыску освоиться со столичной жизнью и приобрести великосветские манеры, часто брали его на званые вечера, приемы и балы. Роскошь и блеск, царившие там, поначалу ошеломили и восхитили юношу. Но мало-помалу у Василия открывались глаза. За внешним лоском и довольством аристократического общества, все еще смаковавшего триумфальную победу над Наполеоном, он стал примечать хитрословие, чванливость, притворство, блуд и мотовство.
Это поколебало, а вскоре и вовсе разрушило его наивную веру в особое предназначение своего сословия. Будучи неприхотливым и в высшей степени набожным человеком, он легко отказался от дарованных знатным происхождением благ, удалился в монастырь, где после трудного послушания, пройдя искус, принял монашеский постриг и с новым именем Варлаам, облачившись в черное одеяние, отдался в желанном уединении от суеты мира аскетической жизни во славу Божью. Сей решительный шаг определил его дальнейшую судьбу.
Изучая православие по старинным текстам, коих в хранилище святой обители было великое множество, молодой инок был умиротворен нестяжательной и благочинной жизнью в обители. Ладил с игуменом[1] и братией, но оказалось, что и здесь, среди божьих служителей, пробивались все те же, только более умело утаиваемые пороки и завуалированная борьба за власть. У Варлаама подспудно вызревало решение пожить в отшельничестве. И спустя год, испросив благословения настоятеля, он покинул пределы монастыря, отправился странствовать, выбирая дороги дикие, малолюдные.
В первые дни скитальческой жизни инока особенно восхищало и радовало то, что в лесу даже ломоть черствого хлеба стал несравненно вкуснее и аппетитнее: горьковатый дым костра, благоухание цветов, щебет птиц, – эти незатейливые приправы необычайно скрашивали скудные трапезы. Под вольным небом, среди лесистых холмов и чистых речушек, Варлаам стал ощущать себя неотрывной частицей окружающего его бесхитростного мира. Это с каждым днем крепнущее чувство слитности и родства доставляло душе странника особую усладу.
Отдыхая как-то под громадной, пронизанной солнечным дождем сосной, Варлаам рассеянно поднял шишку, лежавшую на рыжей попоне из старой плотно спрессованной хвои. Из нее на ладонь выпало невесомое семя. Разглядывая его, юноша невольно подумал: «Экая крохотулька, а такой исполин из нее вырастает! Сколь же велика сила Господня, таящаяся в семени, ежели она рождает такого богатыря?!»
В дальнейшем, размышляя о гармонии и благодати, царящих в лесах и полях, Варлаам пришел к убеждению, что именно в чудном творении Царя небесного – Природе-матушке и заключен вечный источник жизни для всего сущего и именно через нее, через Природу, Создатель, одухотворяя человека, пробуждает в его душе любовь и совестливость.
Варлаамова обитель
В поисках пристанища по сердцу скиталец через четыре седмицы достиг кондовых лесов Ветлужского края, издавна населяемых поборниками старой веры. Первые из них пришли сюда, спасаясь от антихристовых «Никоновых новин», еще в семнадцатом веке, вскоре после раскола.
Варлааму сразу приглянулись суровые старолюбцы, выделявшиеся цельностью, усердием к труду и почитанием древлерусского православия. Каждый день кроме двунадесятых праздников[2] в их поселениях с утра до ночи кипела работа. Пряли шерсть, ткали холсты и даже сукно; филигранно шили золотом, переписывали книги старозаветного содержания; искусно писали иконы. Все поступало в общину, на себя работать никто и не мыслил. Перед началом любого дела и по завершении его усердно молились, благодарили Создателя за щедрую милость к их общине.
От первородной веры не отступали ни на шаг. Не признавали здесь ни государевых ревизий, ни податей и иных повинностей. Про себя они говорили: «Мы хранители истинного православия, мы не в воле царя-антихриста». Сойдясь на почве общей страсти к рыбалке с одним из местных старцев поближе, Варлаам как-то полюбопытствовал:
– Вот вы, батюшка, себя староверами именуете, а чем старая вера отлична от нынешней?
– Известное дело, перво-наперво надобно молиться по неправленым, первоисточным текстам и не кукишем, а двумя перстами. Табаку не курить и не нюхать, инострану одежу не носить, бороды не скоблить, усов не подстригать. Да много еще чего… Наш книжник сказывал, что только в старом православии сохранены неповрежденными догматы и таинства, в тех смыслах, как проповедовал сам Христос.
– Но ведь тьма людей новую веру приняла. Отчего вы-то старой все держитесь?
– Вера, сынок, не штаны, чтобы по износу менять. Вере износу нет, на то она и вера, на том она и стоит. По какой вере наши родители жили, по той и нам надобно с их благословения. А за других мы не в ответе. Одно знаю – диавол тока слабых и некрепких духом в свое войско прельщает…
Глядя на строгое соблюдение общинно-жительного устава, писанного еще Сергием Радонежским, лад в семьях и хозяйстве, почитание старших, Варлаам уверовал, что там, где следуют первородному православию, где царит дух добросердечия и братской взаимовыручки, цветет и дышит земля русская.
Решив обосноваться неподалеку от одного из потаенных поселений, юноша приглядел хотя и тесное, но надежное пристанище в чреве дупла громадной сосны, росшей в версте от староверческого скита. Землю вокруг нее густо перевили мускулистые плети корней, а сам ствол был столь мощным и объемным, что дупло у комля выглядело пещерой.
Обустроив временный приют, Варлаам принялся валить лес для своего первого настоящего жилища. Добела шкурил стволы, рубил венцы. Умения и сноровки ему, конечно, недоставало, но он возмещал их упорством и старанием. Кровяные мозоли на руках постепенно сошли, кожа загрубела. К Рождеству Богородицы новопоселенец перебрался-таки в светлостенную избушку, напитанную густым смоляным духом.
Пышнобородые староверцы поначалу не допускали в свою общину незваного пришельца, ибо ко всякой новизне и перемене были недоверчивы. А иначе и нельзя – попробуй-ка столетиями хранить устои попранной веры. Но с течением времени молодой пустынник своим благочестием и прилежанием к труду смягчил их настороженность, а иных даже расположил к себе…
Удаление от мира и его греховной суеты, физический труд, молитвы, земные поклоны до изнурения, строгий пост, чтение книг старого письма, беседы с праведниками общины мало-помалу открывали перед Варлаамом всю глубину и гуманность почитаемого этими людьми древлего православия.
Изучая рукописную книгу «Травознаи Руси», он познавал божественные силы, скрытые в былинках, овладевал искусством варить из них зелья от разных хворей. Любовь ко всему живому, пытливый ум и наблюдательность Варлаама исподволь развивали в нем дар целительства.
Читал Варлаам вечерами при свете лучины, после любимого чая из листьев и ягод сушеной земляники. Поскольку лучины сильно коптили, а от дыма горчило в горле, да и сгорали они быстро, отшельник придумал масляный светильник: вставил в плошку губчатую сердцевину камыша. Она, впитывая масло, горела долго ровным, чистым, без чада пламенем.
Участливые, не по летам разумные, благочестивые проповеди Варлаама, способность к целительству, внимание и обходительность к убогим влекли к нему страждущих. Плату за труды свои он не брал, а ежели кто настаивал на вознаграждении, тех корил и вразумлял: «Христос завещал: “Даром получили, даром давайте”».
Первые лета избушка Варлаама стояла одиноко, но по мере того как множилось число излеченных и через них ширилась в округе молва о даровитости новопоселенца, рядом начали расти сначала землянки, а затем и более основательные рубленые постройки.
Пустынника, предпочитавшего уединение, стало тяготить постоянно шумное окружение, и он перебрался в глубь тайги версты за четыре от выросшего вокруг его первой обители селения, уже получившего в народе к тому времени имя Варлаамовка.
Новое пристанище располагалось в пихтаче, в подковообразном ложке под защитой громады серой, с зеленоватыми разводьями лишайника, скалы. Из-под ее основания, вскипая песчаными султанчиками, вытекал ключ. Сбегая по крутому ложку, он крепчал, шумел, сердился на крохотных водопадиках и замирал на карликовых плесах. Вода в ключе была всегда в меру студеная и настолько приятная на вкус, что ее употребление доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие.
Прямо возле своей пустыни Варлаам соорудил часовенку во имя особо почитаемой им Семистрельной Божьей Матери.
Шли годы. С неослабной теплотой и душевным рвением отшельник помогал всем страждущим и немощным словом и делом. Никто не имел отказа, для каждого, по мере сил, он старался сотворить добро. Дополняя зелья тихими и кроткими словами, а главное – исходящими от него любовью и участливостью, он врачевал самые загрубелые и ожесточенные сердца, ставил на ноги безнадежных.
Хотя послушать его просветляющие проповеди, излечиться от недуга по-прежнему ходило уйма люда, теперь ни один из них, из почтения к отшельничеству ревнителя древлеотеческой веры, поблизости селиться не смел.
Осенью 1863 года, когда Варлааму перевалило за шестьдесят, воздал Творец преданному человеку – привел прямо к порогу его обители мальчонку лет десяти-одиннадцати, одетого в сермяжные[3] лохмотья и даже креста нательного не имевшего. Стоял он сизый от холода, переступая босыми ногами на прихваченной инеем листве, и смотрел на Варлаама взглядом зрелого человека, познавшего всю горькую изнанку жизни. Что удивительно, тяжесть пережитых невзгод не придавила его, не сделала униженно-заискивающим или недоверчиво-злобным. Напротив, малец отличался дружелюбием и самостоятельностью: кормился не подаяниями, как большинство бродяжек, а промыслом: копал съедобные коренья, собирал орехи и ягоды, умело ставил на дичь силки, плетенкой ловил рыбу.
Варлаам понимал, что житие его на земле клонится к закату, и в этом немытом создании он узрел того, кто будет способен перенять и понести накопленные им знания, опыт далее. Старец принял отрока, как чадо родное. Да они и схожи были. Оба сухопарые, высокие, с серыми глазами на узких, благородных лицах, окаймленных волнистыми прядями волос.
Любознательному подростку, нареченному Никодимом, учиться понравилось. Он с легкостью осваивал не только грамоту, но и краткое изложение основных истин христианства – Катехизис, а затем и Библию, состоящую из Ветхого Завета и Нового Завета. С неослабным интересом постигая строго соблюдаемое в этих краях первоисточное православие, наизусть читал отрывки из святочтимого Стоглава, псалмы из Псалтыря, писанные до никоновой поры. Книги старославянские возлюбил. Особенно «Житие» и «Книгу бесед» протопопа Аввакума.
Пытливый парнишка подошел к пониманию того, что Бог всегда был, есть и будет. Он – начало и причина всего сущего. Что Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой не есть три Бога, а Един Бог. Что сам Господь невидим и открывается людям посредством Слова, передаваемого через земное воплощение Бога-Сына Его – Исуса[4] Христа. Как образно объяснил Варлаам: «Бог это вроде солнца. Оно ведь являет собой не только раскаленное тело, а еще испускает свет и дает животворящее тепло. То есть в нем одном, как и в Боге, заключены три сущности, неотделимые друг от друга».
Наряду с православием Никодимка усердно вникал в азы врачевания. Запоминал, как готовятся и употребляются всевозможные настои, отвары; что применяется внутрь, что наружно.
– Молодец, сынок! – часто хвалил, поглаживая воспитанника по голове за понятливость и прилежание, Варлаам. В такие минуты счастливая улыбка озаряла строгое лицо старца.
«Как непостижимо велик мир отмеченного Богом человека! Он и время употребляет по-иному. Там, где простой смертный его бездарно тратит, такой без пользы для души и ума не проведет ни минуты, – размышлял он, радостно наблюдая за переменами в Никодиме. – Сколько в этом малом добра, разума, трудолюбия, как он созвучен природе и вере нашей».
Однажды, мотаясь по лесу, парнишка услышал треск повалившейся от старости ели. Падая, та переломила ствол росшей рядом осины.
– Больно, больно! Помогите! – донеслось до Никодимки.
Он кинулся на помощь, но ни под деревом, ни возле никого не обнаружил. Перепуганный мальчонка рассказал о странном крике Варлааму. Выслушав ученика, он посветлел:
– Сынок, мертвого на земле ничего нет. Божья сила разлита по всему, что нас окружает. Она и в дереве, и в скале, и в озере, и в зорьке. Все вокруг живое. Только не каждому дано это чувствовать. Коли ты услышал боль дерева, стало быть, дарована тебе свыше способность воспринимать чувства других… Даст Бог, отменным целителем станешь.
Ветлужский монастырь
Как-то в затяжной июньский вечер у хижины отшельника остановились две ладно сработанные повозки.
В сумеречной тишине было слышно, как пофыркивают, отмахиваются от назойливых комаров лошади. К вышедшему на порог хозяину обители приблизился, снимая на ходу с головы остроконечный куколь[5], крепыш лет девятнадцати, с умными, проницательными глазами. Назвался схимник Маркелом. Сопровождавшие его два мужика стянули с лохматых голов ермолки и учтиво поклонились старцу.
Выяснилось, что путники явились к Варлааму с милостивой просьбой от преподобного[6] Константина – всеми почитаемого в округе настоятеля потаенной староверческой пустыни[7], расположенной неподалеку от устья Ветлуги, прибыть к нему по срочному делу, непременно захватив лекарские снадобья и принадлежности.
Выехали чуть свет, под шепот начавшегося мелкого, въедливого дождика. Сразу погрустневшие деревья понуро склонили отяжелевшие от влаги ветви. Узкая, извилистая лента дороги, шедшая глухим лесом, часто пересекалась бугристыми корневищами вековых елей. Порой она съезжала в болотистое мелколесье, где колеса вязли во мхах, перетянутых плетями брусники. Однако сильные, откормленные лошади и там тянули ровно, без надсады. Варлаам с одобрением отметил, что возницы не хлестали коней, хотя у каждого на руке висела сыромятная плетка. Понятливые животные и без принуждения старались вовсю.
На пологой хребтине дорогу путникам пересекли лоси. Они остановились, повернув головы в сторону обоза. Слабые зрением, сохатые долго водили мордами, всматривались в нечеткие силуэты и, разглядев наконец в пелене дождя людей, пустились наутек иноходью, и так быстро, что догнать их было никому не под силу.
Довольно часто поднимали с ягодников дичь: то тетеревов, то глухарей. Шумно ударяя крыльями, они отлетали поглубже в чащу и, рассевшись на ветвях, покачивались, сторожко озираясь.
На третий день, когда на смену угрюмым, мрачноватым елям появились жизнерадостные сосны, наметилась перемена и в погоде. Тучи, обнажая прозрачную синь, отползли к горизонту, лес залили снопы солнечных лучей. Когда путники подъезжали к монастырю, их облаяла[8] косуля.
– Чего это она бранится? – удивился Никодим.
– Шумим сильно, вот и намекает: потише, мол, надо в лесу-то подле святой обители, – пояснил Варлаам.
Располагалась пустынь в глухой чаще, в удалении от рек и дорог. За стенами из дикого камня блестели свежо умытые луковицы церкви, возвышающиеся над всеми остальными постройками.
Постучали в сколоченные из толстых плах и обитые железом ворота. В ответ предупреждающе залаяли собаки, послышалось ржание коней. Через некоторое время глухой голос справился:
– Кого Господь дарует?
– Молви настоятелю: старец Варлаам прибыл.
Ворота отворились. Въехали во двор, покрытый мягкой травой-муравой. Обнюхав чужаков, собаки, чуть покрутившись, позевали, повытягивали спины и забрались каждая в свою конуру. Из приоткрытой двери церкви доносились красивые гласы мужского песнопения.
Маркел, соскочив с повозки, помог слезть старцу и повел его через двор. Остановились под березами возле крыльца отдельно стоящего здания, соединенного с другими крытыми переходами. Крестясь, отвесили земликасательные входные поклоны. Поджидавший их схимник пригласил Варлаама к настоятелю. Оказавшись в гостевой, старец вновь перекрестился три раза в красный угол, где стояла деревянная божница с образами и висела лампада, сотворил молитву, и только после этого прошел в почивальню.
На кровати полулежал, полусидел прикрытый огромным медвежьим тулупом, остроносый, изможденный человек, в серой рубахе с воротом, расстегнутым ниже далеко выпиравшего кадыка. Из-под густых бровей смотрели ввалившиеся глаза. Гордая, несломимая сила воли сквозила из них. Оправив черную, с легкой проседью бороду, больной оглядел вошедшего цепким, проникающим взглядом и произнес:
– Прости, отец, что не могу приветствовать тебя должным образом. Спасибо, уважил мою просьбу… Молва докатилась до меня, что обладаешь ты даром чудотворения. Покорно прошу, пособи, Христа ради, от хвори избавиться. С весны занедужил. Ноги ломота замучила да бессонье одолело, а теперь и вовсе сил лишился.
Варлаам, омывши руки и лицо, не торопясь осмотрел болезного.
– Ваше высокопреподобие, то вовсе и не хворь у вас – то недруги порчу наслали. Вот снимем ее, и силы вернутся, – заключил он и попросил монахов оставить их наедине. Несколько часов старец провел в почивальне и вышел оттуда настолько опустошенный и обессиленный, что едва стоял на ногах.
И – диво дивное! – на радость всем игумен со следующего дня пошел на поправку.
Надо заметить, что преподобный Константин, выходец из именитого рода Смоленской губернии, был многочтим в староверческой среде, и уже немало лет являлся настоятелем монастыря, славившегося особой преданностью первоисточному православию. Не признавали здесь ни новой церкви, ни ее архиереев.
В стародавние времена, когда после очередного царева указа «скиты порешить, старообрядцев в новую веру крестить», государевы слуги принялись силой брать непокорных священнослужителей, не желавших признавать «антихристову власть» и, заковав в кандалы, держать их в земляных ямах до покаяния, а упорным резать языки и полосовать тела кнутом. Предки князя Константина, не жалея средств, скупали древние святыни, первоисточные рукописи и церковную утварь старой Руси, спасая эти реликвии от поругания. Господь к ним был милостив. Сумели они с верными людьми переправить собранные сокровища в сию глухую пустынь и укрыть их в недрах подземных хранилищ, где оберегали уже немало лет, передавая от деда сыну, от сына внуку.
Выздоравливающего настоятеля после простой снеди, принимаемой в общей трапезной, Варлаам начал выводить на прогулки. Старец с первого взгляда почувствовал к князю доверие и духовную тягу. Наставник отвечал взаимностью. А их общая беззаветная преданность идеалам первородного православия и многоначитанность только укрепляли возникшую симпатию.
Немного побродив по монастырскому двору, настоятель и Варлаам, как правило, уединялись в тихом закутке, в тенистой прохладе берез, и, чинно перебирая кожаные лестовки, подолгу обсуждали, толковали книги Священного Писания, Повествования о житиях святых и подвигах отцов православия, изложенные в «Четьи минеи», их пророчества и предания старорусские. Особенно дотошно разбирали «Златоструи», «Пролог», услаждая души нескончаемыми беседами, а порой и спорами о наболевшем.
Во время одной из таких прогулок разразилась гроза. К ним тут же прибежал Никодим: принес широкую рогожину укрыться от дождя. Под ее защитой собеседники перебрались в келью настоятеля.
– Почтительный у тебя ученик! – одобрительно заметил игумен. – А то знамо, каковы нынче молодые! Истинную веру покинули. Бороды побрили, заветы отцовы да дедовы позабыли.
– Да что бороды… Не в том ересь. Зелье проклятое курить чуть не все принялись. И что ужасно – за достоинство сей грех выставляют! Срамота!
– Сам-то табак что – такая же божья травка, как и всякая другая, а вот то, для чего ее используют антихристы, – это точно от диавола. И пыхают дымом из уст яко диавол.
– Вестимо, своеволие и непослушание на Руси от Никона пошло! С той поры народ наш больно слабостям подвержен стал. О будущем не мыслит, страха Божьего не ведает. Что есть – враз пропьет али в кости проиграет. Иной даже детям родным крошки не оставит. Трудиться своей волей разлюбил. Все из-под палки. Завистливые и вороватые народились. Ушли от догматов истинного православия, и раскололось, растлило наше племя! Встарь на Руси не ведали эдакого воровства да пьянства. Это все – происки антихриста… До Никона-отступника и церковь была не мятежна, – с болью продолжил настоятель.
– А коснись нас, стролюбцев, – живем мы в мире со всеми, зла никому не делаем. Оне сами по себе, мы сами по себе – оставить бы пора в покое наши общины. Так ведь нет, все пуще и яростнее теснят щепотники нашего брата, загоняют в глушь трущобную. Кто в лесах непроходимых, кто на островах речных укрылся, кто в пещеры мрачные, словно кроты, зарылся, кто в самые дальние, антихристам не доступные, скиты ушел. А кто и вовсе Рассею-матушку покинул… Ведь из-за чего в первую очередь воспротивились Никоновым новинам предки наши: это ж надо придумать – кукишем крестное знамение творить! Срам да и только! Запамятовали, что решением Стоглавого Собора 1551 года двуперстие запрещено было менять под страхом анафемы… Старые обряды были куда благочестивей[9].
– Что верно, то верно, двоеперстие свято! Наш народ в делах веры сильно привержен букве и точному соблюдению обряда. Он твердо убежден, что молитва действует лишь тогда, если в ней не изменено ни одно слово и прочтена она исстари установленным напевом.
– Справедливо речение твое. В Рассеи встарь православие было чисто и непорочно… Эх, все у нас, русских, есть для достойной жизни, но не хватает, недостает нам сплоченности и национального самоуважения. В этом, я полагаю, основная причина происходящих бедствий и несчастий.
– Однако в каком еще народе найдешь такую готовность помочь ближнему, такое радушие, такую силу и неприхотливость. Мы, конечно, сверх меры терпеливы, но ведь именно терпением собиралась и созидалась земля Русская, величаемая в дониконову пору иными архиереями чуть ли ни Третьим Римом. Какие возводились храмы, ширились города! Так что терпение, быть может, и есть ценнейшее качество нашего народа! – подытожил старец.
– Но вместе с тем, пожалуй, и горе, – мягко возразил игумен…
Подобные беседы происходили почти каждодневно. Общность интересов все крепче связывала родственные души этих людей. И неудивительно, что вскоре Варлаам стал у настоятеля особо доверенным лицом – духовником. Почтение и симпатия князя к старцу были столь велики, что он решился открыть ему свою сокровенную тайну. Повел через потаенный ход в скрадень, где в обитых железом сундуках хранились святыни старой веры: кресты, литые из серебра кадила, схима и иконы, в их числе древний образ Святой Троицы в ризе из тонколистового золота, с тисненным орнаментом, украшенной жемчужной подвеской и самоцветными камнями. Икона та была освящена для предков князя еще Сергием Радонежским перед битвой на Куликовом поле. Благоговейно взяв ее в руки, Константин обратился к Варлааму:
– Отец, за то, что исцелил меня, благодарен безмерно, но, – тут игумен понизил голос, – чует душа моя смерть близкую. Коли и вправду Царь Небесный приберет до срока, не дай сгинуть этим святыням праведным. Сдается мне, что в нашем монастыре их уже не уберечь. Антихристовы прислужники не дремлют. Весть до меня дошла, будто подписано новое приказанье: все староверческие обители порешить, как таящие угрозу духовному единству народа. Думаю, надобно спешно готовиться к уходу на восток за бугры Уральские, за реки Сибирские, в блаженный Байкальский край. Там, по слухам, находится утраченный человечеством Рай, ибо сказано в пророчествах: «с востока совершится Второе пришествие Господа Исуса Христа на землю». На той окраине немало уже нашего брата осело. Лишь в тамошней глуши и возможно уберечь реликвии древние, многоценные и сохранить чистоту нашей веры в первородном состоянии до явления славного Христа Спасителя…
В монастыре у нас разный люд, но в ком я уверен, так это в Федоре и его сыне Маркеле. Доподлинно знаю, что отец Федор семь попов к нам привел. Не убоялся он ни закона «О наказаниях», ни ссылки в Сибирь, ни каторжных работ. Ежели что, он меня заменит, а Маркел с людьми особо верными и стойкими в Сибирь пусть отправляется… Да и на Никодима твоего, я думаю, положиться можно. А дабы не угас огонь веры нашей, надобно обосноваться и жить им там не по монастырскому уставу, а по мирскому – семьями, но в жены чтобы брали девиц из единоверцев. Коли удастся той общине первородную чистоту православия и ее святыни бесценные сохранить, то, может статься, в ней и явится в свой срок на землю Христос Спаситель. То будет славный день всеобщего воскресения и освобождения от рабства тления.
Прошла неделя. После полнощной службы, когда иноки читают в своих кельях по несколько сот молитв и творят неустанно поклоны, Варлаам, проживавший в боковушке подле покоев настоятеля, был разбужен невнятными, но требовательными голосами. Почуяв неладное, старец бросился к выходу, но дверь не отворялась. Он принялся стучать и звать на помощь. Наконец на шум прибежали монахи. Они с удивлением обнаружили, что дверь в келью Варлаама подперта снаружи колом. Еще больше они изумились, когда освобожденный старец, ни слова не говоря, бросился прямо в покои игумена. Зайдя следом, монахи при свете свечей увидели преподобного Константина бездыханно лежащим на полу, залитом кровью. Рядом валялся топор. Ящики в столах выдвинуты, повсюду в беспорядке разбросаны вещи, бумаги.
У старца перехватило дыхание. Мелко крестясь, упал он на колени подле убиенного и зарыдал:
– Господи, прости меня, грешного! Не уберег богомудрейшего человека, а ведь он ведал, предупреждал!.. Господи, образумь извергов, сгубивших его, муками вечными в геенне огненной!..
Панихида по усопшему длилась сутки. Положив семипоклонный начал и отпев «вечную память», погребли отца Константина в одном ряду с могилами предшествующих настоятелей монастыря. На надгробном камне высекли:
«Раб Божий Константин.
Он жил во славу Божию.
Кто добром помянет – того Бог не забудет».
Душегубов князя, скрытно проникших в монастырь, так и не изловили. Обнаружили только веревку, свисавшую с монастырской стены наружу, в сторону глухого леса.
На следующий после погребения день Варлаам призвал Никодима. Долго вглядывался он в очи воспитанника и, подчеркивая важность момента, положил руку на его плечо.
– Сын мой, место здешнее, прежде крепкое, теперича раскрыто. Того и гляди царевы прислужники заявятся. А в монастырских тайниках хранятся многие реликвии, и в их числе святыня старой веры – икона Святой Троицы древлего письма. Не сохранить нам их здесь. Выведают, сожгут либо разграбят. И веру нашу в чистоте здесь уж не сберечь. Обложили кругом антихристы. Одно спасение – вывезти святыни в безлюдный Забайкальский край, почитателям истинного благочестия давно полюбившийся. Так великомученик Константин перед страшной своей кончиной завещал. Готов ли ты, чадо мое, сообща с сотоварищами исполнить дело сие многотрудное, аль не зрел еще? – Варлаам испытующе всматривался в лицо ученика.
За годы, прожитые у старца, Никодим сильно переменился. От прежнего худощавого отрока сохранился лишь вихрастый чуб. Был он теперь высок ростом и широк в плечах. Но выделяли юношу не столько эти внешние достоинства, сколько внутренняя духовная сила, исходившая от него.
Юноша в глубочайшем волнении встал перед старцем на колени, горячо поцеловал его руку:
– Отец, твоя воля – святая воля. Не посрамлю. Все исполню в точности, как велишь. Реликвии бесценные, с Божьей помощью, до места с сотоварищами доставим. Сбережем, живота не жалея.
Произнеся это, он взял в руки богато украшенную книгу Ветхого Завета в бархатном переплете с золотыми тиснеными наугольниками и прочными пергаментными страницами из тонко выделанной телячьей кожи и, в свидетельство крепости клятвы, приложился к ней губами.
Из красного угла на сие действо внимательно и строго взирал лик Христа.
Тронутый Варлаам, довольный, что не ошибся в воспитаннике, продолжил:
– Скоро ляжет снег, и посему, так мыслю, пускаться в дорогу нынче вам не резон. Отправитесь весной. А покуда я устав составлю, людей верных подберем. Дорога трудная, молодым только под силу. Так что из твоих сверстников команду подберем. Наставником[10] вам преподобный Константин определил Маркела. Хотел бы я, чтоб он тебе заместо старшего брата стал. Там, в глуши байкальского края, обоснуйтесь, живите праведно, в согласии промеж собой. Древние святыни оберегайте пуще жизни. Уверен, придет время – востребуются они Христу Спасителю для воскрешения первородного православия на обширных пределах государства Российского. Уничтожит Он тогда власть над народами антихриста и ввергнет в вечный огонь диавола и демонов… Во всех нуждах и тяготах обращайся с молитвою к единственному подателю и помощнику – Великому Творцу Господу нашему.
Всю зиму продолжалась скрытная подготовка к нелегкой, дальней дороге. Варлаам тягучими студеными вечерами писал для новой общины устав, надиктовывал воспитаннику составы травяных сборов от возможных хворей, раскрывал известные ему секреты целительства; рассказывал в подробностях историю своей жизни. Никодим, обладающий редкостной памятью, впоследствии, через много лет, подробно воспроизвел все услышанное и частью записанное в своих рукописях-наставлениях.
Весна 1870 года пришла поздно, но пронеслась быстро и неудержимо. Окна келий, еще недавно покрытые толстым слоем льда, оттаяли. Сразу после того, как спала вешняя вода и подсохли дороги, ночью втайне погрузили на подводы скарб, инструмент (в основном топоры, пилы да лопаты), провиант, боеприпасы к двум кремневым ружьям (правда, не густо), сундуки со святынями и книгами старопечатными, поредкостней; отслужили напутственный молебен и еще затемно тронулись. Тяжело груженные кладью уемистые телеги заскрипели, заплакали. Медленно пробуждаясь ото сна, утро поднимало с земли молочные веки предрассветного тумана. С ветвей густо капала холодная роса. Продрогшие Варлаам с игуменом Федором прямо на ходу наставляли напоследок любимых чад:
– Заповеди Господни и заветы прадедов исполняйте неукоснительно и стойте за них неколебимо, во веки веков. Все делайте сообща, мирно, без перекоров. Кого в нужде встретите – помогите: вера без дел мертва! Чем больше благих дел сотворите, тем больше щедрот вам воздастся. Токо со всяким скобленым да табачным рылом не водитесь. Помогай вам Бог, Аминь…
На прощание поликовались…[11]
Впереди обоза широко шагал статный красавец Никодим. Он как-то враз преобразился. Стал собранней, суровей. Казалось, что даже его курчавая юношеская бороденка, подковой обрамлявшая прямоносое лицо, загустела и стала жестче. Молодой годами, Никодим чрезвычайно гордился тем, что она у него окладистей и гуще, чем у сверстников: старообрядцы очень дорожат бородой, и ни один из них добровольно с ней не расстанется.
Долго еще стояли у дороги старец и игумен в армячках, накинутых на плечи, беспрестанно шевеля губами. Они, неотрывно глядя туда, где скрылся обоз с девятнадцатью лучшими послушниками, творили напутственные молитвы. Оба понимали, что никогда уже больше не увидят этих, столь дорогих их сердцу, людей. Лишь моления и беспокойство за судьбы ушедших остались на их долю…
В Забайкалье
Путь до Байкальских гор предстоял долгий, трудный, по глухим чащобам и буеракам. Раскольники встречали в дороге и беглых варнаков, и вольных промысловиков, и обиженный работный люд; видели и горе людское, и радость нечаянную. Двигались медленно по обходным тропам, ведущим к Камню[12], вдали от тракта и царских застав.
Никодим, с малолетства привычный к тяготам странствий, научил сотоварищей перед сном держать ступни сбитых до крови ног в отваре из дубовой коры. Через несколько дней кожа у всех настолько продубилась, что путники забыли про мозоли.
Наконец к середине августа показались оплывшие от старости мягкие предгорья, а за ними и вершины Уральского хребта, окутанные голубоватой дымкой, отчего они были похожи на головы седеющих великанов. Караван незаметно углубился в невиданное доселе царство вздыбленной тверди, покрытой темнохвойным лесом с упавшими деревьями, одряхлевшими пнями, рытвинами, прикрытыми ажурным папоротником. Время изрубцевало отроги шрамами, осыпями, промоинами. Входное ущелье, унизанное, словно пасть хищного зверя, скальными зубьями, как бы предупреждало путников об опасностях и лишениях, ожидавших их впереди. Из хмурой глубины хаоса хребтов на караван надвигалась непогода. Тайга глухо зарокотала, в скалах завыл ветер, следом начался дождь…
Разведав единоверческий скит, затерявшегося в горах, обтрепанные, промокшие ветлужцы перед штурмом главного перевала задержались у братьев по вере на неделю: чинили одежду, обувь, приводили в порядок снаряжение.
Вместо телег, непригодных для движения по горам, соорудили из березовых жердей волокуши и, перегрузив поклажу на них, двинулись к вздыбленному рубежу, отделяющему Европу от Азии.
Ущелье, по которому они поднимались на перевал, загибаясь вверх, ветвилось на более тесные и короткие распадки. Их склоны покрывали островерхие ели и выветрившиеся руины серых скал. Почти достигнув перевальной седловины, обоз уперся в непроходимый для лошадей обширный многоярусный ветровал из упавших друг на друга вперехлест сучковатых стволов. Пришлось поворачивать обратно и повторять подъем по сопредельному ущелью. Одолев затяжной каменистый подъем, наконец взошли на перевал.
Водораздельная седловина оказалась гладкой, словно вылизанной переползавшими через нее облаками. Лишь посередке торчало несколько разрушенных временем скальных пальцев, стянутых по низу обручем из обломков угловатых глыб. Отправившееся в свою опочивальню солнце висело еще достаточно высоко и прилично освещало окрестную панораму.
На востоке, вплотную подступая к предгорьям, насколько хватало глаз, волновался зеленокудрый океан, кое-где рассеченный витиеватыми прожилками рек и щедро украшенный перламутровыми блестками больших и малых озер. По его изумрудной ряби не спеша плыли тени облаков. Торжественное величие и бескрайность открывшегося простора внушали благоговение. Какое приволье! Сибирь!!! И тянется эта заповедная таежная страна сплошняком от Урала на восток до самого Тихого океана шесть тысяч верст!!! На южной и северной окраинах сибирская тайга редеет, а средний, весьма, кстати, широкий пояс в одну-две тысячи верст – это натуральные дебри, заселенные людьми только по берегам великих сибирских рек и отчасти по их притокам. Русский люд живет там, отрезанный от всего мира. Лишь одна постоянная ниточка соединяет эти огромные пространства Российской империи с Москвой и Санкт-Петербургом – Сибирский тракт.
Взобравшись на скалу, Никодим сел на уступ. Несмотря на приближение вечера, он был довольно теплым, и юноша невольно погладил ладонью шершавый, местами покрытый лишайником бок. Простиравшиеся перед ним дали действовали завораживающе. Душевное волнение, охватившее Никодима, усиливалось. Сердце переполняло желание воспарить в синеву неба и лететь вслед за плывущими по ветру рваными клочьями облаков и бесконечно долго созерцать горные вершины, изъеденные временем грани отрогов, распадки, речки, зеленую равнину, уходящую за горизонт. Состояние, в котором он находился, было ни с чем не сравнимо. Чувства предельно обострились. Ему даже чудилось, что он ощущает тончайший, едва уловимый аромат скалистых вершин, бодрящую свежесть родника.
Впервые оказавшись так высоко в горах, потрясенный Никодим упивался всей этой красотой и своими новыми ощущениями, словно ключевой водой в жаркий день, и как-то сразу, на всю жизнь, страстно полюбил эти вздыбленные цепи каменных исполинов – самое потрясающее и величественное творение Создателя.
Обнаружив за скалой озерцо с ледяной водой, братия, не долго думая, решила остаться ночевать прямо на его берегу. Солнце к этому времени уже зависло над зубчатым гребнем соседнего хребта. Закатный свет алыми волнами разливался по небесному раздолью, окрашивая грани отрогов нежным пурпуром. И такая библейская тишина воцарилась в округе, будто не существовало здесь ни птиц, ни зверей, ни деревьев. Казалось, что слышно, как перешептываются между собой горы-великаны…
Возбужденным путникам не спалось. Все лежали молча, в ожидании чего-то сверхъестественного и потустороннего: ведь отсюда до царства Творца, как им казалось, рукой подать. Однако все протекало как обычно. Своим чередом высыпали все те же звезды с Большой Медведицей во главе. Все та же медовая луна, недолго поскитавшись между них, скрылась за горизонтом. Сразу стало темно – хоть глаз выколи, зато над головой зажглась уйма новых звезд. Молодые иноки всматривались в густое узорчатое сито, в надежде узреть светящийся контур хоть одного-единственного ангела, но изредка видели лишь разрозненные черточки огненных стрел, разящих грешную землю.
Под утро край неба на востоке, еще не начав светлеть, стал как бы подмокать кровью, хотя солнце еще долго не покидало своих невидимых покоев. Наконец проклюнулась пунцовая капля и от нее брызнули первые лучи. Капля на глазах наливалась слепящим свечением и в какое-то неуловимое мгновение оторвалась от обугленной кромки горизонта и, на ходу раскаляясь добела, поплыла, пробуждая землю, погруженную в томную тишину и прохладу. Только гнусавый крик высоко летящего ворона нарушал царящий в горах покой.
Отстоявшийся и процеженный густой хвоей воздух за ночь настолько очистился, что утратил сизую дымчатость, и путникам удалось обозреть восточные земли на много верст дальше, чем давеча. Но и там простиралась все та же зеленая равнина без конца и края, без края и конца.
Сознание того, что до самого Тихого океана многие тысячи верст дикой, почти безлюдной тайги, будоражило и волновало воображение иноков. Они чувствовали: здесь граница, черта, отделяющая их от прежней жизни. На западе от нее хоть и привычный, но враждебный мир, на востоке же – неведомая, пугающе бескрайняя, страна Сибирская, в которой не мудрено и сгинуть…
Перед обязательной утренней молитвой Маркел достал аккуратно завернутую в холстину икону Семистрельной Божьей Матери, которая оберегала их в дороге, и водрузил ее на камень. После окончания службы путники еще долго стояли на коленях: глядя на святой образ, каждый просил защиты и покровительства.
Когда спустились с гор, притомившаяся братия единодушно поддержала предложение Маркела остановиться на зимовку на высоком берегу безвестного притока Сосьвы у подножья глубоко вклинившегося в равнину отрога. На речном перекате тихонько постукивала по дну мелкая галька, трепетно играли, скользили по воде солнечные блики, между которыми сновали бойкие пеструшки[13]. Небольшие волны мягкими кулачками то и дело окатывали песчаную косу. Это место, защищенное от северных ветров, идеально подходило для устройства временного стана.
У самого подола горы путники вырыли под землянки обширные ямы. Покрыли их накатником, завалили сухой травой и листвой, а сверху уложили пласты дерна. Земляные стены, чтобы не осыпались, укрепили жердями. Возле дверей с обеих сторон оставили небольшие проемы для света. В центре землянки из камня и глины сложили печи.
Подоспела золотая осенняя пора. Все окрест заиграло яркими, сочными красками. Сквозь хрустально чистый воздух отроги оставшихся позади гор проступили настолько рельефно и четко, что чудилось, будто они приблизились к становищу на расстояние вытянутой руки. Смолкли птицы. Природа, казалось, оцепенела от своей красоты, хотя вместе с этим все было пропитано грустью – не за горами зима, и тогда земля с небом сольются в белом одеянии.
Завершилась осень уныло: дождь, хмарь, утренние заморозки. Но успевшая наладить свой быт братия не тужила и занималась последними приготовлениями к зиме.
В один из таких промозглых вечеров их всполошил нарастающий гул. Встревоженные люди повыскакивали из землянок. С гребня отрога, прыгая по скальным уступам и разваливаясь при ударах на части, прямо на них летели громадные глыбы.
– Всем на косу! – скомандовал Маркел.
Когда камнепад стих, братия с опаской вернулась к лагерю. На их счастье, краем осыпи завалило лишь навес из корья, под которым вялилась рыба. Разглядывая широкое полукружье скатившихся камней, люди невольно содрогнулись: выкопай они землянки на саженей пятнадцать левее, они не уцелели б.
– Бес нас стращает, а Господь хранит и призывает к осторожности, – истолковал происшедшее Маркел.
Впоследствии даже перед кратким привалом путники всегда придирчиво посматривали на кручи, стараясь располагаться на безопасном удалении от подозрительных мест.
За Камнем разрозненные обители раскольников стали встречаться чаще, но Маркел, исполняя наказ князя, должен был вести братию еще несколько тысяч верст, за озеро Байкал. И потому весной староверы вновь тронулись в путь, через чащобы немереные, через топи, мхами покрытые, через реки полноводные, рыбой богатые.
Провидение и непрестанные охранные молитвы святого старца Варлаама помогали им в пути, а местные подсказывали дорогу.
Сколько уж поколений русского люда входит в эту Сибирскую страну, а все пустынна она – до того необъятны и велики ее пределы. Но как дружны, добры люди, ее населяющие.
Сибирская отзывчивость и взаимовыручка хорошо известны. Терпишь бедствие – все бросятся спасать тебя. Голоден – разделят с тобой последний ломоть хлеба. Взаимовыручка – непреложный закон этих суровых таежных мест – иначе не выжить! И неудивительно, что в душах сибиряков столько сострадания и сердечности.
Пользовались их гостеприимством и остававшиеся на зимовки у единоверцев ветлужцы. С приходом весны, как только подсыхала земля, братия снова трогалась, продвигаясь все дальше и дальше на восток, навстречу солнцу, начинающему новый день с неведомых пока им окраин великого Российского государства.
Местные староверческие общины принимали пришлых как своих и делились всем, что сами имели, а ветлужцы в ответ усердно помогали хозяевам чем могли: справляли конскую упряжь, плели чуни – сибирские лапти, гнули сани, мастерили телеги, бочонки для засолки, валили лес. Осенью били кедровые орехи – в Сибири мелкосемянная сосна сменяется кедром, родящим шишки с крупными, питательными семенами.
В Чулымском скиту два брата – Арсений и Мирон за зиму так крепко сдружились с ветлужцами, и особенно с Никодимом, что весной, немало огорчив родню, пошли вместе с ними, не убоявшись неизвестности и тягот дальнего перехода. В их глазах отважные странники с Ветлуги были подвижниками, Богом отмеченными хранителями первоисточного православия.
Следуя писанному старцем Варлаамом уставу, на каждой зимовке один, а то двое или трое обзаводились семьями. И что любопытно, первым женился самый молодой – Никодим. Женился он на полногрудой, с милоовальным лицом девице Пелагее – дочери Феофана, наставника беспоповской общины, приютившего их взиму 1872 года на берегу Убинского озера. Благословляя дочь крестным знамением, Феофан отечески наставлял:
– Мужа почитай, как крест на главе часовни. Муж во всем верховодит. Твое дело рожать да детишек воспитывать.
Послушная Пелагея еще в дороге принесла Никодиму сразу двойню: сына Елисея и дочку Анастасию.
Забайкальский скит
Путникам не единожды пришлось менять изъезженных коней и разбитые волокуши, прежде чем добрались они наконец к середине лета 1873 года до стрельчатых гор Байкальского края, с давних пор облюбованного раскольниками. Стремясь сюда по воле преподобного Константина, одолели они по утомительному бездорожью многие сотни верст монотонности равнинного пространства, переплыли на плотах немало могучих рек, кипящих водоворотами так, словно в их глубинах беспрестанно ворочаются гигантские чудища, истоптали с дюжину лаптей.
Натерпелась братия в дороге лишений с избытком. Двое, те, кто послабже, остались лежать под могильными холмиками с деревянным срубом и кровлей на два ската поверх, согласно старому обряду. К счастью, не померли в пути ни одна из десяти супружниц ветлужской братии и ни одно народившееся в дороге дитя. Видно, сам Господь заботился о преумножении их общины. Из самих ветлужцев достигло цели семнадцать самых крепких духом и телом. Самому младшему из них, Тихону, как раз исполнилось семнадцать годков.
Место для поселения нашлось как-то само собой. Пройдя между нагромождений исполинских валунов и обломков скал, закрывавших вход в широкое лесистое ущелье, люди увидели среди насупленного ельника чистый пригожий березняк. На ветвях мелового цвета там и сям чинно восседали тетерева. Путники, умаянные угрюмостью байкальской тайги, невольно заулыбались, оживились. Тут же текла речушка с прозрачной водой. Вдоль берега тянулась поляна с янтарно-пламенной морошкой, едва ли не самой вкусной и сочной, просто тающей во рту, ягоды, совмещающей в себе вкус спелой дыни с тонким привкусом земляники.
Только достигнув цели, путники осознали, сколь рискованное и тяжелое странствие они завершили. Ведь на немереных и нетронутых сибирских просторах могут разместиться десятки иноземных государств!!! Но старообрядцы с Божьей помощью одолели-таки это невообразимо огромное пространство.
Теперь им предстояла большая работа по устройству поселения, но никто не роптал – все понимали, что как на голом камне трава не растет, так и без труда жизнь не налаживается.
Выбрав для строительства скита-деревни пологий увал, неподалеку от речушки, Маркел объявил: «Негоже нам, православным, ютиться дальше в сырых землянках. Избы будем ставить добротные, дабы потомство наше здоровым духом крепчало. Зимы здешние суровей расейских, потому и готовиться надобно основательно. Рыбы в достатке ловить, мясо вялить, орехи колотить, дрова готовить, коренья копать. Хорошо потрудимся – выживем, послабу себе дадим – пропадем!»
Освятили облюбованное место, отслужили молебен и споро взялись за дело. С расчищенного от леса увала с утра до вечера несся дробный перестук топоров, звон пил.
Места под избы выбирали так: раскладывали на земле куски толстой коры и через три дня смотрели – если под корой пауки да муравьи – плохое место, если дождевые черви – подходящее. На исходе шестой седмицы, когда мягкую хвою лиственниц окропили рыжими пятнами первые утренники, на увале поднялось несколько желтостенных, слезящихся янтарной смолой жилых построек, а как снег лег, так и просторный, с расчетом на подрастающее пополнение, молельный дом вырос.
Все постройки освятили нанесением на стены изображения восьмиконечного креста и окропили святой водой. Теперь можно было и жить, и служить по чину.
Но раньше всех у студеного ключа, впадавшего в речушку, выросла курная баня с каменкой для томления в жарком пару – первейшая отрада русского человека. После ее посещения, исхлеставши тело духмяным березовым веником, всякий молодел, светлел: морщины разглаживались, хворь отступала. Недаром на Руси говорят: «Кто парится – тот не старится». Можно только дивиться тому, что, по заветам византийских монахов, мытье с обнажением тела считалось грехом. Слава богу, этот неразумный для северной страны посыл русским православием не был принят, и вековые обычаи мыться в бане с веником не только держатся, но и укрепляются, несмотря на греческие проклятия.
Время пролетало в каждодневных хлопотах: труд до седьмого пота и молитвы, молитвы и снова труд. На трапезу уходили считанные минуты. Отдохновение? О нем и не думали – приближалась зима!
С Божьей помощью успели насушить грибов, изрядно наловить и навялить рыбы, собрать брусники, клюквы, набить орехов. Потом, уже по снегу, готовили дрова, строили для дошедших лошадей и четырех коров, купленных у устьордынских бурятов, бревенчатый сарай. И даже соорудили из врытых стоймя в землю и заостренных сверху бревен ограду. Получился настоящий скит.
Однако наипервейшим делом поселян всегда было служить Господу и угождать Господу. Служить и угождать не столько словами, сколько делами, ибо в Соборном Послании святого апостола Иакова сказано: «Вера без дела мертва есть». В двунадесятые праздники богослужение свершали особенно усердно: вплоть до восхода солнца.
Духовную брань промеж собой не допускали. Жили единым уставом, Варлаамом писанным, согласно помогая друг дружке. И никакие происки и соблазны дьявола не могли нарушить лад в общине, ибо сама их благочестивая жизнь отстраняла от всего лукавого.
Зима явилась в одну ночь. Вчера еще было довольно тепло, сухо шелестели под ногами опавшие листья, и – на тебе! – за ночь тайга и горы покрылись глубоким саваном, загнавшим в теплые норы и дупла все живое, а главное, к неописуемой радости людей, сгубившим наконец проклятущую мошкару.
Через пару недель ударил и лютый мороз. Лед на речушке от вцепившейся стужи трескался, а ненадолго выглядывавшее солнце, еле пробиваясь сквозь витавшую в воздухе изморозь, не грело.
Первая зимовка на новом месте далась тяжко. Хлеба не хватило даже на просфоры[14].
Маловато заготовили и сена для скотины: зима оказалась длиннее и студенее, чем ожидали. К весне люди стали страдать еще и от нехватки соли. Слава богу, хоть дров было с избытком – не мерзли.
После крещенских морозов не выпадало и пары дней без пурги. Ветер, сгоняя с гор густые залпы снега, сутками яростно бился о бревенчатые стены, заметая все, что возвышалось над белым покрывалом. В его реве слышалась затаенная глухая угроза. Забравшись в трубу, ветер завывал особенно тревожно. Двери в домах пришлось перевесить с тем, чтобы они отворялись внутрь избы – за ночь так наметало, что их засыпало до самого верха. Скитники, по первости пытавшиеся прокапывать в снежных наметах между постройками траншеи, бросили это бессмысленное занятие и стали ходить за дровами и к хлеву, кормить коров и лошадей, чуть ли не по крышам.
От голода поселенцев спасла охота. На лосей и зайцев в основном. Мясной бульон и строганина из лосятины с лихвой возмещали нехватку других продуктов. Так, благодаря терпеливости, усердному труду и приобретенному в пути опыту студеную снежную пору пережили с Божьей помощью без потерь.
* * *
Весна! Ее живительный натиск разбудил ручьи. Оттаявшая земля источала дух прелых листьев. На ветвях набухали смолистые почки. Вербы у реки покрылись нежным, желто-серым пухом. Молодая травка, с трудом пробивая сплошную коросту прошлогодней листвы, торчала изумрудной щетиной, особенно яркой на фоне белых наледей. На разлившейся речке и старицах буйствовали на утренней и вечерней зорьках пернатые. Треск крыльев, свистящий шум прилетающих и улетающих стай, плеск воды заполняли в эту пору воздух. После многомесячной тишины и спячки это было подобно извержению жизненной лавы.
Новоселы радовались, как дети, обилию птиц, сочным побегам дикого чеснока, первым желтеньким цветкам мать-и-мачехи, расцветшим на южных склонах. Еще бы: только что закончился строгий пост, и они все изрядно исхудали. С Божьей помощью охотник Игнатий разыскал глухариный ток и с дозволения наставника Маркела наладился промышлять слетавшихся на любовные утехи грузных, краснобровых таежных красавцев. Для их поимки он соорудил между кустами невысокие загородки с воротцами и насторожил ловушки. А при охоте на оленей и коз его выручала неказистая, но с отменным боем кремневка.
За лето внутри скитской ограды выросло еще девять крепко рубленных изб, с широкими крылечками под навесом. Теперь все семьи имели отдельные жилища. В каждой избе два окна на лицо и по одному сбоку. Лицевые окна и карнизы украсили резными узорами. Их рисунок ни на одном доме не повторялся. Наученные горьким опытом миновавшей зимы, новоселы соорудили между всеми постройками, для защиты от снежных заносов, крытые переходы.
Сами дома покоились на высоких подклетях. Неподалеку летники, амбары. У крайних изб торчали две смотровые вышки. Посреди поселения красовался молельный дом с иконостасом внутри и деревянным билом[15], подвешенным над крыльцом, – для призыва на службу или сход. На задах устроили огородные грядки под капусту, лук да морковь с редькой.
Приверженцы старых порядков обрели наконец долгожданное убежище.
За частоколом, опоясывавшим скит, сразу, как сошел снег, расширяя поляну, начали валить деревья. Корчевали, вырубали толстые ползучие корни: очищали под пашню первые лоскуты «поля». Потом каждый год ее всем миром наращивали, защищая от набегов диких зверей лесными засеками.
Самый возвышенный участок отделили от пашни изгородью. На нем содержались, под охраной собак, лошади и коровы. Возле дома Маркела под приглядом петуха рылись в земле три курицы. Хоть и немного лошадей и коров было в скиту, но все равно не один стог надо было сметать на лесных полянках, чтобы хватило до следующей косовицы.
Как только прогревалась, отходила от стужи земля, начиналась полевая страда. Трудились в эту пору все. Бабы на огородах сажали овощи. Мужики на отвоеванных у тайги делянах пахали, разваливая сохой с железными присошниками бурые, влажные комья густо пахнущей земли, потом боронили и приступали к севу. Тут уж и подрастающей детворе приходилось подключаться – бегать по пашне и гонять грачей, чтобы те не успели склевать зерна ржи, ячменя и проса до того как борона прикроет их землей. Одну деляну оставляли под драгоценную картошку. Родилась она здесь на славу.
Из-за малости пашни в первые годы в ржаную муку для выпечки хлеба добавляли размолотые в ступе высушенные корневища белой кувшинки. Питались же, пока создавали запасы зерна, в основном похлебкой из мяса да ягодами с орехами.
Трудно давался хлеб в этих краях. Одна только корчевка сколько сил отнимала! Но как благостно было видеть среди дикой хвойной чащобы небольшую, колышущуюся волнами золотой ржи деляну – летом или сложенные крестцами снопы – осенью. Все это живо напоминало родимый край. Уже в первую жатву новопоселенцы были изумлены результатом: хлеба здесь не только вызревали, но и родили завидный, много лучший, чем на Ветлуге, урожай.
Боголюбивые скитники строго блюли посты. В свободное от молитв время они, наряду с полевыми работами и заготовками съестных припасов, ладили домашнюю утварь, выделывали кожи, кроили и шили из них одежды, сидя за пяльцами, вышивали пелену, занимались рукоделием, кололи дрова, корчевали деревья.
Детей с малых лет учили беспрекословному послушанию, без своенравия, в смиренной любви ко всему живому. Занимался с ними в молельном доме сам Маркел. Обучал грамоте и Слову Божьему. После занятий детвора летом играла в городки, лапту; зимой они катались на салазках, рыли в глубоких сугробах лабиринты снежных пещер.
В пору редких посещений уездного городка, находившегося в сотнях верст от них, старообрядцы с грустью и сожалением отмечали там блуд, пьянство, слышали речь, обильно испоганенную постыдными словами. Виденное только укрепляло их веру в то, что обособленность разумна, а соблюдаемое ими вероисповедание единственно праведное.
Так прожили ветлужцы без малого тринадцать лет и полюбили угрюмую байкальскую тайгу и окружавшие их горы, как отчий дом. Щедро поливаемая потом земля в ответ благодарно кормила их.
Правда, однажды случилось бедствие, наделавшее немало убытку и беспокойства. В горах прошли обильные дожди, и по реке прокатился паводок невиданной силы. Ревущий поток, несший на себе коряги, валежины, камни, упорно подмывал цепляющиеся изо всех сил плетями корней за берег деревья. Корни от натуги лопались, и зеленые великаны, склоняясь все ниже и ниже, в конце концов с плеском рушились в объятую непонятным гневом воду.
Наводнение унесло бани, но больше всего скитников огорчило то, что смыло треть пашни с уже туго налившимися колосьями ржи и ячменя. Однако эти потери, в сравнении с последовавшими через год, как оказалось, были пустячными…
Налетела беда на их скит нежданно-негаданно. Удалой люд разведал в окрестных горах на галечных косах студеных речушек богатые россыпи золота, и тихий, благодатный край в однолетье охватила золотая лихорадка.
Потянулся сюда разношерстный лихой люд. Кто мыть золото, кто скупать, кто, собравшись в ватаги, грабить и тех и других. По ручьям росли, как грибы после дождя, стихийные поселения. Следом, для проведения описи и сбора налогов, заявились государевы чины. Неспокойно стало в дремавшей прежде округе.
Добрались казаки в начале апреля по прелому снегу перед Пасхой и до скита старолюбцев.
– Отворяй ворота, ревизия, по приказу генерал-губернатора, – зычно проревел подъехавший на санях в новехоньком мундире, перетянутом скрипучими ремнями, молодой подъесаул.
За ограду вышли Маркел, Никодим и трое из братии.
– Ты уж прости, чуж-человек. К нам в скит не можно. Мы с миром дел не имеем. Живем потихоньку, никого не трогаем и сами своих уставов никому не навязываем, – степенно и твердо заявил Маркел.
– Я тебе покажу, чертова образина, «не можно»! – заорал разъярившийся чин и приставил остро заточенную саблю к шее ослушника. – Бунтовать вздумал? Прочь с дороги! На каторгу в кандалах упеку!
Стоявший сбоку Колода, детина медвежьей силы, не стерпев прилюдного оскорбления наставника, так хватил пудовым кулаком обидчика по голове, что свернул тому шею. Офицер рухнул на снег замертво. Перепуганные казаки подхватили тело командира и спешно развернули сани обратно.
– Еще покажитесь, двоеперстцы треклятые, отродье недобитое, – прокричал один из них, отъезжая.
Маркел, осознав весь ужас и страшную нелепость происшедшего, наградил Колоду полновесной затрещиной:
– Кротостью и смирением надобно бороться со злом. Ответ на удар вызывает новый удар, а кротость, наоборот, гасит его.
Верзила воспринял внушение как должное, не посмев даже рта открыть.
Никто не заметил, как в начале этой стычки с дальних грузовых саней скатился на снег и заполз под разлапистую ель связанный человек. Когда ржание коней и гиканье казаков стихли, беглец несмело подал голос:
– Эй, почтенные!
Все еще топтавшиеся у ворот скитники невольно вздрогнули:
– Спаси Исусе и помилуй! Кто здесь? – прогудел Колода.
– Лешак я – казачий пленник. Развяжите, благодетели!
Колода с Никодимом опасливо приблизились и, перекрестившись, сняли путы с рук лежащего.
Со снега поднялся крепкотелый, простоватый с виду мужик, в вонючем коричневом зипуне, в грязных чунях и онучах[16]. Весь квадратный, с короткими, словно обрубленными, руками, с торчащими, черными от въевшейся грязи пальцами. На загорелый лоб из-под плотно надетой шапки выбивались немытые вихры густых темно-рыжих волос. Взъерошенная бородища, медно поблескивая в лучах заходящего солнца, укрывала широкую грудь. Из-под мохнатых бровей хитровато буравили скитников прищуренные глазки. Судя по повадкам, человек бывалый и ухватистый.
– Воистину лешак! Кто таков и откель будешь?
– Вольный я, без роду и племени. Нынче в старателях удачу пытаю, – дробной скороговоркой отрапортовал арестант.
– И давно промышляешь?
– Да где уж! Мне от роду-то всего двадцать три.
Скитники изумленно переглянулись: на вид бродяге было за тридцать.
– За что ж повязали?
– Дак золотишка чуток намыл. Хозяин питейного заведения прознал про то. Не погнушался, пройдоха, чирей ему в ухо, и по бражному делу обобрал, а утром, шельма, сам же и указал на меня, яко на беглого колодника с Ангары-реки, холера ему в дышло. Правды-то в этих чащобах не сыщешь – поди медведю жалуйся. Но Господь милостив – вас, спасителей, послал. Благодарствую вам, люди добрые! – Лешак отвесил обступившей его братии низкий земной поклон. – А подъесаула ты, дядя, крепко огрел! Силен! Чирей тебе в ухо, – уважительно добавил он, обращаясь к Колоде. – Токо вот што я скажу: таперича оне от вас не отвяжутся. Одно слово – бунт! Как пить дать вышлют карательну команду. Иха власть велика! Надоть уходить вам отсель, покуда не поздно. Иначе не миновать смертной казни зачинщикам, да и остальных в кандалы и на каторгу. А дома ваши в разор пустят.
– Спору нет, грех свершен великий, да ведь ненароком, не по злому умыслу. Молитвами и покаянием искупим его. А казаки вряд ли скоро явятся: через пять – шесть дней пути не станет – распутица, до уезда же только в один конец седмина ходу. Но что верно, то верно: оставаться нам здесь не след – житья проклятые щепотники теперь тем паче не дадут, – рассудил Маркел.
На соборе решено было по речке уйти на Лену и в тамошних горах искать глухое, безлюдное место.
По распоряжению наставника братия, не мешкая, отправилась готовить лес для лодок. Никодим, выбирая подходящие для роспуска на доски стволы, заметил Лешака, кружившего неподалеку.
– Дозволь, почтенный, слово молвить, – вместо приветствия выпалил старатель, поспешно стянув с головы шапку. – Можа, негоже мне в чужи дела соваться, да помочь ведь могу. Прибился к нашему прииску ишо осенью один схимник, вашего староверческого роду-племени, человек души ангельской. Так вот, сказывал он мне однажды, што ведом ему на севере скит потаенный, Господом хранимый… Я и подумал: ежели пожелаете, могу доставить того схимника к вам для расспроса, тока с условием, што, коли столкуетесь, то и меня туды прихватите. Можа золота самородного али шлихового там сыщу. Мне тамошние места слегка знакомы: с казаками из Алдана в острог ходил, а скит тот заповедный где-то в тех краях.
– Такое надо с братией обсудить, – сдержанно ответствовал Никодим.
Вечером скитники долго ломали головы над предложением Лешака, взвешивая все «за» и «против». Сошлись на том, что встреча с монахом будет не лишней: вдруг он и в правду скажет что дельное.
Поутру вышли к уже стоявшему у ворот Лешаку.
– Вези своего знакомца, послушаем его самого. Только вот как ты его доставишь? Снег-то поплыл, того и гляди вода верхом хлынет!
– Пустячное дело! До нашего прииска, ежели напрямки, недалече. Коли дадите коня и хлеба, то мигом обернусь.
Через день Лешак действительно привез худого высокого человека неопределенного возраста с голубыми, прямо-таки лучащимися добротой и любопытством глазами на прозрачном, кротком, точно у херувима, лице, в драной рясе из мешковины и длиннополой домотканой сибирке, висевшей на нем, как на голом колу.
Сотворив уставные метания[17] и обменявшись приветствиями, все зашли к Маркелу и долго, дотошно пытали монаха:
– Правда ли, что есть на севере потаенный староверческий скит? Бывал ли сам в нем? Далеко ли до него? Крепко ли то место? И верно ли, что беспоповцы там живут?
– Доподлинно ведаю, есть такой беспоповский скит. Сам живал в нем – я ведь тоже беспоповец, только бегунского толка[18]. Сторона та пригожая. Отселя верст, пожалуй, с девятьсот будет. Дорогу я вам обскажу в подробностях, но прежде хотел бы потолковать очи на очи. – При этом схимник кивнул Никодиму и вышел из избы.
Отсутствовали они не долго. О чем беседовали – неведомо. Вернувшись, схимник принялся рисовать карту, давая по ходу подробные пояснения.
– А сам скит-то где будет?
– Вот здесь, в этой впадине… Только нет к нему иного пути, окромя водного. Поторапливаться вам надобно. Даже до прииска слух докатился, что на вас карательный отряд готовют. Как вода спадет, так вышлют.
Монах отвесил поясной поклон и со словами «Храни вас Бог, братушки» уехал обратно на Никодимовой лошади.
Покамест мужики мастерили лодки-дощанки, конопатили, смолили бока, крепили мачты, женщины паковали скарб, сшивали для парусов куски полотна, собирали провиант в дорогу. Лошадей и коров пустили под нож, а нарезанное тонкими ремнями мясо коптили, вялили в дорогу.
Как только проплыли крупные льдины, снесли приготовленное к речке. Дружно волоком по каткам стянули к ней и суденышки. Все было готово к отплытию. Уж и бабы с тепло одетой ребятней собрались на покрытом галькой берегу.
Никодим с Маркелом покидали скит последними. Они окинули его прощальным взором, смурно переглянулись:
– Эх, сколько годов здесь прожили: и горести и радости познали, к каждой избе, к каждой тропке привыкли. Огорчительно предавать огню политое потом хозяйство, но не оставлять же его христопродавцам на поругание! – молвил Маркел. Никодим молча кивал головой.
Тяжко вздыхая, они запалили избы и пошли к реке…
Снова в пути
Караван плоскодонок, подхваченный весенним половодьем, лихо несся по стремнине реки. Волны, разбиваясь о дощаные борта, то и дело захлестывали в лодки, орошали беглецов ледяными брызгами. Женщины и детвора зябко ежились, а мужики не обращали на брызги внимания: они едва успевали отталкиваться шестами от угловатых глыб, норовящих своими мокрыми выступами опрокинуть утлые суденышки и отправить людей в бурлящую утробу своей норовистой хозяйки – реки.
Позади разрасталось жуткое зарево с клубами черного дыма. Оглядываясь время от времени в сторону горящего поселения, суровые старообрядцы смущенно сморкались, иные не скрывали своих слез, а бабы и вовсе ревели как белуги: великих трудов и обильных потов стоило общине укорениться, обустроиться в этих диких местах.
Поутру третьего дня, обгоняя караван, вдоль берега пронеслась белой метелицей, оглашая округу трубными криками, стая лебедей. Вслед ей ринулся холодный ветер: предвестник ненастья. По воде побежала кольчужная рябь. Отражения берегов покоробились, закачались. Вскоре зашептал частый, мелкий дождь. Река потемнела, нахмурилась. Мохнатые тучи, слившись в сплошную череду, беспрерывно сыпали студеную влагу на унылую пойму, рассеченную извивами русла. Временами дождь, словно очнувшись, начинал хлестать напропалую, ниспадая на землю колышущимися завесами.
Все промокли, задрогли. Тревожась за здоровье ребятни, Маркел распорядился причалить к берегу и разбить на взгорке лагерь. Спешно соорудили из жердей каркасы, покрыли их толстым слоем лапника и залегли в ожидании конца ненастья. Прошли сутки, а дождь все лил и лил.
Вода в реке стала прибывать. Берега раздвигались прямо на глазах. Быстрый подъем воды был связан еще и с тем, что вечная мерзлота не давала возможности дождевой влаге уходить в землю и она почти вся скатывалась в русло. Поэтому здешние реки в паводок представляют собой неукротимую стихию с бешеным, непредсказуемым норовом. Вырвавшиеся из берегов потоки в слепой ярости все смывают на своем пути, громоздят на излучинах огромные завалы. Запертая река порой вынуждена пробивать новое русло прямо через вековую тайгу, оставляя старому, забитому стволами ложу удел тихой и мелководной протоки, зарастающей со временем.
Стан староверов располагался на высоком, вытянутом мысу. Его покрывали сплоченные ряды елей и лиственниц. Вдоль берега росли береза, рябина, шиповник. Казалось бы, здесь, на лесистом возвышении, ничто не могло угрожать путникам. Каково же было их удивление, когда, проснувшись утром, они обнаружили, что со всех сторон окружены водой: своевольная река за ночь промыла перешеек излучины и, укоротив таким образом свой путь к морю, заодно отрезала людей от коренного берега.
К счастью, дождь, медленно ослабевая, удалялся. Сквозь вороха туч ударили истомившиеся в заточении лучистые столбы. Лес, залитый живительным светом, загорелся празднично, весело.
Караван, не мешкая, покинул новорожденный остров. Замутившаяся вода, грозно поблескивая золотистой чешуей, увлекла, понесла дощанки мимо вздрагивающих под напором воды подтопленных деревьев. Искусство кормчего теперь состояло лишь в том, чтобы не сойти с основного стрежня и не врезаться в какую-нибудь корягу или залом.
На исходе одиннадцатого дня полноводный поток вынес караван на широкую реку. Беспрестанно собирая притоки, она и дальше продолжала раздаваться вширь. Местность изменилась. Горы расступились, смягчились их очертания. Появилась возможность поднять паруса. Хлебнув попутного ветра, они повлекли суденышки на север, мимо крупноствольных лесов, чередующихся то разводьями унылых марей, укрытых пружинистыми мхами, куртинами низкорослой голубики, то взъерошенными перелесками чахлых березок и лиственниц.
Сколь жалки на вид эти корявые, сутулые упрямцы, вступившие в схватку с безжизненной заболоченной почвой: вершины засохли, стволики хилые. Растут, бедные, заваливаясь в разные стороны, с трудом держась разлапистыми корнями за мягкую моховую подушку. Некоторые, словно намереваясь искупаться, вошли в воду и остановились. Иные же упали, и только растопыренные широким веером корни высовываются из воды, как руки тонущих. Но не будь этих отважных первопроходцев, некому было бы создавать почву для наступления высокоствольных лесов.
Встречались и обрывистые берега с льдистыми выходами вечной мерзлоты. С их краев прямо в воду свисали лохмотьями огромные куски дерна.
Побережья безлюдны. Только однажды раскольники увидели три коптящих небо остроконечных берестяных чума коренных жителей – эвенков. Чуткие глазастые собаки кочевников первыми высыпали на берег разношерстной стаей и дружным лаем подняли переполох в стойбище. Из чумов вышли пестро одетые краснощекие эвенкийки и детвора. Увидев караван больших лодок с белыми полотнищами на длинных жердях, они застыли, будто припаянные морозом.
Чтобы избежать лишних разговоров, осторожные старолюбцы решили не останавливаться. На ночлег устроились далеко за полночь верст через семнадцать.
Шел двадцатый день пути, когда в речном просвете вновь замаячили острозубые гребни хребтов. Люди сразу оживились: из дорожных наставлений схимника следовало, что скоро сворачивать в приток, вливающийся в основной поток сквозь узкое, словно прорубленное мечом, ущелье.
Все сошлось. К полудню следующего дня подплыли к островерхому камню, одиноко торчащему посреди реки. Сразу за ним взяли вправо и зашли в теснину из громадных скал, похожих на лица каменных богатырей, грозно и угрюмо взирающих на незваных гостей. На «карте» это место было обозначено как «чертова пасть». В скором времени путникам довелось убедиться в меткости названия.
Саженей через семьсот стены теснины расступились, по берегам появились косы и отмели, но уже через версту межгорная долина, сжимаемая отрогами, вновь сузилась. Отсюда вверх по течению поднимались на шестах. Вот уж где попотеть пришлось! Мужиков выручала отработанная слаженность: все, кто стоял с шестом, одновременно, по команде кормчего, отталкивались, сколь доставало силы, от каменистого дна. Лодка, под надсадный крик людей, рывком шла вперед, и за этот миг мужикам следовало без промедления вновь перебросить шесты вперед, под себя, и опять дружно, что есть мочи, оттолкнуться. И так многие тысячи раз!
Утром четвертого дня, с начала подъема, обогнули отвесный отрог. Долина за ним расширялась, и речка разделялась на два рукава. Неукоснительно следуя дорожным наставлениям, «флотилия» дощанок направилась в правый, более полноводный рукав, с прозрачной, изумрудного отлива, водой. Слепящие блики солнца красиво метались на ее высоко подпрыгивающих бурунах.
По берегу, вдоль самой кромки воды, давя пеструю цветную гальку, навстречу им брел медведь. Заметив караван, подслеповатый зверь встал на задние лапы и, приложив к глазам переднюю, пытался понять, кто же вторгся в его владения. Сослепу приняв дощанки за плывущие коряги, он успокоился и продолжил прерванное занятие – ворочать валуны, слизывая с их влажных боков любимое лакомство – личинки ручейника. Следом показался второй косолапый. Тоже уставился на караван и для острастки заревел: мол, плывите, но знайте – хозяин тут я.
Дальше на отмели, нахохлившись, стояли, нацелив вниз клювы, цапли. Они с подозрением косили желтыми глазами и на всякий случай отлетели в глубь заводи, обрамленной осинами с городищем гнезд, по три-четыре на каждой.
Лодки меж тем упрямо продвигались к громадам пепельных хребтов, изрезанных лабиринтами ущелий. В глубоких разломах и нишах белые отметины снега. Горная, неприступная страна! Все здесь было необычно. Дико, очень дико и голо кругом. На скалах выживали только желто-серые лишайники.
Берега прорезавшей нагорье речки вздымались здесь на сто сажен и были так близки друг к другу, что солнце в эти каменные теснины заглядывало лишь в середине дня. Сверху с них искристым бисером беззвучно ниспадают белобородые водопадики. Попав в столь мрачное, неприютное царство, люди даже оробели от обступившего их холодного, неприступного величия.
Отвесные стены испещрены пластами разноцветных пород: то серых, то желтых, то красноватых. Перед путниками как бы раскрывались страницы летописи, запечатлевшей несчетное число лет жизни на земле. Но они не задумывались об этом. Для них это была просто мрачная теснина, которую следует как можно быстрее проплыть.
На каждой стоянке шебутной Лешак в поисках знаков золота мыл песок. Но ничего путного в пробах не находил: в лучшем случае выпадали один-два знака.
Сжимаемая хребтами, река становилась все напористей и бурунистей. Кипя и пенясь, без устали мчала она свои воды по уступам и извивам каменистого ложа. Сила течения местами была столь велика, что сквозь шум потока доносились глухие удары перекатываемых водой валунов.
С утра шлось полегче. К полудню же оживал дремавший в верховьях речки ветер. Разгоняясь по узкой трубе каньона, он в союзе с бегущей навстречу водой, старался повернуть лодки вспять. Вероятно, другие впали бы от накативших препятствий в отчаяние, но непреклонные староверы, невзирая ни на что, упорно продвигались вперед. Было в этих людях нечто сильнее мускулов. Это «нечто» – сила ДУХА, позволяющая совершать невозможное. Дружно наваливаясь на шесты, они рывком, раз за разом проталкивали лодки вперед. Соленый пот заливал глаза, рубахи липли к спинам, а груженые дощанки вершок за вершком ползли к цели.
В местах, где течение было особенно стремительным, за шесты брались и бабы. Особенно ловко орудовала им супружница Прокла – дородная Марфа. Несмотря на солидный вес и неповоротливость, она не уступала иным мужикам. Когда все изнемогали от усталости, Маркел объявлял остановку для отдыха.
На одном из порогов лодку, в которой плыл Никодим, развернуло поперек русла. Мощное течение подхватило неуправляемую, залитую водой посудину и затянуло под скалистый прижим. Слава Богу, никто не утоп. Однако водоверть унесла немало полезной утвари. Больше всего расстроила утрата двух топоров и пилы.
Чем ближе к истокам, тем строптивее, норовистее становилась речка. Вскоре она превратилась в череду водопадов. Упругие, лоснящиеся потоки, низвергаясь со ступенчатых уступов, ударялись о скальное дно и иступленно бушевали в выбитых за многие столетия каменных котлах, сотрясая своим ревом округу.
Над всем этим многоголосием висели белесые облака водяной пыли, орошавшие скальные берега. Путникам в некотором смысле повезло. Выпал как раз тот редкий час, когда солнце заглянуло в каньон и над каждым сливом зажглась лучезарная радуга – арочные ворота в сказочный, неведомый мир, из которого то и дело выпрыгивали хариусы, с цветистыми, словно отражения этих радуг, высокими спинными плавниками. Всю эту картину обрамляли отвесные скалы, контуры которых терялись во влажной дымке.
– Неужто все, дальше не пройти?!
Братия пригорюнилась. Дергаясь от толчков шестами, подползла и пристала к берегу последняя, седьмая, лодка с Маркелом. Осмотревшись, он прокричал, стараясь пересилить шум воды:
– Надо искать волок! Я и Колода пойдем вон к той расщелине, а Никодим с Тихоном переплывите речку и осмотрите противоположный берег. Потом решим, где сподручней обходить. Остальным пока отдыхать.
Разведчики вернулись только к вечеру. По правому берегу, который исследовали Никодим с Тихоном, обход оказался неудобным – расщелины слишком крутые. Решили пробиваться по левому. Из стволов, застрявших на береговых уступах во время паводка, изготовили катки. К днищам лодок для большей сохранности подвязали полозья – обтесанные березовые жерди. Подъем планировали начать с утра, но до полудня не могли тронуться – плотный туман затопил ущелье, точно густой серый дым от костра, заваленного сырыми ветками.
Чтобы выбраться на пологий участок, пришлось до вечера затягивать лодки в верховья ключа, стекавшего по расщелине, а потом уже с утра следующего дня потащили их по каменному плато до обширного снежника, заполнявшего котел между скальными грядами. Одна из скал в этой гряде напоминала циклопическую голову плосколицего идола. Он смотрел на измученных людей, скривив рот в злорадной ухмылке.
На его плешивой макушке стояли бараны-крутороги. Залюбовавшись грациозными животными, путники невольно остановились. Табунок насторожился и бросился вниз. Самый лихой баран, забежав на оледеневший снежник, покрывавший северную «щеку» идола, вдруг сел на круп и молодцевато покатился вниз. Люди затаили дыхание: казалось, рогач неминуемо разобьется о камни, лежащие у подножия, но в самый последний момент круторог ловко вскочил на ноги и, оказавшись уже впереди всех, как ни в чем не бывало скрылся за грядой.
От оледеневшего снега, годами копившегося и прессовавшегося в этом котле, веяло холодом и сыростью. Люди из лета как бы угодили в зиму. Зато плоскодонки скользили по природному «катку», длинным языком сползавшему к берегу выше водопадного места, как по маслу. Для того чтобы они не разгонялись, их даже приходилось придерживать сзади.
Речка выше каскада порогов приняла их приветливо, без кипучей толчеи волн… Обход так измотал людей, что на ночевку встали, не дожидаясь вечера. Лешак, не мешкая, спустился на косу и промыл в лотке песок. В шлихе собралось около семидесяти крупных зерен пластинчатой формы. Сгрудившись в головку, они, как угли гаснущего костра, испускали тускло-желтый свет. В глазах старателя загорелся азарт и лихорадочно запрыгали искорки алчности. А когда он обнаружил в прибрежной гальке тяжелый угловатый самородок размером с картофелину, то и вовсе в раж впал: принялся дико вопить, плясать, сотрясая поднятые в невообразимом восторге руки… Наконец старатель утихомирился и, шмыгая мясистым носом, объявил:
– Благодарствую, братушки, уговор соблюли. Я здесь остаюсь. Вам же желаю обрести то, чего ищете!
– Ну что ж, вольному – воля, а спасенному – рай, – дивясь и в то же время тихо радуясь, ответствовал Маркел. – Может, еще и свидимся когда… Отдели ему, Марфа, снеди без обиды.
На следующий день на шестах отмахали сразу четырнадцать верст. Но радость была недолгой: речка вошла в очередной горный узел. Горы! Кругом горы! И справа и слева горы, горы, горы, вершины которых теряются в клубах тумана. На мрачных скатах угрожающе торчат зубья скал. С каменистых выступов низвергаются жемчужными нитями ручьи. А в тесном ущелье мчит, беснуется обезумевший поток, супротив которого медленно, но упорно ползут лодки.
Вскоре речку покрыли новые пороги: гряды базальтовых «сундуков», выставивших из воды мокрые, отполированные крышки. Холодная вода неслась между ними так быстро, словно пыталась согреться. Мужики, одолевшие уже немыслимое число преград, в сомнении зароптали:
– Может, тот схимник со злым умыслом нас сюда спровадил?
– Да и Лешак, похоже, неспроста отстал!
Уловив перемену в настрое общины, Маркел воскликнул:
– Терпите, братцы, Господь нас испытует. Не гневайте нашего Владыку и Благодетеля унынием. Будем веровать в Его милость. Прежде здесь люди проходили? Проходили. Так неужто мы не сдюжим, отступимся? Мы ведь почти у цели!
Уверенность наставника благотворно подействовала на путников. Все сразу приободрились, усталые лица посветлели, в глазах вновь загорелся огонь веры.
На шестах по порогам подниматься было немыслимо, а обходить невозможно – берега очень крутые. Поэтому решили тянуть лодки по-бурлацки, на веревках, привязанных к носу и корме. Бородачей выручало то, что вдоль одного из берегов всегда можно было идти вброд. Но продвигались медленно, так как приходилось то и дело проводить дощанки меж камней, одолевая мощные сливы.
Скит «кедровая падь»
На второй день бечевания[19] измученные путники увидели в проеме каньона лесистую впадину, закрытую с севера и юга мощными острозубыми хребтами. Более высокий, северный, венчался цепью снежных шапок, вокруг которых разбрелись отары кудлатых облачков. Над самой же впадиной небо было чистое, нежно-синее.
Строптивая речка, уже получившая название Глухоманка, брала начало с ледника на восточном, невидимом отсюда стыке хребтов. Сбежав по ступеням предгорий во впадину, она успокаивалась, и дальше шли на шестах играючи. Мужики не заметили, как отмахали версты четыре. Перед двугорбым холмом спохватились и свернули в заводь, оправленную на всем протяжении полосой кремового песка. С него нехотя взлетел жирный лоснящийся глухарь, клевавший мелкие камушки.
На светлом, как русская горница, склоне холма, покрытом могучими кедрами, подступавшими прямо к речной косе, было покойно и уютно. Вокруг царила такая неземная тишина, что у изнуренных путников возникло ощущение, будто этот райский уголок был сотворен только что, перед самым их прибытием.
– Братушки, лепота-то какая! Прямо земля обетованная, – восторженно выдохнул Глеб. – Сдается мне, что это та самая впадина, о которой сказывал схимник!
– По всему выходит, что так оно и есть. Передохнем, а там обсудим, как далее быть, – распорядился Маркел, вынимая топор, заткнутый за пояс.
Надорванная небывало тяжелым переходом, братия с нескрываемой радостью повалилась на теплый, крупнозернистый песок. А детвора, истомившаяся в тесных лодках, пустилась играть в догонялки. Голосистое эхо разнесло по долине речки звонкий смех расшалившейся ребятни.
Немного отдохнув, самые нетерпеливые мужики, не мешкая, отправились исследовать окрестности. Тайга открылась богатая. Изумляло обилие следов и помета дикого зверя. Как выразился охотник Игнатий:
– Дичи тута – что мошкары!
– Всех пород звери – не оголодаем! – согласился Прокл.
С деревьев то и дело слетали стаи непуганой дичи: спесивые тетерева, грузные глухари, бестолковые рябчики. Тараня кусты, с шумом разбегались олени. Спасаясь от их копыт, с тугим треском от крыльев, выпархивали из травы куропатки. По толстым ветвям кедров сновали жизнерадостные белки. Время от времени порывы верхового ветра срывали увесистые, смолистые шишки. Они глухо шлепались о землю, расцвеченную солнечными пятнами. Ноги мягко пружинили на толстом ковре из длинной, рыжей хвои. За холмом, в низинке, на прогалинах, окруженных елями, взор радовали заросли голубики, усыпанной матово-синими ягодами, красные россыпи поспевающей клюквы, брусники.
Уверенный, что искомый скит где-то поблизости, очарованный не менее других, Маркел, повернувшись к Никодиму, произнес:
– Каково благолепие! Здесь бы и обосноваться, да сперва своих братьев найти надобно.
От этих слов Никодим сразу напрягся, помрачнел. Собираясь с духом, он тяжело вздыхал, мял пальцами пучок кедровой хвои. Наконец решился:
– Не гневайся, Маркел. Взял я на себя грех, утаил, по уговору со схимником, что община та поголовно вымерла… С ярмарки холеру занесли, а тут пурга случилась. Люди, в пещерах безвылазно сидемши, так и перемерли один за другим. Только монаха того благочестивого Бог и уберег: он в ту пору на месячное моление в дальний грот удалялся, а когда воротился, узрел сей ужас. Ладно сообразил – сразу ушел… Обители их вон в той горе были, – Никодим указал рукой на каменистую плешину, видневшуюся на склоне северного хребта верстах в пяти-шести от них, значительно левее проема, через который Глухоманка покидала впадину. На ней четко различался ряд черных точек. – Это и есть их пещерный скит. Впадина велика и зело скрыта, а пещеры, сам видишь, далече, нам не опасны. Только ходить туда не след – потому как зараза та, схимник сказывал, шибко живуча.
В этот момент с небес полились торжественные, трубные, берущие за самое сокровенное в сердце, звуки. Они заполнили собой все пространство над впадиной. Собеседники запрокинули головы и увидели журавлиный клин.
– Всевидящий Господь благословляет! – благоговейно произнес Маркел.
Собравшись у костра, братия, выжидательно поглядывая на наставника, взахлеб расхваливала прелести и достоинства кедрового урочища.
– Краше и скрытней пристанища не сыскать, – прогудел Колода.
– Место и впрямь отменное, благостно было б пожить здесь, – поддержал Никодим.
– Ну что ж, братушки, решено: скит здесь ставим, – подвел черту Маркел.
– А как же искомая община? – удивился Пахом. – Сыскать бы надобно.
– Сами как-нибудь обживемся, нам не привыкать, – отрезал Маркел тоном, не терпящим возражений.
– Слава богу! Наконец-то. А то ведь, того и гляди, по земле ходить разучимся – все по воде, да по воде, – обрадованно затараторила повязанная до бровей черным платком словоохотливая Агафья, жена Глеба.
По такому случаю на ужин сготовили полный котел ячневой каши с вяленым мясом и съели всю без остатка, облизав, как всегда, начисто чашки и ложки.
Когда последний человек убрал посуду в котомку, сидевший на валежине Маркел поднялся:
– Братья и сестры, помолимся и спать. С утра за дело. Да благословит нас Господь. Аминь.
Только после этих слов путники наконец уразумели, что ставшая привычной бесконечная и изнурительная дорога закончилась, и даже несколько растерялись от того, что утром не надо будет садиться в валкие лодки и толкать их шестами. Их сердца постепенно наполнялись гордостью и радостью от сознания, что они достигли цели и в этой тяжелой дороге не потеряли ни единого человека. Значит, и вправду шли, Богом ведомые.
Истомленная продолжительным переходом община угомонилась быстро. Над становищем воцарилась тишина, прерываемая всхрапыванием мужиков. Луна, разворошив тучи, осветила стан. Только два человека, охраняя покой спящих, почти не смыкали глаз: Маркел и Никодим.
Летом ночи коротки. Как ни устали новопоселенцы, а привычка вставать с первыми лучами солнца взяла верх. Отслужили благодарственный молебен Господу за милостивое соизволение на обживание земли новой. Продолжался он несколько часов. Мужики стояли отдельно от женщин. По завершении благодарений все дружно принялись за работу.
Подходящее для скита место выбрали саженях в ста от берега, на взгорке, где кедры стояли пореже. Поскольку до снега оставалось всего полтора месяца, а путники были вымотаны тяжелым переходом, решили ограничиться пока устройством курных землянок со стенами из сухостоин, сосредоточившись на первоочередном – заготовке припасов для зимовки.
Бабы и дети разбрелись по лесу собирать в берестяные кузова и лукошки ягоды, грибы, орехи. Ребята постарше ловили рыбу. Когда завершился Петров пост, Маркел дозволил охотникам заклать диких зверей. Из кишок оленей, заполненных молотым орехом и залитых кровью, варили вкусные и питательные колбасы. Мужики, кто поздоровее, рыли землянки, вмуровывали в печи котлы для приготовления пищи.
На счастье поселенцев урожай в тот год выдался редкостным. Особенно уродилась любимая всеми брусена. Ее красные, глянцевые ягоды обладают замечательным свойством: моченые, они не портятся годами. Поэтому хранят их прямо в кадках с водой, подслащенной медом.
Белая кувшинка, с крахмалистыми корневищами, здесь не росла, и для выпечки хлеба копали рогоз, заросли которого опоясывали все заводи: нарезанные, высушенные, затем измельченные в ступе, корни рогоза давали питательную муку. Пух из его коричневых, как бы обгорелых, початков добавляли для тепла в подклад зипунов. Длинные листья тоже употребляли в дело: из них плели рогожи и легкие корзинки. Привезенные два пуда ржи не трогали – берегли на посев весной.
Первая зима прошла для скитников в тяжких трудах: наряду с будничными хлопотами с утра до вечера готовили лес для будущих построек. Материал для срубов подбирали бревно к бревну. Волочили их издалека, так как вокруг места, выбранного под скит, росли лишь громадные кедровые свечи в полтора-два обхвата. Иные так вымахали, что задерешь голову на вершину поглядеть – шапка валится. Вот и приходилось искать стволы потоньше по закраинам бора. Спилив подходящее дерево, одни обрубали сучья, другие шкурили, третьи по снегу веревками волочили розоватые стволы к месту поселения.
Зима в этих краях хотя и щедра на солнечные дни, долга, утомительна, а главное, необычайно студена. Чтобы не заморозить детишек, землянки топили часто. Одна из них от огня, перекинувшегося с очага на заложенную сухостоинами стену, выгорела дотла. Слава богу, никто не погиб. Укутавшихся в уцелевшее тряпье Прокла с супружницей и четырьмя детьми забрал жить к себе наставник: его землянка была самой просторной, с расчетом на ведение службы.
В ожидании тепла и Святой Пасхи скитники все чаще посматривали на пробуждающееся солнце, сосульки, свисающие с крыш, вслушивались в повеселевшие голоса синиц. Вот и вокруг стволов крупных деревьев протаяли воронки. С каждым днем они углублялись и расширялись, обнажая лесную подстилку.
На березах из образовавшихся за зиму морозобоин начался «плач». Под ближайшими к скиту деревьями расставили кадки. В них, особенно когда припекало, обильной струйкой стекал сладкий березовый сок. Все с удовольствием пили его, а женщины, сражаясь с морщинами, даже умывались.
Как только сошел снег, первым делом раскорчевали и засеяли делянку рожью. Свободный остаток пашни пустили под огород: благо что Марфа, умница, когда покидали забайкальский скит, захватила с собой в мешочках семена моркови, лука и репы.
После сева и стройка закипела. Посреди двора воздвигли ладный молельный дом. Установили старинный иконостас, привезенный в крепком, кованном железом сундуке. В центре – икона Святой Троицы в золотой ризе. Рядом поставили особо чтимую икону Божьей Матери, оберегавшей их общину от бед аж от самого Ветлужского монастыря.
Четверым бобылям поставили ладный дом с украшением в виде конской головы на охлупе[20]. Семейным дома рубили отдельные. Избы ставили оконцами к центру – «круговое поселение» в традициях общинной жизни. Срубы все из кедра, только молельню и обитель наставника из стволов лиственницы. Внутри жилищ стояла такая свежесть – не надышишься.
Потолки из тесаных плах промазали глиной, а позднее, осенью, засыпали еще и толстым слоем сухой листвы. Венцы проконопатили мхом. Оконца, с крепкими рамами, затянули тайменевыми пузырями. В передней половине выложили из дикого камня большие печи. Вокруг них подвесили к потолку ошкуренные жерди-перекладины для сушки одежды и обуви. А под потолком, за печью, соорудили полати – помост для сна.
В красном углу киот с образами, под ним – широкие лавки вдоль продолговатого стола. По стенам деревянные гвозди для одежды, домашней утвари, пучков травы; полки для чашек больших и малых, блюд, жбанов, повыше полочки для хранения мелких предметов. Возле домов ледники, сушильные навесы. Скитники наладились под их защитой вялить выпотрошенную рыбу и нарезанное тонкими ломтями мясо. Все поселение обнесли временной оградой, которую через год заменили высоким заплотом-частоколом из заостренных стволов лиственницы.
После работ и служб по Часослову[21] братия собиралась в избе Маркела. Вели душеполезные беседы. Вслух читали Священное Писание, жития святых, пели псалмы во славу Господа, милостивого к ним каждодневно. Порой под настроение или по случаю праздника слушали игру доморощенного музыканта Онуфрия на свирели или рожке. Кто-нибудь под его музыку затягивал старинную песню. Их они знали во множестве, особенно Марфа и жена Онуфрия – Ксения. Остальные душевно на голоса красиво подпевали.
Онуфрий из обычного рожка извлекал такие переливы, что у суровых скитников невольно выступали слезы. Столько заветных воспоминаний и желаний пробуждали они. Кому-то слышался в них колокольный звон, запомнившийся с детства, кому-то колыбельная матери, кому-то торжественные службы в Ветлужском монастыре, а кто-то помимо воли заглянул в укромный уголок своей души…
В пору обживания нового пристанища в мир не выбирались. Работы всем хватало.
Выделывали шкуры добытых зверей, сучили волокно и на самодельных станках ткали из него полотно, шили одежды; ладили всевозможную утварь; выращивали за короткое, но жаркое лето корнеплоды и рожь. Ржи, из-за нехватки пашни, сеяли понемногу, больше для просфоры и для выпечки в дни двунадесятых праздников. Повседневно же использовали муку из рогоза. Интересно, что на протяжении многих лет наблюдалась благоприятная для урожая закономерность: как завершали сев ржи, так поле кропило обильным дождем.
Несколько дуплистых деревьев, заселенных пчелиными семьями, разведали еще в первый год. В разгар лета, когда цвели главные медоносы, Никодим взбирался на эти деревья и, оберегаясь дымарем, осторожно вынимал часть заполненных янтарным медом сот для лакомства в праздники и приготовления лекарственных снадобий. Порой, в хороший год, собирал до двух пудов.
Так и зажили поселенцы, в трудах и моленьях, радуясь вновь обретенному убежищу, неустанно воздавая Господу Богу благодарения за милости.
Посещение ярмарки
Громада безлюдного пространства и непроходимые горы надежно укрывали новорожденный скит от мира. Старолюбцы основательно обжились в щедром кедровом урочище, постепенно расширяя для себя границы приютившей их Впадины.
Четыре года они не покидали ее пределов. Но на пятый, в аккурат во время Великого Поста, все же пришлось снарядить ватагу из четверых мужиков в казачий острог[22], возле которого каждый год проходила весенняя ярмарка. Помянули добрым словом схимника, который не поленился изобразить, как из Впадины пройти к нему. Слава богу, острог находился не на западе, а на востоке, и не надо было повторять страшный путь до Чертовой пасти через пороги Глухоманки.
Чтобы было на что менять товар, скитники все лето мыли, наученные Лешаком, золотоносный песок, а зимой промышляли пушнину: в основном ценного соболя и крепкую, носкую выдру.
Путь к острогу пролегал через восточный стык Южного и Северного хребтов. Ходоки шли на снегоступах вдоль глубокой тропы-борозды, набитой горными баранами. Местами встречались их лежки, клочья шерсти, старый и свежий помет. Похоже, животные обитали здесь давно, добывая корм на малоснежных, прогреваемых солнцем террасах.
Тропа вилась по отвесным кручам, узким карнизам, нередко зависала над жуткими безднами: вниз глянешь – невольно озноб пробирает до пят.
Наконец головокружительные участки остались позади. Скитники выбрались на перевальную седловину и, перейдя на восточный склон, нашли безветренное место. Вырыли в снегу яму. Расстелили мягкие оленьи шкуры, поужинали и легли спать, прижавшись друг к дружке. Сквозь меховые одежды холод не проникал, спалось крепко. С восходом солнца начали спуск.
Появились первые ели. По противоположному склону ущелья цепочкой, изящно прыгая с уступа на уступ, не обращая внимания на людей, шли хозяева здешних мест – бараны.
Сойдя на пойму какой-то реки, путники соорудили на нижних ветвях старой березы лабаз. Сложили на него припасы для обратной дороги: лепешки, вяленое мясо, кирпичи мороженой брусены, асверху все это укрыли корьем, придавили парой валежин. После этого двинулись на север по белой ленте, на которой четко выделялись многочисленные нартовые следы – оленные эвенки на ярмарку проехали. Воспользовавшись накатанной дорогой, ходоки сумели одолеть оставшийся путь до острога в два дня.
Располагался он на высоком береговом куполе у подножья изъеденного ветрами кряжа. В начале XVII века здесь был заложен казачий пост, разросшийся со временем до деревянной крепости с двумя сторожевыми башнями: «воротной» – с выходом к реке и «тынной» – с бойницей и пушкой, направленной в сторону леса. Орудие служило больше для устрашения, чем для огненного боя.
В этих диких и безлюдных местах острог являлся важным опорным пунктом для продвижения промышленного люда на север и на восток. В обязанность служивых также входил сбор податей и ясака с местного населения. Сюда, в начале каждой весны, по снегу, съезжались на оленьих упряжках все окрестные кочевники-эвенки и хитроглазые купцы-молодцы с Аяна. Шумное торжище проходило прямо на реке, перед крепостью.
В такие дни к десятку столбов печного дыма с острога, подпиравших остекленевший от мороза небесный свод волнистыми, расширяющимися вверх колоннами, прибавлялось до сотни столбов из чумов понаехавших кочевников и промысловиков. Дым, поднявшись до вершин горных гряд, смешивался слабым течением ветра в одну белесую крышу, зависавшую над ярмаркой, будто специально для защиты многоликого торжища от стужи.
Пространство перед острогом заполняли нарты с товаром. На одних лежали пухлые связки рухляди[23], туеса с брусникой, мешки с орехами, мороженой дичью, на других тюки с чаем и табаком, свинцом и порохом, мешки с сахаром и солью, ящики с топорами и ножами, гвоздями и скобами, рулоны сукна и холста, горы посуды. Отдельно, под присмотром казака, продавали ружья, боеприпасы.
Тут же ходили поп с дьячком. Батюшка читал проповеди, беседы вел, увещевал потомков многочисленного когда-то эвенкийского племени креститься в православие.
Торговый люд тоже времени даром не терял. Поил «веселой водой» доверчивых инородцев и скупал у захмелевших за бесценок таежные дары. С особым усердием выманивали соболей. Видя такой грабеж, скитники брезгливо отворачивались:
– Экая срамота! Не по совести поступают, а еще православные!
– Ровно басурмане какие. В прежние времена такого нечестия и в мыслях не допускалось.
А эвенки, дивясь пристрастию русских купцов к собольему меху, наоборот, еще посмеивались над ними промеж собой:
– Лучи[24] – глупый люди. Соболь любят, оленя – нет. Соболь – какой толк? Мех слабый, мясо вонючий. Олень – много мяса, мех крепкий.
Непривычные к обилию народа, многоголосому гаму и пестроте, скитники, чтобы побыстрее покинуть шумное скопище, не торгуясь, поменяли золото и пушнину на искомый товар и ушли из острога кругами – следы путали.
Вернувшись с ярмарки, «опоганенные», не заходя в избы, долго мылись в бане, стирали облачение – скверну смывали. Доставленный товар, для изгнания вражьих сил, осеняли крестным знамением.
Того, что принесли первые ходоки, хватило общине на два года. В очередной поход в острог определили Изота – старшего сына Глеба, повзрослевшего Елисея и Колоду, назначенного у них старшим.
На обратном пути, утром второго дня, когда скитники переходили замерзшую реку, неподалеку от устья впадавшего в нее ключа, Елисей заметил, что впереди вроде парит, и предложил обойти опасное место.
– И то верно, прямо только вороны летают, – поддержал Изот. Но Колода, не любивший долго размышлять и осторожничать, в ответ прогудел:
– Коли давеча здесь прошли, стало быть, и нынче пройдем.
Истончившийся под покровом снега лед все-таки не выдержал тяжело груженных ходоков, обвалился, и они разом оказались по грудь в воде. Мощное течение теснило к краю промоины. Мужики мигом скинули на лед тяжелую поклажу, освободились от снегоступов. Теперь надо было как-то выбираться самим. Первым вытолкнули самого молодого – Изота. Следом Колода подсобил Елисею.
– Живо оттащите поклажу и киньте мне веревку. Она сбоку торбы приторочена, – скомандовал он.
Исполнив все в точности, Изот с Елисеем принялись вытягивать из промоины старшого. Когда Колода наконец оказался на льду, закраина не выдержала, скололась, и веревка выскользнула из окоченевших рук скитского богатыря. Подхватив добычу, черная вода немедля затянула его под лед…
Мокрые Изот с Елисеем бухнули на колени и принялись истово молиться, но крепкий мороз быстро принудил их подняться.
Поскольку до дома было еще слишком далеко, обледеневшие скитники решили бежать по следу эвенкийских упряжек, проехавших накануне, в надежде добраться до стойбища, расположенного где-то неподалеку у подножья Южного хребта. Перетащив поклажу к приметному своей расщепленной вершиной дереву, зарыли ее в снег…
В тех местах, где нартовая колея проходила по безветренным участкам леса, она то и дело проваливалась под ногами бредущих к стойбищу парней. Оледеневшая одежда хрустела и затрудняла движение. Путники, похоже, чем-то сильно прогневили Господа: откуда ни возьмись налетела густеющая на глазах поземка – поднимала голову пурга.
– Сил нет… Остановимся! – прокричал, захлебываясь колючими снежинками, Изот.
Дабы окончательно не застыть, повалили поперек нартовой колеи ель и забрались под ее густые лапы. Дерево быстро замело. Внутри, под пухлым одеялом, стало тихо и тепло. Чтобы поскорее согреться, ребята обнялись. Тем временем над ними со свистом и воем неистовствовала разыгравшаяся стихия…
Припозднившаяся оленья упряжка, ехавшая с ярмарки, уперлась в высокий сугроб. Лайки, что-то почуяв, принялись рыться в нем. Эвенк Агирча с дочерью Осиктокан[25] разглядели в прокопанной собаками норе торчащий из хвои меховой сапог. Раскидав снег и раздвинув ветви, они обнаружили двоих бородатых лучи. Вид их был ужасен: безучастные лица, заиндевевшие волосы. Но люди, похоже, были живы. Переложив их на шкуры, покрывавшие нарты, эвенки развернули застывшие коробом зипуны, распороли рубахи и принялись растирать замерзшие тела мехом вывернутых наизнанку рукавиц, затем спиртом. Грудь Елисея постепенно краснела, и вскоре он застонал от боли. А бедняга Изот так и не отошел. В чум привезли только Елисея…
Глядя на покрытое водянистыми пузырями, багровое тело обмороженного, в стойбище решили, что лучи не жилец, но черноволосая, с брусничного цвета щеками, Осиктокан продолжала упорно выхаживать Елисея: смазывала омертвевшую кожу барсучьим жиром, вливала в рот живительные отвары. И выходила-таки парня! Она не отходила от него ни на шаг, даже когда «воскресший» совершенно оправился. Ее чистое смуглое лицо, обрамленное черными, с вороновым отливом волосами, не выделялось красотой, но когда Елисей заглядывал в ее лучезарные карие глаза, сердце невольно сжималось от сладостного чувства.
Живя в стойбище, он сделал для себя неожиданное и вместе с тем приятное открытие: эвенкийки, вопреки бытовавшему в их скиту представлению, одевались красиво и опрятно. Все в длинных шароварах. Юбки широченные, на шее непременно ожерелье из серебряных монет. На ногах легкие летние унты, сшитые из оленьей замши и украшенные изящным орнаментом. На первый взгляд женщины кажутся необщительными и даже замкнутыми. На самом деле они, впрочем, как и мужчины, веселые, гостеприимные люди; доверчивые и преданные друзья.
Пролетел месяц, другой. Елисею давно следовало вернуться в скит, но молодые никак не могли расстаться. Агирча уж стал лелеять надежду породниться с высоким, статным богатырем. Но Елисей, воспитанный в правилах строгого послушания, не смел, не получив дозволения, привести в скит хоть и крещеную, но не их благочестивой веры, девицу. Поэтому он попросил Агирчу подвезти его до места, где осталась лежать его поклажа.
Агирча тотчас согласился и утром пошел ловить оленей для упряжки. Набрал мелкими кругами ременный аркан – маут. По рисунку ветвистых рогов опознал своего любимого быка и метнул аркан. Кожаное кольцо зависло над насторожившимся животным и успело накрыть его, не зацепив острых отростков, до того как он рванулся в сторону. Все! Теперь главное – удержать дико скачущего и раздувающего ноздри оленя. Почувствовав крепкую руку, бык смирился и, почти не сопротивляясь, дал запрячь себя. Собрав таким манером в упряжку шесть оленей, Агирча затянул свою протяжную песню и за полдня довез Елисея до приметного дерева.
Раскопав поклажу и отобрав самое необходимое, парень отправился в скит.
Уже и не чаявшая увидеть его живым, братия возрадовалась и окружила особым вниманием чудом уцелевшего ходока. По погибшим Колоде и Изоту отслужили панихиду.
– Выходит, Господь так и не простил Колоде убиенную душу, на суд призвал. Плохо, видать, мы тот грех отмаливали, – заключил наставник.
Просьба Елисея дозволить жениться на эвенкийке вызвала в общине небывалое возмущение:
– Окстись! Да как ты мог удумать такое? Не по уставу-то!
Тосковавший по раскосой красавице юноша совсем потерял голову. Карие, словно удивленные, чудные глаза звали, не давали покоя даже во сне.
Через несколько дней Елисей попытался вновь заговорить о женитьбе с отцом и матушкой, чтобы заручиться пониманием и поддержкой хотя бы с их стороны, но получил еще более резкий отказ. Закручинился Елисей. Хмурой тучей ходил по двору. Будучи не в силах терпеть разлуки с любимой, он решился на крайний шаг: тайно ушел к эвенкам и остался жить там с Осиктокан вопреки не только воле родителей, но и воле всей общины.
На очередном скитском соборе братия единодушно прокляла Елисея за самовластье и непочтение к уставному порядку.
Прошло еще два года. Когда снаряжали очередную ватагу в острог, Никодим, крепко переживавший за сына, обратился к Маркелу:
– Не гневайся, хочу об Елисее поговорить. Понимаю, нет ему прощения, но все мы человеки, все во грехах, яко в грязи, валяемся. Един Бог без греха… По уставу оно, конечно, не положено в супружницы чужих, но где девок-то брать! Сам посуди, своих мало – все больше ребята родятся. Из ветлужских и так четверо в бобылях. А эвенки все же чистый народ, Никоновой церковью не порченный. Добры, отзывчивы, не вороваты – чем не Божьи дети?
– Размышлял и я о том. Книги старые перечитал. Эвенкийка, спору нет, молодец – нашего брата спасла!.. Думаю так: ежели решится она пройти таинство переправы[26] и креститься по нашему обряду с трехпогружательным омовением в ключе святом, а опричь того, даст пожизненный обет не покидать пределы Впадины, то, пожалуй, и повенчаем. Бог-то един над всеми нами, – согласился наставник.
Собрали сход. Долго обсуждали сей вопрос. Много было высказываний «за», не меньше «против». Но тут встал отец погибшего Изота – Глеб:
– Братья, вдумайтесь: когда с нашими чадами случилось несчастье, эвенки не посмотрели, что они другого рода-племени – старались спасти. Теперь случилось счастье: двое возлюбили друг друга – мы же препятствуем им. Не по-христиански это. Одна головня и та гаснет, а две положи рядком – курятся, огонь дают.
После таких слов сердца и противников смягчились.
Ватага, отправленная в острог, на обратном пути разыскала по следам остроглавое кочевье. Одарив Агирчу многими полезными в хозяйстве вещами, староверы увезли счастливого Елисея и его пригожую суженую в скит. Совершив все установленные обряды и повенчав по старому обычаю, молодых определили жить в поставленный накануне пристрой под крышей родительского дома. В положенный срок Бог дал новокрещенной Ольге и прощенному Елисею премилую дочку.
Божья кара
Появление молодой эвенкийки привнесло в быт скитников немало полезных новин. Она научила баб делать сухари из высушенной крови, натапливать впрок жир, выпекать хлеба из муки сусака[27]. Он оказался питательней, а главное, вкусней, чем из корневищ рогоза, его называли в скиту «Ольгин хлеб». Еще вкусней оказались ломтики корня сусака, поджаренные на светло-желтом масле кедровых орешков.
Ольга также обучила русских баб шить из шкур молодых оленей превосходные меховые куртки и так называемые парки – особый вид зимней одежды, имеющей покрой обыкновенной рубашки, без разреза, так что их надевают через голову. Эти парки были чрезвычайно теплы и сразу полюбились скитникам. Только шкур хватало на одну-две. Наставник больше не дозволял добывать. Из осенней шкуры лося по ее примеру стали шить торбаса[28]. Они были настолько крепкие, что служили до пяти зим без починки. На подошву употребляли кожу с шеи – наиболее толстую и прочную.
Как повелось, через два года вновь снарядили троих ходоков в острог. Маркел по-отечески наставлял перед дорогой:
– Смотрите, поаккуратней там. Не забывайтесь своевольно в речах. Что надобно обменяли, и сразу обратно. Ненароком обмолвитесь, острожники разом заберут…
Запамятовав про наказ наставника, один из ходоков, по имени Тихон, впервые попавший на торжище, неосмотрительно пробурчал в бороду в адрес священника, склонявшего эвенков принять христианскую веру:
– Кукишем молится, а Божьего Помазанника поминает!
Эти слова, сказанные мимоходом, вполголоса, казалось, никто не мог услышать, а получилось, что не только услышали, но и мстительно донесли. Казаки тут же взяли голубчиков под стражу и отвели в крепость.
– Сколь можно с этими упрямцами возиться. Неча им потачки давать. Давно надоть кончать, чтоб честным людям глаза не мозолили.
– Оне все одно выживут. Така порода.
– А мне, братцы, все едино: хоть христь, хоть нехристь. Лишь бы человек уважительный был, по правде жить старался.
– Ты, паря, язык-то попридержи, еще припишут нам крамолу. Мало ли что у нас в голове. Служим-то государю, – одернул говорившего служивый в годах.
Сколь ни пытались казаки на допросе выведать у старообрядцев, откуда они явились и много ли их, те молчали, как истуканы. Один Тихон сквозь зубы процедил: «Не в силе правда».
– Бросьте, мужики, упрямничать. Покайтесь, и прощение вам будет. Чего в тайниках маетесь? Себя и детей без общества изводите?! – принялся ласково увещевать многоопытный старшина.
– Соль горькая, а люди не могут без нее. Может, и тяжела наша ноша, но с ней умрем, а не поступимся, ибо наша вера непорочна, со Христа не правлена. Мы с ней родились, с ней и на суд Господний взойдем, – гордо глядя на казака, сказал, как отрезал, Тихон.
Изъяв по описи золото и мягкую рухлядь в казну, ослушников, до приезда казачьего атамана, заперли в холодной темной клети.
Бесстрашные, кряжистые бородачи в ней сразу как-то оробели.
– Ох и погано тут, – вздохнул после долгого молчания Мирон.
– Что в скиту скажем? Товару-то теперича взять не на что. Одно слово – ротозеи! – горевал Тихон.
– Не о том печалишься. Прежде удумать надо, как отсель выбраться.
– А может, покаяться: якобы отрекаемся от веры нашей, а как отпустят – так и чесать домой? – предложил Филимон.
– Типун тебе на язык. Укрепи дух молитвой! Вера не штаны – ее не меняют по износу. Не можно так даже мыслить, великий то грех перед Богом! – возмутился Тихон.
На следующий вечер казаки бражничали по случаю именин старшины. В клеть через дверную щель потянуло сивушным смрадом.
– Неужто такую гадость пить можно? Даже от запаха тошнит.
– Одно слово – поганцы!
Гуляли казаки долго, но к середине ночи, вконец одурманенные, все же уснули. Оставленным без надзора арестантам удалось, накинув кожаный поясок на дверную чеку, сдвинуть ее и бежать.
До скита оставалось два дня пути, когда Мирон с Филимоном захворали, да так, что не могли даже идти. Тихон, запалив под выворотнем костер, уложил товарищей на лапник.
Больные всю ночь бредили от сильного жара. У обоих перехватило горло. К утру от удушья помер Филимон. Тихон топором вытесал из отщепа лопату, отгреб с кострища угли и, выкопав могилу, похоронил товарища. Мирону же немного полегчало, и они решили двигаться дальше. С трудом одолев двенадцать верст до лабаза с припасами, ходоки остановились на ночевку. Впервые со дня заточения поели.
Тихон соорудил из сухостоин жаркую нодью[29], из снежных кирпичей – защитную стенку и лег рядом с Мироном на лапник. В тепле сон сморил обоих. Благо нодья горит долго и жарко. Когда Тихон проснулся, его спутник был уже мертв…
К скиту Тихон подходил в поздних сумерках. В густом кедраче было темно, но над небольшими лоскутами пашен, укрытых осевшим крупнозернистым снегом, еще держался бледно-серый свет. У тропы, в незамерзающем роднике, как всегда, услужливо качался берестяной ковш. Пахнуло терпким дымом родных очагов. Меж стволов проступили знакомые очертания скитских построек, над которыми, предвещая мороз, поднимался прямыми столбами дым.
Тихон прошел вдоль зубчатого частокола к воротам. Отодвинул потаенный засов. Собаки признали его и голос не возвысили. Из молельного дома неслось красивое: «Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже!» Взволнованный путник отворил дверь, но до того враз обессилел, что еле вволок ноги вовнутрь и в изнеможении повалился на пол.
Скитники тут же усадили исхудавшего, обтрепанного собрата на пристенную лавку.
– Остальные-то где?
– Бог прибрал, – едва прошептал Тихон и, словно стыдясь того, что вернулся живым, виновато опустил голову. Не поднимая глаз, он рассказал о постигших бедах.
– Господи, да за что же наказание нам такое?!
Все истово закрестились, ожидая, что скажет наставник.
– Сие недобрый знак. Не стоит нам боле в острог ходить, – заключил Маркел.
– И то правда, в остроге том одна нечисть, – поддержал Никодим.
Но нашлись среди братии несогласные.
– Крот и тот на свет Божий выбирается, а мы все от мира хоронимся. Опостылела такая жизнь. Строгости пора бы ослабить. Жизнь-то другая стала. Вон русло реки меняется, а вода от того хуже не становится. Главное – суть веры сохранить, – неожиданно выпалил младший брат Филимона – Лука.
Глава общины, всегда спокойный и чинный, вспыхнул от негодования. Он устремил на охальника взор, от которого тому вмиг стало жарко.
– Поразмысли, человече, что из твоих крамольных речей проистекает?! От истинного православия отойти возжелал? С нечистью спознаться вздумал? Забыл – один грех не прощает Создатель: отступничество от веры отцов благочестивых. Нет тому помилования ни в какие времена…
Перепуганный Лука покаянно пал ниц.
– Прости, отец родной, бес попутал, прости Христа ради!
– В яму нечестивца! Для вразумления! Пусть остудится, грех свой замолит. В нашем скиту ереси сроду не бывало!
Праведник хотел еще что-то сказать, однако от сильного волнения запнулся, а овладев собой, воскликнул:
– Прости, Господи, раба неразумного. Не ведает, что говорит!
Братия одобрительно загудела, закивала:
– Житие у нас, конечно, строгое, но иначе не можно. Одному послабу дай, другому – дак соблазнам уступим, про веру, про Бога забудем, а там и к диаволу пряма дорога.
– И то верно, всякому богоугодному делу предыдет искус. Со смирением надобно принимать то, что уготовано Господом во испытание наших душ.
Притихший народ разошелся по избам, а наставник меж тем долго еще отбивал земные поклоны:
– Много в нас, человеках, гордыни и своенравия. Помоги, Господи, единую крепость держать! Дай сил нам искусам противостоять, веру в чистоте сохранить. Убереги рабов неразумных от греховных мыслей. Аминь.
Из глубокой земляной ямы весь день неслись причитания объятого ужасом Луки:
– Простите, братья! Нечистый попутал. Христом-Богом молю: простите! Пожалейте, околею ведь на холоде!
Сострадая, сбросили еретику охапку кедровых лап и широкую рогожу. На следующий день к нему втихаря пришла сердобольная Прасковья, жена Тихона. Спустила в корзине еду и воду. Но ни на второй, ни на третий день она не являлась. Опечаленный, Лука не ведал, что пророчества Маркела сбывались. В скиту начался лютый мор, и Прасковья, несмотря на старания Никодима, преставилась одной из первых.
Уловив на четвертый день отголоски псалма за упокой души, Лука уже не сомневался в том, что это его богохульное речение навлекло гнев Господа на обитателей скита. Дрожа всем телом, он истово зашептал синими губами покаянные молитвы. Расслышав и назавтра обрывки отпевальной службы, отступник и вовсе перепугался. Он понял, что в скиту происходит нечто ужасное и общине не до него. Чтобы не умереть от холода и голода, Лука решил выбираться из ямы самостоятельно. С упрямством обреченного он принялся методично выковыривать в стенке обломками веток углубления, поднимаясь по ним все выше и выше. Когда до кромки ямы оставалась четверть сажени, несчастный сорвался и упал. Упал столь неудачно, что повредил позвоночник…
Крестов на погосте прибавлялось. Умирали все больше дети. У Никодима, вместе со сведущими в лекарском деле супружницей Пелагеей, дочерью Анастасией и невесткой Ольгой, в эти дни не было времени даже поесть. Дотошно вчитываясь в лекарские книги, они пытались составить подходящее снадобье от косившей братьев и сестер болезни. Зараза не пощадила и самих врачевателей: свалила и в несколько дней скрутила Пелагею…
Здоровые обитатели скита денно и нощно молились:
– Владыка вседержитель, Святой Царь, наказуя не умерщвляй, утверждай низ падших, поднимай низверженных, телесные человечьи скорби исправляй, молимся Тебе, Боже наш, рабов Твоих немоществующих посети милостью Твоей, прости им всякое согрешение вольное и невольное. Боже наш, Тебе славу воссылаем ныне и присно, и во веки веков. Аминь…
После мора, изрядно опустошившего скит, Маркел собрал всех излеченных чудодейственным снадобьем, составленным-таки Никодимом, и объявил:
– Боле Впадину не покидать! Запрещаю даже думать о том! Кто ослушается – тому кара смертная!
Когда наконец вспомнили о посаженном в яму вероотступнике Луке и вытащили его, посиневшего и грязного, он уже чуть дышал. Овдовевший Никодим, схоронивший во время мора еще и совсем маленькую внучку, из сострадания забрал увечного к себе и выхаживал его, как малое дитя, ежечасно растирая и разминая бесчувственные ноги, отпаивая целебными настоями и питательным молочком из кедровых орешков. Несчастный поправлялся медленно, а ходить начал и вовсе лишь через год. Но поврежденную спину согнуло-перекорежило так, что Лука при ходьбе перстами касался земли. От перенесенного потрясения в его душе свершилась сильная перемена, и за долгие месяцы неподвижности, обличаемый совестью, он укрепился в вере необыкновенно. Теперь он ни единым помыслом не допускал сомнения в заповедях древлего благочестия. Выучил на память многие главы Библии, составляющие священное писание христианства. Особенно близки ему стали божественные писания первой части Ветхого Завета. Сей библейский текст был для болящего образцом абсолютной и непогрешимой истины. Перечитав все имевшиеся в скиту книги, иные по несколько раз, он многое осмыслил и глубоко прочувствовал. Стал первейшим знатоком и ревностным поборником первоисточного православия.
Господь, видя столь глубокое покаяние Луки, великодушно вознаградил за усердие, осветив его разум способностью понимать самые мудреные тексты. Даже наставник Маркел стал советоваться с ним по затруднительным разделам в трудах проповедников старообрядчества. Особенно часто они обсуждали письма протопопа Аввакума.
Рождение Корнея
Шел 1900 год. Как раз в ту пору, когда обезноженный Лука появился в доме Никодима, у Елисея народился сын – головастый, крепкий мальчуган. Покончив с родовыми хлопотами и уложив младенца на теплую лежанку, домочадцы помолились за здравие новоявленного раба Божьего и матери его Ольги.
Малец оживил жизнь Никодимова семейства. Привнес в нее радость и отвлек от горечи недавних утрат. Нарекли новорожденного Корнеем. Малец не доставлял родителям особых хлопот. Никогда не плакал. Даже когда хотел есть, он лишь недовольно сопел и ворочался. Подрастая, никого не беспокоил, и всегда сам находил себе занятие: пыхтя, ползал по дому, что-то доставал, поднимал, передвигал по полу, а устав, засыпал где придется. У Корнея была еще одна особенность, выделявшая его среди других обитателей скита – он не мерз на холоде. Уже на второй год бегал босиком по снегу. Став постарше, на удивление всем, нередко купался зимой прямо в промоинах Глухоманки.
Это был удивительный ребенок. От него исходили волны тепла и доброты. Не только дети, но и взрослые тянулись к нему. Их лица при виде Корнейки озарялись улыбкой: как будто перед ними был не ребенок, а маленький ангел. Даже когда набедокурит, он поглядывал на старших искрящимися глазенками из-под густых ресниц так ласково и лукаво, что у тех пропадало всякое желание ругать его. Рос Корней не по годам сообразительным и понятливым. Внешне мальчуган сильно походил на деда. Лишь прямые, жесткие и черные как смоль волосы выдавали текущую в нем эвенкийскую кровь. Несмотря на то, что через три года у Елисея родилась премилая дочка Любаша, а следом еще три пацана, для Никодима Корней на всю жизнь остался любимцем.
Прижившийся в их доме бездетный Лука тоже с удовольствием возился с подвижным и любознательным мальчонкой. Калека так живо описывал Корнейке Жития Святых и подвиги великих пустынников, что тот, несмотря на непоседливый нрав, слушал эти, пока, правда, малопонятные для детского разума истории, затаив дыхание, не сводя завороженного взгляда с выступавших вперед, длинных желтоватых зубов Горбуна.
Как-то летом Лука неожиданно исчез. Первые дни его усердно искали, но потом решили, что калека сорвался в Глухоманку, на берегу которой он сиживал часами, и его, немощного, унесло течением. Пожалели бедолагу, помолились за него, но жизнь не терпит долгой остановки: повседневные хлопоты отодвинули это трагическое событие на второй план, и скитники постепенно забыли о несчастном.
Первая охота
Весна 1914 года пронеслась быстро и неудержимо. Щедро одарив Впадину теплом, она умчалась на крыльях нескончаемых птичьих стай на север. Таежный край на глазах оживал, гостеприимно зазеленел молодой травой и листвой, полнился ликующим гомоном птиц, дурманящими ароматами сиреневых клубов багульника и белых облаков черемухи. Вдыхая пьянящие запахи, даже суровые скитники ощущали волнение и радость в сердце: начинался новый круг жизни.
Ожило и унылое моховое болото, поросшее чахлыми елками, березками и окаймленное по закраинам черемушником. Сюда, на небольшие гривки, по зову любви, с первыми намеками на рассвет, слетались, нарушая тишину тугим треском крыльев, глухари и глухарки. Сюда же медленно спускались с пологого холма, пощипывая на ходу лакомые кудри ягеля, олени. В следовавшем за ними звериной поступью пареньке без труда можно было признать Никодимова внука – Корнея.
От деда он взял и рост, и силу, и сноровку, и покладистый нрав, а от лесом взращенной матери-эвенкийки – врожденное чувство ориентировки, выносливость и способность легко переносить стужу. Все это помогало Корнею чувствовать себя в тайге уверенно и свободно – как дома.
Сегодня у него первая в жизни настоящая охота, благословленная Маркелом. Паренек волновался – вдруг промахнется и осрамится на весь скит. Ему непременно нужна добыча. Это даст Корнею право величаться кормильцем.
В руках у него тугой лук, ноги облачены в мягкие кожаные ичиги, скрадывающие звуки шагов.
Тенью переходя под прикрытием кустов можжевельника от дерева к дереву, охотник затаился у полусгнившего пня, облепленого мхами. Табун был уже совсем близко. Отчетливо слышалось мягкое потрескивание отрываемого оленями ягеля, чавканье влажной почвы под широкими копытами.
Сейчас главное – не дать обнаружить себя. Все движения охотника сделались замедленными, плавными, едва уловимыми. Стадо все ближе. Вот лишь несколько суковатых деревьев, в беспорядке поваленных друг на друга, отделяют Корнея от ближайшего к нему оленя, но полоса некстати наплывшего тумана мешала целиться. Мускулы вибрировали от напряжения, сердце билось мощно, часто. И в эту самую минуту неподалеку с треском наклонилась сухостоина. Табунок всполошился. Олени отбежали, к счастью, недалеко. Охотник замер в неудобной позе с занесенной для шага ногой.
Выручил союзник ветер – зашуршал прошлогодней листвой. Наступило решительное мгновение. Человек змеей проскользнул сквозь завал и сблизился с молодым рогачом на расстояние верного выстрела. Как только бычок стал поднимать голову, Корней отпустил стрелу с туго натянутой тетивой. Олень рухнул, не сделав и шагу – железный наконечник вошел в самое сердце.
Табун в течение какого-то времени в недоумении стоял неподвижно, насторожив уши и осматриваясь. Потом вдруг, словно подхваченный порывом ветра, лавиной понесся прочь, а за спиной паренька в это же мгновение раздался хриплый рев. Корней резко обернулся. Над кустами мелькнули бурые мохнатые уши. Ветви раздвинулись, и показалась огромная клинообразная морда. Зло блеснули налитые кровью глазки. Обнажив желтоватые клыки, медведь двигался прямо на него: косолапый тоже скрадывал оленей и был разъярен тем, что двуногий помешал его охоте.
Давая понять, что он здесь хозяин, медведь на ходу устрашающе рыкал. Корней, хорошо зная, что звери способны чувствовать настроение и мысли на расстоянии, держался уверенно и не отводил взгляда от приближающегося хищника. Это несколько остудило косолапого: стоит ли нападать на могущественное существо, свалившее быка, даже не прикасаясь к нему, и без страха смотрящее ему в глаза?
Он в замешательстве затоптался и, рявкнув для острастки, нехотя повернул обратно. Но, удаляясь, он то и дело оглядывался, угрожающе ворчал, надеясь, видимо: вдруг соперник оробеет и уступит добычу.
Торжествуя двойную победу, Корней осмотрел оленя. Рогач оказался довольно упитанным для этого времени года. В его широко раскрытых глазах Корней прочитал немой упрек: «Я не сделал тебе ничего плохого. Зачем ты лишил меня жизни?».
Смущенный укоризненным взглядом, охотник поспешно закинул добычу на спину и зашагал в скит.
Несмотря на некоторое душевное смятение, ему, конечно, не терпелось похвалиться знатным трофеем: добытого мяса обитателям скита теперь вполне хватит на три дня. И только по истечении этого срока Маркел, быть может, если не случится наложение на пост, даст промысловикам благословение на следующую охоту.
В дороге парнишке все чудилось, что кто-то следит за ним. Но сколько ни осматривался он, прощупывая цепким взглядом кусты и деревья, ничего подозрительного не обнаружил. И все же ощущение, что за ним наблюдают, не покидало его.
«Неужто медведь идет следом? Вряд ли – он свой выбор сделал».
Корней, отлично знавший повадки обитателей тайги, был убежден, что никто из зверей по своей воле не станет обострять отношения с человеком, признавая его особое превосходство. Превосходство не в силе, а в чем-то, им самим недоступном и непонятном, дарованном свыше… Но ведь кто-то все же следит за ним! Он это чувствовал!
До самого скита Корней так и шел, ощущая взгляд таинственного существа-невидимки. Его мысли все чаще возвращались к той минуте, когда он прочел мягкий укор в глазах оленя. «Неужто это его душа теперь следует за мной? Тятя ж говорил, что у зверей, как и у людей, она бессмертна. Что убитая тварь теряет только телесную оболочку, а душа продолжает жить. Ей, видимо, сразу тяжело расстаться с телом, вот и сопровождает нас».
Лютый
Лето выдалось знойным. Особенно томил июль. Алая земляника, разогретая солнцем, источала аромат, растекавшийся по всему лесу. Ласковый ветерок едва шевелил сонные от жары вершины кедров. Исполнив все родительские поручения, Корней скользящей рысцой побежал к восточному стыку хребтов на каскад водопадов искупаться в быстрой воде. Хотя до него было верст девять, легкий на ногу парнишка одолел путь всего за час с небольшим.
Открыл он это место давно, уж лет пять прошло. И влекло его к нему не столько стремление искупаться (было много удобных мест и ближе), сколько желание еще раз полюбоваться на редкое по красоте зрелище череды белопенных сливов.
Уже за две версты от них слышался волнующий сердце гул. По мере приближения он нарастал, и вскоре воздух начинал буквально вибрировать от утробного рева падающей в каменные котлы воды. Сквозь деревья проглядывался крутой склон, ступенями спускавшийся во Впадину. По ним и низвергалась с заснеженных вершин речка Глухоманка.
Над средним сливом, к которому и направлялся Корней, всегда висели завесы водяной пыли. В солнечные дни в них трепетала живая многоцветная радуга. Верхняя часть более высокого, противостоящего к Корнею, берега была сплошь утыкана круглыми дырочками стрижиных гнезд. Сами птицы стремительно носились в воздухе, охотясь за насекомыми. Из-за рева воды их стрекочущих криков не было слышно, отчего казалось, что это и не птицы вовсе, а черные молнии, разрезающие радужную арку на бесчисленные ломтики.
Травянистый берег, на котором стоял Корней, никогда не просыхал. Налетавшие порывы ветра то и дело орошали его волнами мороси, от которой прозрачнокрылые стрекозы, висевшие над травой, испуганно вздрагивали и отлетали на безопасное расстояние.
Скинув одежду, Корней нырнул в прозрачную воду с открытыми глазами и, соперничая со стайкой пеструшек, поплыл к следующему сливу. Саженей за десять до него вынырнул и взобрался на теплый плоский камень. Лег на его шершавую спину и, не слыша ничего, кроме утробного рева водопадов, бездумно наблюдал за хариусами, крутившимися в яме за валуном.
Возвращаясь по тропе в скит, Корней чуть было не наступил на что-то светлое, пушистое. Отдернув ногу, он увидел в траве маленького рысенка. Тот вздыбил шерстку и устрашающе зашипел. Мамаша лежала поодаль, в трех шагах.
Парнишку удивило то, что она не только не бросилась на защиту детеныша, но даже не подняла головы. Такое безразличие было более чем странным. Приглядевшись, Корней понял, в чем дело, – рысь была мертва. «Что же делать с котенком? Пропадет ведь! Может, еще второй где затаился?»
Скитник пошарил в траве, но никого больше не обнаружил. Протянул руку к малышу – тот потешно фыркнул и вонзил острые, как иглы, зубки в палец.
– Ишь ты, какой лютый!
Прижатый теплой ладонью к груди, пушистый комочек, пахнущий молоком и травой, поняв, что его уносят от матери, поначалу отчаянно пищал, но ласковые поглаживания по спине постепенно успокоили.
Вид симпатичного усатика привел сестру Любашу и братишек в неописуемый восторг. Они еще долго играли бы с ним, но малыша следовало покормить. Дети не долго думая подложили рысенка к недавно ощенившейся Чернушке в тот момент, когда та, облепленная потомством, блаженно дремала. Полуслепые щенята, приняв чужака за брата, и не протестовали. Котенок быстро освоился в новой семье и даже сердился, если кто пытался оттеснить его от полюбившегося соска.
Теперь, когда у детей выпадало свободное от работ и молитв время, они бежали на поветь[30] позабавиться с потешным малышом. Особенно любила играть с Лютиком Любаша.
Поначалу поведение котенка мало чем отличалось от поведения молочных братьев, но к осени у него все явственней стали проявляться повадки дикой кошки.
Маленький разбойник частенько затаивался на крыше сарая или на нижней ветке дерева и спрыгивал на спину ничего не подозревавшего «брата», пропарывая порой ему шкуру до мяса. Бедные собачата стали ходить по двору с опаской, то и дело нервно поглядывая вверх.
За домом, под навесом, на жердях все лето вялились на ветру разрезанные на пласты вдоль хребта хариусы и пеструшки. Как-то неугомонная сорока, усевшись на конек крыши, воровато заозиралась по сторонам. И когда убедилась, что во дворе никого нет, слетела на конец жерди, потом, кося глазами, в припрыжку, подергивая в такт длинным хвостом, бочком приблизилась к аппетитно пахнущим связкам. Вытянула шею – далеко! Скакнула еще раз, и в этот миг затаившийся Лютый совершил стремительный прыжок – воришка даже не успела взмахнуть крыльями. Кот слегка сжал челюсти и удовлетворенный выплюнул пакостницу.
В конце февраля, в один из тех первых дней, когда явно чувствуется, что весна уже не за горами, Корней не обнаружил Лютого на подворье. Поначалу никто не придал этому значения, полагая, что тот, как всегда, где-то затаился. Но кот не объявился ни на второй, ни на третий день. Мать успокаивала детей:
– Лютый не забыл и не предал вас. Просто люди живут среди людей, а звери – среди зверей. Лютый тоже хочет жить среди своих. Его дом в тайге.
* * *
Молодая рысь, цепляясь острыми когтями, взобралась на склонившуюся над заячьей тропой лесину и распласталась на ней неприметным благодаря пепельному с бурыми и рыжими отметинами окрасу наростом. Увидев скачущего по тропе косого, Лютый напрягся, точно натянутый лук. Прикрыл глаза – их блеск мог выдать его. Однако бывалый заяц в последний миг все же распознал затаившегося хищника и пулей метнулся в сторону. Силясь в отчаянном прыжке достать косого, кот влетел округлой головой в развилку молодой березы, да так неудачно, что в итоге шею заклинило в ней. Попытки развести упругую рогатину лапами лишь усугубили положение: съехав под тяжестью тела еще глубже, шея уперлась в основание вилки. Горло сдавило так, что зверь, извиваясь, захрипел от удушья.
По воле Божьей, Корней в это время собирал неподалеку березовый гриб – чагу. Привлеченный странными звуками, он осторожно подкрался и увидел висящего на березе Лютого. Кот из последних сил натужно всасывал воздух. Выхватив из-за пояса топор, парнишка ловко подсек более тонкую ветвь развилки и, оттянув ее, вынул зверя из неожиданной ловушки.
Чуть живой зверь, часто дыша, распластался на земле, не сводя со спасителя полных благодарности желтых, с черными прорезями глаз. Корней присел на корточки рядом и погладил друга по пепельной спине, ласково попрекая:
– Вот видишь, ушел от нас и чуть не погиб. А так бы жил, не зная забот.
Переведя дух, Лютый поднялся и, пытаясь выразить свою признательность, принялся, громко мурлыча, тереться о ноги спасителя.
– Ну вот, слава богу, очухался. Пойдем, мне еще надобно собрать чаги для настоев.
Кот согласно завилял хвостом-обрубком и побрел рядом. Когда котомка доверху наполнилась черными бугристыми кусками лекарственного гриба, Корней повернул к дому. Лютый проводил его до самого крыльца, но в скиту не остался, ушел в лес.
Через несколько дней они вновь свиделись. Кот приветственно мякнул, и Корнею показалось, что Лютый в этот раз намеренно поджидал его у тропы.
С тех пор они стали видеться довольно часто. Скитник даже приучил рысь являться на свист. При встрече он старался побаловать приятеля свежениной, угощая прямо с ладони. Лютый, даже если был сыт, никогда не отказывался. Перед тем как взять угощение, он, басовито мурлыча, обязательно, в знак благодарности, терся щекой о руку, и только после этого начинал есть.
Кот оказался не только преданным другом, но ивнимательным слушателем. Когда Корней рассказывал ему про новости в скиту, о сестре Любаше, о младших братишках, скитских друзьях, Лютый, подняв голову с ушами-кисточками, сосредоточенно внимал, правда, когда слушать надоедало, вставал и толкал лобастой головой приятеля: мол, хватит болтать, пойдем погуляем.
Снежок
Вечно угрюмый волк Бирюк процеживал воздух носом. Густо пахло прелью, разомлевшей хвоей, дурманяще кадил багульник. И вдруг сквозь этот густой дух вноздри ударил самый желанный. А может, это только почудилось с голода? Но запах становился все явственней. Волк присел. Сосредоточившись, он так глубоко вобрал в себя воздух, что шкура плотно обтянула ребра. Вожделенный запах, перебивая все остальные, надолго застрял в носу. Теперь волк мог точно определить, откуда он исходит. Припадая к земле, осторожно обходя завалы, лужи талой воды и сучья, зверь шел на запах.
Лосиха, покормив теленка, два дня назад явившегося на свет, дремала, а несмышленыш затаился неподалеку в кустах.
Бирюк подкрался совсем близко. Он уже отчетливо, до волоска, видел гладкий лосиный бок. Поджав под себя задние лапы и напружинив передние, волк приготовился кпрыжку. Он даже не волновался – добыча была верной, но мамаша почувствовала неладное и, тревожась за теленка, подняла голову. В этот миг на нее обрушился тяжелый серый ком: клыкастая пасть мертвой хваткой вцепилась в горло.
Захлебываясь кровью, несчастная, стремясь отвести угрозу от детеныша, поднялась и, волоча вгрызавшегося волка, побрела в чащу, стеная, как человек. Сумев сделать несколько десятков шагов, она упала на колени, повалилась боком на землю. Волк, рыча от возбуждения, все глубже зарывался мордой в шею, пульсирующую горячей кровью…
Насытившись, хищник взобрался на скалистый утес, где улегся в затишке, освещенном лучами солнца.
– Жизнь прекрасна, – сказал бы серый, будь он человеком.
На остатки лосихи, местонахождение которой разглашалось безостановочным треском сороки «Сколько мяса! сколько мяса!», тем временем набрел Лютый. Он, конечно, не преминул полакомиться на дармовщину свежениной и, желая поделиться с другом найденным богатством, в тот же день привел к мясу Корнея.
Обследовав место трагедии, парнишка сразу понял, что здесь поработал серый разбойник. Саженях в десяти в кустах кто-то шевельнулся. Раздвинув ветки, скитник обомлел – в траве лежал лосенок, рядом сидел Лютый. Все телята, виденные им прежде, были буровато-коричневые. Этот же имел совершенно иной окрас – его шерстка была белая, как снег.
– Какой ты у меня умница! – похвалил паренек друга. – Смякитил, что детеныш без матери пропадет, меня позвал. Неужто помнишь, что и тебя так же спасли?
Кот тем временем тщательно обнюхал малыша, лизнул в морду. Теленок, покачиваясь, с трудом встал на широко расставленные, вихляющиеся ножки-ходули и, вытаращив громадные глаза, потянулся к «родителю». Лютый, как бы соглашаясь на покровительство, принялся вылизывать его белую шерсть шершавой теркой языка.
В скиту отнеслись к появлению необычного лосенка по-разному. Кто-то настороженно, кто-то спокойно. А вот Любаша с радостью: она увидела в нем беспомощное дитя, нуждающееся в ее заботе.
Люди, живущие в тайге, волей-неволей относятся к ее обитателям почти как к домашним животным. И не удивительно, что время от времени то в одном, то в другом дворе нет-нет да появлялись осиротевшие барсучата, лисята, медвежата, зайчата или же покалеченные взрослые звери. И это было обыденно. Сама жизнь побуждала людей бережно относиться к обитателям тайги. Скитники и охотились-то только тогда, когда возникала необходимость в мясе, да и то с дозволения Маркела. А в посты, а это не малый срок, зверей и дичь вообще не промышляли, поскольку ничего скоромного, то есть животного происхождения, употреблять в пищу в эту пору нельзя.
Окрепнув или залечив раны, питомцы уходили. На смену им в скиту с удивительным постоянством, как будто по чьей-то воле, появлялись новые зверушки. Но белых лосят досель не видывал никто даже из стариков.
– Выродок! Как бы беды не навлек, – ворчали некоторые из них.
Корней с Любашей этим высказываниям не придавали значения, полагая, что никакого греха в цвете шерсти нет – грешно бросать беспомощную тварь в тайге.
Дети с удовольствием нянчились с малышом, однако, когда на дворе появлялся Лютый, лосенок неизменно отдавал предпочтение коту. Снежок так и считал его своим родителем, и пока «папаша» был рядом, ни на кого не обращал внимания. Кот тоже любил лосенка и по-отечески опекал его.
В разгар лета, возвращаясь домой с полными туесами жимолости, притомившиеся Корней с братишками и соседским Матвейкой прилегли на полянке в тени березы. В ее вершине громко ворковал серо-сизый с зеленой шейкой вяхирь, в высокой траве без умолку стрекотали кузнечики, вдали беззаботно куковала кукушка, повсюду весело щебетали различные пташки, над пахучим донником и медуницей со счастливым гулом вились пчелы. Снежок пасся рядом, пощипывая мягкими губами сочную траву. Мальчишки задремали, а Корней, лежа на спине, раскинул руки и жевал дикий чеснок, наблюдая за плывущими по голубому океану пухлявыми клубами облаков, парящим беркутом.
Вот он, опускаясь, закружил над гарью, поросшей багульником. Круги стягивались все туже и туже. В решительный миг птица, сложив крылья, камнем упала в кусты и почти сразу взлетела. Мерно взмахивая крыльями, она набирала высоту, держа в когтях зайца.
Провожая пернатого налетчика взглядом, Корней приподнялся и… от изумления раскрыл рот: неподалеку от голенастого лосенка смирно сидел здоровенный волчище. Хищник, встретившись с взглядом человека, не проявил ни тени беспокойства и продолжал с любопытством разглядывать теперь их обоих поочередно.
– Ну вот! Пророчили, что белый лосенок к беде, а он, наоборот, даже серого приручил!
От этой мысли Корней тихо засмеялся. Простодушный лосенок недоуменно закрутил большими ушами и доверчиво глядел темно-синими глазами, окаймленными длинными ресницами, то на волка, то на человека. Серый, словно смутившись его наивной доверчивости, не спеша поднялся и, не оглядываясь, удалился.
На третье лето подкармливаемый всеми Снежок превратился в могучего великана. Горбоносая голова на мощной шее, широкая грудь, длинные мускулистые ноги с крупными и острыми копытами, белая шерсть, слегка сероватая в паху. Его красота вызывала у всех восхищение.
Пасся лось обычно неподалеку от скита, а зимой в сильные морозы и вовсе приходил ночевать в клеть, где специально для него держали душистое сено. Даже старики пообвыклись и больше не ворчали на белоснежного красавца. А после того, как Снежок, используя свою недюжинную силу, перетаскал на волокуше изрядное число ошкуренных бревен для постройки дома оженившемуся Матвейке, в скиту и вовсе зауважали его.
Исподволь Снежок стал незаменимым помощником. Любаша поднимала на нем с речки тяжелые корзины постиранного белья. Ольга, обнаружившая в дальних заводях богатые заросли сусака, собирала там корни и, навьючив на лося полные торбы, доставляла их прямо к крыльцу. Елисей на санях, запряженных Снежком, вывозил из тайги дрова. А Корней вообще разъезжал на друге, как на лошади. Что любопытно, работы по хозяйству лось выполнял с явным удовольствием.
Когда, одаренный превосходным слухом, лось улавливал призывное улюлюканье или свист приятеля, он иноходью бросался на зов, не разбирая дороги, тараня грудью подлесок, с легкостью перемахивая через завалы. Как только он подбегал, Корней запрыгивал на спину непревзойденного таежного вездехода, и, разыскав вместе с ним Лютого, они все вместе бродяжничали по лесу, где заблагорассудится. Со стороны троица выглядела весьма колоритно: впереди свирепого вида рысь, следом огромный белый лось с черноголовым наездником!
Иногда Корней ласково поглаживал шею горбоносого великана и почесывал за ушами. В такие минуты Снежок замирал, и его мягкая губа расквашенно отвисала от удовольствия. Он готов был часами стоять так, не шевелясь, лишь бы не прекращалось это необыкновенное блаженство, но наездник уже шлепал по крупу, требуя догнать кота.
Летом, перед заходом солнца, когда спадал и овод, и жара, друзья обычно спускались к глубокому плесу, где купались до изнеможения. Снежок научился плотно прижимать уши и нырял не хуже Корнея. Один Лютый только делал вид, что купается: зайдет в воду по колено и бродит потихоньку вдоль берега.
Постоянное общение с лесными приятелями развило у Корнея способность по выражению глаз, морды, движению ушей, хвоста, повороту головы, скрытому напряжению и еще чему-то, трудно объяснимому, улавливать чувства и желания не только Лютого и Снежка, но и других зверей. В его голове все эти мелкие штрихи складывались в понятные по смыслу «фразы». Иной раз Корнею даже удавалось переговариваться со зверьем взглядами. Поглядели друг другу в глаза – и все стало понятно.
Каждый год, с наступлением темных августовских ночей, когда звездам на небосводе нет числа, на холмах Впадины то здесь, то там раздавался отрывистый, низкий рев рогачей, рыскающих по тайге в поисках невест, застенчиво прячущихся в глухомани и выдающих себя нежным пофыркиванием.
Молодой скитник, колотивший в эту пору кедровые шишки, возвращался домой. День уже покинул Впадину и напоминал о себе лишь багровым отсветом на западе. С лесистого склона соседнего холма временами доносилось страстное мычание лося. Наконец на его вызов снизу откликнулся второй бык. Корней сразу признал его по голосу – Снежок!
Бесшумно ступая, скитник направился к месту предполагаемой встречи быков-соперников. Действительно, вскоре послышался стук рогов, яростное всхрапывание. Следом затрещали ветки. Треск приближался. Вскоре мимо Корнея по тропе пробежал, мотая серьгой[31], незнакомый взмыленный сохатый. Похоже, бились быки крепко: у посрамленного бойца на месте правого рога-лопаты торчал лишь короткий пенек.
Подойдя к месту побоища, Корней увидел стоящего на вытоптанной полянке Снежка. Он торжествующе взирал на мир и имел необычайно гордый вид от того, что есть свидетельница его триумфа – стройная важенка. Она тихонько приближалась к нему. Снежок нетерпеливо хоркнул. Важенка тут же отозвалась нежным мычанием. Прильнув друг к другу, они принялись миловаться: ласково покусывать друг друга за уши, за холку, тереться скулами и… улыбаться. От избытка чувств лось водрузил массивную голову на шею трепещущей от волнения подруги. Снежок ощутил, как под бархатистой шкуркой пульсирует горячая кровь избранницы. Ее тепло переливалось в сердце кавалера, наполняя его блаженством. Они были счастливы и не замечали ничего вокруг. Это были сладчайшие минуты в их жизни!
Корней осторожно, чтобы не потревожить влюбленных, удалился.
Барсук
Пряный запах вянущих листьев и трав заполнил лес. Спокойные зеленые тона Впадины и хребтов сменялись разноцветной мозаикой, сочность которой подчеркивалась особой прозрачностью воздуха. Заполыхали багрянцем рябины. Оранжевыми кострами запламенели лиственницы. Отливали золотом кроны берез. Порывы ветра срывали отмирающие листья, укладывали их на мягкое ложе из прежде опавшей листвы. Среди этой пестроты жизненным постоянством отличались зеленокудрые кедры, нашпигованные увесистыми связками смолистых шишек, а в горах разбросанные по хитросплетениям ущелий островерхие ели и пихты. Вся эта хвойная знать бесстрастно взирала на лесной карнавал, но сама в нем не принимала участия, наверное, из-за колючести характера.
Урожай брусены в этот год выдался небывалым. В один из погожих сентябрьских дней почти все обитатели скита разбрелись по кедровому бору собирать любимую ягоду, сплошь усыпавшую низенькие кустики с мелкими яйцевидными листочками. Сборщики, чтобы побыстрее наполнить корзины, доили веточки двумя руками.
Корней, имевший привычку забираться в самую глухомань, заметил под обрывом у барсучьей норы лису. Забыв о ягодах, парнишка стал наблюдать за ней. Когда барсук вылез из жилища и отошел к «уборной» справлять нужду, кумушка вынырнула из-за куста и юркнула в лаз. Пробыла она там недолго и покинула нору до возвращения барсука. А когда тот вернулся в свое жилище, оттуда сразу послышалось недовольное похрюкивание. Опрятный хозяин, любящий чистоту и уединение, брезгливо щуря маленькие глазки, очищал квартиру от зловонных испражнений, оставленных лисой. Нахалка на этом не успокоилась: она взялась подбегать к норе и лаять, разрывать лапами отнорки.
Добродушный увалень, хотя и был крупнее и сильнее кумушки, терпеливо сносил эти мелкие пакости. Но, похоже, что наглость и упорство рыжей бестии в конце концов принудят беднягу оставить просторное жилище и рыть новое. Корней сочувствовал барсуку, но вместе с тем и осуждал за то, что постоять за себя не может. Его же самого дома ожидал нагоняй от матери за полупустую корзину: Корней насобирал брусены гораздо меньше, чем младшие братья…
Отшельник
Никодим на десятое, после смерти жены, лето, когда Корнею шел девятый год, а внучке Любаше шестой, уговорил-таки наставника Маркела благословить его на пустынножитие, дабы отойти от мирских забот, сосредоточившись на писании истории общины и наставлений по лекарскому делу, молитвах за здравие скитской братии.
Со своей сударушкой Пелагеей они прожили душа в душу немалый срок и, оставшись без нее, Никодим, несмотря на то, что был окружен любовью и заботой домашних, чувствовал себя сиротой. Он уже давно замыслил удалиться в пустынь и при встрече с Маркелом часто заводил разговор на эту тему. И наставник наконец сдался, внял уговорам, благословил на отшельничество, тем более что Никодим обещал не отгораживаться от братии и продолжать лечить и наставлять при нужде.
За седмицу Никодим с Елисеем и соседом Проклом сладили лачугу с двумя окошками у подножья Северного хребта на горном ключе. Переезд же затеяли в самое предзимье, когда злой ветер-листодер срывал с деревьев остатки ярких осенних нарядов. Место нового проживания называлось Верхи. Находилось оно не так уж и далеко – всего в трех верстах от скита.
Жилище свое Никодим держал в чистоте и опрятности. Одну половину стены его обители заняли полки с книгами старинного письма из библиотеки князя Константина, отобранные для общины еще старцем Варлаамом, а вторая половина была заставлена его собственными рукописями и черновиками.
Здесь, в пустыни, Никодим, для пользы дела стал еще больше внимания уделять наблюдениям за явлениями природы. Ничто не ускользало от его пристального взора и слуха, а великолепная память, подкрепленная записями в черновых бумагах, позволяла сопоставлять и осмысливать все виденное и слышанное, делать верные умозаключения о причинах и следствиях подмеченных явлений. Отшельник с каждым годом все точнее и безошибочнее определял, какими будут лето, осень, зима, что лучше сажать этой весной и в какую пору, когда откочуют олени, удачен ли будет сезон на пушнину, какие способы охоты будут уловистей.
Для усмирения плоти старец неделями воздерживался от пищи, ходил босым, зимой и летом в одном рубище. Со временем он так овладел собой, что, сидя на ледяном ветру, не мерз, а напротив, сосредоточившись, добивался такого состояния, при котором ему становилось жарко. В скиту, где его и без того изрядно почитали, стали поговаривать, что сие доступно только святым.
Скитожители по мере надобности хаживали к нему: кто за советом, кто поплакаться, кто за снадобьями, а кто просто поговорить о жизни, о Боге. Он всех привечал с неизменной улыбкой и вниманием. Но самым желанным гостем для него был, конечно, внук Корнейка.
Никодим не жалел времени на него, ибо давно пришел к твердому убеждению, что нет у человека дела важнее, чем воспитание и просвещение милых сердцу чад так, чтобы они стремились жить в любви, по заповедям Христа.
Паренек относился к деду с детским обожанием, считая его самым добрым, самым мудрым человеком на земле.
Поначалу, пока внук был желторотым птенцом, дед подробно рассказывал ему об их многотрудном переходе через Сибирь, о жизни в забайкальском скиту, о том, как спешно бежали из него и добрались до Впадины, читал вслух предания старины, в книгах описанные. Слушая его, Корнейка любил трогать медные и серебряные пластины накладок дорогих фолиантов и напрестольного Евангелия, разглядывать темные кожаные переплеты, вдыхать ни на что не похожий, особый запах пергамента.
Когда Корней немного подрос, Никодим и живший тогда еще у них Горбун стали беседовать с мальчиком о Боге, рассказывать о мученической смерти Христа, его заповедях, о христопродавцах, поднявших руку на веками сложившуюся богоугодную русскую обрядность, третье столетие гонимую и попираемую. Читали ему вслух книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, несшие в себе Слово Божье.
– Мир донельзя изалчился, сынок. Бога в людях не стало. О душе забыли. Совесть потеряли. Помни: все бренно – и плоть и творения людские. Одна лишь душа бессмертна. Держи ее в чистоте, не пятнай, чтоб не гореть ей потом за грехи в аду, а вечно блаженствовать в Царствии Небесном, – поучал внука дед.
– Вот бы глянуть хоть одним глазком на то Царствие.
– Сие в земной жизни не исполнимо, но ежели твое житие будет по совести, по Христовым заповедям, то Господь, по завершении тобой земного пути, может допустить в него.
– Деда, ты все про совесть говоришь, а что это такое?
– Совесть – это звучащий в каждом человеке глас Божий. Если живешь по совести, стало быть живешь праведно, без греха, в соответствии с Божьим помыслом. Поэтому, прежде чем что-либо сделать или сказать, всегда прислушивайся к ее голосу.
Азбуке Никодим начал обучать внука сызмальства, когда ему едва стукнуло четыре года, еще до занятий, проводимых Маркелом со скитской детворой. Чтобы заслужить похвалу деда, мальчонка усердно водил пальцем по страничкам, пытаясь сложить из букв слова. Но не только кровные узы, а и простота, сердечность отношений, взаимная потребность друг в друге способствовали их необыкновенной привязанности.
Когда Никодим удалился в пустынь, Корней частенько хаживал к нему, помогал по хозяйству. Вместе с дедом готовил на зиму дрова, собирал орехи, ягоды, коренья, попутно познавая лекарскую науку. Зимой он, бывало, неделями жил в дедовой хижине, заваленной снегом. Что это за чудные дни были! Сколько полезного и интересного узнавал он, общаясь со старцем!
В одно из посещений Корней принес ему собачонку по кличке Простак. Дед обрадовался подарку, как малое дитя.
– Спаси тебя Бог, Корнюша, угодил старику. Давно хотел собаку у себя поселить. Да все недосуг было щенка в скиту взять. Собака ведь самое преданное существо. Она, как ни одно другое животное, щедро наделена даром бескорыстной любви к человеку. Теперь мне повеселей будет вечера коротать.
Они тут же соорудили у входа в лачугу конуру и покормили новосела свежей рыбой, принесенной предусмотрительным Корнеем…
* * *
Вечерело. Старец сидел на пороге хижины, выдвинув плечи вперед, что придавало его позе схожесть с орлом. Ветерок трепал седую бороду и волосы. Простак, свернувшись на коленях, сладко дремал. Время от времени он вздрагивал от глухого стука шлепающихся на землю созревших кедровых шишек.
По лежащему на земле стволу громадной лиственницы к Никодиму деловито подбежал коричневый, с черными полосками на спине, симпатяга бурундучок – земляная белка. Встав на задние лапки и вытянув вверх тонкое тельце с прижатыми к груди передними, он, посвистывая, принялся клянчить угощение.
Старик насыпал горку орешков и с детским любопытством наблюдал, как бурундук торопливо запихивает их в защечные мешки. Вскоре он набил семян так много, что уже с усилием удерживал голову. Тем не менее зверек продолжал лихорадочно заталкивать в рот остатки угощения: зима долгая, запас не повредит. И только после того, как орешки стали буквально вываливаться изо рта, он, потешно ковыляя, понес драгоценный груз к норке.
Прибежавший из скита внук-сорванец сбил метким броском камня сидящего на березе рябчика. Мигом снял с него шкурку прямо с опереньем и, насадив тушку на заостренную палку, завертел ее над жаркими углями.
– Скоро будет готово, – сказал он, наблюдая, как запекается белое мясо. Старец в ответ с укоризной глянул на внука, пожевал губы, но от внушения воздержался.
– Чего-то не так, деда?
– Огорчил ты меня, Корнюша. Почто тварь Божью без нужды сгубил?
– Так поесть ведь…
– Ежели проголодался, орехов или меду в кади возьми. Не по нраву – масла лещинного с лепешками отведай, сливок из кедровых орешков попей. Рябцы ведь мне, как братья. Целыми днями летают, посвистывают, взор радуют, а ты удаль никчемную кажешь. Запомни: «Сам себя губит, кто живое не любит», – поучал дед. – Все сущее жить рождено. Даже дерево рубишь, помолись, дозволения испроси, по крайней нужде, мол, позволь, Создатель, воспользоваться, а потом в три раза больше семян посей и непременно поблагодари Создателя за дары. Это рачительно, по-хозяйски будет, без убытку, по любви и согласию.
Погладив в задумчивости бороду, дед продолжил:
– По молодости я, дурень, тоже, бывало, промышлял… Лет, поди, пятьдесят тому назад. Тогда чуть постарше тебя был… Так вот, сидел я как-то на зорьке в шалашике на берегу Ветлуги – в матерой Расеи то еще было. Смотрю, опустилась на воду парочка крякв: селезень с уточкой. И так стали обхаживать друг дружку, такая радость и любовь, такое счастье исходили от них, что внутри у меня тогда все перевернулось. Ружье подниму, прицелюсь – а стрелять не могу… И так несколько раз. С тех пор охоту и бросил… Лучше уж погляжу, полюбуюсь на живых. До чего все они красивые и ладные! И ведь у каждого свой характер, свой порядок, свои привычки. Я так думаю – не стоящее это дело под живот жизнь подлаживать! Лучше добрые дела творить. Больных, к примеру, на ноги ставить. Тогда благодать в душе и поселится…
Беркут
Отчетливо видимые в синеве неба орлы то скользили кругами друг за другом, то поднимались так высоко, что превращались в две черные точки; то зависали на одном месте, то пикировали и вновь взмывали в поднебесье.
Посреди Впадины, над тем местом, где кружили орлы, возвышалась скалистая гряда, напоминавшая силуэт сгорбленного медведя. На одну из ее обнаженных зазубрин наконец и опустились величественные птицы, замерев, как гранитные изваяния.
Лет десять назад тогда еще молодой паре беркутов приглянулась эта одинокая скала, и они устроили на ней гнездо. Оно представляло собой огромную кучу веток, вперемежку с перьями и костями. Подстилкой служил мох и верхушки пахучих веточек багульника. Располагалось гнездо весьма удачно, и орлы чувствовали себя здесь в полной безопасности: их убежище снизу не видно, да и подняться к ним хищники не могли, а сами они далеко обозревали прилегающие окрестности.
Как обычно, в конце мая в гнезде появилось яйцо, через неделю – второе. Теперь беркут добывал пищу один. Высмотрев жертву, он камнем падал вниз и тут же, мерно взмахивая крыльями, поднимался уже, как правило, с поживой в когтях и торопливо летел к сидящей на яйцах подруге.
Иногда орлица сходила с гнезда, и тогда на ее место спешил присесть супруг. А она разворачивала огромные крылья, потягивалась и взмывала в небеса размяться.
Настал момент, когда одно из яиц треснуло, и в щелочке показался клювик. Он жалобно пикнул. Мать, отламывая крючковатым клювом кусочки скорлупы, помогла первенцу выбраться на свет.
Боже! До чего он был жалок и безобразен! Как дрожало покрытое белым мокрым пухом тельце! Но мамаша с гордостью и нежностью глядела на свое дитя. Правда, недолго: вместительный, малиновый изнутри, клюв-колодец уже раскрыт и требует пищи. Отрыгнув птенцу мяса, орлица прикрыла его теплой грудью. Вскоре вылупился второй.
Птенцы были необычайно прожорливыми и непрерывно требовали новых порций мяса. Чтобы заполнить их бездонные утробы, одному из родителей приходилось без устали промышлять леммингов, тетеревов, зайцев и прочую живность. Зато и росли малыши не по дням, а по часам, постепенно покрываясь бурыми перышками.
Чем старше они становились, тем бесцеремонней требовали пищу. Вконец измотанные родители пытались не обращать внимания на их раскрытые «кульки», но, не в силах долго терпеть душераздирающие вопли, отправлялись на поиски корма уже вдвоем.
Когда солнце пекло особенно сильно, кто-нибудь из взрослых вынужден был оставаться на скале, чтобы, расправив зонтом крылья, создавать для птенцов тень. Таким же способом укрывали их и от дождя.
В тот памятный тихий, безветренный день уставшая от бесконечных поисков корма орлица парила в восходящих потоках, поджидая возвращения неутомимого супруга.
Тем временем беркутята, взобравшись на камень, беспрестанно хлопали крыльями и, подражая взрослым, пытались издавать грозный клекот. Первенец, считавший пронырливого младшего брата главным виновником голода, вероломно подскочил к нему и грудью столкнул с уступа. Бедняга, то планируя, то беспорядочно кувыркаясь, полетел вниз.
Семья волков, пригнув головы к земле, рыскала в окрестностях горы Медведь. Они внюхивались в следы, выуживая свежие запахи дичи.
Один из остромордых волчат, по примеру отца, гонял по траве туда-сюда, туда-сюда, неотвратимо приближаясь к затаившемуся в кустах беркутенку. Пролетавшая в это время над скальной грядой орлица обратила внимание на то, что в гнезде копошится всего один малыш. Зорко оглядев окрестности, она заметила рыскающих у подножья гряды волков. Опустившись пониже, обнаружила и пропавшего птенца. Волчонок шел прямо на него. Мать, не раздумывая, спикировала, но кусты помешали с лету прикончить молодого хищника. Орлица опустилась в стороне и, отвлекая внимание на себя, предостерегающе защелкала клювом.
Перепуганный волчонок оскалил клыки и визгливо затявкал, призывая старших на помощь. Родители примчались тотчас. Они с двух сторон набросились на не успевшую взлететь грозную птицу, и волк, изловчившись, точным ударом клыков ополовинил ее крыло. Забив, что было силы целым, орлица попыталась подняться, но лишь неуклюже завалилась на кровоточащую култышку. Воодушевленные хищники вновь ринулись в атаку. Чувствуя, что в небо ей уже не подняться, птица опрокинулась через хвост на спину и, громко клекоча, выставила страшные когти-крючья. Столь устрашающая поза остановила атакующих. Звери закружили вокруг, чтобы напасть с тыла.
Услышав призыв подруги, с неба на волка черным вихрем обрушился беркут. Восемь когтей-кинжалов вонзились в загривок и, приподняв, опрокинули зверя наземь. Мощный удар стального клюва оглушил его. Бесстрашный орел рвал когтями живот серого, когда ринувшаяся на выручку волчица, сомкнув челюсти на шее, обезглавила пернатого рыцаря. Добив и раненую орлицу, она подозвала перепуганных волчат.
Вскоре от царственных птиц остались лишь две груды перьев.
Порыскав вокруг, волчица обнаружила и затаившегося птенца. Не помогли тому ни хранимое им молчание, ни полная недвижимость. Слегка придушив орлика клыками, мать отнесла еще живую добычу выводку для забавы.
Израненный же волк заполз под выворотень, чтобы никто не видел его последних мучений.
Ольга, ходившая с бабами по грибы, сообщила сыну о кучах бурых перьев у подножья горы Медведь. Когда Корней вскарабкался на орлиную скалу, то обнаружил в гнезде уже совсем сникшего от жажды и голода птенца. Увидев человека, малыш с надеждой раскрыл клюв…
Через неделю орленок встал на крыло, но Корней еще долго подкармливал нового питомца – Рыжика, подзывая его к себе особым пересвистом. Орленок так привязался к парню, что безбоязненно ел с его рук. Впоследствии, завидев с высоты благодетеля, он трепещущей тучей внезапно налетал на него и, довольный произведенным эффектом, с трудом размещаясь на плече спасителя, складывал крылья, демонстрируя темно-коричневую с рыжинкой грудь. Собрав золотистые заостренные перья на голове в великолепный хохолок, Рыжик заглядывал в лицо Корнея и, поблескивая желтыми глазищами, щелкал клювом. Парень ласково гладил приятеля и угощал чем-нибудь вкусненьким: рыбой или дичью. Со временем Рыжик так избаловался, что, если лакомство не давали, сердито подергав друга за волосы, обиженный, улетал. Пристыженный Корней шел к речке, вынимал из ближней морды[32] пару рыбин и свистом возвращал любимца. Мир восстанавливался.
Свора
В один из душных июльских вечеров волки, обитавшие в окрестностях Водопада, томились на проплешине в ожидании сигнала разведчика. Над ними клубилась туча безжалостной, надоедливо-звенящей мошкары. Чтобы согнать наседавших кровососов, серые трясли головами и совали морды кто в траву, кто в еловый лапник.
Наконец от подножья Южного хребта донесся вой, густой и немного расхлябанный. Он не срывался на последней ноте, а завершался плавно гаснущим звуком, возвещавшим – «чую добычу». Спустя некоторое время вой вновь поплыл над тайгой, наводя на все живое безотчетную тоску.
Отвечая вразброд, потянулись ввысь голоса встрепенувшихся хищников: «Слышим, жди!»
«Видящие» носом не хуже, чем глазами, волки затрусили цепочкой, то опуская, то вскидывая морды, стремясь не пропустить ни единого запаха. Мягко перепрыгивая через поваленные стволы и рытвины, бесшумно скользя сквозь таежные заросли, звери готовы были в любой миг замереть или молнией ринуться на жертву.
Стая приближалась к подножью хребта. Вел ее матерый волчище – Дед. Он даже издали заметно выделялся среди прочих более мощным загривком, широкой грудью с проседью по бокам.
Волки, поначалу семенившие не спеша, учуяв вожделенный запах добычи, перешли в намет. Густой лес нисколько не замедлял их бега: подсобляя хвостом-правилом, они ловко маневрировали среди стволов.
Горбоносый лось, дремавший на проплешине, заслышав вой, вскочил, беспокойно затоптался на месте. Увидев множество хорошо заметных в темноте приближающихся огоньков, он понял, что схватки не избежать. Встав задом к выворотню и опустив голову, вооруженную уже окостеневшими рогами, бык приготовился к бою.
Опытные волки взяли сохатого в полукольцо. Дальше все должно было развиваться по хорошо отработанному сценарию: вожак, отвлекая жертву, всем своим видом демонстрирует готовность вцепиться ему в глотку, а остальные в это время нападают с боков и режут сухожилия задних ног. Но, разгоряченный бегом и предвкушением горячей крови, Дед совершил ошибку: прыгнул на быка с ходу и угодил под сокрушительный встречный удар – острое копыто проломило ребра. Зато подскочившие с боков волки сработали четко и молниеносно: лось беспомощно повалился на землю. Воспользовавшись промашкой вожака, его давний соперник Смельчак первым сомкнул мощные челюсти на горле быка и, дождавшись, когда тот, захлебываясь хлынувшей кровью, перестанет бить ногами, взобрался на поверженного гиганта. Мельком глянув на раненого Деда, Смельчак понял, что тот уже не жилец, и победно вскинул голову: наконец пробил и его час! «Отныне я вожак!» – говорили его поза и грозный оскал.
Смельчак, выделяясь смелостью и силой, несомненно являлся достойным преемником. Он был настолько ловок, что умудрялся прямо на ходу отрывать куски мяса от бегущей жертвы. А главное, обладал способностью подчинять собратьев своей воле.
Воцарившись, новый вожак стал действовать по закону «как хочу, так и ворочу», поправ справедливые порядки, устоявшиеся в стае за годы предводительства Деда. И, что удивительно, часть волков сразу безоговорочно подчинилась Смельчаку. Это доставляло ему особое, ранее не веданное им наслаждение.
Уступчивость стаи поддерживалась еще и тем, что сложились очень благоприятные условия для сытой жизни. Оленей во Впадине расплодилось так много, что хищники безо всяких усилий резали их каждый день. Обильная добыча упрочили владычество Смельчака и нескольких приближенных угодников: вокруг него постепенно образовалась как бы стая в стае.
Власть и заметное превосходство над всеми в силе, довольно быстро растлили деспота. Предпочитая, чтобы, высунув языки, рыскали и охотились рядовые волки, Смельчак со свитой выходили из-за деревьев только тогда, когда жертва уже дымилась кровью. Поначалу они отнимали ее силой, но мало-помалу сами добытчики свыклись с этим беспределом и, завершив набег, покорно отходили в сторону, в ожидании своей очереди. Изредка, когда охота предвиделась особенно легкой, шайка Смельчака, чтобы размяться, тоже участвовала в налете.
Питались звери так хорошо, что их шерсть приобрела особый блеск, от чего при свете луны казалась серебристо-белой. Ум и хитрость Смельчака позволяли успешно завершать все налеты, отличающиеся, как правило, бессмысленной жестокостью. Возможность играючи, без усилий добывать поживу, привела к тому, что и остальные, доселе неагрессивные волки втянулись в этот дикий разбой.
Скитники стали то и дело натыкаться в лесу на зарезанных, но не тронутых телят. Как-то даже обнаружили растерзанного волками медвежонка. Рядом, уткнув морду в живот, сидела оглушенная потерей медведица. Безвольно опустив передние лапы, она раскачивалась из стороны в сторону, как человек. Тяжело вздыхала и горестно поскуливала. Жалко было мамашу, и люди проклинали серых, но в то же время полагали, что «на все воля Божья». Стая почувствовала себя хозяйкой всей Впадины и бесцеремонно промышляла даже возле скита: затравленные олени, ища защиту, жались к поселению.
Однажды олений табунок, в надежде, что волки не посмеют подойти вплотную к скиту, расположился на ночь прямо под бревенчатым частоколом. Не успели олени задремать, как тревожно захоркал вожак. Олени испуганно вскочили, прижались друг к другу. Один из них, ни с того ни с сего начал вдруг с силой, словно от кого-то отбиваясь, лягать воздух. Но сколько олени ни всматривались в безмолвный мрак, они не смогли разглядеть ничего подозрительного. Тем временем рогач, взвившись на дыбы, упал и начал кататься по траве. Воздух наполнился запахом смерти.
А серые тени, уже не таясь, выныривали из мрака со всех сторон, и вскоре табунок превратился в метущийся хаос: обезумевшие животные прыгали, падали, хрипели, захлебываясь кровью. Вся эта резня продолжалось не дольше десяти минут. Когда поднятые лаем собак мужики уяснили, что происходит, и пальнули для острастки в черное небо, все было закончено.
Утром при виде множества истерзанных туш, лежащих на примятой, бурой от крови траве, потрясенные скитники окаменели. Казалось, что даже белоголовые горы и те с немым укором взирали на столь безжалостное побоище.
– Сие – проделки диавола в волчьем обличии! Пора дать ему укорот! – возгласил Маркел.
Еще до этого необъяснимого зверства, время от времени, изучая по следам жизнь стаи, Корней уяснил, что ей верховодит умный и кровожадный зверь. Скитник был уверен, что если ему удастся выследить и уничтожить вожака, то разбой прекратится. Распутывая паутину следов, он не единожды выходил на место отдыха волков, но вожак, умная бестия, всегда уводил стаю раньше, чем он мог сделать верный выстрел.
Сам же Смельчак скрытно наблюдал за скитником довольно часто. Корней чувствовал это, и несколько раз их взоры даже скрещивались, но за то мгновение, пока он вскидывал ружье, зверь успевал исчезнуть – словно таял ввоздухе. Просто дьявольщина какая-то!
Зная наиболее часто посещаемые шайкой серых места, скитники устроили с вечера засады на всех возможных проходах. Елисею с сыном достался караул возле ключа, отделявшего кедрач от осинника.
Натеревшись хвоей, они сидели в кустах, не смыкая глаз и держа ружье наготове. При свете луны слушали ночные шорохи, редкие крики птиц. Вот бледным привидением проплыл над головами филин. Вышли на прогалину олени. Сопя и пыхтя, вскарабкался на косогор упитанный барсук. Забавлялись в осиннике зайцы. И только волков не было видно, хотя стая все это время бродила неподалеку, искусно минуя засады.
Среди ночи у Корнея на несколько минут возникало знакомое ощущение чьего-то взгляда, испытанное им еще во время первой охоты, но он так и не приметил Смельчака, вышедшего прямо на него. Волк некоторое время понаблюдал из-за куста за давним соперником и увел стаю в недоступную глухомань.
Последующие засады также не дали результата. Попробовали насторожить самострелы. Одного из волков стрела пробила насквозь. Живучий зверь с четверть версты бежал, временами ложась на траву и пытаясь зубами вытащить стрелу, но рана была смертельной, и он вскоре околел. Скитники нашли его по голосу ворона-вещуна, каркающего в таких случаях по-особому. Шкуру снимать не стали – от волка исходила невыносимая вонь.
– Питаются хорошим мясом, а пахнут дурно, – удивлялся Тихон.
– Они ж слуги диавола, – пояснил Корней.
После этого случая стая словно испарилась. Ставшие уже забывать о ее существовании люди через несколько месяцев вновь были потрясены жестокой резней оленей. Но и в этот раз волки бесследно затерялись в путаной сети отрогов и распадков. Повторные облавы, пасти, луки на тропах и на привадах теперь вообще не давали результатов. Видимо, предыдущий урок не пропал даром. Поднаторевший Смельчак запросто разгадывал хитроумные замыслы охотников и всегда обходил ловушки.
Смекалка вожака проявлялась порой самым неожиданным образом. Он, например, догадался, как избавляться от постоянно мучивших волков блох.
Как-то раз, переплывая речку, Смельчак заметил, что сотни паразитов, спасаясь от воды, собрались у него на носу. Выйдя на берег, волк взял в зубы кусок коры и стал медленно погружаться с ним в воду. Дождавшись, когда все блохи переберутся на кору, он разжал зубы…
А однажды зимой волки, обежав в поисках оленей все распадки и отроги, обнаружили наконец небольшой табунок, но никак не могли подкрасться к нему для успешной атаки – запуганные животные не позволяли приближаться, догнать же их по глубокому снегу узколапые хищники не могли. Вот если бы весной по насту!
Инстинкт подсказывал Смельчаку, что стаю выдает их резкий запах. И тогда перед набегом звери, следуя примеру вожака, долго терлись о снег, политый мочой оленей, и их свежий помет. Эта немудреная процедура позволила подойти к табуну настолько близко, что удалось зарезать разом важенку и престарелого рогача. Стая попировала и залегла на долгожданный отдых. Случайно наткнувшиеся на место трапезы, охотники вспугнули зверей. Объевшиеся волки убегали поначалу не торопясь, грузно прыгая, но, когда меткий выстрел уложил одного из них, они тут же изрыгнули съеденные куски мяса на снег и махом оторвались от преследователей. Одна из пущенных вдогонку пуль настигла замыкавшего цепочку волка. Раненый зверь зашатался. Промокшая от крови и снега шерсть слиплась клочьями. Изнемогая, волк повернулся к бегущим на снегоступах стрелкам и, злобно оскалившись, пошел навстречу смерти. Остальные члены стаи укрылись в окрестностях пещер, куда скитники никогда не заходили.
Корней, хорошо изучивший повадки Смельчака, давно уверовал, что вожак стаи – порождение дьявола. Не мог же Творец наделить столь выдающимися способностями такое жестокосердное чудовище!
Смельчак тоже хорошо знал своих гонителей, а особенно Корнея, чуя в нем сильного противника, тушуясь порой от его уверенного и проницательного взгляда. Волк привык видеть в глубине зрачков любого встретившегося ему существа панический страх. В глазах же этого парня горел особый, неустрашимый огонь. Он бесил Смельчака, но вместе с тем и притягивал, порождал желание вновь схлестнуться, помериться силой взгляда.
Осмотрительно избегая прямой стычки с Корнеем, Смельчак, дабы доказать свое превосходство, задумал прикончить его верного товарища – Лютого. Да и сама стая давно точила клыки на слишком независимого и оборотистого кота. Но ушлый Лютый спал только на деревьях, а уж чуткости у него было несравненно больше, чем у серых. Однако удобный случай своре вскоре все же представился.
По изменениям в следах Лютого волки поняли, что кот повредил лапу. И действительно, когда они встретили рысь, она сильно хромала. Не воспользоваться этим было глупо, и вожак с ближайшими сподручниками пустились в погоню. Спасаясь от преследователей, рысь побежала по склону крутого отрога, заметно припадая на переднюю лапу. Бежала она с трудом, а споткнувшись, даже неловко растянулась на камнях. Свора, окрыленная доступностью жертвы, прибавила ходу и уже предвкушала скорую расправу, но, почти настигнутый, Лютый успел заскочить на узкую горную тропу и скрыться за скалистым ребром, где в засаде терпеливо караулил Корней с дубиной. Он пропустил рысь, а затем по очереди молча посшибал в пропасть всех волков, выбегавших из-за поворота.
Благодаря понятливости и бесстрашию Лютого хитроумный замысел Корнея удался на славу. Кот, гордый убедительным исполнением роли увечного, подошел к другу. На дне пропасти грудой лежали разбившиеся о камни разбойники. Но самым невероятным во всей этой истории было то, что Смельчак, повинуясь своему особому чутью, остался внизу. Увидев сияющего Корнея, спускавшегося с вполне здоровым Лютым, он понял, что предчувствие его и на этот раз не обмануло. Проводив недругов ненавидящим взором, волк осторожно поднялся по тропе и обнаружил, что все его сподручники погибли.
Утрата своры приближенных была для Смельчака сильнейшим ударом. Лишь на следующий день, оправившись от потрясения, он вернулся в стаю, отдыхавшую в глухом распадке. Волки дремали в тени деревьев, лениво развалившись в самых немыслимых позах. Заметив Смельчака, они по привычке встали, но смотрели на него напряженно, даже враждебно. Воспользовавшись его отсутствием, главенство в стае захватил Широколобый. Видя, что вожак один, без свиты, он и вовсе осмелел.
– Хочешь помериться силой? Давай! – говорил он всем своим видом.
Смельчак понимал, что должен во что бы то ни стало осадить самозванца, но праздный образ жизни последних лет не прошел даром: он утратил былую силу и ловкость. Однако, даже отдавая отчет, что, скорее всего, уступит Широколобому, Смельчак не мог добровольно сдать власть: гордыня не позволяла.
Чуть опустив голову, Широколобый настороженно следил за каждым движением вожака. Приоткрытая пасть придавала его морде выражение уверенности в победе. Взбешенный Смельчак подскочил почти вплотную. Соперники, ощерившись, встали друг против друга, демонстрируя решимость отстоять право быть вожаком. Стая внимательно наблюдала за происходящим.
Уже были показаны белые, как снег, клыки, поднята дыбом на загривке шерсть, гармошкой сморщен нос, неоднократно прозвучало устрашающее рычание, а они все стояли, не двигаясь с места. Наконец Широколобый, отступая назад, принудил Смельчака сделать бросок. Соперник только и ждал этого: отпрянув в сторону, он неуловимым боковым ударом лапы сбил противника с ног и, нависнув над ним, принялся остервенело трепать ненавистный загривок.
Смельчак вырвался, но сильно ударился головой о ствол дерева и, метнувшись в чащу, умчался прочь. Еще никогда он не чувствовал себя таким опозоренным…
Давно заглохли последние верховые запахи стаи, а Смельчак все бежал и бежал, кипя от бессильной злобы. Наконец он добрался до местности, где зияли темные глазницы пещер. Эта окраина Впадины была богата зверьем, а следы людей здесь вообще отсутствовали.
Постепенно Смельчак свыкся с участью изгоя и стал жить бирюком. Иногда, правда, наваливалась невыносимая тоска, но, не желая выдавать себя, он воздерживался от исполнения заунывной песни о своей горькой доле. В такие минуты он лишь тихо и жалобно скулил, уткнув морду в мох.
Как-то стая Широколобого, перемещаясь по Впадине за стадом оленей, случайно столкнулась со Смельчаком. Волки с показным безразличием прошли мимо низвергнутого вожака. Даже бывшая подруга отвернула морду. От унижения Смельчак заскрежетал зубами, да так, что на одном из них скололась эмаль. Ему, всю жизнь одержимому стремлением к верховенству, жаждой превзойти других, видеть такое нарочитое пренебрежение было невыносимой мукой, но приходилось терпеть. Невольно вспомнилась волчица Деда: та не отходила от смертельно раненного супруга ни на шаг, а когда тот околел, еще долго неподвижно лежала рядом, положив передние лапы на остывающее тело.
Утратив за время царствования охотничью сноровку, Смельчак вынужден был довольствоваться мелкой и, как правило, случайной поживой. Зато, хорошо разбираясь в оттенках голоса ворона, он легко определял, что тот нашел падаль, и, получив подсказку, не гнушался сбегать подкрепиться на халяву.
Однажды, переев протухшего мяса, Смельчак чуть не сдох. А после поправки уже не мог даже приближаться к падали – его тут же начинало рвать. Не способный быстро бегать, он приноровился размеренно и упорно, с присущей только волкам выносливостью ходить за добычей часами, а порой и сутками. Безостановочно шел и шел, не давая намеченной жертве возможности передохнуть, подкрепиться. Преследуемое животное поначалу уходило резво, металось с перепугу, напрасно тратило силы, но постепенно ноги тяжелели, клонилась к земле голова. Расстояние между хищником и добычей неуклонно сокращалось. Страх неминуемой смерти парализовывал жертву, лишал последних сил. А Смельчака же близость добычи, наоборот, возбуждала, придавала бодрости. Наконец наступал момент, когда измотанное, загнанное животное, чуя неминуемую гибель, смирялось с уготованной участью и останавливалось, уже равнодушное ко всему. И, когда Смельчак подходил к нему, как правило, даже не пыталось сопротивляться – принимало смерть с безропотностью обреченного.
Волк потихоньку восстанавливал былую форму и к следующей зиме нехватку в пище не испытывал: мало кому удавалось уйти от его клыков.
В один из знойных полудней дремавший на лесине Смельчак проснулся от хруста гальки и плеска воды: кто-то переходил речку. Похватав налетные запахи, волк уловил чарующий аромат стельной лосихи. Точно, она! Брюхатая осторожно брела по перекату прямо на него. Волк сглотнул слюну. От предвкушения возможности поесть свеженины в голову ударила кровь.
Когда лосиха остановилась под обрывом, чтобы дать стечь воде, Смельчак выверенным прыжком оседлал ее и вонзил клыки в шею. Очумевшая от неожиданного нападения корова, оберегая бесценное содержимое живота, опрокинулась на спину и с ожесточением принялась кататься по волку. Тот, разжав челюсти, чуть живой отполз к воде, а потрясенная мамаша удалилась в лесную чащу.
Выполняя просьбу деда-травозная, Корней, после Тихонова дня, когда солнышко дольше всего по небу катится и от долгого света Господня все травы животворным соком наливаются и вплоть до Иванова дня высшую меру целебности имеют, шел по высокому берегу, собирая лапчатку серебристую, необходимую для приготовления лечебного сбора прихворнувшему Проклу. Приседая на корточки, скитник с именем Христовым да именем Пресвятой Богородицы срывал ту траву так, чтобы не повредить корни.
Неожиданно Корней ощутил на себе до боли знакомый взгляд: по голове и спине аж озноб пробежал. Неужто Смельчак?! Он резко обернулся и внизу у воды увидел невзрачного, всклокоченного волка, но глаза, вернее, один приоткрытый глаз, сразу выдал его. Точно, Смельчак!
– Вот это встреча! Так ты, старый вурдалак, оказывается, жив?! – воскликнул Корней.
Зверь вздрогнул, еще сильнее прижал к загривку уши и втиснул голову в речную гальку. В его взгляде засквозили испуг, тоска, чувство полной беспомощности – не было сил даже оскалить когда-то грозные клыки. Глаза заслезились: то ли от жалости к самому себе, то ли от того, что трудно мириться с бесславной участью обреченной жертвы.
А Корней смотрел на сильно поседевшего зверя сочувственно, можно сказать, с грустью. Смельчак отвел глаза, тяжело вздохнул. Они поняли друг друга. В какой-то момент во взгляде скитника вместе с жалостью невольно мелькнула мстительная удовлетворенность. Смельчак, словно почуяв перемену в настроении человека, тут же едва слышно заскулил.
– Нечего плакаться, получил ты, браток, по заслугам.
Но просьба волка о пощаде и помощи была настолько открыто выраженной, что скитник даже смутился. Корней спрыгнул с обрыва на галечную полосу и направился к Смельчаку. Тот в ужасе сжался, дернул грязным, как дворовая метелка, хвостом и как будто всхлипнул. Шумно вздохнул и замер.
– Не робей, лежачих не бьют, – Корней склонился над зверем и наткнулся на угасающий взгляд. Волк был мертв…
Набрав травы, парень вернулся в хижину и рассказал деду о неожиданной встрече.
– Все как у людей, – задумчиво растягивая слова, проговорил отшельник. – Кто затевает раскол, от него сам же и гибнет.
Златогрудка
Чуткий Лютый, шествовавший, как всегда, впереди, похоже услышал что-то занятное: остановился, покрутил ушами и направился к вытянувшейся длинным языком свежей осыпи. Подошедший следом Корней разглядел под камнями лисью мордочку.
Освободив заваленную кумушку, он положил ее на траву, ободряюще погладил по спине:
– Ну, беги, рыжая!
Та попыталась встать, но, сморщив нос, сразу легла: очевидно, боль была нестерпимой (лисы, как и волки, переносят ее молча).
Корней взял покалеченного зверя на руки и понес в скит…
Златогрудка поправлялась чрезвычайно быстро. Кормили ее прямо с хозяйского стола, но для лисы любимым лакомством оставались все-таки мыши, которых специально для нее Корней добывал ловушками.
Прошла неделя или немногим более. Поврежденные кости перестали болеть, и лиса уже могла сама подстерегать юркие шарики. Вскоре она переловила почти всех мышей сначала в сарае, а потом и на подворье. Делала она это ловко и изобретательно. У лис вообще есть талант обращать любые обстоятельства в свою пользу. Там, где волки берут добычу за счет своей неутомимости, лису выручает хитрость и сметливость.
В один из дней Златогрудка увидела у кучи хвороста ежа. Когда она приблизилась к нему, он тотчас свернулся в клубок, растопырив колкую щетину. Лиса долго катала сердито фыркающий шар по земле, надеясь, что еж раскроется, но упрямец не сдавался. Будь поблизости вода, лиса сразу решила бы эту проблему. Пришлось прибегнуть к необычному способу: став над ежом, лиса подняла заднюю лапу с тем, чтобы обдать его мочой, но выжала из себя лишь несколько капель. Расстроенная Златогрудка ушла, а недоверчивый еж еще долго не расправлял колючую броню.
Скитские собаки не очень жаловали кумушку, и Корней, как только она перестала хромать, выпустил ее за ограду…
Зимой в один из ясных, студеных дней, возвращаясь от деда, парнишка увидел, что прямо на него, не таясь, бежит лиса.
Медно-рыжее пышное веретено, сияя на солнце, эффектно плыло над белоснежной пеленой среди зеленых елочек. Пушистый хвост кокетливо стелился следом.
– Ух ты! Какая красавица! Уж не Златогрудка ли?
От слепящего солнца Корней так резко и оглушительно чихнул, что с ближнего дерева свалился снег. Но лиса, ничуть не испугавшись, подбежала к нему и встала рядом.
– Признала! – просиял скитник.
А Златогрудка, выражая радость от встречи, лизнула Корнею руку и заюлила между ног. Потом еще с полверсты неторопливо трусила рядом, ставя задние лапы так аккуратно, что они попадали в след передних с точностью до коготков. Дойдя до белой ленты Глухоманки, она повернула и, с восхитительной легкостью прыгая по снежному покрову, умчалась обратно к той жизни, для которой и была рождена.
– До встречи! – крикнул ей вдогонку Корней.
Лиса не оглянулась.
Горное озеро
Как мы знаем, Впадину, приютившую скит, обрамляли два вытянутых с востока на запад хребта: Южный – более низкий, пологий и Северный – величественный, в бесчисленных изломах и трещинах, с чередой снежных пиков по гребню.
Излазивший котловину вдоль и поперек, Корней великолепно ориентировался среди холмов, ключей, чащоб и болотин, покрывавших межгорное пространство. Никто лучше его не знал, где нынче уродилась малина, где слаще морошка, а где пошли грибы. Зверье настолько привыкло к нему, что без опаски продолжало заниматься своими делами, даже если он проходил совсем близко. Скитник иногда останавливался возле них и что-нибудь ласково говорил. Звери не убегали, и ему казалось, что они понимают его.
К шестнадцати годам Корней столь подробно изучил все окрестности, что ему стало тесно во Впадине. Он все чаще обращал свой взор на горные пики Северного хребта, манящие своей непостижимой красотой и неприступностью. Особенно молодой скитник любил созерцать, как заходящее солнце красит их скалистые грани: то в пурпурно-алые, то вдруг в лилово-зеленые, а чаще всего в золотисто-желтые цвета. Это занятие доставляло ему неизъяснимое удовольствие, схожее с удовольствием, испытываемым им от полетов, совершаемых во снах.
Корней с малых лет пользовался своей способностью летать во сне над макушками деревьев, покрывавших Впадину. Во время таких воспарений он терял ощущение веса. С годами скитник стал замечать, что если поднапрячь волю, то высота полета начинает расти. Иногда ему удавалось подняться до самых облаков, но как только Корней пытался дотронуться до белых клубов, так приобретал свой обычный вес и начинал стремительно падать. Неимоверными усилиями гася скорость, он приземлялся все же благополучно, причем каждый раз на одну и ту же лесную полянку, и тут же просыпался весь в испарине и обессиленный.
Став постарше, скитник загорелся мечтой приобрести способность летать наяву так же свободно, как и во сне. Стремясь как можно быстрее развить это свойство, он, удаляясь в укромное место, закрывал глаза и часами представлял себя расслабленно парящим то над речкой, то над рокочущим водопадом, то над горными вершинами. Полет шальных грез порой уносил его далеко за пределы Впадины. Богатое воображение, подпитываемое рассказами деда, как-то увлекло через бескрайнюю Сибирь, за Камень, в Ветлужский монастырь. То, что монастырь именно Ветлужский, Корней не сомневался – по рассказам первоскитников он представлял его так же явственно, как и родной скит.
Святая обитель была пустынна со следами больших разрушений. Пролетая над монастырским погостом, Корней, будто руководимый чьей-то волей, опустился у покосившегося креста одной из могил. Очистив ее от нападавшей и спрессованной временем листвы, на освобожденном от мусора надгробном камне прочитал:
«Раб Божий Константин.
Он жил во славу Создателя.
Кто добром помянет – того Бог не забудет».
Корней вернулся обратно в Кедровую падь с ощущением, что ему удалось необъяснимым образом прикоснуться к таинству Времени.
После этого видения парнишка окончательно уверовал в то, что уже в нынешнем году станет летать наяву, но для этого ему следует взобраться на заснеженный пик Северного хребта. С того дня Корнея потянуло на неприступные снежные пики с еще большей силой. Он поделился с дедом своей мечтой взойти на трехглавый пик, удобный проход к которому пролегал мимо пещерного скита, но старик страшно рассердился на внука и запретил даже помышлять о том.
– Деда, отчего мне нельзя в горы? Ты же знаешь, я быстрый – за день обернусь! – настырничал Корней.
Поняв, что одними запретами не обойтись, Никодим вынужден был, взяв с внука обет пожизненного молчания, рассказать ему историю про благочестивого монаха, про страшный мор, выкосивший живших в пещерном скиту единоверцев.
– Помни: ведаем о том только я да Маркел. Ты третий, кому сия тайна доверена. Не отпускай ее далее себя. Нарушишь обет, сболтнешь ненароком – не видать тебе Царствия Небесного. Человеки, известно, зело любопытны, а последствия этого свойства для нас всех могут быть ужасными: найдется непоседа-ослушник навроде тебя, заберется в прокаженный скит, и тогда всем нам смерть. Потому и наложили мы с Маркелом строгий запрет на посещение тех мест. – Никодим внимательно оглядел внука, словно видел впервые. – А ты, шалопай, и впрямь вырос, возмужал… Пожалуй, дозволю тебе подняться в горы. Но уговор – тех пещер сторонись, за версту обходи.
Перед восхождением Корней несколько раз взбирался на скалу, торчащую неподалеку от Верхов, и подолгу разглядывая широкий предгорный уступ, упиравшийся в крутые скаты хребта; отроги, иссеченные лабиринтами ущелий и трещин; гребни, утыканные стрельчатыми шпилями, намечал удобную дорогу к вершине. В конце концов в его голове сложилось ясное представление, по какому маршруту быстрее всего можно будет взойти на трехглавый пик, не нарушая дедова наказа.
* * *
На уступ-террасу Корней взобрался без затруднений. Она была намного шире, чем представлялась снизу, и устлана тучной, по пояс, травой, среди которой крупными, мясистыми листьями выделялся медвежий лук – черемша. Трава разваливалась под ногами на обе стороны, образуя за путником глубокую траншею. От окружавшей безмятежности и раздолья Корнею даже захотелось повалиться с разбегу на перекатываемые ветром изумрудные волны и бесконечно долго лежать на них, внимая голосу ветра и щебету птиц.
Дальше за террасой дыбилась твердь высоченных гольцов с каменными проплешинами, покрытыми местами зелеными заплатками кедрового стланика. А над ними господствовал трехглавый снежный пик, от которого веяло прохладой и свежестью.
Там, где терраса упиралась в гольцы, взору путника открылась почерневшая от долгих годов небольшая часовня. Северный скат ее кровли и нижние венцы поросли мхами. Неподалеку от часовни, из высокой груды камней, возвышался на сажени три, а может, и более, потрескавшийся лиственный крест. Подойдя ближе, Корней увидел, что его поперечины покрыты резьбой со скорбными словами из Евангелия. На камнях, подле креста, лежал… свежий букетик луговых цветов.
«Господи, помилуй! Неужто в пещерном скиту еще кто жив?» – со страхом и благоговением подумал путник.
Помолясь на потускневшую, изрядно облупившуюся икону Божьей Матери, висящую над входом и поклонившись Ей до земли, Корней с опаской заглянул в обомшелое святилище. Темное снаружи, внутри оно излучало теплый медовый свет обтесанного дерева. В часовне было пусто. Лишь в углу резное распятие, да на полке несколько почерневших образов. Выйдя наружу и повторно сотворив молитву, скитник направился дальше. Шагов через восемьдесят он уперся в провал, заполненный неподвижной, черной водой, опоясанной высокой каменной оправой. Разморенный нараставшим зноем, парнишка, не раздумывая, скинул одежду и, хотя в глубине души у него шевельнулось нехорошее предчувствие, нырнул прямо в слепящее отражение солнца.
Холодная вода обожгла, залила тело бодрящей свежестью. От плеска волн между отвесных стен заметалось гулкое эхо. Проплыв поперек озерка туда и обратно, Корней стал высматривать место, где можно было бы вскарабкаться наверх. Но безобидные сверху берега снизу выглядели совершенно по-иному: они, склонившись к центру, буквально нависали над Корнеем.
Проклиная себя за неуместную прихоть, загнавшую его в каменную ловушку, Корней лег на спину и, чуть шевеля ногами, тихонько поплыл. Глядя в голубой овал неба, он страстно просил у Господа милости и помощи, но в ответ, с небосвода, словно унося с собой последнюю надежду, уплыло одно-единственное облачко.
Вода в озере была такой студеной, что даже закаленный парнишка вскоре стал ощущать неприятный озноб, проникающий все глубже и глубже. Холод достиг вен, заскреб сердце. В голове застучало: «Неужели это конец?! Неужели это конец?!»
Другой на его месте закрыл бы глаза, выдохнул воздух и погрузился в многометровую толщу, дабы без долгих мучений обрести вечный покой, но Корней был не из тех, кто сдается без борьбы. Он продолжал упорно плавать вдоль берега, высматривая площадку или уступ, на который можно было бы взобраться, чтобы хоть погреться, но тщетно…
Вдруг спину что-то царапнуло. Перевернувшись, Корней увидел в прозрачной воде, прямо под собой, гряду камней. Она тянулась несколько саженей и, резко обрываясь, терялась в глубине. Приободрившись, пловец стал нырять и переносить, перекатывать легкие в воде глыбы на самое высокое место. Когда из озерка вырос островок, парнишка выбрался на него и, поднявшись во весь рост, сотворил молитву:
– Господи Всемогущий! Не отведи милость Свою от раба Твоего неразумного. Отче наш, вразуми меня грешного, спаси и сохрани. Во всем полагаюсь на волю и милость Твою. Аминь!..
Вот уже и светило скрылось за кромкой проема. Воздух сразу охладел. Подкрадывалась ночь. Промозглая стылость вновь раскрыла свои леденящие объятия. Чтобы не замерзнуть, Корней принялся перекладывать с места на место камни, приседать, размахивать руками, хлопать ими по телу.
Для поддержания спокойствия духа, он не переставал страстно молиться, веря, что Господь не даст сгинуть. Ведь он уже подарил надежду – островок.
Утром солнце хотя и рано выглянуло из-за отрога, сам островок осветило только к полудню. И сразу будто чья-то теплая, ласковая рука согрела съежившегося на угловатых камнях человека. Уняв дрожь, Корней еще раз с надеждой прощупал цепким взглядом отвесные берега озерца и в очередной раз убедился, что самостоятельно отсюда не выбраться.
Перед его мысленным взором неожиданно возник скромный букетик у креста. Ведь кто-то положил его туда! И совсем недавно! Корней принялся еще истовей просить Бога ниспослать ему в помощь того ангела или человека, который оставил цветы, но мир оставался безучастным к его мольбам.
Все требовательней заявлял о себе голод. Его когти раздирали пустой желудок на части. Темноспинные рыбины, как бы дразня скитника, то и дело подплывали к островку. Сноровистому Корнею удалось камнем оглушить одну из них. Сырое мясо чувство голода притупило, но ненадолго. К вечеру зарядил дождь. Он лил то ослабевая, то набирая силу почти сутки. Корней продрог настолько, что уже не был в состоянии не только бросить, но и поднять камень – беспрестанная дрожь сотрясала скрюченное на островке тело…
* * *
Властелин неба – громадный золотистый беркут, широко распластав крылья, парил в промытом дождями лучезарном поднебесье, наслаждаясь своей способностью подниматься выше самых высоких пиков, не прилагая к тому усилий. Рыжик обожал эти полеты в последние погожие дни скоротечного лета.
В овальном зеркале озерца рядом со своим отражением беркут увидел островок, которого прежде не было, и лежащего на нем человека. Острое зрение позволило орлу даже с заоблачной высоты признать в нем своего спасителя и друга – Корнея.
Рыжик радостно заклекотал и, камнем спикировав, сел рядом. Как всегда, подергал клювом за волосы. Человек приоткрыл глаза, но и это напряжение оказалось для него чрезмерным: воспаленные веки тут же сомкнулись. Подождав немного, беркут повторил попытку разбудить приятеля, но ответом был едва различимый стон.
Сообразив, что друг в беде и ему необходима помощь, добропамятливый орел решительно расправил крылья и одним великолепным взмахом поднялся в воздух. Расстояние до скита он одолел за несколько минут.
Шумно опустившись перед Ольгой, занятой выделкой оленьих шкур, птица ухватила клювом подол ее юбки и дернула на себя.
– Что, Рыжик? Проголодался? – Ольга вынесла с ледника мяса, но беркут, не обращая на угощение внимания, тревожно клекоча, задергал еще требовательней. Отлетая и вновь возвращаясь обратно, он как бы звал ее за собой. Такое необычное поведение встревожило женщину.
– Неужто с сыном что стряслось? – подумала она и кликнула мужа. Рыжик сразу переключил свое внимание на вышедшего из избы Елисея и стал тянуть его за штанину. Было очевидно, что Рыжик просит следовать за ним. Сердца родителей сдавил обруч недоброго предчувствия.
Позвав соседа Прокла с сыном Матвейкой, Елисей, спешно побросал в котомку еду, котелок с кружками, связку веревок, сплетенных из сыромятины. За кушак сунул топор. Когда мужики смекнули, что беркут ведет их в сторону запретных пещер, они несколько оробели и замедлили шаг. Но птица настойчивым клекотом требовала продолжать путь.
С опаской поднявшись на уступ-террасу в полутора верстах правее пещер, люди увидели, что беркут сидит на шпиле невесть откуда взявшейся часовни у самого подножия вздыбленных скал. Потрясенные скитники, не сговариваясь, бухнулись на колени и принялись истово креститься, класть поклоны.
Рыжик тем временем слетел с часовни и скрылся в траве.
Мужики переглянулись, но, пересиливая страх, осеняя себя крестным знамением, двинулись к тому месту, где исчез беркут, и вскоре уперлись в лежащие на траве вещи Корнея. За травой их взору открылся провал, заполненный водой. Посреди недвижимой глади на камнях лежал, свернувшись калачиком, раздетый Корней. С берега казалось, что он спит, положив ладошки под щеку. Рядом сидел Рыжик.
Елисей скинул одежду, достал моток веревок и, передав один конец Проклу, спустился к воде. Доплыв до островка, он обвязал бесчувственного сына и, поддерживая его, погреб обратно. Стоящие наготове Прокл с Матвейкой вытянули наверх сначала Корнея, а следом и самого Елисея.
Влив в рот горе-путешественника живительный настой золотого корня, скитники долго растирали окоченевшее тело. Наконец на лбу парнишки выступила испарина. Он задышал глубже и приоткрыл глаза.
– Слава богу! Ожил!
– Тятенька, Матвейка?! Откуда вы?
– Помолчи, родимый! – произнес Елисей и в приливе нежности, крепко прижав к груди силящегося улыбнуться сына, порывисто поцеловал. Елисей безмерно любил старшего сына, но внешне чувств никогда не проявлял. А тут прорвало. Скупые слезы катились по загорелым щекам в густую бороду. – Доброе сердце у тебя, Корнюша, вот и послал Господь за нами твоего спасителя – Рыжика… Кабы не он, не свиделись бы, пожалуй, боле на этом свете.
Покормив Корнея и беркута, счастливые скитники долго возносили Царю Небесному молитвы за чудодеяние, не стесняясь изливать любовь к Нему.
– Корнюша, а что это за чело[33] в бреге? Мне поблазнилось даже, что там лестница лежит, – вспомнил Елисей, когда они уже спускались во Впадину.
– Какое чело, тятенька? Я ничего такого не приметил.
– И то правда, его с воды, пожалуй, и не видно… Похоже, озерцо-то не простое, – задумчиво пробормотал себе под нос отец.
Корней хотел было рассказать отцу про букетик свежих цветов на камнях возле креста, но, памятуя обет, данный деду, промолчал.
Горбун
В скиту было много пересудов. Каждый на свой лад толковал происхождение часовни, креста возле нее. Дивились необычайным обстоятельствам спасения Корнея.
– Смотри-ка, птица, а и та с понятием! Добро помнит! – хвалили они Рыжика.
Братия справедливо полагала, что после столь сурового урока непоседливый Корней наконец угомонится. Некоторое время он и впрямь далеко не отлучался, а работы по хозяйству исполнял с особым усердием и рвением. Но душа кочевника не терпит длительного однообразия. Да тут еще слова отца о черной дыре разбередили воображение. Остроконечные горные пики пуще прежнего влекли к себе.
Природа тем временем обильно рассыпала по склонам отрогов осенние самоцветы – яркие костры увядания, щедрый дар бабьего лета перед зимним сном. В эту благодатную пору у Корнея, как и у перелетных птиц, всегда возникало неодолимое желание к перемене мест, и он отпросился у отца на несколько дней к деду под благовидным предлогом помочь тому по хозяйству в преддверии холодов. На самом же деле с тайным намерением осуществить давно вынашиваемый план восхождения на самый высокий пик Северного хребта.
К хижине отшельника молодой скитник подходил в темноте. Из оконца приветливо струился мягкий золотистый свет. И таким уютным и желанным показалось ему дедово пристанище! Сколько счастливых воспоминаний таилось там, за мутным пузырем, натянутым на крепкую раму.
«Сейчас дедуля, наверное, записывает глухариным пером, под тихое потрескивание фитиля в плошке, в лежащую на коленях[34] тетрадь свои памятки», – предположил Корней и не ошибся.
– Здравствуй, радость моя, – встретил его дед, поднимаясь с топчана с мохнатым пером в руках, – Ты как будто мысли мои прочел. Помощь твоя нужна. В «Травознаях» вычитал про одну многополезную травку. Судя по описанию, в наших горах тоже должна расти. Посмотри, вот она на картинке изображена. Надобно сыскать ее.
Корней остолбенел… Всю дорогу он придумывал убедительный повод для отлучки, а тут на тебе – дед сам отправляет в горы! И уже на второе утро, спозаранку, несмотря на то, что весь гребень Северного хребта за ночь покрыл снег, отправился в путь. Солнце в этот день взошло в плохом настроении: кроваво-красное, словно сердитое на то, что его так рано подняли с опочивальни.
Достигнув злополучного провала, скитник обошел его и, вглядевшись в неровные стены, обнаружил на одной линии с часовней и лиственным крестом зияющую дыру. Но как ни напрягал Корней зрение, так и не разглядел в ней ничего похожего на привидевшуюся отцу лестницу. Зато обратил внимание на то, что трава над ее челом почему-то редкая, как бы вытоптанная. Корнея так и подмывало внимательно обследовать это место, но понимая, что сегодня дорога каждая минута, он сразу начал подъем к далеким белоснежным пикам, сгрудившимся на головокружительной высоте. Узловатые, низкорослые, перекрученные ветрами и морозами лиственницы, отважно карабкавшиеся вместе с ним по камням, вскорости отстали. Дальше путь пролегал по обнаженным скалистым склонам с небольшими вкраплениями кедрового стланика. Корней, предусмотрительно обходя сомнительные участки и расщелины, к вечеру достиг лишь кромки снежного покрова.
Солнце, вывалившись из щели между туч, повисло алой каплей над проломом, сквозь который убегала из Впадины речка Глухоманка. Низ котловины уже заливали сгущающиеся сумерки. Пора было позаботиться о ночлеге, но сказочная красота расцветавшего заката поглотила путника целиком. Завороженный, он смотрел, как вершины и склоны неуловимым образом воспламеняются в разряженном воздухе нежнейшими переливами алого и багряного цветов, плавно темнеющими, по мере погружения солнца за горизонт, до темно-лилового, вплоть до фиолетового. Купол неба при этом излучал роскошное, медленно густеющее, зеленоватое свечение. Такой переменчивой игры красок Корнею прежде не доводилось созерцать. Снизу, со дна Впадины, все выглядело гораздо бледнее.
Душа и сердце скитника еще долго не могли успокоиться от восхищения перед этой потусторонней красотой. Мысленно отметив место, где скрылось солнце, скитник с трепетной надеждой подумал: «Может, завтра с вершины удастся глянуть на почивальню светила».
Унося последние отголоски дня, по небу проплыл запоздалый клин красных, от лучей невидимого уже солнца, лебедей. В сгущающейся тьме растворялось, исчезало неисчерпаемое богатство пиков, ущелий, отрогов. Зеленоватое небо почернело. Вызрели первые звезды. В тишине отчетливо различался звон невидимого ключа…
Вместе с рассветом на горы сплошным войлоком наползли низкие тучи, но путник не сробел – стал упрямо карабкаться к укутанным молочной мутью вершинам хребта. Поднимаясь все выше и выше, он с волнением ожидал момента, когда сможет дотронуться до серых туч: вдруг они такие плотные, что сквозь них невозможно будет пройти?
Достигнув бугристых облаков, Корней, со смешанным чувством облегчения и разочарования одновременно, открыл для себя, что они – обычный туман, только намного гуще.
С предосторожностями, на ощупь, долго и упорно продираясь сквозь него, он, наконец, увидел невероятно синее небо и слепящий диск на нем. А под ним простиралось во все стороны серое покрывало. Из него островками торчали заснеженные пики хребтов. Корней стоял на подступах к самому высокому горному массиву, состоящему из трех пиков.
Дальше, на севере и северо-востоке, просматривались ряды еще более величественных хребтов, сиявших серебром зубчатых корон. Своим видом они напоминали белопенные гребни речных шивер[35]. Когда-то мать рассказывала Корнею, что, по эвенкийским преданиям, за этими горами, через много дней пути – Тундра: ровная земля с бесчисленными стадами оленей, а еще дальше – Край суши, обрывающийся в Соленое море, покрытое полями льдов и торосов.
– Эх, побывать бы и там! – мечтательно вздохнул паренек…
По мере того как Корней поднимался к заветным вершинам, хрустальный купол неба вопреки его ожиданиям не приближался, а, напротив, темнея, удалялся, становясь еще более недосягаемым. Корнею трудно было представить, что внизу, под сугробами облаков, сейчас пасмурно – так ярко полыхало здесь солнце, слепил глаза снег. «Вот он – мир ангелов и архангелов! Может, где-то поблизости и Божья обитель», – с благоговейным трепетом подумал он.
Горный массив, к которому он поднимался, оказался не трех, как виделось снизу, а пятиглавым. Невесть откуда возникший ветер погнал по перемычкам, соединяющим вершины, седые пряди поземки. Колючие вихри крепчали. Встречный снег слепил глаза, сбивал дыхание. Дивясь тому, как быстро переменилась погода, Корней зашел под защиту суставчатых скал-останцев, частокол которых, словно вешки, указывал дорогу к намеченной цели – самому высокому пику. Глянув на уходящую вверх ложбину, он застыл от удивления: поперек ее медленно двигалось черное существо, похожее на человека. В этот миг налетел мощный шквалистый вихрь, и все видимое пространство потонуло в белой мгле. Когда порыв ослабел и видимость улучшилась, скитник с удовлетворением отметил, что видение исчезло.
«Пожалуй, лучше пережду, а то мерещиться всякое стало. Да и подкрепиться пора», – решил он и заполз в нишу под скалой. Метель тем временем разыгралась не на шутку. Вскоре даже ближние скалы растворились в снежной круговерти. «Как бы не пришлось возвращаться», – подумал Корней и привалился к податливому надуву: усталость, а главное, непривычность к высоте все же давали о себе знать.
Под завывание ветра незаметно подкралась дрема, сладостная и неподвластная воле человека. Веки смежились. Корней почувствовал, что теряет вес. Тело стало легким, почти невесомым, и он полетел… В тающем тумане проступил высоченный снежный пик и солнце прямо над ним. Корней опустился на заснеженную вершину почему-то босиком и высоко поднятыми руками прикоснулся к сияющему шару.
«Хорошо-то как! Ох, как хорошо! А светило-то, оказывается, вовсе и не жгучее, а, напротив, теплое и ласковое!»
Скитник осторожно приподнял и понес светило, ступая босыми ногами по обледенелой кромке гребня, но от нестерпимой боли в ступнях… проснулся.
Над ним склонилось волосатое чудище с выставленными вперед, словно напоказ, желтыми зубами. Оно растирало ступни его ног ладонями, покрытыми жесткой, грубой кожей.
Мелькнула мысль: «Неужто я у пещерников?!»
«Пещерник», заметив мелькнувший по лицу парнишки испуг, поспешил успокоить:
– Не робей, это я, Лука-Горбун… Не признал, что ли?
По тому, как медленно и отчетливо человек выговаривал слова, было понятно, что он давно не говорил вслух.
Перед глазами Корнея ожила картина из детства: горбун, с выставленными зубами и длинными, висящими до земли руками, рассказывает ему сказки. Корней мало что понимает в них, но крупные желтые зубы невольно притягивают взор. Он не осмеливается отвести от них глаз. Боится: вдруг они выпрыгнут изо рта и укусят?
– Да, да, дядя Лука, признал! – облегченно вымолвил скитник. – А мы думали, вы утопли… Простите, Христа ради, по первости за пещерника принял – уж больно вид у вас одичалый.
Согревшись, паренек огляделся. Они находились в сухом, теплом гроте. Саженях в семи выход, за которым свирепствовала пурга. Вдоль неровных стен угадывались очертания хозяйственной утвари, вороха сена. Колеблющееся пламя светильника гоняло по шероховатому своду длинные причудливые тени. Очага не было. Озадаченный, Корней поинтересовался:
– Дядя Лука, а отчего у вас так тепло?
– Ишь, пытливый какой… Ноги-то отошли, что ль? Пойдем, покажу…
Лука запалил от светильника факел, и они перешли в другой, еще более теплый зал. То, что увидел там Корней, на некоторое время лишило его дара речи. Сверху, с края арочного выступа, ниспадал волнистый, с молочными переливами, каменный занавес. С потолка свисали перламутровые сосульки, а с пола, навстречу им, тянулись остроконечные шпили белого цвета. По шероховатому своду местами высыпала «изморозь» из хрупких кремовых и розовых игл. Стены в извилистых, напоминающих щупальца невиданных животных, влажных наплывах, обрамленных букетиками из искрящихся кристалликов. Пожалуй, в воображении даже самого гениального художника не могла родиться картина такой красоты.
Справа, из трещины в плитняке, била струя парящей воды. Под ней образовался водоем, на дне которого лежали гладко отполированные, с янтарным свечением шарики разной величины: от ячменного зерна до перепелиного яйца.
– Боже, а это что?
– Пещерный жемчуг! Нравится? То-то!.. Мне тоже… Каждодневно созерцаю их…
Вернувшись в жилой грот, Лука нарезал ломтиками мороженое мясо куропатки и зачерпнул из выдолбленного в каменном полу «котла» полную чашу брусники. Ели молча: по старому завету за трапезой говорить не можно. Грех…
И только после того, как все было съедено и убрано, Корней поведал Горбуну обо всех значимых событиях, произошедших в скиту за последние годы. Закончив рассказ, и сам полюбопытствовал:
– Дядя Лука, а как вы отыскали меня в такую метель? Ведь не видно было ни зги!
– Трудно объяснить… На все воля Божья… Мне иное удивительно: как я тебя, такого детину, дотащил сюда…
– Храни вас Бог, дядя Лука! Всю жизнь буду молиться за здоровье и спасение души вашей. Отвели от смерти.
По слегка побледневшему выходу пещеры собеседники поняли, что снаружи светает, но пурга не утихала.
– Экий ветрина. Еще дня два покрутит, – определил Лука.
– Неужто так долго! – расстроился Корней.
– Нашел с чего горевать… Поживешь пока у меня в тепле и сытости…
– Не можно мне. Деда изведется.
Корней подробно рассказал Горбуну о своих недавних злоключениях на озерке и о чудесном спасении. Когда черед дошел до привидевшейся отцу лестницы, Лука загадочно заулыбался:
– Путь твой к вершине многотруден неспроста… Господь тебя испытует… Слабый человек давно бы отрекся от этой затеи, а ты не отступаешь, сызнова пошел. Молодец!.. Ну что ж, ежели нельзя задерживаться, – собирайся… Провожу…
– Вы же сказали, что еще дня два покрутит. Как мы в непогодь пойдем?
По лицу Горбуна вновь скользнула загадочная улыбка:
– Там, где пойдем, – пурги не бывает.
Вконец растерявшийся скитник надел котомку. Горбун запалил факел, три запасных передал Корнею и направился… в глубь пещеры.
За поблескивающим от света пламени скальным выступом открылась полого уходящая вниз галерея. Ее стены покрывали натечные складки, трещины, бугры. Шли по ней довольно долго, сворачивая то влево, то вправо, то поднимались, то опускались. Потом галерея разделилась. Более широкий рукав сворачивал вправо, но Горбун повел прямо.
– Дядя Лука, а куда правый ход?
– Тебе-то что? Иди куда ведут, – недовольно промычал тот.
И хотя Корней не получил вразумительного ответа, он не сомневался, что это ответвление ведет в пещерный скит.
Свод галереи опускался все ниже и ниже. Рослому парню теперь приходилось идти согнувшись, и он, из-за света факела, не сразу заметил, что тьма понемногу отступает. Лишь когда Лука загасил пламя и устало присел на корточки подле лежащей на каменном полу лестницы из жердей, молодой скитник сообразил, что они достигли цели.
Корней подошел к выходу. Нестерпимо яркий свет сек глаза, паренек невольно зажмурился.
– Смотри, еще раз не утопни, – засмеялся Лука.
Осторожно выглянув из лаза, Корней обомлел: под ним лежало памятное озерко. В прозрачной глубине, среди камней, шевелили плавниками старые знакомцы – темноспинные рыбины.
«Так вот откуда чело в стене, – сообразил парень, – и лестница отцу, стало быть, не привиделась. Теперь понятно, отчего вытоптана трава на берегу и кто положил цветы у креста».
Лука закинул Г-образную лестницу на край обрыва. Выбравшись на плато, они молча подошли к часовенке. Помолились, каждый о своем: удивительно, но здесь, несмотря на облачность, ни ветра, ни снега не было.
– Дядя Лука, может, вместе в скит? Вот радости будет!
– Не могу… Обет Господу дал на полное отречение от мира, ради милости Его к вам каждодневной. Да и привык уж к уединению. Здесь в горах особая мыслеродительная среда… Думается хорошо, на душе благодать неизбывная… Своему многомудрому деду передай от меня вот это, – Лука протянул довольно увесистый комок горной смолы. – Сгодится ему для лекарственных снадобий. Скажи, что молюсь за многие лета нашего благочестивого скита денно и нощно. Моя обитель намного ближе к Божьей сфере и, стало быть, мне сподручнее с Создателем нашим милостивым и непогрешимым общаться… Обо мне более никому не сказывайте. Коли надумаешь проведать – приходи, порадуй старика.
– Великое спасибо вам, дядя Лука, за доброту и участливость. Бог даст, наведаюсь.
Травянистая поляна, уступами спускавшаяся во Впадину, вывела Корнея к знакомой тропке, ведущей к хижине деда. Справа по склону чернели сотами лазы таинственного пещерного скита…
Косой
Заяц наступление непогодицы почуял загодя. «Надо бы до снегопада перекусить», – решил он.
Робко привстав на широко опушенных задних лапах, беляк пошевелил ушами, покосил по сторонам глазами. Все покойно. Выпрыгнув из снежной ямки, мягкими скачками, потешно вскидывая зад, он поскакал по натоптанной тропке в осинник лакомиться сочной горьковатой корой.
Там уже столовалось немало окрестных приятелей. Обглодав с веток недавно поваленного ветром дерева осиновую кору, повеселевшие зайцы принялись играть в догонялки, а под утро разбежались кто куда. Наш косой направился к укрытому снегом многоярусному бурелому.
Пробежав по нему несколько раз туда и обратно, он сделал скидку, петлю, затем снова скидку и вдруг громадным прыжком сиганул в сторону, целиком погрузившись в снег между валежин. В это время сбоку звонко щелкнул промороженный ствол. Заяц хоть и привычен был к таким прострелам, все же трусливо вздрогнул, но быстро успокоился и даже задремал, невзирая на крепкий мороз. От горячего дыхания снежинки перед носом и длинными белыми усами быстро растаяли и не мешали дышать.
Надеясь вновь повстречаться с приглянувшейся ему в прошлом году кокетливой рысью, Лютый частенько посещал эти места и еще издали приметил предательски торчащие из снега кончики ушей. Услышав легкое похрустывание снежинок, сминающихся под лапами крадущейся рыси, заяц выскочил из убежища и так припустил вниз по склону, что за ним потянулся белый шлейф. Кот был сыт, но, повинуясь инстинкту, бросился следом.
Косой домчался до обрыва и кубарем покатился вниз. Внезапно, пронзительно вереща, он вытянулся на снегу.
Налетевший Лютый занес когтистую лапу. Заяц, ежась от ужаса, тоненько и жалобно запричитал. Кот, вспомнив, как спасали заваленную камнями лису, желая заслужить похвалу Корнея, взял косого в пасть и понес в скит. Трусишка, оцепенев от страха, только изредка всхлипывал.
Увидев Лютого, несущего живого беляка, Корней сразу догадался, что косой нуждается в помощи. Осторожно ощупав его, скитник обнаружил вывих задней лапы.
– Ну ты, Лютик, молодец. Никак в лекари метишь?! – похвалил Корней и одним движением руки быстро вправил сустав на место, что косой даже не успел пикнуть. Удивленно повертев головой, он через секунду помчался со всех ног прочь от спасителей.
Кот раскатисто заурчал. По его морде блуждала довольная улыбка.
Покатались
Этой же зимой произошло событие, заставившее скитников изрядно поволноваться. Зато его благополучное завершение прибавило авторитета не только Корнею, но и его верному другу – Лютому.
Началось все с безобидной вылазки ватаги ребятишек на Лысую горку. По своим старым следам детвора споро добралась до нее и с гиканьем принялась кататься на салазках, не обращая внимания на снегопад и все усиливающиеся порывы ветра. Забыв обо всем на свете, ребятня без устали взбиралась на горку и вновь скатывалась с нее, соревнуясь, кто выше взлетит на ухабах и чьи санки укатятся дальше всех.
Самый старший из них, Егорка, желая щегольнуть перед малышней, сиганул с самого крутого откоса. Разогнавшиеся салазки, наехав на бугорок, взлетели так высоко, что встали дыбом, и Егорка рухнул на торчащую из снега сучкастую ель, сильно изранив ноги.
Дети помогли парнишке подняться, но идти он не мог. Связав двое санок, ребята уложили на них товарища. Пурга тем временем разыгралась в полную силу. Впрягшись в лямки, дети двинулись по заметаемой на глазах тропе, но не по той, что следовало. Когда сообразили, что ошиблись, совсем стемнело. Хорошо еще, что у старших хватило ума не плутать дальше в потемках, а сразу забраться под густые лапы огромной ели и, обнявшись, дожидаться там рассвета.
Вечером, поскольку никто из ребят в скиту не объявился, взрослые поняли: что-то случилось. Мужики, не мешкая, разошлись на поиски. В темноте обшарили окрестности Лысой, но даже следов не нашли – все замело. С рассветом обнаружили в глубине леса наполовину занесенные снегом салазки. Дальнейшие поиски сосредоточили в той стороне, куда смотрел их передок.
Женщины и старики, оставшиеся в скиту, истово молились и отбивали без устали поклоны, прося у Господа милости и сохранения жизни их любимым чадам.
Ель, под которой лежали в обнимку дети, разыскали вскорости и не кто иной, как Корней, правда, по подсказке Лютого. И, слава богу, не опоздали – все были живы, хотя и пообморозились изрядно.
Перелом
Закончилась еще одна студеная, долгая зима. Бурливая, клокочущая весна-краса незаметно сменилась размеренным летним покоем.
В один из июньских дней неутомимый Корней отправился к озеру, затаившемуся между трех холмов в юго-восточной части Впадины. Он обнаружил его в прошлом году, в пору массового пролета птиц. В скиту весть о существовании озера вызвала изумление: «Сколько лет живем, а не ведаем!» И в самом деле, если учесть, что водоем имел почти полверсты в поперечнике, было удивительно, как до сих пор никто не наткнулся на него. Корнею же помогла природная наблюдательность: собирая на моховом болоте перезимовавшую клюкву, он заметил, что стаи птиц то и дело вылетают из-за ближнего холма. Когда заинтригованный скитник поднялся на его макушку, до него донеслись крики множества пернатых. Внизу блеснула водная гладь с небольшим островком посередке. Корней, чтобы получше разглядеть открывшийся водоем, спустился к нему. Озеро кишело жизнью. Мелководье бороздили утки всех мастей: степенные кряквы, юркие чирки, горластые клоктуны. Места поглубже облюбовали важные гусаки, особняком – лебеди. Одни птицы резвились в воздухе, выделывая замысловатые пируэты, закладывая крутые виражи, другие куда-то торопливо улетали, третьи возвращались. Пернатых было такое множество, что от их криков, гогота и хлопков крыльев даже сам воздух воспринимался радостно-ликующим стоном. Галдеж и плеск воды не прекращались ни на минуту. Все славили начало нового круга жизни…
Сейчас же вода в озере с затонувшими в нем облаками блестела, как полированная: основная масса птиц улетела на север, а оставшиеся, пережив радость встречи с родиной, погрузилась в тихие заботы по высиживанию потомства – не до разговоров.
Корней шел по обрывистому берегу, когда из чащи донесся и стал быстро надвигаться подозрительный шум. Чтобы понять, кто это так смело ломится по тайге, парнишка остановился. Среди деревьев мелькнули рога сохатого. Снежок?! Увы, нет. Зверь выскочил на берег и бросился в воду, поднимая веер хрустальных брызг. Следом, высунув языки выбежали волки. Лось зашел поглубже и высокомерно вскинул голову. Посрамленные волки не стали даже подходить к воде – лось теперь может простоять здесь, питаясь водорослями, не один день. Не тратя время попусту, серые развернулись и растворились в глухолесье.
Удовлетворенный Корней продолжил путь, невольно поглядывая на то место, где только что стояли волки. Неожиданно прямо перед ним с шумом выпорхнула сидевшая в гнезде куропатка. Чтобы не наступить на кладку с пестренькими яичками, скитник шагнул в сторону, но, угодив ногой в свежую медвежью лепешку, поскользнулся и, не удержав равновесия, полетел с обрыва. Вставая, он вскрикнул от острой боли: левая голень искривилась, так, словно в ней появился дополнительный сустав. Перелом!!!
Корней сел на землю, лихорадочно соображая: что делать?
В надежде, что Снежок или Лютый где-то поблизости, он поулюлюкал, оглушительно посвистел, скликая приятелей. Окружавшие озеро холмы ответили многократным эхом, не выпустив призыв о помощи за свои пределы. Повторяя свист в течение получаса, Корней так никого и не дождался. Рассчитывать оставалось только на себя.
Дед как-то рассказывал ему, что одна сметливая лиса, сломав лапу, закопала ее в мягкий грунт и терпеливо лежала несколько дней, дожидаясь, пока кость срастется.
«Надо и мне попробовать», – решил скитник и, превозмогая боль, сполз поближе к воде. Снял чуни, смотал опорки. Выкопал рукой в жирном иле канаву и бережно уложил туда сломанную ногу. Стиснул зубы и, превозмогая боль, на ощупь состыковал кость. Переведя дух, завалил ногу илом, ладонями утрамбовал его. А чтобы удобнее было лежать, нагреб под спину сухой береговой хлам, под голову сунул котомку с припасами. Наконец, взмокший от напряжения, вытянулся на устроенном ложе. Теперь оставалось вооружиться терпением и ожидать подмоги.
Скитник огляделся. За спиной, в пяти-шести саженях, поднимался ощетинившийся перестойным лесом крутояр. На обломанную верхушку толстой лиственницы, словно шапка, нахлобучено гнездо скопы – заправской рыбачки. Слева и справа небольшие заводи, поросшие осокой. Чуть колыхнет ветерок, и тут же кольчужная рябь широкими разводьями пробегает по ним.
Корней на всякий случай еще несколько раз посвистел, призывая друзей, но кроме двух грузных, блестящих, словно дегтем намазанных ворон, алчно вглядывающихся в беспомощное существо, да подтянутого куличка, беззвучно семенившего по влажному илу, на его призыв никто не обратил внимания.
Прикованного к одному месту Корнея стало донимать серым нимбом колышущееся над головой комарье. Они набрасывались на парня с таким остервенением, что складывалось впечатление, будто в окрестностях, кроме него, не осталось ни единого живого существа. Слава богу, Корней всегда носил в котомке берестяную кубышку вонючей дегтярной мази с какими-то добавками, приготовленной дедом. Достав ее, он натер руки, шею и лицо. Кровопийцы с сердитым писком закружили вокруг, но кусать перестали. Под их докучливый звон Корней даже задремал.
Проснулся от влажного толчка в щеку.
– Лютый, ты?
В ответ шершавый язык лизнул.
Скитник обнял поджарого друга, потрепал за пышные бакенбарды, взъерошил дымчатую, с коричневатым крапом шерсть.
– Умница! Нашел-таки! Давай, брат, выручай! Видишь, я не ходячий. Беги в скит, приведи отца… Давай, иди… Чего стоишь – ну, иди же!..
Лютый в ответ демонстративно отвернул морду и стал бесстрастно наблюдать за носившимися над озером стрижами.
После стычки с Маркелом кот в скит не ходил. Хотя то, что между ними произошло, и стычкой-то назвать трудно. Так, небольшое недоразумение…
В самом начале весны Маркел, истосковавшийся по солнцу и теплу, вышел на крыльцо. Сел на припеке и, водя узловатым пальцем по строчкам, стал перечитывать любимые «Златоструи». Эту книгу старец берег пуще других, даже в руки никому не давал. Положив ее на скамью, он зачем-то отлучился в дом. Лютый, лежавший на ступеньке, прищурившись, какое-то время наблюдал за медленным бегом переворачиваемых ветром страниц книги. Когда те побежали, по его разумению, слишком быстро, кот, пытаясь остановить их, махнул когтистой лапой и невзначай порвал одну.
Маркел все это видел. С расстройства он схватил стоящую у двери метлу и огрел Лютого.
Кот от возмущения – ведь он не сделал ничего плохого – оскалился и, обдав старца леденящим взглядом, удалился. С того дня в скиту его ни разу не видели. К одному Корнею только и сохранил расположение…
– Ну, ладно. Не хочешь идти в скит, так хоть напиться помоги. Уже невмоготу терпеть… Придумай что-нибудь, Лютик!
Выслушав просьбу с самым глубокомысленным видом, кот зашел в трепещущее на волнах отражение леса и, энергично шлепая лапой по воде, забрызгал Корнея по грудь.
– Спасибо, дружок, но я пить хочу, а не купаться, – Корней изобразил, как он глотает воду и как ему от нее становится хорошо.
Лютый отряхнулся и озабоченно забегал по берегу. Заскочил на обрыв, спустился обратно и вдруг усердно заскреб когтистыми лапами податливый ил. Корнея, внимательно наблюдавшего за котом, осенило. Он углубил и расширил ямку. Когда добрался до песка, со дна выступила вода. Парень смочил лицо и, дождавшись, пока муть немного осядет, попил, черпая воду ладошкой.
– Ну, ты голова! – с восхищением произнес скитник и прижал кота к груди, готовый от счастья тоже замурлыкать.
На морде рыси заиграла улыбка: Лютый умный – всегда что-нибудь придумает.
Надо сказать, что кот был хоть и независимым, но в то же время на редкость ласковым существом. Он проявлял свои чувства приглушенным рокотом и покусыванием. Иногда даже обнимал передними лапами. Но если Корней сам начинал тискать его, то независимый характер Лютого тут же давал о себе знать: он отходил в сторону и взгляд его становился холодно-отрешенным, смотрящим как бы сквозь.
Сейчас же кот, растянувшись во весь рост, прилег рядом с другом. Корней благодарно почесывал и поглаживал пышные бакенбарды приятеля. Лютый от блаженства неумолчно порокатывал. Солнце, отсияв над Впадиной весь длинный июньский день, опустилось за зубчатый гребень гор. Как только наползающая с востока ночь погасила алое свечение одиноких облаков, а на небосклоне светлячками замигали первые звездочки, кот поднялся и удалился в лес.
Первый день невольного заточения завершился. Сколько Корнею еще предстоит пролежать так на берегу? Самолюбивый Лютый в скит ни за что не пойдет, а отец, привычный к отлучкам сына, раньше чем через дня три его не хватится. Хорошо еще, что Корней сказал ему, куда отправляется.
Почувствовав голод, скитник достал из котомки кусок вяленой, приятно пахнущей дымком оленины и стал медленно, растягивая удовольствие, жевать.
Мир, погруженный во мрак, казался пустынным и безжизненным. Лишь звезды, просвечивающие сквозь ткань размазанных по небу облаков, ободряюще подмигивали. Озеро тоже будто уснуло: лежало неподвижное, маслянисто-черное. Но Корней прекрасно знал, что окружающие его покой и тишина обманчивы.
С приходом темноты жизнь замирала только у дневных животных и птиц. На смену ей постепенно пробуждалась несуетливая жизнь ночных обитателей, кажущаяся таинственной и непонятной лишь из-за того, что недоступна взору человека. Вообще же она мало чем отличается от жизни дневных животных: кто-то выслеживает добычу, кто-то резвится, кто-то чистит логово, но в лесу при этом тихо. Ночная тайга любит покой и неприметность.
Когда из-за холма выполз круглый, с ямочками на щеках, медовый лик луны, Корней, неплохо видевший в темноте, стал различать в ее призрачном свете шныряющих в прибрежной траве крепко сбитых лесных мышей. Интересно было наблюдать, как крохотные шарики, неслышно перебирая лапками по земле, играли в игры, понятные только им. А вот с вершины громадной ели сорвался сероватый лоскут. Распластавшись в воздухе, он спланировал на ближнее к Корнею дерево и с любопытством уставился на лежащего человека. Близость белки-летяги приободрила парня – у скитников существовало поверье, что эти зверьки приносят счастье и удачу.
Немного погодя до Корнея донесся плеск воды, хруст сочных водорослей, аппетитное чмокание, плеск воды. Это забрели в заводь лоси. Парнишка, в надежде, что среди них есть его друг, окликнул Снежка, но сохатые испуганно шарахнулись, поднимая снопы брызг, отбежали подальше. В траве испуганно запричитала утка…
Ночь на исходе. Мрак стал рассеиваться, в воздухе замерцал свет пробуждающегося утра. Где-то вдали, на другой стороне озера, загоготали дикие гуси. Застелился над глянцевой водой молочными лохмотьями туман. Незаметно густея, он, еще до восхода солнца, затянул поверхность водоема волнистым покрывалом. По мере того как разгоралась заря, туман отрывался от воды и белым привидением поднимался по склонам холмов. Вскоре проявились зыбкие очертания скалистого островка. Они менялись на глазах. Казалось, что островок, прячась от горячих лучей, перемещается, то исчезая, то вновь воскрешаясь в белых клубах.
Когда солнечный сквозняк окончательно развеял туман, появился Лютый. Привалился рядом с другом и, мусоля лапы, стал усердно умываться. Потом, немного погуляв по берегу, опять исчез.
Лютый в течение дня еще несколько раз наведывался, ложился поблизости, мурлыча лесные новости, и пропадал, когда заблагорассудится. В один из таких визитов он принес куропатку. Тронутый заботой, Корней нежно потрепал кота за крепкую, мускулистую шею и чмокнул в прохладный нос. Подтянув суковатой палкой валявшийся по берегу хворост, он запалил костерок и, сняв чулком шкурку с перьями, испек угощение.
Вынужденное заточение имело и свои достоинства. Никогда прежде скитник в течение одного дня не видел столько потаенных сцен из жизни обитателей тайги.
Вон на соседний мысок вышла семья: медведица, два пестуна[36] и медвежонок. Оглядевшись, они зашли в озеро. Молодежь стала с шумом плескаться, гоняться друг за дружкой. Мать, лежа в воде, умиротворенно созерцала их забавы. Накупавшись, косолапые скрылись в зарослях. Через некоторое время, неподалеку от этого места, устроили соревнование по скоростному спуску на глинистом, скользком от сочащейся воды обрыве две выдры. А после полудня из леса в озеро, откуда ни возьмись, стали заходить сразу по трое – пятеро лоси и лосята: терзаемые оводом, они спасались от них, стоя по шею в воде.
Не обошлось и без трагедий. Зоркий Корней ближе к вечеру разглядел сквозь редкую траву робкую мордочку зайчишки. Смешно опустив одно ухо, он с любопытством поглядывал на человека. Внезапно, расстилаясь серой вуалью, возник филин. Стиснутый смертоносными когтями, косой отчаянно завопил, но после увесистого удара клювом по темени затих. А пернатый налетчик, как бы устыдившись вероломности своего нападения, торопливо скрылся с трофеем в чаще.
Вот спустилась с обрыва старая, с облезлой сивой шерстью росомаха, косолапая, точь-в-точь как давешний медвежонок. Попила воды и принялась что-то искать, шныряя в береговом хламе. Увидев Корнея, замерла, но не убежала, а, потоптавшись, нехотя побрела в другую сторону.
Каждое утро облетала озеро скопа. С шумом, касаясь воды, она выдергивала из нее жирных извивающихся муксунов. Изо всех сил частя крыльями, долетала до берега, бросала с высоты рыбину и тут же возвращалась за следующей. Поев богатый улов, уносила остатки в гнездо.
К концу второго дня дедова мазь кончилась, и по мере того, как с потом и ветром с кожи сходили ее остатки, все наглее и злее становились мстительные кровососы. Подтащив палкой остатки дров и листья вперемешку с травой, скитник устроил дымарь. Окуная голову и руки в едкие клубы, он на некоторое время почти избавился от болезненных укусов гнуса. Но когда над костром вместо дыма заплясали язычки пламени, оголодавшие комарье и мошкара атаковали с удвоенной свирепостью. Измученный войной с их несметными полчищами, Корней укрыл лицо снятой со сломанной ноги опоркой и впал в забытье.
Очнувшись, открыть глаза уже не смог: опухшее лицо покрывала густая, солоноватая на вкус маска. Скитник не сразу сообразил, что это сочится с изъеденной кожи кровь: опорка мешала дышать, и он, по всей видимости, сбросил ее во сне.
Над ухом кто-то горячо задышал и осторожно лизнул. С трудом разлепив один глаз, Корней увидел Лютого. Черпая пригоршнями воду, парень осторожно смыл с лица кровь и рыхлые струпья. Лицо поначалу нестерпимо зудело, но вскоре зуд стал ослабевать. На его счастье Господь прислал сильный напористый ветер, загнавший гнус в глубь леса. По растревоженному водоему запрыгали осколки солнца. Беспокойно зашумели деревья. Частые и резкие порывы раскачали крутые волны. С шипением накатываясь на берег, они уже доставали ноги скитника. Корней заволновался: не ровен час разгуляется стихия и придется тогда откапывать сломанную ногу и отползать повыше. Но велика милость Господня: до страдальца донеслись голоса людей. Корней что было силы крикнул. Самолюбивый Лютый тотчас исчез…
Соорудив носилки, мужики унесли покалеченного парня в скит. Наблюдавшие это вороны всполошились и от досады долго, недовольно кричали – не сбылись их надежды на скорую поживу.
Кость срасталась медленно. По настоянию Никодима, Корнея перенесли к нему. Лишь только к осени парень начал потихоньку вставать и, опираясь на дедов посох, ходить возле хижины.
Дни вынужденного безделья для Корнея не пропали даром. Они с дедом часто и подолгу беседовали о Боге, предназначении человека, заповедях Христа. Старец продолжал посвящать внука и в тонкости лекарского искусства. Подробно рассказывал ему о своей юности, о завещании святого Варлаама, о бесценных реликвиях, хранимых в скиту. Душевная близость, связывающая деда с внуком сильнее кровных уз, за эти месяцы общения возросла многократно. И Корней решился наконец поделиться с дедом сокровенной мечтой – повидать эвенкийскую родню.
– Ишь, чего удумал! Али забыл про то, что сколько раз наши люди покидали пределы Впадины, столько же раз Господь наказывал нас.
– Деда, я это все понимаю, но тебе лучше меня ведомо, что все равно из Впадины выйти придется: соль на исходе и взять ее здесь негде. В острог идти – только поганиться. А вот за перевалом, в долине Большой реки, там, где кочует моя родня, отец сказывал, солончаков великое множество. Я мог бы заодно соли там заготовить.
Отшельник от такого неожиданного довода задумался. И когда внук уже решил, что дед не желает обсуждать эту тему, произнес:
– А что? Пожалуй, стоит потолковать с Маркелом. Даст Бог, вымолю согласие.
Но наставник был непреклонен: «Гляди-кась, чего удумали. Забыли, чем все это кончается?!» Отчитав назидательно прежде Елисея, призвал он к себе для вразумления неугомонного крестника.
Когда тот вошел в горницу, Маркел движением величественной головы подал знак садиться:
– Сказывали мне про твое желание навестить родню кочевую… Что скажу – предков грех забывать, но твое благое намерение может обратиться на пагубу всей общине.
– Так я ж не к нечестивым острожникам, а к непорочным детям леса прошусь, на восполнение запасов соли для скита… Батюшка, Господь милосерден, будьте и вы милостивы! Не откажите в моей просьбе добавить пользу общине.
Маркел сурово отрезал:
– Похоже, ты забыл, что послушание и покорность не только перед Богом, но и наставником, и всеми старшими в нашей общине святы? Ступай! Не зрел еще!
Корней смиренно выслушал и, попросив прощения за дерзость, со слезами на глазах направился к выходу. Удовлетворенный старец неожиданно остановил его:
– Повремени. Я испытывал твою благочинность, ибо в писании сказано: «Искуси и познай».
Тут Маркел умолк, как бы раздумывая. Поколебавшись, все же продолжил:
– Было мне давеча во время вечери видение. Явился святолепный Варлаам и молвил: «Ступайте и несите имя Божье иноплеменцам лесным! Молодыми укрепится скит ваш». И помыслилось мне, что неспроста сие сказано. Стало быть, не грех нам общаться с местными инородцами. Похоже, тебя сам Господь надоумил к эвенкам проситься. А теперь ступай и хорошо подумай, кого возьмешь в напарники. Одного не пущу… Да позорче выбирай.
Наставник встал, взял образ в богатом окладе и благословил Корнея.
Маркел, твердый и непреклонный в вере, в жизни был человеколюбив и правосуден. Скитники любили наставника не только по долгу, им привычному, но и из святой благодарности за ладно устроенную жизнь, умение решать проблемы без обиды, по совести. Никогда не возвышал он голос, не бранил грубо, но невозможно было не устыдиться взгляда его и немого укора.
Из всех дворов в скиту ровней Корнею было только шестеро ребят. Остальные либо много старше, либо совсем еще отроки.
У самого близкого друга Матвейки недавно народилась двойня, и ему недосужно отрываться от семьи. Посему Корней сговорился идти за солью с внуком Марфы – Захаром, рослым увальнем, полной противоположностью своей шебутной бабке.
Строгая, обособленная жизнь скита не давала возможности братии расслабиться даже зимой. Хозяйственные дела требовали много сил и времени. Корнею с Захаром с трудом удавалось выкраивать время для подготовки к дальней дороге. А тут еще, как только морозы немного поутихли, их с тремя самыми дюжими мужиками отправили на заготовку леса для новых построек, ремонта обветшавших ворот.
Чтобы за короткий день успеть сделать поболее, лесорубы ночевать оставались в зимушке, сооруженной прямо на деляне.
Работали усердно. Безостановочно валили, шкурили деревья. К несчастью, одно рухнуло на бурелом, в котором медведь устроил берлогу. Разъяренный тем, что его так бесцеремонно разбудили, косолапый с ревом выворачивая глыбы снега, вылез наружу; поднялся во весь рост и, вскинув когтистые лапы, двинулся на оказавшегося ближе всех Захара.
Слава богу, Корней не растерялся и столь ловко и крепко саданул обухом топора по лобастой башке, что оглушенный зверь повалился на снег. Убивать медведя без благословения Маркела не полагалось, да и пост не кончился. Поэтому мужики, от греха подальше, пока косолапый не очухался, воротились в скит, тем более что приспела пора мыться в бане.
Очнувшись, медведь походил по кругу, осмотрелся и, успокоившись, забрался обратно в берлогу. Начавшийся к вечеру снег укрыл ее пухлым, теплым одеялом.
После снегопада лесорубы вернулись на деляну. По чуть приметной струйке пара, слабо курившейся над берлогой, и инею на сучьях бурелома они поняли, что потревоженный лежебока спит. Жалеючи зверя, мужики стали валить лес с другой стороны зимушки, на значительном удалении от берлоги.
Первое странствие
Когда ворвавшийся во Впадину ветер весны пробудил ее от сна, а зима дружной капелью оплакала свою кончину, ребята уже были готовы к походу. Но отправились в путь лишь в начале лета, после того, как спала талая вода и подсохла земля.
Едва заметная звериная тропа повела их на восток, к месту, где смыкались Южный и Северный хребты, мимо скрытого холмами озера, каскада водопадов и дальше, через перевал, к Большой реке. Всю их поклажу нес на себе Снежок, но как только горный склон пошел круто вверх, он остановился, так как не намеревался покидать родную Впадину. Разгрузив лося, ребята поделили поклажу между собой равным весом и дальше пошли одни.
Чтобы быстрее взойти на перевал, молодые скитники по неопытности решили подниматься напрямки, через красивые, ровные и, казалось, очень удобные для прохождения, поля зеленокудрого кедрового стланика. Вскоре, правда, выяснилось, что для путника они являют собой сущее наказание. Ноги то и дело цеплялись за ветви или проваливались в коварные пустоты между камней, незаметные под густым, зеленым ковром. Кляня себя за опрометчивое решение, ребята несколько часов продирались через эти труднопроходимые заросли. Отец Корнея, прежде ходивший здесь, не мог предупредить ребят об этих неприятных особенностях кедрового стланика, так как проходил здесь в ту пору, когда он укрыт снегом.
Перевальной седловины скитники достигли только во второй половине дня. С нее открывались новые волны хребтов с девственными лесами и голокаменными, а кое-где и заснеженными, вершинами. Лишь на юге они были сплошь зелеными. А на севере и сразу за широкой лесистой долиной, на востоке, вздымались друг за другом зубчатые цепи неприветливых громад, вообще лишенных какой бы то ни было растительности.
– Боже милостивый! И здесь горам нет конца! – воскликнул Корней, увидев новые ряды вздыбленных хребтов, тысячелетиями противостоящие морозам, ураганам, льду, разрывающим их каменную плоть так, что на ней образуются раны, покрытые струпьями из угловатых глыб.
Захар же вообще от этой, впервые виденной им, картины онемел. Стоял, разинув рот и выпучив от восхищения глаза.
– Это еще не самое дивное диво. Иной раз на закате в горах так заиграют, что моргнуть боишься, – заметил с видом бывалого человека Корней.
Приятели еще долго стояли в безмолвии, размышляя каждый о своем. Первым прервал затянувшееся молчание Захар.
– Корней, мне здесь так легко и благостно. Прямо душа поет. Отчего бы это?
Корней, вспомнив Луку, ответил его словами:
– В горах души праведников да святых обитают и к Господу как-никак ближе. А все земное, суетное далеко внизу. Потому и благодать здесь нисходит на человека.
В высокогорье лето приходит с опозданием. В долинах уже темнеет трава, грубеет на деревьях листва, а тут жизнь только пробуждается, в иных расщелинах снег лежит до середины лета. Корней остановился над одним-единственным княжиком, обвившим серый курумник,[37] не в силах отвести взгляд от желтовато-белых мужественных цветков: он словно еще раз повстречался с ушедшей весной. Растительность на перевале крайне скудная. Причудливыми пятнами растекается кое-где кедровый стланик; жадно цепляется за скальный грунт карликовая береза, где-нибудь в затишке можно увидеть невысокую, скрюченную студеными ветрами лиственницу.
Прямо напротив ребят, на гребне увала, среди огромных валунов и отвесных скал паслась семейка снежных баранов. Вожак, высоко подняв голову, с круто загнутыми мощными ребристыми рогами, смотрелся на фоне голубого неба очень живописно. Сколько гордой силы в его напряженной фигуре! Рядом с вожаком две овечки, такие же высокие и бурые. Их головы украшают маленькие дугообразные рожки. Тут же и ягненок, едва по колено отцу. Он повторяет все движения родителя. Тот притопнул ногой, и малыш тоже. На перевальной седловине и уходящем вниз склоне угадывались хорошо заметные даже на камнях бараньи тропы.
Скитники, видевшие этих животных впервые, наблюдали за ними, затаив дыхание, до тех пор, пока они не ушли за утес.
Покамест разожгли костер, заварили из чаги чай, поели вяленого мяса, у горизонта, там где дыбились облака, тихо разгорался закат. Подступавшие с востока сумерки сглаживали зубчатые контуры хребтов, заливали серой мглой ущелья, деревья.
Переночевав в безветренном скальном кармане, с первыми лучами солнца ребята продолжили путь. Им необходимо было спуститься в ущелье, ведущее к пойме Большой реки, где вверх и вниз по течению тянулись оленьи пастбища Корнейкиного деда – Агирчи.
Нисходить по крутому склону, испещренному серыми языками осыпей, приходилось частыми, скользящими шажками, так как мелкие остро ограненные камни, едва на них ступала нога, сползали вниз, так и норовя увлечь путников с собой.
Чем ниже спускались молодые скитники, тем чаще встречались деревья: елочки, пореже березки. Некоторые прилепились прямо к голым скалам. Скитники с уважением взирали на этих неприхотливых храбрецов, вцепившихся корнями в каменную плоть. Причудливо изогнутые стволы тянулись в небесную высь, бодро топорщились хвоей и не горевали, что так неказисты и уродливы. Ближе ко дну ущелья стали появляться крупноствольные ели.
Смеркалось. На небе вызревали первые звездочки. Опустившаяся на землю тьма потушила кровавые сгустки заката. Горы помрачнели и взирали угрюмо, неприветливо. Дохнуло холодом. В тишине все отчетливей звенел прыгающий с уступа на уступ ключ.
Пока Захар рвал ягель для постели, Корней собрал сушняка, достал трут, высек кресалом искру, запалил костер. В колеблющемся свете деревья то выбегали из темноты, то вновь скрывались в ней. Хотя Корней родился и вырос в старообрядческой семье, эвенкийская кровь давала о себе знать. И не удивительно, что полыхающий костер представлялся ему живым существом, детенышем жизнь творящего солнца. Когда языки пламени обдавали его жарким дыханием, Корней чувствовал себя уверенней и покойней.
В предвкушении встречи с этим незаменимым другом, парень разжигал костер всегда с особым трепетом. После того как огонь расползался по сучьям весело приплясывающими язычками и, лаская, согревал все вокруг, Корней погружался в состояние блаженства и тихого счастья.
Вот и сейчас, уткнув подбородки в колени, Корней с Захаром, вспоминая события минувшего дня, умиротворенно наслаждались теплом и наблюдали за чарующей игрой язычков пламени. А вспомнить было что: сегодня они впервые видели снежных баранов, полюбовались панорамой величественных хребтов и безмятежным покоем обширной долины, по которой когда-то кочевала мать Корнея.
– У костра главное назначение – обогревать и освещать, а в чем назначение человека?.. Может, в познании нового, ранее не веданного, – раздумчиво произнес Корней, глядя на жарко трепещущее полотнище. Костер, словно соглашаясь с ним, одобрительно протрещал, выстрелив в черную бесконечность сноп искр.
– А я как-то и не задумывался над этим. Живу просто по вере и совести, чего уж мудрить тут, – откликнулся задремавший было Захар.
Сняв с огня котелок, парни перекрестились на восток и принялись за похлебку. После ужина Корней, усевшись поближе к огню, принялся латать порванные в кедровом стланике штаны…
Проснулся он от предрассветного холода. Захар еще спал. Слабые, синюшные светлячки устало блуждали по почерневшим головешкам. Во мгле еще дремали горы, а сквозь ткань туч проглядывала последняя звездочка. Корней подкормил костер хворостом, послюнявил указательный палец, макнул его в теплую золу и принялся энергично чистить белые, как перламутр, зубы. Потом по траве, окропленной утренней росой, спустился к ключу и, хватая пригоршнями ледяную воду, умылся, фыркая от удовольствия. Вернувшись, просушил мокрое лицо и руки у разгоревшегося костра. Разбудил сотоварища.
Подкрепились сладковатыми сухарями из высушенной крови, упаковали котомки, окинули хозяйским взглядом стоянку – не забыли ли чего – и тронулись. Солнце, заливая все вокруг живительным светом, всходило из-за гор. Пробудившийся ветерок принес свежесть хвойного леса и терпкий запах багульника.
По дну ущелья идти было легче – мотаясь от одного ската к другому, по нему вилась торная звериная тропа. Правда, иногда ее перегораживали свежие осыпи или остатки еще не растаявших наледей, но они почти не затрудняли ходьбу.
К вечеру скитники достигли широко раскрытого устья ущелья, выходившего на пойму реки. Корней оценивающе глянул на зависшее над горизонтом светило: успеет ли до темноты подняться на ближний отрог, чтобы с его высоты отыскать на широкой долине столбы дымокуров дедова становища?
«Если поторопиться, то успею», – прикинул он и, наказав Захару развести костер и готовить ужин, побежал к ближайшему утесу по тропе, тараня прибрежные кусты. Вдруг земля под ногами исчезла и, не успев что-либо сообразить, Корней с головой погрузился в воду. Отчаянно работая руками и ногами, он вынырнул на поверхность, стащил с себя заплечную котомку. Увидев, что та не тонет, обхватил ее левой рукой и, загребая правой, поплыл к более пологому берегу. Но мощное течение несло вниз.
Впереди показалось ветвистое дерево, застрявшее посреди реки. Через несколько мгновений пловец врезался в зеленую гущу. Цепляясь за гибкие ветви, он с кошачьей ловкостью взобрался на вибрирующий под напором воды ствол.
– Господи, как Ты добр ко мне, торопыге! Благодарю Тебя за бесконечную милость! – прошептал Корней и перебрался по толстой боковой ветви поближе к отмели. По ней достиг берега и, убедившись, что тельник[38] на месте, первым делом высыпал на землю содержимое котомки. Слава богу, молодой, но уже опытный таежник не зря паковал боящиеся влаги вещи и продукты в специально выделанные и отмятые мочевые пузыри оленей, лосей и туго завязывал их горловины сухожилиями – все было сухим, ничего не подмокло…