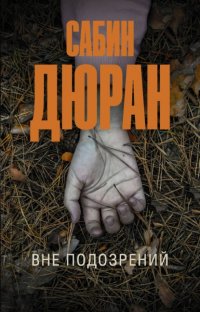
Читать онлайн Вне подозрений бесплатно
- Все книги автора: Сабин Дюран
Sabine Durrant
Under your skin
© Sabine Durrant, 2014
Школа перевода В. Баканова, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Посвящается Дж. С.
Пятница
Из дома я выбежала раньше обычного. На улице сумрачно – еще не утро, уже не ночь. Парк во власти призрачных теней; скованные холодом деревья похожи на равнодушных истуканов – неподвижные, голые, без намека на весеннюю дымку; вдоль рельсов тянутся кусты, их колючие заросли заплетены в причудливые узлы… Настоящий рай для хулиганов и грабителей. Но об этом лучше не думать.
Привычный маршрут: вверх на мост; вниз; бегом вокруг футбольных полей, вздыбившихся комьями земли, словно неспокойное море. Дорожка ведет в угол поля, здесь жутко темно и неуютно: с одной стороны – рельсы, с другой – игровая площадка, и ты зажата между ними, как в ловушке. Столб с висящей на нем синей курткой, мокрой и помятой, вдруг приобретает странные очертания, по коже от страха ползут мурашки, и я прибавляю скорости – туда, где тропа выводит на открытую лужайку и уходит в сторону магистрали. По тротуару скользит свет фар, кто-то спешит оказаться на работе даже раньше, чем я (неужели такое бывает?). Ох! Передо мной неожиданно и почти бесшумно материализуется призрачная фигура – еще один бегун; мелькнувшие наушники, отблеск лайкры, пронесшееся мимо шумное дыхание, волна тепла и легкий запах пота. В Лондоне нереально побыть в одиночестве: ни глухой ночью, ни зябким предрассветным мартовским утром. Почти наверняка кто-нибудь за тобой следит, высматривает, вынюхивает… Жуть.
От бега становится лучше. Скорость, ритм, размеренное движение рук, ног – все это приводит мысли в порядок. Спала я плохо. И даже в короткие промежутки беспамятства мне снилось, что я не смыкаю глаз. Пришлось в конце концов встать. Я сосредоточиваюсь на дыхании. Вдох-выдох… Вдох-выдох… Бежать и думать… А как только вернусь домой – сразу же в душ. В семь часов заедет Стив, чтобы отвезти меня в студию. Поцелую на прощание Милли, а завтраком ее покормит Марта. (Ну что ж она такая нелюдимая, эта Марта?) Застану ли я дома Филиппа? Вряд ли. Сейчас – сколько там? пять пятнадцать? – он уже бреется, принимает душ, смывает с себя следы «Нобу» и «Дорчестера» (ввалился домой в три часа ночи, и я уловила отчетливый запах сигар); потом втискивается в лайкровый костюм и верхом на новеньком карбоновом велосипеде катит в свой биржевой рай: Мэйфейр, Токио, «Блумберг». Раньше мы бегали вместе. (Даже подбирали по цвету одежду, кроссовки «Асикс», из серии «для него и для нее». Скажете – глупость? А мне ужасно нравилось.) Но прошлым летом все закончилось. У нас не город, говорит Филипп, а сплошной стресс. Тут нужна повышенная выносливость, хорошие на мышцы нагрузки. И никакой бег с этим не справится.
Дыхание совсем сбилось. В груди горит. Ничего у меня не выходит. Я безнадежна, даже бегать по-человечески и то не могу. Сворачиваю на центральную дорожку. Вперед, мимо бередящей душу скамейки, где каждое Рождество кто-то вешает венок с надписью «МАМА». Может, сначала лучше подумать о мелочах? Родители Филиппа: связаться с ними насчет воскресного обеда. «Невзаправдашний» день рождения Милли: попросить Филиппа на этот раз явиться обязательно (как он мог не приехать во вторник?!). Выходные в Брайтоне… Стóит об этом вспомнить, и в животе начинает твориться бог знает что. Филипп сказал, что слишком занят. «Ну и ладно, не вопрос! Ерунда какая!» – легкомысленно откликнулась я, а ведь это неправда. Я и выражений-то таких не употребляю. Будто изображала кого-то… более молодого и раскрепощенного. Вылитая Инди из нашей студии, протеже Стэна Кеннеди: улыбка – произведение стоматологического искусства, хорошенькая внешность и наличие мозгов. (Причем последние дают ей все шансы рано или поздно меня подсидеть.) «Не вопрос»? Кажется, услышав это, Филипп взглянул на меня как-то странно. Видимо, фраза прозвучала натянуто? Будто я только притворялась невозмутимой? Ладно, ерунда, не вопрос… В том-то и дело, что эти мелочи – вовсе не ерунда. Что можно считать пустяком? А что – важным? Воскресный обед с родителями Филиппа; роскошное нижнее белье в номере брайтонского отеля; жемчужные зубы молоденькой конкурентки; восьмилетняя девчушка, задувающая именинные свечки… Именно из этого и соткана жизнь. И все в конце концов сводится к любви…
Подъем на мост, спуск. Парк оживает. По ту сторону лужайки – еще два бегуна. У пруда что-то вынюхивает большая собака. Шлепая крыльями и гогоча, тяжело взлетают трое гусей. Небо чуть светлеет – где-то там, за хмурыми свинцовыми облаками, просыпается солнце, его неокрепшие лучи смягчают все вокруг, размывая цвета и границы. На серую ограду у детской площадки насажен маленький красный ботинок. С серебристой ветки свисает мокрая пятнистая шапочка – божья коровка. Оставленные вещи, забытые частички своих хозяев… Однажды во время бега я наткнулась в зарослях на мужские подштанники. Откуда?! Это вам не облюбованный геями парк Клэпхэм-Коммон, это Вандсуорд! У нас тут территория многодетных семейств с лабрадорами и пенсионеров с теннисными ракетками. Здесь никто в кустах не сношается!
Кафе. Секундное колебание – и я сворачиваю. Бегом вдоль лужайки для игры в шары. Вот и домик рядом с кортами. Меня вдруг неодолимо тянет нырнуть в глубь нетронутых парковыми садовниками зарослей. Обычно я здесь не бегаю. Треугольный участок тесно стоящих высоких деревьев примыкает к футбольному полю, но что там в глубине, под кронами, с главной аллеи не видно. А вдруг опасно?… И что меня сюда понесло? Зарождающийся свет дня? Нежелание с этим днем встречаться? Прилизанная ухоженность лужайки? Размеренность бега? Безнадежная попытка во всем разобраться? Не знаю… А может, внезапная жажда ощутить под ногами молодую траву, вырваться за жалкие, обозначенные людьми границы парка, хоть ненадолго остаться одной.
Кто знает…
Мне не страшно – спасибо скорости, – но бежать здесь труднее, чем я ожидала. Неровная земля – плохой союзник, то и дело норовит подсунуть кочку или яму. Ветви деревьев лезут в глаза; спутанная клубками трава цепляется за щиколотки. И вдруг, сквозь хитросплетения растений, – это…
Первая мысль – про надувную резиновую куклу. Или рыбину. Как-то, отдыхая на острове Уайт, мы набрели на выброшенного на песок мертвого дельфина, пугающе бледного и одновременно мясистого – противоестественное сочетание. А много лет назад, еще студенткой гуляя вдоль Оксфордского канала, я споткнулась о распластавшегося на набережной мертвого лебедя. Самым жутким было не то, что он мертвый, – хотя выглядела эта загубленная белоснежная красота совершенно дико, – а то, что никто его до сих пор не убрал.
Все, пробежка окончена. Раздвигая белесые ветки молоденьких березок, я расчищаю себе в зарослях путь к месту, где кто-то – собака? лисица? человек? – вытоптал траву; туда, где лежит нечто непонятное.
Вот… я вижу… ужас… ужас! Нет, не кукла. Не рыба. И не лебедь.
Она лежит на боку: обнаженные белые руки вытянуты над головой, спина изогнута. Волосы откинуты назад, будто ее за них тащили. Открытые глаза подернуты пеленой, словно прикрыты пищевой пленкой. Огромные густые ресницы, вряд ли настоящие, худое лицо, некрупные зубы, прикусившие вывалившийся наружу раздутый язык. Плотно облегающие штаны цвета хаки – из «Топшопа», наверное, – с карманами на бедрах и маленькими молниями на щиколотках. Босая. На пальцах ног – темный, почти черный лак. На руках же ногти, наоборот, обломанные и в заусеницах. Розовая футболка с коротенькими рукавами задралась на спине, виднеется черный треугольник трусиков. Кожа – на лице, шее, груди – иссиня-белая, и повсюду отметины: кровь, порезы, царапины, крошечные точки, горизонтальные темные линии, синяки. А шея… Нет, невыносимо…
Я не закричала. Даже не пикнула. Удивительно, да? В уши бьет громкий звук собственного дыхания – то ли всхлипывания, то ли рвотные позывы. Не хватает воздуха. В голове неразбериха. «Топшоп»?! Ну какая разница, где она купила штаны и настоящие ли у нее ресницы? Сколько деталей… они обрушиваются на меня, как цунами. Сперва я ничего не понимаю, в голове нет слов – одни картинки… Но вот мозг включается активнее… картинки обретают названия… превращаются в знакомые понятия… в мысли. Одна из них: надо сообщить кому-нибудь. Кажется, я уже в состоянии думать о том, что будет дальше.
Прикрываю ладонью рот… Господи, кажется, меня вот-вот стошнит. К горлу подкатывает горечь, но я сглатываю и, шатаясь, пробираюсь сквозь заросли назад к дорожке. Нащупываю висящий на шее чехол с телефоном; расстегнуть его получается далеко не с первой попытки. Лихорадочно жму на кнопки. Какие огромные у меня пальцы… Они так трясутся, что, когда мне удается дозвониться, телефон чуть не выскакивает из рук.
Голос в трубке тихий и спокойный; такой спокойный, что я повторяю, как заведенная:
– Вы меня слышите? Вы меня слышите?!
Женщина отвечает, что, слышит, и я, запинаясь, сообщаю подробности. Никак не могу вспомнить название улицы, что ближе всего к этой части парка; и ведь она совсем рядом с моим домом, идет параллельно нашей, с такими же большими крепкими особняками… я хорошо ее знаю, но вспомнить не могу и потому выдаю:
– Тринити-роуд, тюрьма, район Тоуст-Рэк… Знаете, в этом секторе есть дорога? Там еще кафе, «Коммон-граунд». Прямо за ним, в таком треугольном лесочке.
Моя собеседница, наверное, уже сориентировалась по спутниковому навигатору, потому что из моих путаных объяснений вряд ли что-то поймешь. Интересуется, цела ли я, не грозит ли мне опасность. И советует оставаться на месте, ждать.
Связь обрывается. Господи, как неуютно… очень… паршиво. Не представляю, куда себя деть. Бегом возвращаюсь к теннисным кортам: отсюда я смогу увидеть приехавших, проводить на место. Пока в поле зрения – никого; лишь за крикетной площадкой – непрерывный поток машин по Тринити-роуд, в отдалении – крыши Вандсуордской тюрьмы да игра света над высокими домами на той улице, название которой я теперь вспомнила – Дорлкот. Скрип со стороны теннисного домика; темнота за окнами стоящей на лужайке хибарки – когда-то, много лет назад, в ней жил уродливый черно-белый кот; он уже давно умер. Мой сегодняшний бег начался по ту сторону железнодорожных путей, дистанция длиной в километр или даже два, а если напрямик через рельсы – всего несколько метров. На крутых насыпях по обе стороны полотна растут кусты и деревья; осенью они сбрасывают мокрые листья и задерживают поезда, тут полно теней и темных местечек, где так легко притаиться. Рядом со мной заросли кустарника, в них детвора сделала себе лагерь, обустроила ходы и коридоры для пряток. Шорох. Может, зверек… лиса, белка или птица, но меня охватывает страх. Кажется, там кто-то есть, кто-то за мной следит.
Я мечусь по тропе туда-сюда: то к дороге, то, передумав, чуть ли не бегом – обратно. Лабораторная крыса под воздействием стресса… Девушки отсюда не видно, и меня вдруг бросает в жар – а если ее там нет?! Что, если кто-то унес ее оттуда… А может, и не было никакой девушки… Я мчусь назад по дорожке, оступаясь, спотыкаясь, выставив вперед руки для защиты от веток и прутьев, вперед сквозь боярышник, дрок, березки – плевать на царапины! – и меня выносит в том жутком месте. Еще не добежав, уже знаю наверняка – никуда она не делась, так и лежит там, неестественно изогнутая, с остекленевшими глазами… мертвая…
Тишина. Пение птиц – и все. Шум поезда. Рассвело, уже полностью рассвело. На кончиках веток – зелень. Должно быть, почки. Я опоздаю на работу, придется сразу ехать в студию и краситься в машине. Боже, о чем я думаю?… Наклоняюсь, усаживаюсь прямо на сырую землю – и мы остаемся с мертвой наедине. Какой же она выглядит беззащитной! В ноздри сочится резкий застоявшийся запах – то ли больничных коридоров, то ли раздевалки в бассейне. Стараюсь не смотреть ей в глаза. Веки девушки, вплоть до тонких выщипанных бровей, покрыты крошечными мозаичными пятнышками. Касаюсь ее волос… Безжизненные… Хотя волосы ведь такие и есть, да? Что-то в ее футболке – коротенькие рукава, пуговки на груди – не дает мне покоя. Футболка перекосилась, крепко зажатая под мышкой, и мне виден бюстгальтер. Бретелька – ленточка черного кружева – свободно болтается спереди, видимо, отстегнулась. Что я делаю?! Зачем?! Какой-то внутренний толчок – и я уже аккуратно вдеваю крючок черной кружевной ленточки на место, в петельку на чашке бюстгальтера. Пальцы слегка касаются ткани – холодной, влажной. Что это за звук?… Неужели?… Да, я сама. Давным-давно, когда нужно было успокоить Милли, я пела ей эту колыбельную. Но слов ее толком не знаю до сих пор.
– Укачаю, уведу в сон, убаюкаю… Долог путь в сонливый город… Он в далеком и чужом краю…
Песня застревает у меня в горле, она больше похожа на жалобный стон.
Кажется, прошла вечность, но на самом деле вой сирен раздается всего через несколько минут.
С того самого мига, как я вышла из дому, я знала – что-то должно случиться. У меня было странное состояние: тянущее, надоедливое ощущение под ложечкой, дурное предчувствие, если угодно. Скажете, неубедительно? Неправдоподобно? Что ж, в таком случае – mea culpa[1].
Их двое. Женщина в форме меня узнает, это заметно по вспыхнувшему на щеках румянцу, округлившимся глазам, по брошенному на коллегу взгляду с безмолвным «Смотри, та самая… ну, из телика». Но темноволосый мужчина, даже если и знает, кто я такая, остается невозмутимым. Он без формы, в джинсах и рубашке поло – явно занимает далеко не последнее место в полицейской иерархии. Тут не ошибешься, сериал про инспектора Морса тому порукой. Приглаживая густые грязноватые волосы, он представляется сам («инспектор уголовной полиции Периваль») и представляет спутницу – «констебль Морроу».
Мы возле теннисного домика. Я примчалась сюда, когда затихла сирена и сквозь деревья замигал синий огонек. Жму им руки – у меня вдруг возникает жгучая потребность прикоснуться к кому-нибудь живому. Никаких слез, разумеется, – это ведь не я умерла. Мы идем к девушке, и констебль Морроу, которой на вид лет двенадцать, не больше, придерживает меня за локоть. Невысокая и веснушчатая, с гладко зачесанными в хвост светло-каштановыми волосами – она почти хорошенькая, несмотря на близко посаженные глаза и неудачную коронку на переднем зубе. Когда я позвонила, сообщает Морроу, ее дежурство как раз подошло к концу.
– Я уже мечтала о бутерброде с беконом. Кетчуп и немного коричневого соуса…
Она явно пытается меня приободрить. Инспектору же Перивалю до моего душевного состояния дела нет. Он шествует впереди – ссутуленные плечи, растянутые джинсы. С каждым шагом его нога впечатывается в землю решительно и непреклонно, словно лыжная палка, придающая лыжнику равновесие.
Объяснять, где она лежит, не нужно. Это понятно и так. Мы уже почти на месте, и Периваль приказывает мне – точнее, показывает, выставив вперед в качестве преграды руку, – подождать на дорожке.
– Департамент уголовного розыска, – извиняющимся тоном шепчет констебль Морроу. – Впечатление производит. Мы вызвали собак. И компы вот-вот подтянутся. Если едут с мигалкой, то минут через восемь, думаю, примчатся.
– Компы? – Я в недоумении.
– КОМП – команда, осматривающая место происшествия. Оцепят территорию, будут искать улики.
Я спрашиваю, что за улики, и она поясняет:
– Да много чего: отпечатки пальцев, оружие, волокна ткани, кровь, волосы, краска, стекло. Чего они только не находят! Так что на месте преступления топтаться не стоит.
– Я там уже потопталась… Надеюсь, не слишком.
Она вглядывается в заросли и досадливо восклицает:
– Интересно, народ когда-нибудь приучится за собой убирать?!
На какой-то безумный миг мне кажется, что она имеет в виду мертвое тело, и от неожиданности у меня вырывается сдавленный смешок, но тут Морроу подбородком указывает на скомканный пакет из «Макдоналдса»: расплющенная одноразовая тарелка, кусочки латука.
– Думаете, это улика? – интересуюсь я, разглядывая остатки чьего-то пиршества.
– Скорее просто мусор. А для сосудов – и вообще смерть! Сплошные жиры и соли… Дети, наверное.
– Дети, – эхом откликаюсь я, мысленно добавляя: «Кто тут еще может быть».
Инспектор Периваль возле девушки. Он до нее не дотрагивается – присел и разглядывает. Потом достает телефон. Кричит напарнице какой-то набор цифр, и та звонит по мобильному. От усталости у меня кружится голова, и, когда Морроу заканчивает разговор, я спрашиваю, можно ли уйти. Сначала, говорит констебль Морроу, ей необходимо уточнить у меня кое-какие детали.
Я объясняю, что мне пора на работу, она кивает и, чеканя слова, произносит:
– Это. Я. Понимаю. – Многозначительный намек на пропасть, отделяющую мой образ жизни от ее собственных важных задач.
Она совещается с Перивалем и уводит меня назад к кафе, на лавочку.
– А вы выглядите немножко по-другому, – заявляет Морроу. – Не подумайте, что я пытаюсь подлизаться, просто вы в жизни и правда выглядите моложе, чем по телику.
– Это из-за прически, – улыбаюсь я. – Из-за объема. Мне делают очень пышную укладку… Имидж обязывает. Я должна выглядеть как добропорядочная дневная телеведущая… Сама по себе прическа не так уж и плоха, просто перед съемками на нее выливают столько лака, что я в ней, как в каске.
– Вас парикмахер укладывает? – спрашивает она. И после моего кивка удивленно добавляет: – Что, каждый день?!
– Просто невероятно… говорить об обычных вещах… когда…
– Да, знаю. Первое тело всегда вызывает шок. Кто-то мне говорил, что за первый год службы у полицейского офицера вырабатывается чутье на два запаха: запах наркотиков и запах смерти.
– Там был запах, – вспоминаю я.
– Кислятины, – морщит нос Морроу. – Как в доме у стариков.
– Нет, еще какой-то.
Констебль достает блокнот и, словно книголюб, смакующий понравившееся ему произведение, перечисляет мне трупы, которые она повидала за два года работы на участке: самоубийство (повешение), автомобильная авария и парочка сердечных приступов.
– Самоубийство? – переспрашиваю я.
– Ну да! Самоубийства частенько случаются.
И она рассказывает, сколько разных способов существует для того, чтобы свести счеты с жизнью: передозировка и вскрытые вены, петля и огнестрельное оружие. Может, мне и удалось бы отвлечься, но подобные разговоры… это уж слишком. Я хочу домой, хочу быстренько хлебнуть кофе – если позволит время; а если не позволит, попить кофе в машине. Ловлю себя на виноватой мысли, что болтовня констебля меня раздражает. Может, она вовсе не приободрить меня пытается, а просто наслаждается жуткими подробностями? Я ее перебиваю и начинаю рассказывать, как все было («Ой, погодите, помедленнее», – просит она): как я бежала, как сама не знаю, что понесло меня на эту дорожку; как в первый миг я подумала, что бесцветная вытянувшаяся фигура – это лебедь или дельфин… Она записывает. Спрашивает, что я видела, кого заметила, и я вспоминаю бегунов, собаку у пруда. Нет, больше никого.
– Может, еще что-нибудь необычное?
– Только… девушка…
Пока она перечитывает записи, я решаюсь спросить про точки на лице мертвой:
– Знаете, такие малюсенькие пятнышки… Похожи на сыпь, которой очень боятся молодые мамочки. Ее еще проверяют стеклянным стаканом – если при нажатии стаканом сыпь у малыша не исчезнет, значит, это может быть менингит…
– А, знаю такое. – Она опускает блокнот на колени. – Петехия, признак асфиксии.
– И у нее следы на шее… будто от проволоки, которой сыр режут… и синяки, ссадины, как отпечатки пальцев… Ей что, перерезали горло? Или задушили?
– Это нам патологоанатом скажет, придется подождать. Я не специалист, но в таких случаях следы пальцев часто принадлежат не нападающему, а самой жертве. Ну, понимаете, когда она борется, чтобы сорвать удавку.
Я невольно вздрагиваю, потом мне становится лучше. Вокруг талии у меня повязана серая толстовка с капюшоном, и я натягиваю ее поверх футболки. Похоже, потрясение потихоньку проходит, уступая место нормальным мыслям, объяснениям.
– Черкните автограф, – просит констебль Морроу, и я поворачиваюсь к ней: привычная улыбка, любезно поднятая рука. Ох, ей всего лишь нужна моя подпись под показаниями! Какой конфуз…
Поднимаю голову от бумаг: инспектор Периваль с трудом выбирается назад на аллейку. Издалека, от дороги с односторонним движением, нарастает вой сирен. Собаки и КОМП, люди с камерами и всякими приспособлениями – какими? палками? – которыми они будут тыкать траву в поисках улик, волокон, краски, стекла. Чтобы выяснить, кто это сделал.
Какое странное чувство… Не знаю, поймете ли вы… Облегчение. Это мертвое тело больше не мое. Оно принадлежит им.
По дороге от Стокуэлла к Ватерлоо – жуткая пробка, время моего опоздания неуклонно растягивается, и сорок пять минут превращаются в девяносто. Я пропускаю утреннее совещание и из-за этого весь день вынуждена оправдываться. А может, оправдываться мне придется не только сегодня – раз я теперь человек, обнаруживший мертвое тело.
В зеленой комнате мой соведущий Стэн Кеннеди развлекает болтовней двух гостей программы: акушерку, получившую от фирмы «Памперс» награду «За выдающиеся достижения», – ей предстоит комментировать обыгранный в новом ситкоме процесс родов; и несчастную мать, мою ровесницу – ее сын-подросток, подвергшийся травле на «Фейсбуке», год назад покончил с собой. Под столом крутится собака, лёрчер, тычется носом в разбросанные кусочки датской слойки; Дон, помощница режиссера, сообщает мне, что этот пес «покорил сердца нации»: видео, на котором он играет в футбол с цыпленком, посмотрела на «Ютьюбе» уйма народу. Жизнь, смерть и собака – несочетаемое сочетание, но для сотрудников «Доброго утра» такое в порядке вещей.
В комнату к ним я не захожу, проскакиваю мимо – мне к гримеру. Если напарник меня и заметил, то виду не подал. Насколько проще была бы жизнь, научись мы с ним ладить! До меня доносится взрыв хохота; этот раскатистый душевный смех – визитная карточка Стэна, создающая ему имидж милейшего человека, такого сердечного, так искренне интересующегося своим собеседником. Он очарует даже потерявшую ребенка мать, и та будет смущенно улыбаться, опустив голову и разглаживая на юбке несуществующие морщинки. Этот прием срабатывает со всеми. Со всеми, кроме меня. Видевшая Стэна пару раз моя подруга Клара утверждает, что своим обаянием тот обязан заостренной форме клыков – это, мол, помогает компенсировать слишком нежные, почти девичьи черты лица. Нижняя губа у него намного полнее верхней, будто вздулась от удара, и шалунья Клара, по ее словам, была бы не прочь ощутить эту припухлость на вкус.
Я уже подхожу к своей комнате, а хриплый бас Стэна все еще эхом раздается в коридоре. Почему-то, когда я слышу этот смех, вечно чувствую себя брошенной. Энни уже вся извелась, поджидая меня: тюбики губной помады выстроены в ряд, мощный профессиональный фен с насадками – в боевой готовности. Я рассыпаюсь в извинениях; терпеть не могу усложнять ее и без того непростую работу. Не знаю, в курсе ли она, из-за чего я опоздала, – по дороге в студию я по телефону кратко обрисовала ситуацию нашему режиссеру, и та вполне могла поделиться новостями с остальными.
– Ну и вид у тебя. Будто покойника встретила, – усаживая меня, заявляет Энни. Значит, не в курсе.
Жаль, сейчас нет времени для откровенных признаний. С Энни всегда так славно поговорить, и я частенько делаю ей по этому поводу комплименты – чтобы, работая со мной, она чувствовала себя комфортнее. Хотя на самом деле мне, наверное, хочется, чтобы это я чувствовала себя комфортнее, когда она работает со мной. Не заслуживаю я такой заботы. Но момент, увы, неподходящий – уже десять утра. Время катастрофически поджимает, и отвлекать Энни просто нечестно. Да и она слишком напряжена, чтобы болтать. Так что я молча отдаюсь в руки девушки, которая носит незамысловатую короткую прическу и сама косметикой не пользуется: моя голова покорно ныряет в вырез малинового платья от «Дайан вон Фюрстенберг», по лицу порхают кисточки «Бобби Браун», губы приоткрываются навстречу помаде («Сангрия» или «Старый Голливуд»), на сомкнутые веки шелковисто ложатся тени – «Пшеничный колос» и «Соболий мех», «Тост» и «Темно-серый беж». Да, Энни недалека от истины. Вид у меня и правда неважный: под глазами фиолетовые круги, веки с каждым днем все больше напоминают гофрированную бумагу. Волосы утратили густоту, да и цвет у них… Это уже не красновато-рыжий «Тициан», а какой-то… лосось. В памяти всплывает мама. В моем детстве волосы у нее были до того вызывающе яркими и блестящими! И во что они превратились под конец? Грязный оранжево-розовый цвет… У мертвой девушки волосы тоже были рыжими. Наверняка крашеные, не натуральные. Если я скажу, что она показалась мне знакомой, вы решите, что я выжила из ума?
– Ну вот. – Энни делает шаг назад. – Так ты больше похожа на человека.
– Ты просто блеск! – объявляю я.
На самом деле это я – просто блеск. Пудра со светоотражающими частицами, мерцающие оттенки макияжа… Теперь я буду выглядеть вполне прилично. И никто даже не заметит, что у меня слегка подергивается веко. Впрочем, и эта внешность, и пышная прическа – уже не я. Честно говоря – пусть Энни об этом никогда не узнает, – в увеличительном зеркале я вместо себя вижу какого-то транссексуала. Старея, женщины превращаются в мужчин, а мужчины – в женщин. Не помню, от кого я это услышала. Увядание – такая гадость. Хотя, как говорит Клара, альтернатива намного хуже.
Может, следовало сегодня отпроситься? Или причина не слишком уважительная? Даже когда болела мама, шоу я почти не пропускала. Бывало, мне так и не удавалось прилечь; проведя кошмарную ночь у ее постели, я ранним утром мчалась по загородной трассе назад на работу. И улыбалась в камеру, а у самой на пальцах – невыветрившийся запах рвоты… Неужели почти у каждой женщины есть такое ощущение? Ощущение того, что наше место под солнцем – это лишь вопрос удачи? Одна оплошность, одно прегрешение – и мы уже вне игры? И все же сегодня, наверное, приезжать не стоило. Сталкиваясь с трагедией, иногда поначалу ее не осознаешь. Как-то у нас на программе была семейная пара; когда они уже готовились к отъезду с горнолыжного курорта, снегоуборочная машина завалила их малыша снегом. Ребенок задохнулся. Дальнейшее, казалось бы, не укладывается в голове: после того как эти люди отвезли крохотное тельце в больницу, они, ни на йоту не отклоняясь от первоначального плана, сперва на машине пересекли Альпы, а потом переправились домой на пароме по заранее купленным билетам. Знаю, то, что выпало на их долю, с моим потрясением не идет ни в какое сравнение; я просто хочу сказать, что в состоянии стресса люди совершают иногда такие дикости…
Энни довершает картину: в студии на кофейном столике стоит ваза с алыми гвоздиками, и на моих ногтях расцветает алый лак. У визажиста свои предписания: все должно сочетаться, важна каждая мелочь. Руки у меня трясутся, но Энни делает вид, что ничего не заметила. Я изо всех сил вжимаю ладони в лежащее на туалетном столике полотенце, и дрожь поднимается выше, к плечам.
Красные ногти. Красные цветы. Красное платье с длинными рукавами. Кровь и смерть, бескровная смерть… отметины на шее девушки…
Я помахиваю яркими кончиками пальцев:
– Энни, а не многовато ли на мне красного?
– В самый раз, – отзывается она. – Очень жизнеутверждающе, именно то, что нужно серым мартовским утром. Ты, как всегда, неотразима. Подними-ка нам всем настроение! Видит бог, это как раз то, что нужно!
Я никогда не мечтала стать телеведущей. Меня сюда просто занесло. Я работала корреспондентом и репортером, а потом мне сделали предложение, от которого Филипп пришел в бурный восторг, и «да» у меня вырвалось еще до того, как я успела подумать о возможности ответить «нет». Работа своеобразная – и не актерство, и не журналистика. Амбициозный человек вряд ли назовет ее пределом своих мечтаний. Дневные ведущие ни у кого не пользуются особым уважением. Мы символизируем легкомыслие и праздность и в пищевой цепочке находимся даже ниже, чем наши коллеги из «Новостей». «Милые мордашки и симпатичные попки; а внутри этой композиции – ничегошеньки» – вот слова знаменитой своими репортажами из «горячих точек» Кейт Эйди. «Когда мистер Блэр примется бомбить Багдад, – вторит ей популярный Ричард Ингрэмс, – нас поставит об этом в известность какая-нибудь блондиночка, сверкающая безупречной улыбкой».
Иногда я встречаю своих знакомых по Оксфорду, ровесников, ставших серьезными фигурами в издательском деле, в научных кругах; порой сталкиваюсь с ребятами, вместе с которыми проходила стажировку на Би-би-си – кто-то из них теперь режиссер «Панорамы», кто-то играет не последнюю роль в закулисной политической жизни. Эти встречи здорово меня закаляют. Как-то на вечеринке по случаю вручения Национальной телевизионной премии один тип, намекая на наш недавний сюжет – о запрете на продажу уродливых овощей и фруктов, – заорал мне через весь зал:
– Что нового в примитивном мире некондиционных бананов и недозрелых корнишонов?!
Когда-то мы вместе работали корреспондентами «Вечерних новостей». Понятия не имею, чем он занимался после этого, но рубашку носил, по-моему, еще с тех времен.
– Спусти штаны и увидишь! – мило улыбнулась я. За его столиком все заржали.
Вспоминая об этом теперь, я чувствую себя неловко. Это было вовсе не остроумно. И засмеялись они лишь потому, что я (капельку) звезда, знаменитость. Их подобострастное хихиканье было еще хуже его оскорбительной колкости. Считается, что дневные передачи смотрят только безработные со стажем, бездельники да хронические нытики; будто все, на что мы годимся, – это скрасить унылую тишину во время глажки белья. Звезда домоводства – вот кто я для них такая. Но я могу многое сказать в защиту своей профессии. Далеко не каждый с ней справится. Суть ведь не в красивой улыбке и не в обсуждении забавных законопроектов ЕС. Суть – в непосредственном обращении к зрителям, пусть не ко всем сразу, а по очереди, по одному; в том, чтобы найти с каждым общий язык. Мы со Стэном приносим в ваш дом настоящую жизнь, а это уже мастерство сродни искусству.
…Несмотря ни на что, сегодня я занимаю студийный диван первой. Энни говорит, Стэн любит оказаться в студии раньше меня и проехаться на тему моего отсутствия: и жизнь-то у меня, мол, «кипучая», и сама я «просто на части разрываюсь». Я не раз объясняла ей, что это лишь добродушное подтрунивание, безобидная репетиция тех колкостей и шпилек, которыми мы со Стэном обмениваемся в эфире и благодаря которым наше шоу пользуется таким успехом; что Стэн говорит не всерьез. Но боюсь, на самом деле все как раз наоборот: улыбки и дружеское похлопывание по плечу – это лишь милое прикрытие его истинного отношения, его стремления к превосходству и желания меня выжить. У него нет точной уверенности в том, что мне платят больше, но даже тень подобного сомнения для Стэна невыносима.
Администратор студии Хэл возится с микрофоном – пристраивает его в вырезе моего платья, закрепляя на чашечке бюстгальтера, – и я вспоминаю о бюстгальтере мертвой девушки. Похоже, на ней была надета так называемая многофункциональная модель, в которой бретельки можно застегивать по-разному: крест-накрест; на шее, как лямку от купальника, или вообще обходиться без них. Иначе как бы он мог расстегнуться спереди? Стараюсь прогнать прочь эти мысли, они кажутся мне слишком уж интимными – и тут в комнату неторопливо вплывает Стэн, обсуждающий что-то с режиссером Терри.
Увидев меня, напарник в притворном изумлении всплескивает руками:
– Мисс Марпл! Раскрывает убийство, помогает полиции с расследованием – и вовремя поспевает на работу! Или все-таки мисс Марпл в качестве образца для подражания несколько старовата? – Он подкручивает несуществующие усы и пародирует бельгийский акцент. – Может, Эркюль Пуаро?
Интересно, он с самого начала планировал войти в студию позже меня? Ведь высмеивать кого-нибудь гораздо легче, если смотришь на свою жертву сверху вниз, а не наоборот. Удобный случай, ничего не скажешь! Сейчас, когда моя жизнь вдруг встала с ног на голову, Стэну самое время продемонстрировать, какой он замечательный, надежный, уравновешенный и жизнерадостный сотрудник. Не то что некоторые.
– Не раскрывает убийство, Стэн-супермен, – усмехаясь, поправляю я. Терри ни за что не увидит, как мне тошно. Она дама жесткая и халтурщиков не выносит, но, если я смогу шутя парировать все нападки, будет на моей стороне. Я знаю, что расспрашивать меня дорогой напарник не станет, так что шанс упускать не собираюсь. – Не раскрывает убийство, а всего лишь обнаруживает убитого.
Стэн падает рядом, и диванные подушки подо мной раздуваются от вытесненного им воздуха.
– Если я решу с тобой побегать, отговори меня, – обращаясь ко мне, сообщает Стэн всей комнате.
«Доброе утро» полностью занимает пятый этаж высотки, расположенной в районе Саут-Бэнк. Из окна за моей спиной открывается вид на Лондон и Темзу, безупречно красивый, словно декорация. Наш отдел – бутафорская стена «а-ля склад», ковер с завитушками, уютные диванчики – находится в самом центре студии. Осветительная аппаратура – в полной боевой готовности. Гламурный, залитый светом островок красоты, лучик солнышка… А я сижу посреди всего этого очарования и думаю лишь об одном – какой же Стэн гад! Включается музыка, идет заставка, а он оттачивает остроумие на сидящих у противоположной стены осветителях и звукооператорах, на корреспондентах и красотке Инди, ожидающей своего выхода с обзором новостей «Твиттера», «Фейсбука» и электронной почты. Ну прямо не Стэн, а пошляк-регбист на гастролях:
– Как некрофилы называют гробовщиков? Сутенерами!.. Какая разница между педофилией и некрофилией? Восемьдесят лет!
Пытается вывести меня из равновесия. Может, его шуточки – это завуалированные намеки в мой адрес?
И вот мы в эфире. Я желаю всем доброго утра, произношу свою часть текста, а Стэн завладевает камерой: впивается в нее глазами и, не отрываясь, смотрит прямо зрителю в душу, будто именно он как никто другой эту душу понимает и чувствует. Я повторяю звучащие в наушнике слова приветствия, объявляю, что на кухне сегодня будет кукла из «Маппет-шоу», и нахваливаю наш конкурс на звание «Самого элегантного члена парламента». Анонсирую рубрику «Сегодня в печати», которую ведет Салли Берков; упоминаю псину, ставшую любимцем нации, и акушерку, получившую награду. А вот фейсбуковскую мать отдали Стэну. И когда он говорит о том, что в нашей программе чуть позже будет очень печальный сюжет, лицо у него мрачнеет, уголки губ опускаются.
– Год назад, – просто сообщает он, – четырнадцатилетний Сол, сын Мэгги Леонард, распрощался с жизнью из-за травли, которой подвергся в Интернете.
Напарник смотрит на меня, в глазах – участие и соболезнование чужому горю. Я сочувственно киваю, изображаю скорбную тень улыбки. Мы вместе в этой беде, я и Стэн. Он трет подбородок; скрежет щетины слышен только мне.
– Черный день, – ставит он финальную точку.
Несколько недель назад, после того как на ток-шоу «Вопрос времени» один из членов кабинета министров был обличен во лжи, мы пригласили в студию психолога – поговорить о языке тела и об искусстве обмана. По ее словам, дети, соврав, частенько прикрывают рот ладошкой; взрослые же дотрагиваются до подбородка или теребят манжеты в неосознанном желании скрестить руки.
Сегодня во время передачи я вынуждена тщательно следить за языком своего тела, потому что меня не покидает ощущение, будто я напрочь завралась. Мне нет дела до того, что делается в студии. Сегодняшние банальности кажутся поверхностными и скучными. Я с опозданием объявляю вступление Инди, приходится извиняться и посылать зрителям уморительную гримаску «ой, оплошала!».
– Да ерунда, не вопрос! – заявляет в ответ красотка.
Умиляюсь псу (оказывается, его зовут Билли), с которым играет Стэн, а сама жалею о том, что перед уходом из дома не проверила охранную сигнализацию, не сказала Марте, что добираться в школу через парк опасно, лучше объехать. Я ничего не соображала. А ведь надо было принять хоть какие-то меры безопасности.
Интервью с Мэгги Леонард. Я сижу, склонив голову набок. Мы знаем, какими словами в это время дня пользоваться допустимо, а какими – нет. Произносим «ушел в другой мир», «распрощался с жизнью», «больше не с нами», «оставил вас». Лезем вон из кожи – только бы избежать слова «умер»…
В машине по дороге домой прислоняюсь лицом к стеклу. Наконец-то можно расслабиться, какое облегчение! Мысли крутятся вокруг несчастной девушки. Машина останавливается и трогается, дергается и разгоняется. Я сильно ударяюсь подбородком, стукаюсь лбом. Напряжение в шее отпускает. Мой водитель Стив болтает о вчерашней игре в дартс и дорожных работах в районе Элефант-Касл.
– Достала уже эта погода, – бурчит он. – И не холодно, и не мокро, и не жарко. Ни то ни се, правда? Март в этом году – просто ни то ни се.
Витрины магазинов, рифленые крыши, круговое движение, входы в метро, строительство – подъемные краны и перфораторы; граффити, украшающие навесы… Ничего не исчезло… Все как всегда… С хорошими людьми происходят разные ужасы. Разбиваются автобусы и гибнут дети. В Конго насилуют и калечат женщин – об этом на днях была передача. Друзья рассказывают о чьих-то трагедиях: внезапный сердечный приступ у молодого мужа, лейкемия у отважного шестилетнего ребенка. Такие события задевают за живое, сжимают по ночам сердце. Не верится, что подобное возможно… Но, вскользь соприкоснувшись с нашей жизнью, все эти кошмары отскакивают от нее, словно ударившийся о ветровое стекло камешек, чей крошечный след – надколотую щербинку в уголке окна – мы, к нашему стыду, очень быстро перестаем замечать. Мы озабочены собственным жалким существованием, тревожимся о своих ничтожных проблемах – безразличие мужа, заносчивость коллеги… И вдруг… Эта смерть совершенно меня оглушила. Вот она, рядом. И никто не застрахован от опасности. Мы живем в мире, где люди убивают друг друга. Смерть не всегда бывает медленной, растянутой на месяцы и годы, как у моей мамы. Она может настичь мгновенно, прийти извне. Пара секунд… удавка на шее… рывок… Вот и все. От этих мыслей мне становится дурно, все вокруг плывет… будто я вот-вот потеряю сознание.
Машина, подрагивая, останавливается на светофоре. Моя идеальная жизнь… Какой от нее толк, когда случается такое? Ни малейшего… Я думаю не о смерти девушки, а о ее рождении. Ее матери. Родителях. Школьной поре. Летних каникулах. Работе. Семье. Друзьях. Любимом мужчине… Знают ли они уже? Удалось ли выяснить, кто она такая? Кем была… Любила ли свою жизнь или мечтала ее изменить? Несмотря на то что в машине тепло, меня начинает трясти.
Айфоновское новостное приложение молчит. В разделе «Сенсации дня» – никаких свежих сообщений. Может, это и не новости вовсе? Не знаю… Вот выловленный в Лаймхаусе из воды обрубок тела или дрейфующий по Регентскому каналу мусорный мешок, набитый конечностями, – это были новости. А нерасчлененные целые тела… Вдруг с ними все не так? Может, в целостном теле нет ничего необычного? И их находят в парках многочисленных пригородов – Бекслихита, Саутхол-Грина, Кроуч-Энда – каждый день? Что сейчас считается нормальным? А что – нет? Не представляю…
Поток машин окончательно замирает – выползший на перекресток со стороны Валворс-роуд бункеровоз перекрыл движение во всех направлениях. Вопли клаксонов. Клубы выхлопных газов.
– В этих грузовиках за рулем сплошные идиоты! – возмущается Стив. – Ни малейшего уважения. Все они одинаковые. Небось бывшие заключенные. На дороге возле моего дома с таким грохотом переезжают через «лежачих полицейских» – будто бомба взрывается. И ведь наверняка специально! Психи! – И без капли сочувствия добавляет: – Вешать их надо!
Затор рассасывается. Лаская колесами асфальт, мы беспрепятственно скользим по Кеннингтон-Парк-роуд, и сердитый Стив, чтобы поостыть, открывает окно и выставляет наружу локоть. Он продолжает негодовать, а свистящий в ушах ветер подхватывает его слова и уносит прочь – мимо входа в метро Оувал, мимо церкви Святого Марка… Времени у меня не так уж много. Возле Клэпхэм-Коммон Стив успокоится и поднимет стекло. Я должна буду поинтересоваться, как дела у его жены – у нее сегодня поход к гинекологу, – выяснить, прошла ли его дочь Сэмми собеседование. И я это непременно сделаю, когда окно закроется. Но пока грех не воспользоваться подходящим моментом: если сейчас позвонить Кларе, можно будет застать ее в учительской, редкий шанс пообщаться спокойно.
– Привет, Габи Мортимер. – Подруга всегда озвучивает мое имя, высветившееся на экране ее «Нокии». На заднем плане из трубки слышен какой-то шум: то ли перестук колес медленно ползущего поезда, то ли звон посуды, сгребаемой с подносов школьным буфетчиком. – Это ты?
Я откашливаюсь:
– Привет, Клара Макдональд.
– Ура, пятница! – объявляет Клара. – Жду не дождусь, когда попаду наконец домой, нырну в горячую ванну, уделю время детворе – готовит сегодня Ник – и плюхнусь на диван смотреть «Безумцев». У меня гора всякой писанины, подготовка к урокам, но чувство вины залегло в спячку: память у нашего «Скай-плюс» переполнена, сериал записывать уже некуда, надо бы почистить, а то этот «Скай» начнет сам лишнее удалять. Или это просто байки, что он такое умеет? А, какая разница! Посмотрю немножко телик – вот и разгружу ему память.
На душе становится веселее от одного ее голоса. Мы дружим со школы, и Клара Макдональд для меня – просто совершенство, идеальнее вряд ли придумаешь.
– Что такое? – мгновенно расшифровывает она мое молчание. – Кто тебя расстроил? Филипп? Опять ведет себя как козел? Или тот придурок-красавчик с работы?
– Оба. – Мне уже почти смешно. – Козел, он и есть козел, а придурок остался придурком. Но это еще не все…
Господи, как же ей сказать? Какие выбрать слова? Начать бодренько, как будто в предвкушении новой сплетни: «Представляешь, что со мной сегодня стряслось»? Или честно признаться: «Слушай, тут скоро в новостях расскажут… так что я хотела, чтобы ты узнала от меня»?… Никак не могу решить. Меня не устраивает ни то, ни другое. Первый вариант попахивает откровенной черствостью. А второй… Как, сообщая человеку нечто чудовищное, не сбиться при этом на характерный «елейно-блаженный» (по выражению моей любимой тетушки) и при этом лицемерно-ханжеский невнятный лепет? Сочетание просто убийственное. И еще я уверена, что Клара станет мучительно, до слез, сочувствовать моей душевной травме. А я такого не заслуживаю. Это будет несправедливо. Ни капли.
Я мысленно вижу подругу: стоит посреди учительской, вокруг нее суетятся коллеги, с плеча свисает текстильная сумка с логотипом книжных магазинов «Даунт букс», в заднем кармане – хлоп, хлоп, на месте ли? – электронный проездной «Ойстер». Она, скорее всего, уже в пальто (вещица из твида, куплена в «Примарке», и Клара зовет его «Примарчик»), шею уютно обвивает полосатый шарф. Дверь приоткрывается, в нее просачивается шум забитого детворой коридора; кто-то из учителей любезно предлагает подбросить до метро…
Стив закрывает окно, и я отказываюсь от мысли огорошить Клару. Поговорю с ней позже, когда она не будет спешить. А я немного остыну и буду в состоянии принимать случившееся не так близко к сердцу. И я, старательно следя за тоном, жизнерадостно объявляю:
– Хотела накануне выходных узнать, как ты.
– Я на полпути к своему домашнему вавилонскому столпотворению. – Голос у нее беззаботный. Совершенно.
На кухне за столом сидит Марта – не ест, просто флегматично листает журнал «Грациа». Она, по-моему, вообще никогда не ест. И меня это беспокоит.
Прошлым летом на меня вдруг навалилось все сразу: беременность нашей предыдущей няни Робин, умирающая мама… И решение я принимала не совсем обдуманно. Может, задавала не те вопросы. В общем, наняла няню, мало что соображая, в состоянии жуткой паники. И теперь эта няня меня тревожит. Дело вовсе не в том, что она не ест приготовленную мной еду – до Мишеля Ру мне очень далеко. Дело в том, ест ли она вообще. И когда? И что? А вдруг я должна об этом заботиться? Ей ведь всего двадцать четыре. Может, она тоскует по дому, или у нее какое-нибудь расстройство пищевого поведения, и мне не мешало бы об этом знать? Я представляю себе Марту, тайно поглощающую батончики и кукурузные хлопья, сыр и луковые чипсы…
Милли на гимнастике, назад ее подвезут. Со стиркой Марта разобралась. Ровные стопки джемперов и футболок – в том числе и чистая выглаженная одежда, в которой я бегала сегодня утром, – ждут, пока их разложат по местам. Кухня из светлого полированного гранита поражает порядком, полы блестят. Стóит распахнуть ослепительно сверкающие дверцы подвесного шкафа – и глазам предстанут коробочки с крупами и баночки с джемом, чинно выстроившиеся в ряд. Опрятность – это еще один Мартин пунктик. Единственным ее требованием при въезде в дом были латексные перчатки для уборки, облегающие руку, словно вторая кожа. Я знаю, что должна радоваться. Филипп вот чувствует себя как рыба в воде – наконец-то вокруг него обстановка под стать его умственным способностям. А мне неуютно. Уж лучше бы Марта вообще ничего не мыла и не была такой чистюлей. Приехавшая из Новой Зеландии Робин, которая прожила с нами семь лет, до прошлого лета – пока не забеременела, не вышла замуж за своего фермера и не укатила к нему на восток Англии (до чего же бесстрашная девчонка!), – оказалась невероятной грязнулей, и меня это вполне устраивало. Она стала членом семьи. Мы все – ну, по крайней мере, она и я – были единым целым. Марта совсем другая, она воспринимает меня исключительно как работодателя. Я понимаю, всем бы такие проблемы; понимаю, что пора выбросить эту ерунду из головы, но мне бы так хотелось, чтобы мы с няней были друзьями…
Я тихонько завариваю чай – настой имбиря с лимоном, хорошо для нервов – и усаживаюсь на скамейку. Марта безропотно отрывается от журнала, поднимает голову – думает, что я хочу пообщаться, и сразу же напрягается. Но надо же рассказать ей о случившемся! Не хочу пугать, объясняю я, но быть осторожной не помешает. Всегда проверять, заперты ли двери и окна. Не ходить через парк – ни вдвоем с Милли, ни в одиночку. Нужно быть начеку. Неизвестно, кто там у нас объявился, говорю я в надежде заметить хоть какой-то отклик – проблеск чувства, может, даже тревогу. Что угодно, только бы не эта ее бесстрастная невозмутимость!
Девушка смотрит на меня, не отрываясь, длинные черные волосы обрамляют лицо. Я умолкаю, а она отводит глаза в сторону, прикусывает заусеницу, теребит ее большим пальцем. Когда она с Милли, то всегда соблюдает осторожность, говорит Марта. И всегда проверяет, включила ли охранную сигнализацию. Может, у меня разыгралось воображение, но тон у нее защищающийся – будто я выдумала эту историю специально, чтобы придраться к няне. Наверное, я как-то не так выразилась и чем-то ее задела.
Взгляд падает на открытый журнал. На развороте – фоторепортаж о Пиппе Миддлтон, и вся страница – в каракулях, выведенных Мартиной рукой. Не каракулях даже, а в штрихах и черточках, будто наша няня исцарапала Пиппе Миддлтон лицо.
Я интересуюсь, как продвигается ее учеба – Марта занимается английским в Тутинге. Упоминаю о баре неподалеку от ее курсов; говорят, в нем любит собираться молодежь и там очень живенько. Господи, ну как я разговариваю?! «Очень живенько»?… Черт возьми… Неудивительно, что она меня едва выносит. Трель дверного звонка спасает от необходимости поддерживать беседу дальше.
На крыльце спиной ко мне, слегка пригнувшись, стоит высокий темноволосый мужчина в грязно-зеленой вощеной куртке. Притянув к себе ветку растущего у дорожки оливкового дерева, он почти уткнулся в нее носом и рассматривает листики. Незнакомец ждет на долю секунды дольше, чем необходимо, потом поворачивается ко мне и спрашивает:
– Что, собственное масло делаете?
Инспектор Периваль.
– Эти деревья посадили всего месяц назад, – отвечаю я. – Нам полностью переделывали сад – и здесь, перед домом, и за ним. Фирма «Мадди Веллис». Я еще ничего не планировала. Да и к тому же оливковых деревьев всего три, так что даже при большом желании и благоприятной погоде – вряд ли.
Он делает шаг вперед и разводит руки в стороны, будто расстояние измеряет:
– Милый особнячок. Для троих, правда, великоват.
Чтобы не выказывать удивления по поводу его осведомленности обо мне («для троих»?), я запрокидываю голову и тоже обозреваю свой дом. Словно вижу его впервые. Словно здесь живу не я, а кто-то другой. Свежие швы красной кирпичной кладки, выстроившиеся в три этажа окна, изящно заостренный конек крыши в викторианском стиле, густо переплетенные стебли недавно посаженной глицинии…
– Мой сотрудник, – небрежно добавляет Периваль, – говорил, что соседняя хибарка обошлась владельцам в пять миллионов.
Я краснею. Он просто поддерживает разговор, но мне отчего-то неловко. Не понимаю, зачем он это сказал. Мы так и стоим, разглядывая то дом, то друг друга, и я не представляю, что делать дальше. И тут он произносит фразу, которая ввергает меня в ступор. Ведь я надеялась, что мое участие в этой истории окончено. Думала, все уже позади…
– Можете уделить мне время?
Пока я стояла в дверях, Марта испарилась. Незаметно выскользнула из кухни; должно быть, убежала наверх, хотя шагов я не слышала. Поглаженное белье исчезло. И моя чашка с недопитым травяным чаем – тоже. Наверное, няня убрала ее на место, в посудомойку. Она умудряется ставить на место и меня…
Предлагаю инспектору присесть. Не тут-то было, он предпочитает остаться на ногах. Чтобы чем-нибудь себя занять, наполняю из-под крана чайник. Когда Периваль двигается, его обувь издает слабый звук, едва слышное поскрипывание кожи. Туфли полицейского – коричневые броги с перфорированным мыском – наводят на мысль о Джермин-стрит с шикарными магазинами мужской одежды, об эксклюзивных обувщиках, создающих каждую пару вручную.
– Вы живете неподалеку? – интересуюсь я.
– В Баттерси. – Он стоит ко мне спиной. – На той стороне станции Клэпхэм-Джанкшн.
– О, сторона что надо! Неплохой райончик! – Что я несу? Язык мой – враг мой.
– Красивая картинка. Дочка нарисовала?
Становится не по себе. Конечно, достаточно было ввести в поисковике «Габриэль Мортимер» – и наткнуться, например, на мое недавнее интервью для «Санди таймс» («Один день ее „дневной“ жизни»). Но когда люди, которых ты раньше в глаза не видел, столько о тебе знают, невольно испытываешь тревогу. Именно это я и пыталась втолковать прошлым летом констеблю, когда у меня объявился собственный сталкер (что же ты за звезда, если тебя никто не преследует?).
– Крейг Айтчисон. – Я подхожу к инспектору.
Незамысловатый фон – пластилиново-синее небо и желейно-зеленая трава. Собака. И дерево – заштрихованный конус, напоминающий кисточку художника. Обманчивая простота: на самом деле в фигуре собаки столько одиночества и созерцательности… Мне кажется, тут есть аналогия с Христом.
– Это бедлингтонский терьер, – добавляю я.
– Бедлингтонский, значит… Не просто какой-то потрепанный терьер. И снова оливковое дерево. Сюжет, конечно, тот еще.
– По-моему, это кипарис. Символ смерти и все такое… Муж купил картину сто лет назад, а когда Айтчисон умер, цены на него взлетели до потолка. Разумное капиталовложение.
– Разумное капиталовложение, – эхом повторяет Периваль, будто в жизни не слышал ничего глупее.
Моя следующая ремарка, по задумке, должна быть шутливой, но на деле, наверное, звучит обиженно:
– Четыре его картины выставлены в галерее Тейт, а одна есть даже у Элтона Джона.
Инспектор пожимает плечами. Он моложе, чем я думала. При первой встрече мне показалось, что ему за пятьдесят, а на самом деле – не больше сорока с хвостиком, мой ровесник. Его повадки; сутулость, призванная, вероятно, скрыть высокий рост; слегка обвисший подбородок, особенно заметный, когда Периваль растягивает губы, словно пытаясь избавиться от застрявших между зубов крошек, – все это добавляет ему лет. Каштановые волосы без намека на седину – а у Филиппа уже все виски подернуты серебром. Под резко очерченными скулами впадины. Нарастить бы ему пару килограммов, и детектив стал бы почти красавцем. Длинные волосы, сухопарость – ну просто денди, сбившийся с пути истинного.
«Так, хватит…» – мелькает в голове, и я спохватываюсь:
– Ах да, чай. С добавками подойдет? Или вы любите что-нибудь менее радикальное? – Господи, пристрелите меня!
– Все равно.
Наконец-то он занял место у стола, скинул куртку, аккуратно пристроил ее на спинку стула и теперь сквозь окно изучает наш сад за домом: красивая зеленая лужайка, до мелочей продуманный ландшафт, приподнятые клумбы, батут; закрепленный на хитроумных распорках-ходулях «домик на дереве», стоящий у забора, и ряд прикрывающих его грабов. Когда нам копали подвал, строители превратили весь двор в грязное месиво, поэтому Филипп решил, что будет нелишним переделать и сад.
Внимание Периваля приковывают кусты за окном. Мартовский ветер треплет их неистово, ветви хлещут друг друга. Для полицейских, видимо, это нормально – зацепиться глазами за какую-нибудь мелочь, даже не зная наверняка, окажется она важной или нет.
– Вы прикасались к телу?
Чашка с чаем едва не выскальзывает у меня из рук. Я как раз несу ее к столу, и горячая жидкость выплескивается на нежный треугольник кожи между большим и указательным пальцами:
– Ай!
Сую ладонь под кран, наблюдаю за тем, как вода обволакивает руку. Какое-то время я вижу и осознаю только это – воду и собственную кожу… Потом вспоминаются волосы той девушки, их гладкость, их шелковистость.
– К телу? Нет, тело я не трогала. – Я оборачиваюсь. Он смотрит на меня.
– Вы ее знали?
– Нет. – Я глубоко вдыхаю, отряхиваю руку. Наваждение прошло. – Я ведь вам уже говорила, инспектор, что никогда ее раньше не видела. Вам удалось выяснить, кто она такая?
– Пока что нет. Нет.
Я сажусь напротив Периваля на приставленную к столу скамейку, спиной к саду. И он приступает к опросу – к «легкой беседе». Предлагает бегло рассказать, как все было. Ничего не записывает. Понятно, что разговор неофициальный, но мне кажется, будто каждое мое слово взвешивается, каждый жест оценивается. У диалога есть свои правила: тот, кто слушает, должен смотреть на того, кто говорит; говорящему же можно смотреть в сторону. Инспектор уголовной полиции Периваль правилам этим подчиняться не желает, и из нас двоих именно я не отрываю от него взгляда. Но стоит мне замолчать, его глаза тут же в меня впиваются. И я теряюсь. Запрокидываю голову, собираю волосы в хвост, пытаюсь их закрутить, чтобы не мешали, – все это выглядит ужасно неестественно. Будто я хочу создать видимость спокойствия и уравновешенности. Прячу ладони в рукава джемпера, но скованность не проходит. Уж лучше застыть и не ерзать – именно такой совет мы даем нашим гостям в студии. Если по-другому никак, посидите сложа руки. Шею обдает жаром. Когда мой рассказ подходит к концу – все это слово в слово сегодня утром уже записывала констебль Морроу, – я признаюсь Перивалю, что рядом с ним почему-то чувствую себя виноватой, хочется оправдываться. Вот так же, бывает, невольно съеживаешься, когда минуешь охрану или фейсконтроль в дверях дорогого магазина.
– А что, частенько приходится?
– Что приходится?
– Бродить по дорогим магазинам.
Я игриво шлепаю его по руке. Какая неловкость… Короткие рукава рубашки инспектора открывают бледную, покрытую темными тонкими волосами кожу. Периваль смотрит на мои пунцовые ногти.
– «Исступление», лак «Опи», – отдергиваю я назад ладонь. – Так надо было для работы.
Он усмехается.
– Вы бы попили чаю. Увы, больше не знаю, чем помочь. Жаль, что я ничего стоящего не видела. Похоже, ваша поездка ко мне себя не оправдала. Бедная девушка…
– У меня такого не бывает – чтобы поездка себя не оправдала.
Ну конечно! Некоторые способны подняться в собственных глазах, лишь намекнув собеседнику на его ничтожность. Периваль напоминает моего бывшего шефа из «Панорамы», я тогда работала стажером. Колин Синклер – выпендрежные кожаные штаны и красный малютка «Сузуки-125».
– Ну-ну… Без комментариев, – многозначительно заявлял он в ответ на любое замечание, даже самое недвусмысленное и бесспорное.
Или когда у меня опаздывал поезд.
– Я вам верю. Но я – один на миллион.
Его страсть выискивать в человеке хоть самую незначительную слабину или червоточинку, в которую можно вцепиться зубами; видеть во всем только подтверждение своих идей и мнений – была сродни помешательству. Вот и этот полицейский, похоже, такой же.
Еще и тело… Неужели оно до сих пор в парке?
– Она еще там? В лесочке? Или уже нет? Понятия не имею, что происходит в таких случаях. – Я постукиваю по деревянному столу. – К счастью.
Он трет лицо:
– Тело мы забрали. На вскрытие.
– Вы, в смысле КОМП, что-нибудь нашли? Хоть что-нибудь, какую-нибудь подсказку… Это ограбление? Или изнасилование? Случайное убийство? Или что, маньяк? Нам начинать бояться? Простите, что я все это спрашиваю, но было бы легче… знать. – Неожиданно для себя понимаю, что вот-вот расплачусь.
– Надо подождать, – вполне миролюбиво отзывается Периваль. – Чуть позже будем знать больше. Мой девиз – принцип трех «П». Прочь все домыслы. Позабудь о доверии. Проверяй все. Я сообщу. Обязательно.
– Я так понимаю, о самоудушении речь не идет?
– Даже если следовать правилу «Прочь все домыслы», все равно самоудушение можно исключить.
– Удивительно, до смерти Майкла Хатченса о таком никто даже и не слышал, а теперь это первое, что приходит в голову. «А-а, самоудушение», – никто даже не удивляется. Но все равно это ведь дикость – сексуально возбуждаться от того, что тебя придушили… – Когда я нервничаю, тараторю жуткие глупости. Инспектор смотрит на меня, словно на яркую полосатую рыбку в аквариуме, без особого восторга, но и без отвращения. – Вы так и не знаете, кто она такая? Что, ни мобильника, ни кошелька?…
– Нет. – Демонстративный тяжелый вздох. Может, не такой уж Периваль и ужасный. – На данный момент не знаем ничего.
Мне вдруг становится очень горько:
– Вы, наверное, к такому привыкли…
– Не особенно.
– Что ж, уверена, вы сделаете все наилучшим образом, – невпопад заявляю я.
– Может, вы вспомнили что-нибудь еще?
Память вдруг окатывает меня, словно ледяная волна.
– Странный запах… Похож… Может, это бред, но он похож на отбеливатель…
Кивает:
– Я заметил. Патологоанатом проверит.
– А глаза? Можно спросить? Они были такие… будто восковые… – Слова почему-то полились из меня рекой, как из Милли, когда она пересмотрит «АйКарли».
– Конъюнктива. Говорит не о причине, а о времени смерти. Когда давление за глазными яблоками падает, они размягчаются. Становятся бледными, тусклыми и мутными.
– Из них уходит свет…
– Вот именно.
Я смотрю на часы. С минуты на минуту привезут Милли, и я была бы не против, чтобы Периваль до ее возвращения ушел. Мне нужно собраться с мыслями, чтобы решить, как ей сказать. И надо позвонить Филиппу. Я до сих пор этого не сделала, ужас! Когда умирала мама, я звонила ему каждый день. То, что я не сообщила ничего Филиппу, вызывает у меня странное тревожное чувство. Вот и еще одно доказательство – неужели мне до сих пор мало?! – выросшей между нами стены. Я поднимаюсь со скамейки, беру чашку инспектора и закатываю рукава – демонстрирую свои хозяйственные намерения. Руки изнутри в царапинах и ссадинах, на сгибе локтя мелкая россыпь запекшейся крови. И еще у меня пропал браслет. Тот самый браслет, который Филипп подарил мне на день рождения. Наверное, обронила. Впрочем, такое полицейскому неинтересно. Я потираю запястья:
– Кусты. Я сквозь них пробиралась и даже не заметила… Хорошо, что на съемках на мне было платье с длинным рукавом, а не то зрители забросали бы меня литературой по членовредительству. Будьте снисходительны, – добавляю я с американским акцентом (с чего вдруг?!). – Эта беда оставила на мне шрамы… В прямом смысле!
К счастью, он, похоже, пропустил мою бредовую реплику мимо ушей. Надевает куртку. Манжеты засалены, да и внизу спереди, там, где непослушная молния соединяет разрез куртки, тоже грязные следы от пальцев.
– Мне нужен образец вашей ДНК для анализа, – произносит он. – И знаете, чем вы еще могли бы помочь? Дайте нам кроссовки, в которых вы утром бегали. Сравним следы.
– Хорошо.
Порывшись во внутреннем кармане, он извлекает оттуда полиэтиленовый пакет и ватную палочку. Дальше следует череда поспешных и даже забавных в своей унизительности действий: я открываю рот, распространяя вокруг легкий аромат лимона с имбирем; Периваль тычет туда ватной палочкой; извлекает ее и швыряет в пакет; пакет плотно закрывается и водворяется назад во внутренний карман. Я почти бегом вылетаю из кухни и мчусь наверх, с чувством впечатываясь в каждую ступеньку. Смешно. Так значит, все это время пакетик был у него и выжидал. Мне вспоминаются мальчишки из моего подросткового йовилского прошлого, их бессменные презервативы в заднем кармане – со стершейся фольгой, но всегда в наличии.
Очутившись в спальне, подхожу к туалетному столику. Нервы натянуты как струна, и я безмолвно ору на свое отражение в зеркале. Хватаю из стенного шкафа кроссовки, бегу назад вниз. Из расположенной на площадке между этажами комнаты, где обитает Марта, несется музыка – долбящий электронный звук. Басов, на мой взгляд, многовато.
Инспектор Периваль переместился в комнату справа от входной двери, зашел туда без приглашения, словно он здесь хозяин. Мы снесли стену между двумя помещениями, и получилось единое пространство, нежно-кремовое и помпезное, этакая выставка роскоши – стеклянные кофейные столики, мягкие диваны, в которых запросто можно утонуть, пышные подушки. И этим музеем мы, конечно же, никогда не пользуемся. А теперь здесь стоит полицейский и разглядывает выставленные над камином фотографии в рамочках.
Периваль берет с полки один из снимков. Я узнаю его даже с порога. Мы с Филиппом в день свадьбы. Я смеюсь в камеру, он прижимает меня к себе, обхватив за талию. Возмутительно юный Филипп в мешковатом костюме, купленном на благотворительной распродаже, – растрепанные темные волосы, удивленно распахнутые глаза. На мне белое платье из жатого вечно наэлектризованного полиэстера; тогда это был последний писк моды. От стирки ткань садилась, и ее растягивали утюгом, придавая нужную форму. Лондон, район Челси. Я стою, неудобно скособочившись, словно стараясь ужаться и втиснуться в кадр, и кажется, вот-вот свалюсь со ступенек ратуши. Помню, я все время думала: «Даже не верится, что он выбрал меня! Женился на мне!» Свадьбу мы отпраздновали в пабе, и все выходные провели в своей квартире. Голышом. Ведь мы были свежеиспеченными молодоженами да и свежеиспеченными знакомыми по большому счету тоже – встретились всего полгода назад, – и в те дни все никак не могли друг другом насытиться…
Инспектор показывает мне фотографию, и я с трудом удерживаюсь от внезапного искушения выхватить ее, силой выдрать у него из рук. Говорю что-то о том, какие мы тут молодые, а у Периваля почему-то странный вид, будто он привидение увидел.
– Это только мне?… – бросает он.
– Что – только вам?
Он трясет головой, словно избавляясь от наваждения:
– Извините. Ничего. Просто…
Я беру снимок, делаю вид, что его разглядываю, а потом водружаю обратно на каминную полку. Эта картинка в рамке вызывает у меня грусть… Медлю, поправляя ее и добиваясь симметрии с фотографией Милли-гимнастки.
– Ну, я думаю, мы с вами еще свяжемся, – объявляет Периваль.
– Да? А, вы о помощи жертвам преступлений. Понимаю.
– Помощь жертвам?
– Когда мы ездили в кино в «Синеворлд», у меня из сумочки стянули мобильный телефон. И к нам приезжала дама из полиции, озабоченная моим душевным состоянием. Весьма навязчивая. Вот я и подумала, что тем, кто нашел мертвое тело, положено предлагать психологическую помощь. Или нет?
– По-моему, настоящая жертва этого преступления не в том положении, чтобы предлагать ей психологическую помощь, даже самую навязчивую.
Осуждает. Может, он и прав, только вот интересно, представляет ли Периваль, каково это – быть самым обычным человеком и вдруг наткнуться на мертвое тело. Какой это кошмар…
– В вашем замечании полно аллитераций, – сообщаю я.
– Скорее, взрывных согласных. «П» – это взрывной согласный.
Мы с сомнением разглядываем друг друга, словно две столкнувшиеся неведомые зверюшки.
– Мне психологическая поддержка вообще-то не нужна. Я сильнее, чем кажется.
Он все еще у камина, стоит в глубокой задумчивости. На улице хлопает дверца машины, доносятся жизнерадостные тоненькие детские голоса. Не успела. Не выставила его вовремя.
– Просто невероятно, – вдруг выдает он, – до чего же вы похожи! Вы на этом фото – и та девочка.
Он кивает в сторону окна, но я понимаю, что речь идет вовсе не о моей дочери, чей топот уже раздается на ступеньках.
– Просто мы обе рыжие. – Я отбрасываю волосы назад, чтобы скрыть растерянность. – Но она была моложе. И… ниже.
Потянув вверх замусоленную «собачку», Периваль застегивает куртку. Сует руки в карманы и направляется к выходу. Туфли вминают пастельный ковровый ворс. Остановившись в дверях, он изрекает нечто странное:
– «Злое дело родит тревогу злую». Уильям Шекспир.
– Теперь еще и поэзия… Вы сильны не только внешностью.
– Я хочу сказать – будьте осторожны. Только и всего. Будьте осторожны.
Суббота
Я открываю глаза. Филипп лежит рядом, крепко спит. Неподвижное, безмолвное забытье, равномерное дыхание. Единственный признак того, что он жив – слабый трепет пушинки на подушке у его губ. Никогда не встречала людей, умеющих так глубоко спать. И так же мгновенно просыпаться. Филипп – исключение. Наверное, это талант, дар. Минувшей ночью в два часа ему позвонили. Он уселся, прямой, будто палку проглотил, и десять минут обсуждал конвертируемые облигации, выстреливая в трубку цифрами, словно игральный автомат – монетами. Потом нажал «отбой», рухнул на подушку и сразу провалился в сон. Вы бы даже не успели произнести «диверсификационный рост», а он уже отключился. Меня, по-моему, даже не заметил. А я притворилась спящей.
Когда я вчера вечером позвонила Филиппу, он пообещал, что отменит ужин в «Зуме» и приедет пораньше. Но в этот раз подкачала я. На меня обрушилась жуткая усталость, такое же сильное изнеможение – разламывающее голову на куски, лишающее мир привычной резкости, – как это было после маминых похорон. И я уснула еще до возвращения мужа. Причем трижды. Сначала – во время чтения, рядом с Милли. Мы обе любим книжку «Ласточки и амазонки» Артура Рэнсома, но в ней столько мореплавания… Сухопутного жителя эти длинные описания мастерски убаюкивают. Когда я наконец выпуталась из пушистого розового кролика, мягкого одеяла, маленького теплого тельца и добралась до ванной, сон сморил меня прямо в благоухающей аромамаслом воде. Чудодейственную добавку вручила мне Клара после маминой смерти. «Полная релаксация», пообещала подруга, заменит таблетку снотворного или большой бокал вина (что не помешало мне все-таки пару этих самых бокалов осушить). Окончательно я покорилась усталости уже в постели, свернувшись калачиком и не успев скинуть с ног влажное полотенце.
И вот утро. Вчерашняя мигрень – с жутким лязгом перекатывающийся внутри головы шар для боулинга – никуда не делась. Немного помучившись, я зарываюсь щекой в подушку, пытаясь удержать этот шар где-нибудь в одном месте, и рассматриваю Филиппа. Он старше меня на два года, но выглядит моложе – ну где же справедливость?! Может, дело в густой шевелюре? Хотя серебристых прядей на висках уже и не сосчитать. С такого близкого расстояния хорошо видны расширенные поры на крыльях носа; избежавшие пинцета крохотные волоски в ноздрях. Выдергивая волосинку, он чихает, громко и со вкусом; а если рядом я, сопровождает каждое «аааааапчхи!» взмахом невидимой дирижерской палочки. Он всегда умел посмеяться над собой – забавные ужимки и гримасы, самоироничные и одновременно такие милые, – хотя сейчас мне уже трудно вспомнить, когда он дурачился в последний раз. Кожа темновата для ранней весны… Видимо, обветрилась во время поездки в Тернберри: вырвался туда на сутки поиграть с сотрудниками в гольф. Просто удивительно, какая пропасть между людьми может вырасти из-за обычного загара…
Мы с Филиппом толком не виделись со среды, с того «романтического свидания». Идею я позаимствовала из журнала, валявшегося в зеленой комнате: «отнеситесь к мероприятию серьезно», «обговорите все подробно»… Я знаю, сумасшедший цейтнот бывает у каждого – когда дни, недели, порой даже месяцы пролетают галопом, и ты вдруг понимаешь, как же давно не общался со своими близкими по-человечески. Кульминацией счастья стал для нас, пожалуй, мой прошлогодний день рождения в июне. Муж подарил мне браслет: изящное сплетение дымчатых нитей, серебряные шарики; тот самый браслет, который я потеряла. Филипп сам застегнул украшение – склоненная голова, теплое дыхание на моем запястье. Я, он и Милли; пицца, смех, бутылка вина и даже – боже правый! – секс. А вот потом… Сколько бы ни прокручивала я в голове нашу дальнейшую жизнь, памяти не за что зацепиться. Август… Сентябрь… Филипп отдалился, замкнулся в себе. Его работа, финансовый рынок, мамина болезнь, мои собственные потерянность и опустошенность… Если очень постараться, оправдания можно найти всегда.
Так что я решительно внесла среду в домашний ежедневник – большими красными буквами, даже подчеркнула! Мы отправились в «Чез-Брюс». (Филипп однажды пошутил, мол, до чего же удобно, когда поблизости есть мишленовский ресторанчик. Как я тогда смеялась! И ответила, что во времена моей юности даже китайское рагу «Веста» из коробочки было неслыханным лакомством.) Но корнуоллская сайда и гороховые тортеллини не смогли спасти вечер. Грибы trompette на гарнир, нарезанное тонкими ароматными ломтиками полупрозрачное сало lardo di Colonnata… Кто-нибудь другой наверняка сумел бы оценить их по достоинству. Филипп же был настолько увлечен своим смартфоном, что к блюдам даже не притронулся. А я лишь неловко поковырялась в тарелке, сочувствуя официантам и жалея о том, что не захватила книгу.
И зачем я только упомянула о Брайтоне? Видела же, что Филипп совсем не в том настроении.
– Подумаешь, годовщина свадьбы, Габи, – отмахнулся он. – Не юбилей же! Давай отложим. Съездим в другой раз, когда дела немного уладятся.
А они никогда не улаживаются, в том-то и беда. Работа, работа… Даже махать клюшкой для гольфа где-то на побережье залива Ферт-оф-Клайд – и то работа!
…Лежа в постели рядом с мужем, пускаюсь в жаркий внутренний монолог: с ума я сойду, дожидаясь, пока «дела немного уладятся»! Меня уже отправят в дом престарелых, а я все буду с надеждой бормотать: «Когда дела немного уладятся»…
Сдерживаю тяжелый вздох – муж открывает глаза. Какую-то долю секунды, пока мозг окончательно просыпается, Филипп пристально смотрит на меня. Миг – и его взгляд ускользает. Он приподнимается на локте и выдыхает мне в макушку:
– Габи… Габи… ну и дела творятся… Просто не верится…
Свободная рука притягивает меня за плечи, подбородок упирается мне в голову, и я зарываюсь лицом в шею мужа. Молча перевариваю чувство несправедливой обиды: «Мне было без тебя так плохо, а ты… Где же ты был?» Пижама Филиппа пахнет базиликом и лаймом. С каких это пор он стал укладываться в постель одетым?! Ах, да, с тех самых, когда пижаму подарили его родители (боже, а ведь я им так и не перезвонила!) – легчайший хлопок, безобидная клетка, ярлычок дорогого магазина. Родители – это святое, и все же… шальной, не терпящий ограничений Филипп, за которого я когда-то вышла замуж, – и уютная респектабельная пижама?
Я тычусь носом в нежную впадинку между ключицей и шеей – это даже не поцелуй, лишь легкое прикосновение губ… если вдруг его отвергнут, будет не так уж и стыдно. Какое крепкое тело под одеждой… Одна пуговица расстегнулась. Как же хочется запустить руку под рубашку, ощутить обнаженную кожу на груди!.. Он отстраняется, в голосе – улыбка:
– Тебе нужен чай! Чай и длинное утро в постели. Я принесу бумаги.
– Милли уже наверняка встала, – поколебавшись, говорю я. – И смотрит телевизор.
– Впихну в нее печеньки и вернусь. Хочу, чтобы ты мне все рассказала.
Чмокает меня в макушку и поднимается с кровати. Несмотря на обещание, вернется он не так уж скоро – вряд ли упустит возможность подраться с боксерской грушей или сбросить фунт-другой на беговой дорожке.
У Филиппа очень незаурядное мышление: он может со скоростью звука жонглировать длинными рядами цифр, может без малейшего труда родить сложную инвестиционную мультистратегию из массива количественных параметров (думаете, я знаю, что это такое? понятия не имею). Для американских инвесторов, собственников компании, сам Филипп и есть их хеджинговый фонд – уж это-то я знаю точно! Я всегда понимала, что его разум устроен совсем не так, как мой. Он патологически хладнокровен, дотошен и вдумчив. Никаких опрометчивых решений, волнений, приступов ярости. Но при этом легко может на чем-то зациклиться. Пит Андерсон, вместе с которым Филипп работал в «Номуре», как-то сказал:
– Филипп живет и дышит чужими деньгами.
Тогда я пришла в ужас – жизнь, в которой все сводится лишь к фунтам и пенсам, притом даже не его собственным! – но с тех пор немало над этим размышляла. Все-таки Пит был не совсем прав. Может, синапсы в мозгу моего мужа и возбуждаются в ответ на рыночные изменения, но вот его тело… У тела своя жизнь, свои собственные мании и наваждения, свои страсти, своя любовь. Когда-то роль «амура» отводилась плаванию в море, покорению высоких холмов, мне… Но со временем его телесные стремления измельчали, стали более рафинированными. Вот и сейчас Филиппа поработили две новые страсти: изготовленный лично для него велосипед «Парли Зет-2» (верхняя труба рамы… задняя вилка… можете себе представить, сколько я про это наслушалась на этапе разработки?) и собранный по заказу спорткомплекс, занимающий половину нашего подвала. Двуличный негодник…
– Ну вот и я, дорогая. Чай и «Таймс».
Я, похоже, задремала. Филипп – на талии полотенце – стоит в дверном проеме. Растущие на груди волосы очертаниями напоминают большое перо. Он протягивает мне белую чашку; фарфор успел остыть. Скорее всего, муж еще до того, как спустился в спортзал, залил чайный пакетик кипятком, а вынул его уже на обратном пути. «Дорогая»… Надо же, как по-взрослому! С каких это пор я – «дорогая»? Отчего ласковое слово так коробит? Разве милые нежности могут звучать настолько отстраненно?
– Спасибо. – Я шумно прихлебываю. – Марту видел?
Он морщит нос и становится похож на школьника.
– Мимо ее комнаты я промчался галопом. На всякий пожарный. Вдруг она там голая? Не дай бог даже одним глазком глянуть! Такое зрелище кого угодно подкосит.
– Не будь злюкой!
– В спортзале опять свет пропал. Вызовешь электрика?
– Конечно.
Всеми хозяйственными вопросами занимаюсь я. Разрешите представиться – дежурная кастелянша.
Он пристраивается на краешке кровати:
– Ты выглядишь усталой. Просто выжатый лимон. Еще и на работу поехала после такого? Бедные рученьки… – Он разворачивает мои руки, пальцы пробегают по царапинам.
– Там та-акие заросли. Ежевика и всякие колючки…
– Испугалась?
– Не то слово.
И я рассказываю, что произошло. Снова прокручиваю в памяти вчерашнее утро. От разговора становится легче. У каждого слова – свой нрав, своя динамика. Вспоминаю не столько ужас от находки, сколько последовательность событий. Мне важно, как я описывала их раньше, отличается ли мой рассказ от первоначальной истории. О самом теле говорю мало, зато расписываю, как едва не выронила мобильник, пока нашаривала кнопки – думаю, его это позабавит. Разыгрываю комедию под названием «Констебль Морроу и сэндвич с беконом». Мы всегда так делали – старались разглядеть комичное в ужасном, выискивали смешное. Болтаю о звонке в «999», о своей бестолковости – дала им в качестве ориентира Тоуст-Рэк, как какой-нибудь агент по недвижимости. Он фыркает. Да-да, точно – сдавленное хихикание, растерянный отрывистый «бульк». И прыскает снова – когда я сознаюсь, что решила, будто Морроу хотела заполучить мой автограф. Хотя, если честно, я надеялась, что сумею рассмешить его по-настоящему.
– Господи! – Филипп трясет головой. – С ума сойти. Какой кошмар!
Пара вопросов: кем она была? что говорит полиция?
– Бедные родители, – заключает он. – Девочка, видимо, нездешняя?
Я описывала «девушку», а не «женщину», вот он и вообразил себе подростка, юную девочку. Похоже, решил, что она сбежала из дому. Можно было бы все прояснить, но мои приключения мужу уже наскучили. Мысли его перескочили на наш район, меры безопасности, всплеск преступности. С Рождества в округе случилось четыре ограбления. Родительский комитет из школы Милли по электронной почте старательно оповещает нас о каждом происшествии, нагнетает страху: сорванные среди белого дня с какой-то женщины браслеты и кольца; раскуроченные ломиком двери черного хода; приставания к няням; притаившиеся в переулках между домами незнакомцы в капюшонах. И всякий раз, слыша подобные истории, я втайне надеюсь, что Филипп мотает их на ус. Я мечтаю о переезде в сельский Суффолк, в наш загородный домик в Пизенхолле – устроить Милли в деревенскую школу, завести цыплят и пчел, ездить верхом, закатывать варенье. Филипп же отмахнулся от меня «пятилетним планом». Что толку рассуждать о нашей округе, тревожиться и волноваться по поводу возросшей лондонской преступности? Муж ведь прекрасно знает мое мнение на этот счет. Да и вообще – вообще! – неужели того, что я пережила, недостаточно, чтобы тут же сорваться с места и увезти нас отсюда?
Беспечно и легко – так легко, будто с моих губ не слова слетают, а льется тончайший лунный свет, – я нараспев озвучиваю свои мысли:
– Пизенхолл. В Пизенхолле очень низкий уровень убийств на душу населения.
Филипп ласково улыбается, но не отвечает. Он уже принялся одеваться: свободные хлопчатобумажные брюки, батистовая рубашка. Я откидываю одеяло и распахиваю дверцы стенного шкафа – целая гардеробная комната, особый заказ, фирма-специалист, готовая уладить проблемы с хранением всего и вся. Наш дом битком набит вещами, произведенными на-чем-нибудь-специализирующимися фирмами. Наверное, существует контора, готовая уладить и наши проблемы в сексуальной жизни. Даже представить страшно, что бы они сконструировали.
– Целое море нарядов, – бросаю я через плечо. – Мне столько не нужно. – Завуалированное продолжение так и не состоявшегося разговора о Пизенхолле.
– А обуви сколько? – Филипп сражается с темно-серым кашемировым джемпером. – На половине наверняка даже ценники не сняты.
– Я не виновата. Это все для работы. – Я втискиваюсь в повседневные джинсы. Он не отвечает, и я прибавляю: – Положение обязывает, иначе я бы уже давно все раздала или выкинула.
Когда мы познакомились – на свадьбе нынче уже разведенных друзей из колледжа, – я красовалась в платье, позаимствованном у Клары. В нашей первой квартире гардероб отсутствовал вообще – мы счастливо обходились лишь одной вешалкой на двоих. Я тогда работала корреспондентом, а Филипп бухгалтером-стажером. Но я была счастлива. Выходные мы обычно проводили в постели, набивая животы гренками. Не бегали по магазинам. Читали книги. Разговаривали. А потом Филипп стал зарабатывать деньги. Сначала – просто деньги, потом – Приличные деньги, еще позже – Большие деньги. И тогда что-то такое случилось, совсем непонятное, не с деньгами, а с самим Филиппом: зарабатывание превратилось в западню, ловушку, в наркотик…
Кедровые ставни – сомкнутый ряд планок – послушно открываются, подчиняясь пульту дистанционного управления в руках мужа. Пульт – очередная его игрушка. Света особенно не прибавилось. Еще одно грязно-серое утро… Я наблюдаю, как присевший на угол кровати Филипп шнурует простые темно-синие мокасины – кожа и замша, лично купил в «Прада».
Пытаюсь нарисовать в воображении идиллическую картинку – мы в старости. Не получается.
Сегодня мы изображаем нормальную семью. Я изображаю. Прочла все газеты, но информация из них пока отправляется в мысленный ящичек с пометкой «Позже». Стараюсь не думать о работе – даже когда в субботнем обзоре «Таймс» натыкаюсь на сообщение о том, что Стэн приглашен в «Топ гир». Я умею быть разной. Мой мозг – как коровий желудок; если постараться, я могу ненужную часть захлопнуть и переключиться. Этому фокусу я научилась в детстве. И он помогал довести любое дело до конца, какой бы дурдом вокруг меня ни творился. Даже сейчас в напряженные моменты я мысленно представляю страницы школьных учебников: ньюфилдская «Биология» с дополнениями и исправлениями, лонгмановская «История двадцатого столетия» – покорившись силе детского упорства, они намертво отпечатались на моей сетчатке.
На улице пасмурно, но дождя нет, и когда Милли возвращается с занятий балетом, мы с ней спускаемся в подвал, оттаскиваем Филиппа от его драгоценных мониторов (какие-то сводные таблицы, новости финансового рынка от «Блумберг») и впихиваем в непромокаемый плащ. Он тщетно отбивается:
– Милли, малышка, «Самсунг» обваливается, неужели тебе все равно?
Но дочка вкладывает свою маленькую ладошку ему в руку и тянет прочь. А Филипп сегодня почему-то сопротивляется вяло.
Наш дом стоит на углу, а через дорогу, по диагонали, начинается узкий переулок, ведущий в парк. Ухватив нас обоих за руки, Милли – вязаные гамаши, полосатые резиновые сапожки – скачет по тротуару, словно пародия на восьмилетнюю девчушку. Моя дочь – олицетворение самых смелых мечтаний. Концентрированный сгусток энергии и жизнерадостности, она обожает школу и гимнастику, балет, хоккей и плавание. Поет в мини-хоре и играет в драмкружке. Любит своих друзей и семью. Она – чистый идеал ребенка, воплотивший в себе самое лучшее, что есть в нас обоих. Мама Филиппа говорит, Милли – это наше благословение, «почетная грамота, выданная за некое ваше доброе деяние». Тогда эту почетную грамоту заслуживаем не только мы, но и наша прежняя няня, Робин, сочетавшая в себе завидные запасы терпения с энергией и австралийским добродушием.
Мы переходим дорогу, Милли спотыкается и, вместо того, чтобы насупиться и надуться на злополучный бордюр – как среагировало бы большинство детей, – хихикает.
– У-у-упс! – Ореховые глазищи распахиваются в забавном изумлении: «Чуть не чебурахнулась!»
Сердце у меня сжимается, и я покрепче перехватываю родную ладошку. Прописные истины не врут: ради своей дочери я могла бы убить. Да, могла бы.
Мне странно очутиться в парке снова, как-то… неправильно. Не думала, что это чувство опять накроет, но – вот оно… На первый взгляд никаких признаков случившегося несчастья не заметно, парк живет обычной жизнью: путающиеся в собственных неокрепших ножках карапузы изображают игру в футбол; возле лесенки на матах – любители пилатеса; по аллеям группками бродят укутанные в пальто взрослые; носится на велосипедах полураздетая детвора…
Огибая газон, мы по дорожке направляемся к детской площадке. Я не отрываю глаз от земли – вдруг отыщется мой браслет? Вдруг, когда я бегала, он упал где-то здесь? Сообщаю Филиппу, что компания его университетских друзей собирается как-нибудь в выходные покататься на лыжах – звонил Родж, приглашал. Муж бормочет что-то нечленораздельно себе под нос, и мне потом придется эти невразумительные звуки оформить во внятный ответ, не то этот самый Родж решит, что его послание не дошло до адресата. Складываю ладони чашечкой, демонстративно прикрываю ими Миллины уши и напоминаю Филиппу, что завтра мы собирались повторно отпраздновать ее «день рождения»:
– Никаких гостей.
Я испекла еще один торт. Будут только его родители, подъедут пораньше и заберут нас, отправимся куда-нибудь пообедать. На следующей неделе они отбывают в морской круиз по выдающимся местам античного мира. Я всю неделю волновалась, что не согласовала эти планы с Филиппом – ему по воскресеньям порой нужно время для себя лично, – но он только пожимает плечами:
– Хорошо. – Будто ему абсолютно все равно.
Я пытаюсь отвлечься, но вот уже изгиб дорожки, дальше вход в кафе, теннисные корты и за ними – лесок. Тот самый лесок. Полиция не упускает ничего – весь участок оцеплен красно-белой пластиковой лентой; она тянется от дерева к столбу, от столба к ограде, извиваясь, трепещется на ветру, словно нелепый флаг. Владельцы кафе, предвидя убыточные выходные, установили кофейную палатку прямо на траве по эту сторону барьера. Да что ж такое? – меня вдруг начинает трясти, дыхание сбивается. Будто приступ клаустрофобии – дикое желание прорвать очерченную лентой границу, продраться туда, где лежит тело…
Милли замечает приятеля, бежит к детской площадке. Я, пошатываясь, делаю шаг к Филиппу, но ему кто-то звонит. Слушая, он склоняет голову, смотрит в землю; облаченная в «Прада» нога ворошит пучок травы.
На площадке полно знакомых лиц – родители из школы, соседи. Многие меня замечают и тут же отводят взгляд. Мне нелегко завязывать дружбу. Я постоянно занята, не бываю в нужное время в нужных местах, а если и бываю – например, успеваю забрать Милли из школы, – погружена в свои мысли. Мало того, Филипп далеко не в восторге от новых знакомств. У него, видите ли, нет времени напрягаться, тратить силы на всякие разговоры «а-расскажите-ка-мне-о-себе», ужины, вечеринки… У нас и так друзей достаточно, говорит он. Возможно. Только где они сейчас, эти мифические друзья? Если бы Милли до сих пор нужно было раскачивать на качелях или подстраховывать на горке! Тогда я знала бы, куда деть руки, знала бы, на что опереться… Но дочурка вполне самостоятельно резвится в кустах с ватагой ребятишек. К восьми годам лесенки приедаются, я понимаю. Разве лазанье по металлическим палкам-рейкам может сравниться с возможностью повисеть на настоящем дереве? Я сажусь на лавку, упираюсь локтями в колени и пытаюсь придать себе бодрый вид.
Встретившись с кем-нибудь глазами, улыбаюсь. Завязываю шнурки маленькой девочке. Рядом шлепается в лужу малыш, я выуживаю его оттуда и ставлю на ножки.
– Габи!
Ф-у-у-ух… Чувствую себя школьницей, которую на уроке физкультуры позвали в команду самой последней. Джуд Моррис, мама Миллиной одноклассницы. Я с ней не особенно близка, но она мне нравится. Мы познакомились пару месяцев назад. Джуд раньше была корпоративным юристом.
– А теперь, – говорит она, – всю свою энергию и знания трачу на порошковую краску, детские праздники и работу в родительском комитете. Я такая – скучная.
Я давно привыкла к издержкам славы, но с Джуд оказалось легко. Она не кинулась тут же расписывать, каким трогательным было мое последнее интервью (надеюсь, у нее хватает ума его вообще не читать). И не окатила напускной холодностью – мол, зазналась ты, Габи, пора бы спуститься с небес на землю.
Джуд усаживается рядом и возбужденно шепчет:
– Ну и дела! И где? Здесь! Вы наверняка уже слышали. Видели полицейское ограждение? Жуть. Я потрясена.
Мысль, что кто-нибудь еще может быть потрясен, мою голову не посещала.
– Да, знаю, – улыбаюсь я. – Прямо из ряда вон…
К нам нерешительно подходят две женщины. Обеих я помню – у Марго сынишка увлечен спортом, учится вместе с Милли; дочь Сьюзен – прирожденная актриса, я видела ее в драмкружке. Думаю, они тоже меня знают, но демонстративно обращаются только к Джуд. Просто с ней они лучше знакомы, уговариваю себя я, но при этом лезу из кожи вон, чтобы меня «пустили» в разговор. Приятные дамы, и мне хочется с ними подружиться.
Марго, опрятная немка с великолепными скулами, рассказывает Джуд, что слышала, будто бы тело в пятницу днем обнаружил какой-то мужчина, выгуливавший собаку:
– Кажется, собака вывалялась в крови, – кривится женщина.
– Нет! – восклицаю я.
– Точно, – наклоняется к Джуд Сьюзен. На шее у нее целая связка разноцветных тибетских шарфиков, она их поправляет, освобождая запутавшиеся волосы. – Мой пес вечно норовит вываляться в чем-нибудь мерзком. Дохлые крысы, лисья моча… Ему подойдет любая гадость!
– Ф-у-у-у! – вторю я.
Какое-то время их беседа вертится вокруг собачьих повадок. Затем Джуд упоминает самоудушение, кто-то еще предполагает проституцию. Марго, поджимая губки, сообщает – она слышала, что труп был голым.
– Ого! – вырывается у меня.
Я ни разу мысленно не употребила слово «труп». Такое категоричное, такое оторванное от жизни и человеческой природы… Мертвая плоть. Засуха. Конец. Голый труп, не имеющий никакого отношения к моим переживаниям, к проведенным рядом с девушкой минутам…
– Вот именно! – хором подтверждают они, наконец-то обратив на меня внимание.
– Неужели она была голой? – переспрашиваю я. – А что же случилось? Господи, с ума можно сойти, правда? Да еще прямо тут…
Марго смотрит на меня:
– Да, неожиданно… Мне всегда казалось, что такое случается только где-то далеко от нас.
– Может, хорошая встряска нам и не помешает. – Это уже Сьюзен. – Мы иногда такие самовлюбленные воображалы. Живем в своем придуманном мире…
– Точно, – соглашаюсь я. – Это как звонок будильника.
А Джуд добавляет:
– Потом второй…
– И третий, – вставляет Марго.
Мы хохочем.
Интересно, то, что я не рассказала им о своей роли в этой истории, – большой грех? Чем дольше они об этом болтают, чем сильнее выражают омерзение, чем острее становится их любопытство – тем сложнее мне признаться. Откровенничать надо было в самом начале, а теперь уже поздно. Я не сказала… почему?
В моей профессии достаточно даже легкого запашка дурной славы, чтобы вся карьера пошла под откос. Взять, например, моего коллегу Джона Лесли. Хотя доказательств изнасилования так и не нашли, вернуться на телевидение он больше не смог. У Стэна-супермена есть собственный агент, его личная медиамашина. Я легко обходилась без подобных излишеств и звездных замашек. Юридической стороной моих контрактов занимается Филипп, а у продюсерской компании отличный отдел рекламы. Этого всегда хватало, но теперь… Теперь мне не помешал бы умный совет. В голове мелькает паническая мысль – надо было связаться с Элисон Бретт, которая в «Добром утре» ведает связями с общественностью. И попросить инспектора Периваля молчать о том, что я замешана в деле, пусть бы обеспечил конфиденциальность…
Но сейчас мне, похоже, важнее не спасать репутацию, а быть здесь, слушать и не признаваться. О собственной карьере – доходит до меня – я беспокоюсь куда меньше, чем о мнении этих милых дам.
Я смотрю на Филиппа, он остановился у калитки, сиротливо застыл в неловкой позе. Наверное, гадает: «И как меня сюда занесло? Что я здесь делаю? Может, назад – к мониторам, к обвалу „Самсунга“?» Я украдкой за ним наблюдаю. Вот он замечает взобравшуюся высоко на дерево Милли, лицо его проясняется – и меня затопляет надежда. Я подымаюсь со скамейки, цепляю дочь за ноги и помогаю ей спуститься, придерживая маленькие резиновые сапожки, пока она карабкается вниз.
Джуд напоминает мне о школьном благотворительном аукционе, который состоится в апреле и где я обещала быть ведущей. Я прощаюсь с ними, как с настоящими подругами – могу я хоть на минутку выдать желаемое за действительное? – и наша троица как ни в чем не бывало продолжает свою семейную прогулку.
Опускаются сумерки, а я обнаруживаю за окном чужака. Он на противоположной стороне дороги, за машиной, так что разглядеть его целиком невозможно – лишь часть головы да рука, игра света и тени на стекле, когда он двигается, помутнение серебра, пятнистые блики на стали… Это не плод моего воображения. Я смотрю в окно гостиной, жду – шевельнется или нет? В последнее время я постоянно настороже, нервы взвинчены и чуть что трубят тревогу.
Моего сталкера так и не поймали. «Мой сталкер»… Звучит напыщенно… но я просто не знаю, как его по-другому назвать. Призрак? Разыгравшаяся фантазия? Ощущение чьего-то присутствия? Этим делом занимался констебль Эванс. Похоже, принять всерьез мой рассказ ему было трудновато. Однажды мне показалось, что у нас дома побывал кто-то чужой, я унюхала запах тошнотворного лосьона после бритья. Еще несколько раз чудилось, что за мной кто-то следит, идет чуть ли не по пятам. Но – да, это правда – реального человека я не видела ни разу. Лишь видения… Вопрос в «Твиттере» про Миллину простуду: «Как там малышка, поправилась?» Подарки: домашние тапочки; музыкальный диск (Бен Фолдс «Ты меня совсем не знаешь», Джо Джексон «Другой мир»); книга («Заветная точка „джи“: откровенный разговор о сексе и любви»).
– Может, кто-то просто за вами ухаживает, – предположил тогда полицейский, – хочет порадовать.
В ответ я поинтересовалась, случалось ли ему до дрожи бояться собственной почты или вздрагивать, если лязгнет ящик для писем.
«Твиттер» я забросила, и подарки стали редкими, нерегулярными.
– Иногда им просто надоедает, – прокомментировал этот факт констебль Эванс.
…Притаившись за ставнями справа от оконной ниши, я наблюдаю. Судя по росту, мужчина. Вполне может быть каким-нибудь курильщиком, которого выставили на улицу не желающие глотать дым домочадцы. Или агентом по недвижимости, поджидающим клиента. Или соседом, у которого захлопнулась дверь. Или – кем? Чего я боюсь?
Из кухни зовет Милли – она просто умирает от голода! Когда ужин?! А подкрепиться можно? Готовлю ей бутерброд и горячий шоколад. Оглядываюсь в поисках Филиппа – безрезультатно. Отсутствую я недолго, но, когда возвращаюсь к своему наблюдательному пункту, чужака уже нет.
Понедельник
Началось. Вчера меня разбудил телефонный звонок. Некий журналист, Джек Хейуорд, просил дать ему интервью.
– На тему?… – осторожно осведомилась я, стараясь по мере своих полупроснувшихся способностей соблюдать вежливость.
– Ну, на тему вашей печальной находки в парке: «столкновение двух миров» и все такое…
– Очень глубокая идея… Только в такую рань глубокие идеи обычно даются мне с трудом, – прошептала я. Выходит, я опоздала, и о моем участии уже известно. Полиция устроила пресс-конференцию? Или просто сообщила сведения «надежным источникам»? Неважно… Главное, информация просочилась. И теперь ничего не поделаешь. – Вы, видимо, хотите раскопать побольше гадостей о моем браке, супружеских изменах и подростковой булимии?
Джек Хейуорд рассмеялся. Хороший смех – смех, в свое время бывший с сигаретами на «ты», а теперь пытающийся «завязать».
– Смилуйтесь над бедными журналистами! – с чувством выдохнула трубка.
Я мягко извинилась, выразив уверенность, что он поймет.
– Можно, я оставлю вам свой номер? Вдруг вы передумаете, – попросил он.
– Не передумаю. – Но номер все-таки записала.
Позвонила домой специалисту по связям с прессой Элисон Бретт. Надеюсь, я ее не разбудила. Или она умеет сразу же включаться в работу, едва открыв глаза.
– Разговоров избегайте, – посоветовала она. – А вот если объявятся папарацци, пойдите им навстречу. Они тогда отцепятся. Немножко порисуйтесь. Знаю, приятного в этом мало, зато такие «повседневные снимки» могут неплохо поднять рейтинг. Что изображать, вы знаете: свободная, стильная, дружелюбная. «Своя», но в меру.
Ну, с этим-то я справлюсь. Я распахнула входную дверь, чтобы забрать воскресные газеты: «естественный» макияж (немного помады на губах), джинсы (которые и так уже были на мне). И пожалуйста, два фотографа, вполне типичные ребята – невысокие, коренастые, краснолицые – уже тут как тут. Увидев меня, загасили сигареты:
– Попозируйте нам, Габи!
– Ну же, Габи!
– Габи, улыбнитесь, не кисните!
Я немного потопталась на крыльце, сунув газеты под мышку. Потом сказала «спасибо» – папарацци этому всегда очень удивляются – и закрыла дверь.
Ну вот и все, с облегчением подумала я тогда. Но сегодня утром моя история заполонила, кажется, все газеты. В машине по дороге на работу я знакомлюсь с «Тайными страхами телезвезды Габи» и «Траурным покровом Габи». В заметках выложены почти все подробности моей находки и кое-какая информация о погибшей. Имени нет; лишь то, что она была полькой и, похоже, жила «неподалеку». Приводятся слова ее работодателя, чью скорбь ужали до размера газетной банальности: «Она была прекрасным человеком, и всем, кто имел к ней отношение, будет ее не хватать». Никаких фотографий, девушка точно фантом, ее словно нет. Зато есть я – стою на собственном крыльце, вся такая печальная, но решительная. Бред…
На одном из снимков за моей спиной в холле маячит темная фигура – Марта, не сразу доходит до меня.
Стив бросает взгляд в зеркало заднего вида:
– Вы как?
– Нормально. – Я без колебаний отправляю газеты на пол, под ноги. – Что там у гинеколога?
– Ничего серьезного. Полипы.
– Полип?
– Нет, полипы.
И мы оба почему-то смеемся.
Путь в комнату для совещаний преграждает Терри: мэр Борис Джонсон, обещавший порадовать нашу программу рассказом о проекте аэропорта в устье Темзы, свой приезд отменил, сославшись на диарею путешественника. И теперь, чтобы заткнуть дыру в эфире, Терри нужен взамен какой-нибудь крутой сюжет, что-нибудь «злободневное». Я обхожу ее и усаживаюсь за стол:
– Что еще у нас запланировано?
В комнате стоит напряженная тишина.
Дон сверяется с планшетом и перечисляет заготовки, которые я помню еще с пятницы: мастер-класс флирта от ведущего нового шоу про свидания; на кухне – Саймон Коуэлл и его фирменные шашлыки из ягненка; Инди с «Актуальными приложениями»; выплывшая из небытия Кейт Буш с новым альбомом («Это я. Я – Кэти, и я вернулась»); три хорошенькие актрисы из «Даунтонского аббатства» должны рассказать о… м-да, о «Даунтоне».
Так, пошевелим мозгами. Субботние газеты натолкнули меня на парочку идей. Выдающимися их, правда, не назовешь: взлет популярности флешмобов (выступление рок-хора из графства Беркшир в торговом центре Бейзингстока); дегустация кофе вслепую (теряющая клиентов и прибыль компания «Старбакс» разводит прохожих, предлагая им определить на вкус, в каком стаканчике налит дорогущий кофе).
Тишина сгущается. На меня никто не смотрит – кроме Терри и Стэна, вальяжно закинувшего ноги на стол.
– Тут такое дело… – начинает Терри, сдвигая назад на переносицу съехавшие очки в широкой оправе, стильные своей нестильностью. – Я вот подумала… Ну, ты понимаешь, что у нас в эти выходные главная новость? О чем мы хотим услышать?…
– Ты. – Стэн убирает ноги со стола. – Главная новость у нас – ты, душечка.
Что-то маловато у него в голосе самоуверенности. Видимо, лихорадочно пытается отыскать в этой истории выгоду для себя? Взвешивает все «за» и «против»? Может, его рекламный агент посоветовал Стэну самому засветиться в полицейском расследовании?
– Было бы здорово, – снова вступает Терри, – поведать зрителям о том кошмаре, который с тобой случился. Представь – ты обращаешься к камере напрямую, делишься своими чувствами… Можно пригласить психолога, усадить рядом на диван, пусть бы попутно комментировал, какие последствия могут быть у такого шока. Назовем сюжет «Моя травма» или как-то так.
Новенькая корреспондент Элис поднимает голову:
– Адам Филлипс сможет подъехать к десяти.
– Это не моя травма, – чеканю я. – Я просто нашла тело. И трагедия не моя. Я тут вообще ни при чем.
– Я о мертвой мало что знаю, – продолжает Терри. – Кто она была? Какая-то польская уборщица и по совместительству проститутка?
– Не знаю… – озадаченно моргаю я.
– Неважно. Я просто думаю, что в такую беду на ровном месте не вляпываются. Ее жизнь была очень далека от твоей… Она наверняка вращалась… – пожатие плеч, словно даже Терри понимает, насколько натянуты ее предположения, – в других кругах.
– Столкновение двух миров, – вспоминаю я недавно услышанную фразу.
– Вот-вот.
Она запускает пальцы в короткие, обесцвеченные на концах волосы, массирует макушку, словно тесто вымешивает. Привычное движение, нетерпеливый жест, означающий желание уладить все поскорее.
– Твое негодование из-за случившегося, – подсказывает Дон. – Раздели его со зрителями.
– Какое еще негодование?!
– Может, мы всего и не знаем, но это происшествие определенно потрясло средний класс в… – Терри, которую породил и выпестовал неблагополучный Хакни, пытается вспомнить, где же я обитаю. – Нью-Молдене, или где оно там случилось.
– Не думаю. – Мне хочется вступиться за Джуд, Марго и Сьюзен.
– Ну давай, – напирает она, словно упрашивает несговорчивого ребенка накинуть пальтишко. – Получится здорово. Нам нужна именно ты. Отличный сюжет!
– Мне все равно! – отрезаю я. Спокойно… спокойно… Чтобы справиться с волной паники, воскрешаю в памяти лонгмановскую хронологию Второй мировой войны. – Я так не могу. Уж лучше я вообще не буду участвовать в программе, чем использовать ее для саморекламы!
– Мой ужас… – Стэн имитирует низкий вибрирующий бас Дона Лафонтейна, «голоса Голливуда», озвучившего несметное количество трейлеров. А в нашем шоу недавно участвовал Редд Пеппер, британский вариант Лафонтейна. – Мое разбитое сердце…
Если бы я не заметила, как он ловит глазами взгляд Инди, наверное, смолчала бы. Красотка свернулась калачиком в кресле, поигрывая волосами и явно желая остаться в стороне. Стэн ей подмигивает. Ну все, достал! Может, при других обстоятельствах мне тоже было бы весело, но сейчас внутри меня просыпается мегера:
– Ужаса я не испытываю! И с сердцем тоже все в порядке! А вот несчастная женщина умерла! – Я почти кричу.
Общее замешательство, на меня никто не смотрит. Стэн глупо ухмыляется.
Меня спасает Дон, все это время возившаяся с ноутбуком. Довольный щелчок пальцами – и она сообщает, что мы можем по видеосвязи заполучить самую большую толстуху Британии, живущую в Тайн-Уире (та за последние четыре года ни разу не выходила из дому).
– Трансляция кормежки в прямом эфире, – провозглашает Стэн все тем же дурашливым голосом. Во время программы он, естественно, будет само сострадание.
Элис предлагает все-таки пригласить Адама Филлипса – пускай расскажет о психологической составляющей ожирения, – и борющаяся с тихой паникой Терри, кажется, наконец-то успокаивается. На сегодня меня пронесло, ну а завтра, если повезет, моя история уже устареет.
После совещания проверяю телефон – пять пропущенных звонков и куча сообщений. В том числе и от Джуд Моррис: «Да вы темная лошадка! Почему не сказали? Наверное, считаете нас с девочками полными дурами!» Дважды звонила Клара, один раз – Маргарет, мать Филиппа. Наша горячо любимая и далеко упорхнувшая няня Робин оставила голосовое послание: «Привет, дорогая. Батюшки, что там у вас происходит?! Вас, ребята, даже на минутку без присмотра бросить нельзя!»
Пока иду на макияж, набираю Клару, но она, видимо, занята – меня перебрасывает в голосовую почту. Тогда я звоню Джуд:
– Злитесь на меня за то, что я не сказала? Все непросто, я объясню…
Она отвечает, что нет, конечно, не злится. Я прошу прощения, уверяю, что я – самое раскаивающееся из всех раскаивающихся созданий (выражение, которым постоянно щеголяют Милли с подружками), – и она смеется:
– Только больше не врать!
В конце разговора я рискую:
– Будем дружить дальше? – Смелое заявление, учитывая, что до дружбы дело еще, в общем-то, не дошло.
Засовываю телефон в карман, и тут объявляется Стэн:
– Да уж! – выдыхает он в мою сторону противный коктейль из запахов чеснока и мяты. – Здорово сработано. Думаю, старушка, решение верное.
– Вот спасибо, старик.
– Но не взять пару выходных, чтобы немного восстановиться, – это глупо. Я знаю, ты справишься и никаких номеров не выкинешь. Все осилишь. Помню, ты продолжала работать, когда твоя мать… в общем… И когда у тебя ребенок родился… ты только две недели отпуска взяла… тогда, давно…
– В далеком туманном прошлом, – подхватываю я.
– Ну, мы же все с пониманием! Я Терри говорил – Инди жутко хочет попробовать себя в роли главной ведущей. Было бы интересно глянуть, как мы сработаемся. Я знаю, ты бесценный ветеран телевидения, но вдруг что, малышка с удовольствием тебя заменит.
– Так приятно, Стэн… – «Ветерана» оставим на потом. – Я тебе очень благодарна…
В машине по дороге домой набираю Робин. Она хочет немедленно узнать, что случилось, – мать Айана сегодня утром принесла «Мейл», и «мы все такие „Чего-о?!“». Но в жизни новоиспеченной мамочки день с утра до вечера – это ужасно долго. И теперь у нее во главе угла не приключившаяся со мной ерунда, а полная непредсказуемость биологических часов четырехмесячного карапуза. Сейчас Робин поглощена тем, как бы «нокаутнуть» малыша в сон до того, как на ужин явятся «сородичи» Айана.
– Знаешь, – делюсь я, – мне иногда не верится, что ты прожила здесь восемь лет. Разговариваешь так, будто только что явилась на метро из Хитроу со своим тяжеленным рюкзаком.
– И поймала удачу за хвост, ведь у эскалатора наверху меня поджидала ты!
– Робин, это мы поймали удачу за хвост…
Мне слышно, как хнычет и мучительно икает Чарли – малыш явно хочет спать, но понятия не имеет, как бы это осуществить.
– Ну давай уже, не тяни резину, – уговаривает Робин. Плач усиливается. – Ну же… Тебе надо поспать. А мне – приготовить дурацкий ужин!
– А помнишь, ты дала мне шикарный совет – укачивать ребенка сильно-сильно, прямо неистово. Не знаю, почему, но помогает. Постепенно их крики становятся ритмичными, а глазки ме-е-едленно закрываются…
– Тебе нужны еще дети!
– Поздно… – нараспев откликаюсь я.
Мы болтаем о малыше, о его беспорядочном режиме сна, об идее матери Айана дать ему бутылочку… Я не умолкаю, без устали нахваливаю все, что она делает, ее материнские умения и качества – потому что не сомневаюсь, Робин нуждается в ободрении и в отдушине. Вскоре голос ее становится тише:
– Ну а ты-то как? – Шепотом.
– В порядке.
Робин зевает:
– Похоже, мне удастся немного соснуть.
– Вот и умничка, – одобряю я.
Стив останавливается у моего дома. В припаркованной тут же машине кто-то сидит. Может, позвонить в полицию? Оказывается, незачем – полиция уже здесь собственной персоной.
На этот раз инспектор Периваль захватил с собой констебля Морроу. Когда я застываю на пороге кухни, гостья оборачивается ко мне с широченной улыбкой «а-ля Уоллес и Громит». Их, по словам Периваля, впустила Марта, «предложила располагаться», а сама отправилась за Милли. И еще в доме сейчас уборщица, добавляет Морроу, если я вдруг волнуюсь, что они тут без присмотра. Действительно, наш разговор сопровождается сначала доносящимся из Мартиной комнаты шумом пылесоса, потом – когда Нора с «Мистером Мускулом» перебирается в гостевую ванную – журчанием воды в трубах.
Я прислоняюсь к дверному косяку: ноги становятся ватными, кажется, с места двинуться не смогу. Спрашиваю, зачем они опять приехали:
– Я ведь уже ответила на все ваши вопросы.
Сидящая на скамейке констебль Морроу кривит веснушчатый носик. На лбу – ни единой морщинки, в ушах – крошечные розовые сердечки.
– Понимаю, вам это неприятно, но… – Она театрально закатывает глаза и пожимает плечами, предварительно убедившись, что восседающий во главе стола инспектор Периваль смотрит не на нее, а на лежащую на коленях бумагу.
– Присядьте, пожалуйста, ненадолго. – Он поднимает голову, и я начинаю чувствовать себя преступницей на допросе. – Много времени мы не займем, но это важно.
На выходных я его «погуглила». Руководитель отдела по расследованию убийств и тяжких преступлений в Баттерси. В 2009-м получил благодарность за пресечение войны индийских ресторанов в Тутинге (вам это о чем-нибудь говорит? Мне тоже).
Я отлипаю от двери и осторожно устраиваюсь за столом. Предложить чаю? Но у Периваля такой тон… Пожалуй, не стоит.
– Вы видели эту женщину раньше?
Между зубами у него застрял кусочек латука, застегнутая на «молнию» адидасовская кофта украшена на груди пятном засохшего кетчупа. Будь я судебно-медицинским экспертом, предположила бы, что по дороге ко мне он съел бигмак.
Он придвигает ко мне фотографию. Даже еще не взглянув, знаю, на фото – она. Я ждала этой минуты с ужасом.
Сад, детская «лазалка». На нижних перекладинах – двое ребят. У ее ног – большая красная пластиковая машина, в которой можно возить детей, а сама девушка чуть наклонилась к лесенке и держит малышей за ноги. Ослепительная улыбка. Передние зубы слегка кривые, будто вдавлены внутрь; темно-рыжие волосы собраны в два хвостика. Худенькая, с узким лицом и густыми накладными ресницами, словно кричащими всему миру: «Кто бы что ни говорил, а я дорогого стóю!» В мочке уха – не меньше шести колечек.
На меня наваливается невыносимая печаль.
– Это ее дети? – разлепляю я губы.
– Неужели она совсем не кажется вам знакомой?
– Ну, разве что… Помните, вы сами тогда говорили, что она чем-то похожа на меня… Кто она? Дети – ее? – настаиваю я.
– Ее звали Аня Дудек, тридцать лет, жила на Фицхью-Гроув, на юго-западе. – «Звали», «жила»… Прошедшее время. – Об ее исчезновении заявили люди, на которых она работала, семейство из Патни, потому что в субботу она за весь день так и не объявилась. На снимке их дети. Она была няней по выходным.
– Аня Дудек… – повторяю я.
Няня. Ну хоть дети не ее. Хорошая работа в хорошей семье. Патни – благополучный, респектабельный пригород, там еще живет либерал Ник Клегг. Какое уж тут «столкновение двух миров»?
– Вам это имя о чем-нибудь говорит?
– Нет, – трясу я головой. – Совсем ничего.
– А на Фицхью-Гроув бывали?
– Нет. Я, конечно, знаю, где это. – Высотки на краю парка, раньше принадлежавшие местным властям. – Но бывать не приходилось.
– Уверены?
Киваю.
– А Аня Дудек бывала у вас?
– Нет.
Сидящая напротив констебль Морроу поджимает губки и смешно гримасничает – мол, понимаю, дурацкая трата времени, и рада бы вас не терзать, но ничего не поделаешь… Проявляет, стало быть, женскую солидарность. Я ей улыбаюсь и повторяю для инспектора:
– Нет, никогда.
– Любопытно. – Периваль перекладывает с колен на стол лист бумаги, с которым нянчился перед этим.
В тонкой прозрачной папке – выдранная из журнала «Леди» страница с объявлением. В район Вандсуорд требуется няня с проживанием. Я узнаю его сразу же – по начертанию слов, по их расположению. Это объявление прошлым летом давала я, когда Робин предупредила о своем скором уходе.
– Тогда откуда на дверце холодильника убитой взялось вот это?
Зимой у меня был синусит, инфекция распространилась на внутреннее ухо, и временами от этого случались приступы нарушения равновесия – врач называл их односторонней вестибулярной дисфункцией. Кружилась не столько голова, сколько предметы вокруг; комната резко начинала плыть, вращаясь, как карусель. Сейчас на меня нахлынуло то же ощущение.
Я таращусь на стол; в прозрачной папке отражается небо, плывут облака… Я сижу? Или падаю? Не соображаю…
Мне удается выдавить из себя, что я понятия не имею… Инспектор Периваль задает вопросы, а я их едва слышу: когда дурнота отступает, в голове остаются шум и каша.
– Она приходила на собеседование? – Констебль Морроу впервые заговорила. Глаза широко распахнуты, она слегка кивает, словно заранее уверена в ответе.
– Хотела бы я сказать, что да, – в конце концов отзываюсь я. – Но нет, не приходила. – Я обвожу глазами чистенькую кухню. – Если бы найти прошлогодний домашний ежедневник… Я бы показала вам, кто приходил. О, знаю! У меня где-то остались их резюме, могу поискать…
– Расскажите, что помните. – Снова Морроу.
– Все помню. Лето выдалось сумасшедшим. Моя мама болела, а няня, Робин, собралась замуж. Это, ясное дело, само по себе было чудесно, но означало, что она от нас съедет, так что и грустно было тоже. Грустно нам, в смысле.
– Давайте все же про это. – Периваль тычет пальцем в журнальное объявление.
– Простите. Собеседованиям я посвятила два дня. Шесть девушек. Нет, не так – пять женщин, один мужчина. Две англичанки: одной с сентября надо было посещать университет, что нам не подходило; вторая не водила машину. Армянка, она постарше, хотела каждое утро приезжать поездом из Кройдона. Мужчина из Южной Африки. Классный кандидат, но – для воспитания мальчиков. Милая дама из Португалии… Вот она подошла бы, но по-английски почти ни бум-бум. Я планировала встретиться еще с несколькими, но мамино здоровье резко ухудшилось, а на третий день появилась Марта.
Я слишком разговорчива… Хочу дать им как можно больше информации. И вдруг – вспышка, озарение:
– Послушайте, может, эта… эта Аня хотела устроиться ко мне на работу, раз она няня? Но передумала.
– Да, возможно. – Констебль Морроу смотрит на инспектора Периваля. – Звучит логично.
Какое облегчение!
– Знаете, как бывает, – закрепляю я успех, – цепляешь на холодильник всякие записки и благополучно про них забываешь?
– Да уж, – снова морщит носик Морроу. – У нас на холодильнике висит белковая диета. Думаете, я в нее хоть раз заглядывала?
– Вам диета ни к чему, – уверяю я. – Да и от этого питания по Дюкану – такой ужасный запах изо рта!
Чуть заметное подрагивание плеч, словно она сдерживает неуместный смех. Какая все-таки молоденькая! «У нас на холодильнике» – наверное, еще живет с мамой.
Периваль кладет фотографию в прозрачную папку-конверт, разглаживает лежащую на столе журнальную вырезку. В проборе – перхоть. Интересно, есть у него жена, дети?
– Хорошо. Еще один вопрос. – До этого он на меня не смотрел, теперь же его глаза выжигают во лбу дырку. – Я вас уже об этом спрашивал. Спрошу снова. Вы прикасались к телу?
– К телу…
Мой взгляд останавливается на инспекторе, но я его не вижу. Вспоминаю… В голове гудит. Если даже сейчас мне невмоготу думать о ее теле, разве могла я притронуться к нему тогда?! Голая плоть… Я бы такое не забыла.
– Нет.
– Уверены?
– Я касалась ее волос…
– Забирали с тела что-нибудь?
– Нет! – Мне снова тревожно, не понимаю, к чему он клонит. Такое чувство, будто я упустила что-то важное.
– Не снимали у нее с шеи медальон со святым Христофором?
– Нет! Зачем?!
Он потирает лицо, глаза:
– Вы когда-нибудь слышали про Эдмона Локарда и его принцип обмена? «Любой контакт оставляет след». Чуть ли не первый постулат, с которым знакомят в Хендонском полицейском колледже. Волосы, крупинки краски, ворсинки, пудра и помада – частички путешествуют, движутся, перемещаются. У каждой пылинки есть свои отличительные черты. Волокна хлопка переплетены и напоминают тесьму. Лен похож на трубочки с заостренными кончиками. Обнаружь частички – и останется лишь определить местонахождение первоисточника.
– Ясно.
– Хоть убийца и налил ей на шею отбеливатель…
– Так вот что это был за запах!
Он кивает и продолжает:
– Все равно у нее на ключице мы нашли кое-какие волокна и ДНК, которые… В общем, хорошо бы вам все-таки поднапрячься. Я понимаю, вы были шокированы, нуждались в психологической поддержке… – Микроскопическое движение подбородка в мою сторону. – Но, если бы вы поточнее припомнили все, что сможете, это очень помогло бы расследованию.
Я поднимаю глаза. В кухню на цыпочках прокрадывается Нора, в руках – ведро и швабра. Я ее не услышала: она всегда делает уборку в тапках, которые едва шелестят по полу. Выхожу из-за стола, шарю взглядом по холлу в поисках кошелька. Выуживаю из него деньги – плату за Норины труды. Мне случалось задерживать оплату на неделю, но я стараюсь так не поступать: у Норы семья на Филиппинах, и туда уходит львиная доля заработка.
В дверях я машу домработнице на прощание и возвращаюсь в кухню. Инспектор Периваль интересуется, далеко ли Нора живет (хочет проверить ее документы?). А до меня вдруг доходит, что я не могу ему ответить – и хотела бы, да не могу. Она убирает у меня – выносит мусор, драит туалеты – уже не первый год, а я даже не знаю, где она живет. Сажусь. У меня паранойя или инспектор с констеблем и впрямь многозначительно переглянулись?
– Еще раз проясним, – говорит Периваль. – Значит, никакая часть вашего тела не касалась никакой части тела Ани Дудек? Кроме волос.
Наверняка вы знаете это противное ощущение, когда из головы вылетает какое-нибудь слово или название. Ломать мозги в этом случае совершенно бесполезно. И вдруг, как по волшебству, забытое всплывает в памяти, когда думаешь о чем-то совсем другом. Возможно, меня подтолкнуло то, что мысли переключились на Нору, а может, просто пришло время для озарения.
– Я ее трогала! – Голова у меня враз проясняется. – Поправила застежку на бюстгальтере. Такой бюстик, который застегивается спереди, и одна бретелька болталась… расстегнулась. Так что я трогала! Застегнула. Сама не знаю, почему не сообразила раньше! Может, из-за того, что вы все время твердили «тело», а я-то помню, что именно тело старалась не задеть…
Я трясу головой. Память вдруг воскрешает жесткость крючка, холод ткани…
– Прямо вижу, как я это делала. Не знаю, зачем я полезла к застежке. Но вот полезла же! Люди, – добавляю, – в состоянии шока совершают иногда такие дикости…
– Ага! – У инспектора Периваля будто только что сошелся кроссворд в «Таймс».
Он тут же спрашивает, может, я припомню и то, как сняла с шеи девушки святого Христофора? «Да вы что!» – отвечаю я ему одними глазами и поднимаю ладонь в безмолвной клятве.
– Ладно, – кивает он. – Похоже, тайну мы раскрыли.
– От чего именно она умерла? – интересуюсь я.
– Сердечная аритмия, вызванная пережатием нервного узла сонной артерии. Поверхностные рассеченные ссадины полулунной формы и кровоподтеки – это повреждения, которые она нанесла себе сама, когда пыталась сорвать удавку.
Я бледнею:
– А кто? У вас есть подозреваемые?
Периваль молча таращится на меня.
– Был у нее парень? Я думала, их всегда подозревают в первую очередь.
– Парень имеется, – соглашается он. – Вот только в стране его тогда не было. Досадно…
Я слабо усмехаюсь.
– И орудие убийства неизвестно, – добавляет констебль Морроу.
Мне отчаянно хочется, чтобы они убрались. Больше не могу ничего слушать. Но Периваль снова принимается разглагольствовать о волокнах – на этот раз, кажется, о полиэстеровых нитках; они выглядят как гладенькие прутики. Потом просит («будем проверять их при анализе», разумеется) предоставить им одежду, в которой я тогда бегала. С быстротой молнии вытаскиваю из гардеробной спортивные штаны, футболку и серую кофту. И когда я уже решила, что это наконец все, он огорошивает меня вопросом, где я была вечером накануне моей находки, с шестнадцати часов до полуночи. Зачем ему это знать?
– Ну, в парке меня не было, – говорю я. – Если ее убили в это время. Вечером меня там не было.
– Ее убили не в парке, – непринужденно сообщает Морроу. – Не в парке, а в собственной квартире. Это установили по распределению крови в теле.
Инспектор Периваль раздраженно хмурится.
– После остановки сердца, – голосом нудного профессора, повторяющего одно и то же в сотый раз, бубнит он, – кровь под действием силы тяжести перемещается и концентрируется в нижерасположенных участках тела. В результате кожа на этих участках приобретает красно-розовый цвет. Скопление крови в теле жертвы показывает, что в момент убийства ниже всего у нее были ноги. Это соответствует и найденным в ее квартире вмятинам на покрывале. Еще там было две чашки чая – одна из них нетронутая – и опрокинутый стакан с водой.
– Я была здесь, дома. Вздремнула, пробежалась – совсем недолго, приняла душ, поужинала, почитала дочери, посмотрела телевизор…
– Что именно смотрели?
– Не помню… Кажется, «Безумцев».
– Кто-нибудь может это подтвердить?
– Марта. Милли – первую часть вечера.
– А позже?
– Позже я легла спать. Рано и одна. Муж был сначала на работе, потом отдыхал с коллегами…
Я очень стараюсь помочь, но в голове при этом крутится: «Почему их интересует, где я была? Я же ее просто нашла! Или они думают, что это я ее убила?!» Внутри нарастает страх, не просто страх – паника. Это что, полицейское расследование? Бессмысленные вопросы? Бюрократическая трясина?
А может, так положено? Может, это установка такая – вроде анализа на ВИЧ при беременности, – потому что теперь Периваль переходит к вопросам о моем сталкере. Заведенное на него дело «выплыло на поверхность». Я сообщаю, что преследования – если их, конечно, можно так назвать – начались в конце прошлого лета. Это вдохновляет Периваля настолько, что он (наконец!) что-то записывает.
– Может, просто совпадение, но в субботу я заметила человека, который следил за домом. А сейчас возле ворот в машине сидит какой-то подозрительный тип бандитской наружности. – Стараюсь, чтобы голос звучал небрежно, а то еще решат, что я истеричка.
Оба встают. Констебль Морроу разминает затекшие плечи (надо было предложить ей стул, на нашей скамейке долго с комфортом не усидишь).
– Тип бандитской наружности? – пожимает плечами Периваль. – Это наш сотрудник.
Я вновь выбралась на пробежку; что бы ни произошло со мной в парке, пора возвращаться к привычной жизни, и чем раньше, тем лучше. Ни «Асиксов», ни любимой спортивной одежды; кто знает, когда мне их вернут? Зато вместо них нашлась пара позабытых стареньких «Данлопов» и валявшиеся без дела треники. Сойдет. Вокруг талии повязываю серую толстовку Филиппа. Замерзнуть, может, и не замерзну, а вот неидеальный тыл прикрыть не помешает.
Попасть на Фицхью-Гроув можно через парк – сначала мимо футбольного поля по дорожке на Джон-Арчер-уэй (эта улица выросла из ниоткуда, когда построили новый микрорайон), потом по узкой аллейке, обсаженной исполинскими каштанами. Но тогда придется пересечь полицейское ограждение. Да и каштаны… Огромные, раскидистые, густые – из-за них аллейка превращается в место жутковатое и мрачное. Спасибо, я лучше побегу другой дорогой, вдоль Тринити-роуд; пусть моими спутниками будут гул, шум и шесть рядов машин.
Вот и съезд. Мимо проносятся грузовики, от их грохота дребезжит установленная здесь желтая вывеска. Топчусь возле нее, продолжая бег на месте, делаю вид, что читаю призыв к возможным свидетелям происшествия. Сворачиваю с магистрали на Фицхью-Гроув, добегаю до припаркованных у обочины машин. Многоэтажки, между ними – лоскутки чахлой травы. У второй высотки – полицейская машина с включенной мигалкой. Маячок вспыхивает и гаснет, отбрасывая блики на стену дома. Меня тянет туда против воли, словно глупого зверька в западню. Нет уж! Крутой разворот – и я мчусь домой.
До моих ворот остается совсем чуть-чуть, и тут из тени выдвигается туша. Я едва сдерживаю крик.
– Нет-нет! – Мужчина успокаивающе вытягивает руку. – Простите! Вот черт! Простите… Я вас напугал? Идиот! Простите…
Я шарахаюсь мимо, и он, пропуская, немедленно отходит в сторону. Меня обдает запахом мятных леденцов, чая, незнакомого кондиционера для белья.
– Извините, – выдыхаю я, когда нас уже разделяет калитка.
– Это вы меня извините! После того что вы перенесли, нервы у вас, наверное, разбиты в хлам!
– Вдребезги, – смеюсь я.
Теперь его можно как следует разглядеть. Чуть выше меня ростом, вьющиеся волосы; густые, спутанные брови; большие карие глаза, завораживающие, с чуть опущенными уголками, лукавые… похожи на… чьи же?… Точно, глаза Майкла Пейлина!
– Да, вдребезги. Какой еще «хлам»? – Комичная удивленная гримаса. – Еще раз простите, что я вот так выскочил… – Мне навстречу протягивается рука. – Джек Хейуорд. Я вам звонил.
Киваю, жму руку:
– А, «столкновение двух миров»?
– Да-да! Решил явиться к вам собственной персоной и попробовать уговорить на интервью. Интересная ведь история… Я еще кое-что разузнал. Я – вольнонаемный журналист, фрилансер, свободный художник, гоняющийся за удачным сюжетом. Будьте моим счастливым случаем! – И он умоляюще разводит руками.
– А нормальную работу найти не пробовали? – не очень-то любезно спрашиваю я.
– Пробовал. Вы в курсе, что туда надо являться каждый день? А еще носить галстук и сидеть за столом?
– Да вы что?!
– Представьте себе! Единственное развлечение – офисные сплетни у кулера… Но вот вы, например, давно к кулеру за общением бегали? Кто там сейчас тусуется? Народ вымер… Ни-ко-го! Разве что какой-нибудь сухарь из бухгалтерии водичку попьет… Говорю вам – тусовка приказала долго жить.
– Может, вы не к тем кулерам бегаете? – Мне уже весело, хотя ноги продолжают пятиться к дому.
– Ну прошу вас…
– Я с ног валюсь… Да и сказать мне нечего!
– Пожалуйста! – не отступает он.
Как можно отмахнуться от человека с глазами Майкла Пейлина? Я достаю ключи:
– Может, позже. Пусть все немного уляжется.
В восемь вечера звонит Филипп. К ужину он не вернется, день выдался тяжелым. Даже говорит и то еле-еле – устал, сплошные нервы… С воскресного обеда мы почти не общались. Он повел себя так бессовестно со своими родителями, что я потом с трудом смотрела в его сторону. Весь обед мой муж не отрывался от телефона, то и дело выходил из паба позвонить, а возвращаясь, молча сидел, уставясь в стол, словно болтать с нами было выше его сил. Я люблю Филипповых родителей, вот только его мама, Маргарет, совершенно не умеет за себя постоять, шарахаясь от малейших конфликтов как от чумы. Она просто улыбалась как ни в чем не бывало. А Нейл, работавший директором школы еще в те времена, когда знания ценились выше внешности, пустился в бесконечный экскурс о том, откуда взялось название того или иного паба. Я же отдувалась за двоих и, стараясь хоть как-то сгладить невнимание Филиппа, поддерживала разговор, то и дело вставляя: «Ух ты!» и «Нет, не знала!» От отчаяния хотелось выть. Когда ужин закончился, мы с Маргарет остались за столиком вдвоем, и я извиняющимся тоном произнесла:
– Мне так неловко за Филиппа… Вы уж извините…
Она подняла глаза, и мне показалось – вот сейчас, сейчас она спросит… Как же мне хотелось все выплеснуть, ощутить на руке ее успокаивающее поглаживание – хотелось безумно! Пожаловаться на то, что Филипп отдаляется от меня, уходит, уплывает… и как я этим напугана. Но… Вновь заигравшая на ее губах улыбка, короткий бодрый смешок:
– Филиппа не переделаешь, – и она отвернулась.
…В трубке раздается голос мужа:
– Ко мне приходили из полиции. Пришлось бросить переговоры.
– Полиция?!
– По поводу убитой.
– Но… Ты-то им зачем?
Пауза. В ушах мертвая тишина.
Филипп то ли прикрыл трубку ладонью, то ли положил ее на стол. «Удели мне внимание!!!» – готова заорать я. Но вот он снова на связи, я из последних сил беру себя в руки и сообщаю:
– Ко мне тоже приходили. Уже установили ее личность. Некая Аня Дудек.
– Угу, они сказали.
– А что от тебя хотели?
– Так положено. Потому что ты обнаружила… ее.
Новая пауза – опять отвлекся?
– И что? – продолжаю я, когда Филипп возвращается.
– Ну что… Спрашивали, Габи! Ясно? Спрашивали, где был я, где была ты!
– Не сердись, пожалуйста. Мне жаль, что тебе помешали работать, но, прошу, расскажи поподробнее. Пожалуйста!
(Видите? Я – само спокойствие.)
Из трубки доносится тяжелый вздох, потом Филипп чужим деревянным голосом – явно себя насилуя – произносит:
– Конечно, извини. Просто никак в голове не укладывается, что с тобой такое произошло… Почему именно ты?
– Да уж, – откликаюсь.
– Ты вроде говорила о девушке-подростке.
– Нет, о молодой женщине.
Вновь тишина. Он что, одновременно разговаривает еще с кем-то у себя в офисе?
– Полицейский проверял то, что ты ему рассказала… как ты ее нашла… – На другом конце провода слышны отдаленные щелчки, словно кто-то монотонно нажимает кнопку авторучки. – В основном расспрашивал подробности про время и место.
– Ты хочешь сказать – мое алиби? Полиция проверяет мое алиби?
– Кажется, да. Я тебе в этом деле не очень-то надежный помощник. – Горький смешок. – В тот вечер была уйма встреч, переговоров, которые мы сначала обмывали, потом заедали… У меня-то список этих самых алиби длиной в метр! Жаль, нельзя поделиться парочкой с тобой.
Я с таким нетерпением жду его возвращения, что, когда он наконец приходит, притворяюсь спящей. Разбуди меня, пожалуйста… толкни легонько в бок, словно нечаянно… Пожалуйста! Захоти меня разбудить! Нет, ничего… Он почти бесшумно проскальзывает под одеяло.
Под утро я просыпаюсь, – сама, никто меня так и не тронул! – а Филиппа рядом нет. Его половина кровати еще хранит слабое тепло. Я жду… Он не возвращается. Простыни остывают, я встаю и на цыпочках бреду на лестницу. Три этажа… подвал… Я – босая – топчусь около Филиппова велосипеда; мужу хватило времени на то, чтобы аккуратно водрузить своего любимца на специальную подставку.
Порой, когда ему не спится, Филипп предпочитает работать. Но сегодня… Он просто сидит, сгорбившись, в кресле перед мониторами, и вспышки бегущих по экранам таблиц – «Блумберг», Си-эн-эн – временами озаряют его окаменевшее лицо. Он настолько погружен в себя, что моего появления даже не заметил.
Вторник
– Секс! Вот что тебе нужно – поездка за город и секс! Люди тратят бешеные деньги на психологов, супружескую психотерапию, когнитивно-поведенческую коррекцию… А я тебе говорю – нет такой семейной проблемы, которую нельзя решить путем качественного траха!
– Однозначно, – соглашаюсь я.
– Ну правда. Придется тебе как-нибудь до него достучаться, убедить. Ты от номера в отеле еще не отказалась?
Я грустно мотаю головой и обреченно пищу:
– Ванна на ножках… Частичный вид на море…
– Заставь его! Обмани, обхитри. Ну а если все равно не захочет, вместо него с тобой поеду я!
Мы с Кларой лакомимся. Это кафе на Эксмут-Маркет, в северо-восточном Лондоне, явно претендует на звание ультрамодного заведения: кофе у них обжарен «кустарным способом». Что бы это значило? Может, в подвале томится в заточении парочка кустарей-ремесленников? И они жарят, жарят, жарят кофе… Клара заказала капучино «Белоснежный ангел», я для смеха – двойной эспрессо «Черный дьявол». Десерт был выбран единогласно – имбирный хлебец с ванилью и японским цитроном (честно-честно!). Вторник, разгар дня. У Клары сегодня сокращенный рабочий день, до обеда; я же после съемок поехала на такси не домой, а сюда. Чувствую себя прогульщицей.
Лицо миниатюрной стройной Клары выдает яркую индивидуальность: темно-синие глаза, заостренный нос, широкий лоб, под выступающими скулами – затененные впадины. Она бесподобна. И совершенно нетщеславна. Я рядом с ней выгляжу безликой серой мышью. Порой любуюсь ее расклешенной вельветовой юбкой, старушечьим твидовым пиджаком или мешковатой французской рыбацкой сумкой – и завидую: «Почему в моем гардеробе нет подобных вещичек?» Впрочем, ответ я знаю. Вовсе не вещи делают Клару такой стильной; не вещи, нет – она сама. Чувство стиля у моей подруги – врожденное.
– Ну, ты как? – Склонив голову, Клара изучает мое лицо.
Время до прихода Филиппа вчера тянулось бесконечно, я никак не могла найти себе места, совершенно потеряла голову от ужаса. И позвонила Кларе. Мне хотелось увидеть ее – немедленно, срочно! Вчера меня душили горькие, мучительные рыдания… А сегодня я взяла себя в руки, но лучше не стало. Переживать такие отчаянные, сильные чувства ой как не просто! Помню, в каком состоянии сама Клара появилась на моем пороге после крупной ссоры с Питом. Она залила всю кухню слезами, плакала так горько и сильно, что даже начала икать, как младенец. Утром я ее разбудила, напоила кофе, и она поковыляла к метро, клятвенно пообещав вечером приехать снова. Но в следующий раз мы увиделись лишь через несколько недель – они с Питом решили жить вместе, и все у них было чудесно. Иногда дружба перерождается постепенно, исподволь, и до поры до времени это почти незаметно; а потом вдруг – раз! – что-нибудь случается, и перемены всплывают на поверхность. Тогда я поняла – пока на горизонте есть Пит, мы с Кларой, конечно, при необходимости будем друг для друга «в доступе», на случай атомной войны, как мы шутили в юности. Но чтобы рядом каждый день, как раньше… такого уже не будет.
– В этом году очень ранняя Пасха, – говорит Клара. – Что у вас за планы? Снова кататься на лыжах? Или на… где вы были в прошлом году… на Ямайку?
– Нет, страсть Филиппа к экзотическим путешествиям, слава богу, прошла. Работа…
Наш коттедж в Пизенхолле – вот куда я хочу. Филипп купил его на свою первую премию. Уютная кухня, скрипучие полы в спальнях – крепкий, добротный дом; его стены истосковались по любящей, дружной семье, он заслуживает того, чтобы под его крышей поселилось счастье. Но стоит пустой и ждет нас. Словно брошенный на обочине старый преданный пес…
– Слушай, – решаюсь я, – а давай на Пасху все вместе съездим в Суффолк, в наш дом!
– Суффолк? Ой, не знаю…
– Будем гулять, выберемся к морю. Дом соскучился по нашему смеху, пора его оживить!
Клара улыбается. Уклончивая, ничего не обещающая улыбка.
Я сдуваюсь, будто из меня выпустили воздух. Ладно, нечего киснуть! Знаю – порой я жду от Клары слишком многого.
– Как там Пит? – мягко спрашиваю я.
– В полном порядке, – легкое движение плечами.
Пит – художник, создает инсталляции. Должен создавать. Вместо этого он бóльшую часть времени проводит у плиты и создает кучу грязной посуды. Они с Филиппом раньше дружили, и мы вчетвером часто бывали вместе: занимались серфингом в Корнуолле, гоняли на велосипедах по Сюррею, кутили в Сохо… Но все меняется. Наши жизненные дорожки разбежались в разные стороны. И теперь я иногда привираю – вынужденно. Катание на лыжах, поездки на Ямайку (вообще-то мы отдыхали на острове Невис в Карибском море) – об этом лучше не упоминать, иначе в груди от неловкости начинается бешеная пульсация… Как-то мы вчетвером ужинали в китайском ресторанчике рядом с домом ребят, и Пит вдруг накинулся на реформу среднего образования, на независимые школы: мол, если предоставить государственным школам полное самоуправление и финансовую самостоятельность, если дать директорам право привлекать средства от спонсоров и благотворителей, это приведет к полной приватизации государственного образования, к тому, что первую скрипку в школьном управлении будут играть местные богачи. Он с жаром отстаивал бесплатное образование, а над столиком, ухмыляясь и пританцовывая, подвисла воображаемая картинка элитной частной школы – Миллиной школы, на которой настоял Филипп. Чопорная униформа, плавательный бассейн, целый автопарк ярких синих автобусов… мельтешащие кадры из диснеевского мультика. Я избегала Клариного взгляда. Знаю, и она, и Пит считают, что мы с Филиппом оторвались от реальной жизни, перестали видеть ее истинные ценности. И ведь они правы! Я слабая и ведомая; могла бы спорить с Филиппом, не соглашаться… но почему-то ему не перечу. Наверное, боюсь рассердить…
Идет дождь, порывистый ветер с громким стуком швыряет в окно струи воды. Двери в кафе тянутся от пола до потолка, летом их распахивают настежь. Сейчас они закрыты, горит свет – над каждым деревянным столиком, раскачиваясь и отбрасывая пляшущие тени, свисает голая лампочка без абажура. Очередная модная фишка. Антураж строгий и минималистский, но здесь уютно.
– В такую погоду только горячее рагу из говядины уплетать. Помнишь, как у Вирджинии Вулф? – говорю я.
Еще бы ей не помнить, книга «На маяк» входила в программу обязательного чтения в старших классах. Мы обе заливаемся смехом. А потом Клара спрашивает о маме. Смирилась ли я?
Отвожу взгляд за окно. Мимо кафе пробегают две женщины; согнувшись и втянув головы в плечи, держат над собой зонтики – словно им невдомек, что зонты можно поднять повыше, тогда и спина выпрямится. Клара редко задает такие вопросы. Знает, что я не любитель говорить на эту тему. Не избегаю ее, нет, просто не хочу, вспоминая детство, вновь расстраиваться.
Глоток воды. Несмотря на все мои старания, изнутри поднимается саднящая боль, растекается по телу противной мутью. Я с трудом сглатываю.
– В общем, да. – Надеюсь, голос звучит спокойно. – С чувством вины почти справилась. Понимаю, что не виновата… Я из кожи вон лезла, чтобы заставить ее бросить пить, делала все возможное. Да, уже смирилась. Во всяком случае, мне так кажется. Но ответственность все равно еще чувствую. Иногда ловлю себя на мысли – надо поехать, проведать, как она. Потом спохватываюсь – некого уже проведывать. И даже вздыхаю с облегчением…
Клара сжимает губы. Где-то я уже видела такое выражение лица. Точно! Вчера, у констебля Морроу. Надо же, пронзает меня открытие, я-то приняла ее гримаску за проявление женской солидарности; думала, она сочувствует мне по поводу предстоящей экзекуции – бесконечных расспросов Периваля. На самом же деле такое лицо, как вот сейчас у Клары, выражает беспомощное сожаление не о том, что будет, а о том, что в моей жизни уже случилось. И случается вновь и вновь – и ничего я не могу с этим поделать…
– А помнишь индийский соус – сливовый чатни, – который готовила твоя соседка? Она частенько угощала нас сырными бутербродами. «Дабл глостер» и чатни…
Неважно, что именно говорит Клара. Важно другое – ее слова пробуждают волшебные струны, поворачивая время вспять, выуживая счастливые детские воспоминания из той поры, которая редко бывала для меня счастливой. И я улыбаюсь:
– Вечно она нас подкармливала. А сливы были из ее собственного сада, такие кислые, что их сырыми есть невозможно. Потому она их и варила. Уж я-то знаю, не раз лазила на ее деревья и пробовала эту гадость на вкус.
Спрашиваю у Клары, как дела у ее родителей. Они молодцы, бодры и полны сил – настоящая старая гвардия, не желающая сдаваться возрасту и просто доживать свой век. Вспоминаем давних приятелей, Джастиса и Анну… Сколько же я их не видела?… Несколько месяцев. Или лет?
– Анна передавала привет, – задумчиво протягивает Клара. – Говорила, что оставляла тебе сообщение…
– Да, оставляла. А я бессовестная. Знаешь, они так далеко живут…
– Знаю…
Вранье. Дело вовсе не в расстоянии. Просто они не по душе Филиппу, а я… я сама виновата. Безропотно позволила втянуть себя в Филиппов мир, отдалившись от своих друзей… Я сама допустила, чтобы они ускользали от меня все дальше.
Лучше сменить тему. И я, стараясь не выдать своей зависти, как можно беспечнее спрашиваю Клару о детях. Дочь – ей одиннадцать – стала интересоваться мальчиками. Старшему сыну надо бы поднапрячься и подогнать учебу, не то с его нынешними оценками в старшие классы не примут, а без них университета не видать как своих ушей. Младший доводит ее до белого каления, вечно у него грязь и бардак. Клара надевает маску тупого подростка и гнусавит:
– Ну где моя кофта «Топман»? Чё, еще грязная?! Я ж ее на пол бросал! А чё она до сих пор не постиралась?!
Преувеличивать кошмарность своих отпрысков – еще один Кларин способ меня поддержать, показать мне, что большая семья – вовсе не залог счастья.



