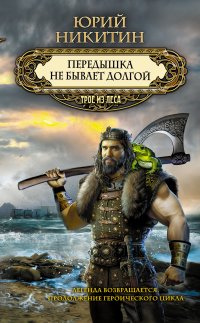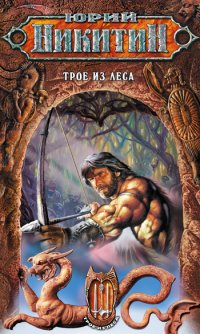Читать онлайн Главный бой бесплатно
- Все книги автора: Юрий Никитин
Предисловие
В мире три вершины легендаристики. Двор короля Артура, монастырь Шао-Линь и двор князя Владимира. Двор короля Артура прославился рыцарями Круглого стола, монастырь – странствующими монахами-бойцами, а князь, оставшийся в былинах как Красно Солнышко, известен пирами, на которые сходились семьдесят «сильномогучих богатырей» и сотни богатырей попроще.
Но если о короле Артуре выходили и выходят постоянно романы, фильмы, комиксы, а монастырь растиражирован в полусотне фильмов, то киевскому двору не повезло. О нем писали и пели в древние времена, однако… современный читатель России лучше знаком с циклом о короле Артуре, с легкостью опишет внешность орков, троллей, эльфов, гномов, но тупо смолчит, когда спросят о лешем или песиглавце.
Клич я бросил в 1996-м, в первом издании «Княжеского пира», но никто из пишущих не откликнулся, что и понятно, однако пару лет спустя несколько молодых талантливых ребят, чьи сердца «для чести живы…», взялись за перо, то бишь сели за клаву компа. И надо сказать, получилось!
Вышло что-то около десятка романов.
А теперь вкратце правила для авторов, буде кто восхочет принять участие.
1. К участию допускаются все – и маститые, и начинающие, без ограничения по полу, возрасту, национальности, политическим и религиозным убеждениям, кривизне ног и форме ушей.
2. Пожалуй, самое важное правило: не навреди другим авторам, не навреди самой серии.
3. Участник проекта должен написать роман объемом не менее 110 тысяч слов. Больше – пожалуйста, меньше – нет. Примите как данное. Если нужны по-дробные объяснения, см. пункт последний. Романом называется произведение в малограмотной европейской традиции, то есть без разделения на повесть и собственно роман.
4. Исходной точкой повествования является двор князя Владимира до принятия христианства. Двор представлен в былинной традиции – с богатырями и прочими сказочными персонажами.
5. Исходным миром является тот, что описан в романе «Княжеский пир». Это не означает, что действие должно происходить только при дворе, – достаточно завязки или другого соприкосновения.
6. Рекомендовано включение в виде эпизодических лиц героев других романов цикла. Допустимо использование в качестве главных героев эпизодических героев Никитина (без его согласия) и других авторов (по согласованию – кроме тех случаев, когда автор объявляет своих героев в общее пользование). В любом случае недопустимо убивать или калечить чужих героев и, само собой, унижать их достоинство.
7. Настоятельно рекомендуется предварительно прочесть книги предыдущих авторов (основоположника серии – обязательно!), дабы избегнуть досадных недоразумений. Ведь там уже дана внешность основных героев, декорации теремов, с какой стороны терема крыльцо, а с какой – коновязь и пр.
8. Образы – героические.
9. Сюжеты – героические.
10. В отношении серии действует правило богов: ведь писатели – тоже творцы. Даже с прописной – Творцы. То есть сделанное одним богом другой бог отменить не вправе. Если, к примеру, Афина ослепила Тересия, то сочувствующий ему Аполлон не волен вернуть зрение, зато в его воле было наделить даром прорицания и ясновидения.
11. Действие так же происходит в пределах Киевской Руси (за очень редким исключением переносясь, в случае необходимости, в тридевятые страны), при этом «заграница» – в русской сказочно-былинной традиции. Доля «чужеземья» определена в 5 процентов. Здесь, помню, был вопль со стороны жулья: хотелось больше. А в идеале – чтоб вообще русским духом и не пахло. Как же, о западных или восточных землях им писать куда приятнее! Патриоты, мать их… Кстати, что-то я не читал романов о короле Артуре, где его рыцари шастают хотя бы по Европе, не говоря уже о Японии, Руси, Атлантиде…
12. А это правило не относится к самой серии, но из-за ряда случаев стоит напомнить: первым и самым строгим редактором себе должен быть сам автор. Никакие веские причины не являются оправданием, чтобы принести рукопись невычитанную, невычищенную, сырую. Редактор не будет переписывать чужую рукопись, а автор не сможет бегать за каждым купившим его книгу и объяснять, что вот этот момент нужно понимать вот так-то, а здесь нужно представить себе вот это. Роман должен быть готовым к печати!
13. Не знаю, надо ли это писать, но все-таки роман должен быть написан еще и добротно. Конечно, уже слышу возражение: как, по заказу да еще и хорошо? Много хотите… Да, вы правы. Хотим много.
14. Роман должен быть написан «специально в серию», а не адаптирован из чего-то, что в других издательствах поперли в шею… То есть обязательны все реалии серии, а герой обязательно должен побывать при дворе князя Владимира, встретиться с другими героями, в том числе и героями других авторов.
15. В доме повешенного не говорят о веревке, то есть запрещена любая пропаганда христианства, как и контрпропаганда. Только славянский красочный языческий мир, его обычаи. Никаких христианских проповедников, миссионеров. Как и других религий, понятно.
16. Недопустимо использование явно чужеродных сказочных элементов, не встречающихся в русских сказках и былинах, – троллей, баньши и т. д.
17. Запрещена откровенная эротика (порнография), как чуждая тому суровому миру (или нашему представлению о нем).
18. Запрещены снижение образов, пародирование. Среди недоумков это все еще кажется особым шиком: изобразить Суворова придурком, Авдотью Рязаночку – шлюхой, рассказать, что Чайковский и Достоевский были геями и т. д. То есть снизить их до своего уровня и своего окружения. Как бы сравняться с ними и тем самым самому стать таким же великим. Увы, это наш характер: самим карабкаться трудно, проще других к себе в грязь…
19. Запрещено брать в качестве основных героев главных героев других авторов. Что понятно, верно? Ведь автор, может, сам в этот момент сочетает его узами священного брака, а у вас вдруг да заметят с другой женщиной. А обмен второстепенными героями или заимствование как раз приветствуется. Многие авторы делают эти перекрестные ссылки друг на друга, в эпизодах используя чужих героев. Тем самым серия скрепляется дополнительно. Разумеется, все это с уведомлением и согласованием друг с другом.
20. Естественно, запрещено убивать, калечить или как-то менять характеры героев других авторов. Кроме понятного авторского права, важна целесообразность: могут возникать нелепицы и несостыковки.
21. Для некоторой корректировки рекомендуется почаще вспоминать блестящий двор короля Артура с его рыцарями Круглого стола, а также монастырь Шао-Линь. Двор князя Владимира – это третья точка легендаристики на мировой карте. И большинство из того, что недопустимо при дворе короля Артура или в монастыре Шао-Линь, так же недопустимо и при дворе князя Владимира.
22. Возможно, кто-то сумеет найти лазейку в этих правилах. У нас страна такая! Боролись втихую с советской властью, боремся с налогами, так что подобная борьба с запретами и ограничениями уже в крови. С любыми – нужными и ненужными. Формально роман может соответствовать перечисленным пунктам, но – всего не предусмотришь! – это может быть такое …
Что ж, правила здесь для того, чтобы помочь. Найденная лазейка протолкнуть в печать роман не поможет.
1001-е, последнее. При малейших неясностях проще всего посоветоваться с остальными авторами. Их адреса и емэйлы на http: nikitin.wm.ru. Да и сами не вылезают из корчмы, что там же на сайте, из-за чего многие в персонажах. Там же ведется постоянная дискуссия и обмен мнениями по «Княжескому пиру». Так что добро пожаловать, там объяснят все, дадут любую консультацию, настучат по голове, вытрут нос, похлопают по плечу, снова по голове…
Примечание: не принимаются ссылки на первую книгу «Княжеского пира», которая и дала название серии. Мол, а вот у Никитина тоже!.. Эта книга вышла в 1996-м, когда серия только начала выступать из тумана. Правила, которые позволят держать серию цельной, оформлялись позже. Да и вообще, следующее издание во избежание этих вопросов придется привести в соответствие с современными требованиями. Это проще, чем объяснять снова и снова.
Итак, добро пожаловать на пир.
Юрий Никитин
Глава 1
Сильные мужские голоса грянули походную песню. В окна Золотой Палаты врывались трепещущие солнечные лучи, странно переплетаясь с багровым огнем факелов. Густой возбуждающий запах смолы, жареного мяса, кислого вина – за длинными столами шумно пировали, поднимались с кубками и кричали сорванными охрипшими голосами здравицы крупные мужчины. У многих лица и обнаженные руки были в шрамах, голоса звучали сильно и уверенно, а когда грянули песнь, на столе зазвенела посуда.
Слуги не успевали менять залитые дорогим вином скатерти. Массивные столы гнулись под тяжестью золотой посуды: с того дня, как дружина возроптала, что ест простыми ложками из серебра, князь поспешно заменил все серебро золотом. Слуги пыхтели, красные и потные, бегом разносили блюда с жареными лебедями, олениной, запеченной в соке ежевики медвежатиной, расставляли кувшины с вином, а самым знатным подливали в золотые кубки густое темно-красное вино.
Воздух был жаркий, густой, пропитанный запахами жареного мяса, лесной смолы, воска, крепким мужским потом героев, богатырей и воевод Киевской Руси.
В разгар пира в широком дверном проеме возник чистый серебристый свет. Доспехи неизвестного сверкали ясно, а едва он сделал шаг, железо вспыхнуло как жар. Заходящее солнце подсветило со спины, металл на плечах загорелся пурпуром, словно в горне кузнеца. Блещущий шлем на сгибе локтя правой руки тоже сыпал искрами, густые волосы как расплавленное золото тяжело опускались на плечи. Разнесенные в стороны рамена едва не застряли в проходе, а выпуклые мышцы груди больше походили на сглаженные морскими волнами каменные плиты, чем на грудь человека, даже богатыря.
Он сурово и пристально оглядывал зал синими как небо глазами. Чисто выбритая нижняя челюсть вызывающе выступала вперед. Подбородок тяжелый, массивный, слегка раздвоенный, но даже ямочка похожа на след от удара топора. Да и все лицо вырублено тяжелым рубилом каменотеса: резкое, угловатое, словно из обломков скалы. Высокие скулы гордо вздернуты, а синие глаза смотрят прицельно, как орел на стадо куропаток.
Да, он смотрел ровно и спокойно, но даже в неподвижности чувствовалась тугая, грохочущая мощь горной лавины. Голоса в пиршественной палате начали умолкать.
Кто-то завопил радостно:
– Добрыня! Сам Добрыня!
По всей палате разговоры затихали, поднимались головы. Витязь в сверкающих доспехах сделал шаг, слегка повернулся. Багровый свет пал на его мужественное лицо. Стало заметно, что не молод, далеко не молод, но полон звериной силы, что дается иным щедро и остается до последних дней жизни. И по тому, как стоит, видно, что и здесь непроизвольно готов отбиваться как спереди, так и с боков, отражать удары сверху, а буде кто выпрыгнет из подпола, пинком отправит обратно с проломленной головой.
И только теперь все увидели побитые пластины на плечах, посеченный шлем, погнутости на колонтарной пластине, вмятины на укрывшем широкую грудь железе. Витязь вскинул руку, заприметив обращенные к нему взгляды, улыбнулся, и словно молния сверкнула на темном от солнца лице: белые как сахар зубы, крупные и ровные, как вспышка осветили палату.
За столом поднялась огромная фигура в простой белой рубашке. На Добрыню взглянула страшная медвежья морда. Белоян, верховный волхв, приняв себе медвежью морду, дабы заниматься только ведовством, не отвлекаясь на баб, как был богатырем среди людей, так и медведем стал таким, что лесные братья показались бы рядом медвежатами.
Он высился над пирующими, широкий, массивный, тяжелый, как скала. Оглядел из-под выступающих надбровных дуг, похожих на каменные плиты, в палате разговоры сразу начали стихать, проговорил сильным голосом, в котором ясно слышался медвежий рев:
– Убрать кружки!.. Убрать чаши! Убрать кубки!.. Наполнить чары. С дальних и опасных кордонов вернулся благородный витязь Добрыня, который никогда не пятнал чести и воинской славы. Так восславим же!
Слуги, как торопливые мыши, сновали по палате. Узкогорлые кубки сменили широкими золотыми чарами, тут же наполнили вином. Белоян проследил, чтобы налили всем, ловко подхватил свою чару, слегка плеснул вином на грудь, жертва родителям-богам, крикнул могуче:
– Гей-но!
Сотня могучих мужских голосов грянула с такой силой, что терем затрясло, а с дальних деревьев с криком снялась стая галок.
- Гей-но, наполним полные чары!
- Чтоб через венцы лилося,
- Чтоб наша доля нас не чуралась,
- Чтоб краше в мире жилося!
Суровая древняя песня-заклинание, пришедшая, как говорили волхвы, от Первых, что сами были богами, гремела мощно, колдовски. Добрыня ощутил знакомый озноб, по коже всегда пробегали эти невидимые мурашки, и всякий раз в тело вливалась добавочная мощь, и он чувствовал, что снова готов нестись на лихом коне, рубить день и ночь, прыгать с высоких башен, и алою кровью своею…
Во главе стола на той стороне палаты стоял с поднятой чарой великий князь. Губы шевелились, но далеко, голоса Добрыня не слышал, хотя в разгар битвы князь мог перекричать сто тысяч ржущих коней. В простой белой рубашке с расстегнутым воротом, видна черная, как у зверя, волосатая грудь, небрежная улыбка на хищном лице, что в любой миг может превратиться в звериный оскал.
Когда он в нетерпении переступил с ноги на ногу, по чисто выбритому черепу побежали багровые, как при пожаре, сполохи. Черный чуб по-змеиному скользнул за ухо, тонкий конец заколыхался над плечом. В мочке левого уха зло блеснула золотая серьга с крупным багровым рубином, похожим на горящий уголек.
Он пел, но в то же время наблюдал с холодным любопытством. Добрыня уловил напряжение князя. Рядом с Владимиром обычно шумно пируют богатыри, возвышенные до ранга воевод, но сейчас и они застыли, смотрят кто с восторгом, кто с плохо скрытым недоброжелательством.
А Владимир в самом деле, услышав заздравную песнь героям, ощутил, как по телу пробежала дрожь, вытряхивая дурманящий хмель. Песня закончилась мощным выкриком, Добрыня уже двигается в его сторону между столами, отвечает на приветствия, широко и дружелюбно улыбается, витязь от пят до кончиков ушей. Почти вполовину старше, мелькнуло с некоторым раздраженным удивлением. Ну, пусть не вдвое, но все же он был мальчишкой, когда Добрыню уже приняли в дружинники. А потом их судьба и дальше была похожа: он сын рабыни Малуши, а Добрыня брат той же Малуши, значит – дядя по матери. Правда, потом, когда стал великим князем, чувство глубокой приязни к Добрыне, который учил его воинским наукам и защищал от детей боярских, боролось с постоянно подогреваемым боярами подозрением: древлянский выкормыш мечтает отомстить за своего плененного княгиней Ольгой отца Мала. Спит и грезит, как восстановить царство древлянское, где княжеская корона принадлежит ему…
– Добрыня, – сказал он, вставая и распахивая руки. – Добрыня!
Они обнялись, оба с некоторой настороженностью: каждому наговаривают на другого, оба пока держатся, но кто знает, когда яд начнет действовать на другого, – в себе-то каждый уверен.
– Владимир, – ответил Добрыня, смотря князю прямо в глаза. – Что-нибудь изменилось?
Владимир усмехнулся краешком рта. Лицо неприятно искривилось, но взгляд выдержал, хотя на мгновение в глубине глаз дрогнуло. На чисто выбритой коже Добрыни, темной от нещадного солнца дальних застав, белеют черточки старых шрамов, но вот добавился свежий: левая бровь разделена белым шрамом, а еще багровый след чужого железа на скуле…
– Только фалернское кончилось, – насмешливо сообщил князь. – Но ты, как помню, не любитель хмельного.
– Да, – ответил Добрыня замедленно, он все еще смотрел князю в глаза, – мне ключевая вода больше по нраву.
– Я знаю, – сказал Владимир с принужденным смехом. – Хотя и в винах разбираешься, как ромейский поставщик императорского дворца!
– Что делать, – ответил Добрыня, – мне приходилось бывать с красной ложью в Царьграде.
Владимир взглянул остро, выискивая намек на сложные дипломатические задания, которые тот успешно выполнял в столице столиц, но лицо Добрыни было неподвижно, сказал и сказал, хотя в глазах заметна странная тревога…
– Ладно, – сказал Владимир примирительно, – сядь, попируй малость… А то скажут, что гнушаешься князем. Здесь кто только не смотрит, где что не так лежит! И от ромеев лазутчики, и от готов, и вообще всякие разные. Известно же, что кто сегодня не пьет, тот завтра родину продаст…
Добрыня с некоторой напряженностью опустился на стул с высокой резной спинкой. По всей палате возобновился шум и гам, громче зазвенела посуда, застучали ножи и ложки, замелькали руки с сочными ломтями горячего мяса, пошли с подносов на стол расписные кувшины.
Перед витязем поставили золотой кубок, украшенный изумрудами. Сам Владимир, выказывая особое расположение, наполнил доверху красным как пожар вином, терпким даже по запаху. Добрыня внимательно рассматривал пирующих. Знакомых лиц мало. Самые именитые герои, судя по всему, на дальних заставах богатырских…
Но и здесь хватает тех, о силе которых с восторгом и завистью рассказывают по вечерам. Он увидел и страшного в рукопашном бою Зарея Красного; и великана Кышатича, который берет на плечи коня с дружинником в полном вооружении и так бежит наравне с быстроногим княжеским скороходом; коварного хана Улана, который сегодня с князем, а завтра с такими же честными глазами бьется супротив его дружины, и всегда прав: князь-де нарушил такой-то договор; славного витязя Слегу Загорного, знатного великими победами над темным народом гелонов; старейшего из богатырей Корневича, который изгонял за море первых варягов, потом изгонял Рюрика, затем сам же и приглашал его после долгой смуты; воеводу над всей легкой конницей – Сухмата; могучего Микулу; и совсем редкого гостя на княжеском пиру – Велигоя Волчий Дух…
Напротив Добрыни хлестал дорогое вино, как простой кумыс, огромный детина с раскосыми глазами и высокими скулами. Черные как смоль и прямые, будто конская грива, волосы, толстые, как кабанья щетина, падают на широченные плечи. Тяжелые веки поднимаются изредка, и тогда глаза блистают остро и злобно. Дюсен, единственный сын заклятого врага Киевской Руси хана Жужубуна, был взят в заложники с малых лет, вырос и возмужал при киевском дворе, но часто говорит во хмелю, что мечтает вырваться из города и вернуться в родные степи, откуда страшно отомстит Киеву.
Но не видать побратимов – Михайла Потыка и Ильи Муромца, только Алеша Попович вон по ту сторону стола, нет Залешанина, о котором ходят слухи, что только у него на поясе нож из небесного железа, что, как лист лопуха, прорежет княжескую кольчугу, не видать огромного вятичского витязя Валуна, который в полном вооружении и с тяжелым топором в руках перепрыгивает через трех оседланных коней. Пусто место грохочущего смехом Шерстобита, который в западных землях на турнире выбил из седла двенадцать рыцарей, не сменив коня и не поломав копья, которое ему подарил однажды сам великий князь. Зато на месте погибшего старого гиганта Корнедуба скромно сидит и почтительно слушает старших молодой и отважный Ратьгой, уже успевший показать и силу, и сноровку, и воинскую выучку.
Сквозь стук кубков и веселые крики он услышал вблизи звонкий, задорный голос:
– …А за ними живут рароги из рода радегастов, что значит – сыны моря. Нет рарогам равных в набегах на берега, силы они небывалой! Один такой удалец бросается на целое войско, ревет и крушит все подряд, а когда нет врага, от ярости грызет края щита. Если проткнуть насквозь хоть десятью копьями, все одно – бросается на врага, бьет и крушит, убивает людей как кур, ведь каждый рарог силы немереной… а когда падает и умирает, то не от ран, а от изнеможения…
Добрыня увидел, что многие, слушающие Алешу Поповича, поглядывают в его сторону. Кивнул, добавил ровным мерным голосом:
– Да, крепкие воины. Жаль, коней боятся, никто ни в жисть верхом не сядет. Да и никогда еще рароги, как и всякие там мурманы, не бились корабль на корабль в открытом море. Всегда, повстречавшись, плывут оба к мелководью, а там уже выпрыгивают и, по колено в воде, кидаются друг на друга. Так что наши ушкуйники всегда берут верх, если встречают вдали от берега…
Алеша нахмурился: только что слушали с раскрытыми ртами, а теперь все внимание Добрыне, повысил голос:
– А еще мы прошли через земли бодричей – вот уж скажу, вояки знатные! Все, как один, будто капли воды: знать, от одного отца, а еще говорят – от брата с сестрой, огромные и плечистые, к лесу привычные. Когда бодрич идет по лесу, трава под ним не гнется, но медведя убивает кулаком, лешего рвет пополам. Ни один враг не смеет зайти к ним в лес, сразу смерть находит…
– Крепкие воины, – добавил Добрыня. – Непобедимые, неуязвимые. Силу от своих вековых дубов получают! Но как только выйдут из леса, их даже петух бьет. А что такое подсечное земледелие, знаете? То-то и оно. Жгут леса, наступают пашнями. Эти герои уходят в леса все глубже… Точнее, отступают.
Алеша нахмурился, улыбка стала уязвленной, повысил голос и заговорил в сторону слушающих его с открытыми ртами:
– А еще я трижды встречал удивительный народ – урюпинцев…
Кто-то переспросил недоверчиво:
– Трижды за этот раз?
– То-то и оно, – поклялся Алеша. – Конь у меня знаете какой? Скачем выше леса стоячего, ниже облака ходячего! Сегодня я в снегах бьюсь с удивительными снежными людьми, а завтра уже сражаю чудо-юдо лева в жарких песках под деревьями, где листья веником! Но всякий раз встречал урюпинцев. Ахал, а они так невинно: так мы ж кочующее племя… Едем себе потихоньку, землю для проживания выбираем. Ничего себе «потихоньку», говорю, а как же тогда, если понесетесь вскачь? А мы не спешим, отвечают…
Добрыня улыбнулся:
– Богами сказано, что та земля, где они остановятся, будет счастливой. Вот и выбирают уже несколько тысяч лет.
– Тыщи лет? – ахнул кто-то. – Это ж сколько?
– Спроси у Белояна, – отмахнулся Добрыня.
– А еще я встретил по дороге к Жар-птице, – повысил голос Алеша, – дивные народы песиголовцев, меклегов, аримаспов, лютичей… Вообще скажу, что никто из живущих на белом свете не сравнится с лютичами в стрельбе из лука. Разве что аримаспы? Но те вообще не люди, а из людей никто не может бить птицу за двести шагов…
Богатыри загалдели, как гуси на базаре. Один сказал глубокомысленно:
– Коневич может. Да и ты тоже с луком в руках родился.
Добрыня подтвердил:
– Попович сможет. Он бьет за двести шагов перепелку без промаха. Правда, у аримаспов всяк бьет на двести шагов птицу в полете, а Лешак один из всей дружины! А лучшие из аримаспов так и вовсе… Может, они и на тыщу шагов стрелой достанут? Никто не ведает.
– Коневич ведает, – снова сказал тот же богатырь. – Он с аримаспами год прожил!
Его сосед недовольно возразил:
– Ну, про Коневича говорить не след. Он сам, может быть, не человек.
– Не человек?
– Ну, не совсем человек. А у нас про людев речь, морда ты неумытая!
– Ах, это у меня неумытая?!
Добрыня поставил кубок, князь не смотрит в его сторону, все галдят, и каждый старается перекричать другого, как можно незаметнее поднялся и вышел из палаты. За дверью ощутил толчок, на пол с дребезгом посыпалась посуда. Жареные гуси раскатились по выскобленным добела половицам. Ополоумевший от спешки слуга быстро подобрал жаркое, уложил в прежнем порядке и метнулся в палату.
Со второго поверха необъятный княжий двор как на ладони. Народу всегда как муравьев на дохлой жабе. Столы под открытым небом, смачно парует жареное мясо, желтеет мед, слуги то и дело подкатывают бочки с пивом. Ближе к воротам исполинский дуб укрывает тенью половину двора, смотреть боязно на ствол в пять обхватов, весь в трещинах, наплывах и наростах, а узловатые ветви переплелись как надежная крыша. Этот дуб, по преданию, посадил сам Вандал, дед или прадед Славена, от которого и пошел род славов. Славы, самый неуживчивый народ на свете, постоянно разбредались по окрестным землям, везде основывая свои племена. Иные стали зваться по местам, где жили: древляне, поляне, дряговичи, другие по именам их прародителей: от Вятко пошли вятичи, от Радима – радимичи, но еще больше тех, которые непонятно почему так зовутся, и стало уже славянских племен как капель в море, песчинок в реке, и с каждым днем они все множатся.
Если княжеский пир одновременно и военный совет, то пир на подворье тоже не просто пьянка. Степенно обсуждаются нравы соседей, договариваются породниться семьями, торгуются, уговариваются вместе собраться в набег на соседей. Из раскрытых поварен валят клубы пара, несет запахами жареного мяса и рыбы. Все смешивается с ароматами горящего железа – в кузнице трудятся день и ночь, подковывая коней, выправляя сбрую, перековывая мечи и оттягивая концы плотницких топоров, что делает их боевыми.
Три огромных котла выставлены на двор, там же на исполинских вертелах поворачиваются над жаркими углями туши молодых быков. Между столами оставлено место для тех, кому не терпится подраться, такой же утоптанный ток издавна отведен и перед теремом, чтобы и князь с его богатырями мог поглядеть сверху на силу и удаль простого люда, и если кому повезет, попадет в княжью дружину.
Глава 2
Он вздрогнул, по спине пробежали мурашки. Чувство опасности стало таким сильным, что рука невольно метнулась к ножу на поясе. Огляделся, но вокруг пусто, только со двора доносилась пьяная песня, а из Золотой Палаты стал слышнее гул голосов.
Прямо из стены выступила огромная фигура с медвежьей головой, но телом массивного дородного воеводы. На человеке слегка колыхалось белое одеяние, а маленькие глазки смотрели пристально.
– Вижу, – проговорил он настолько тяжелым густым голосом, что скорее ревом, – шкурой меня почуял…
– Почуял, – буркнул Добрыня. – Будь здоров, Белоян. Только в другой раз не подкрадывайся как тать. Зарублю.
Верховный волхв поманил за собой. В коридоре огляделся, внезапно толкнул неприметную дверь. Добрыня поспешно шагнул за ним через порог. Дверь захлопнулась, тяжелая, без зазоров. Далекие крики гуляк отрезало как ножом.
Маленькая комнатка, узкое окошко, стол и две широкие дубовые лавки. Белоян кивнул, сел напротив. Острые медвежьи глаза смотрели цепко, в них горели недобрые огоньки.
– Говори, – потребовал он.
– О чем?
Добрыня сел, спина прямая, лицо надменное, а челюсть выдвинул так, что даже у волхва, несмотря на миролюбие, зачесался кулак от жажды двинуть в зубы. Он остался стоять, но Добрыня и сидя ухитрялся смотреть сверху вниз, высокомерно и покровительственно.
Белоян покачал головой:
– Ты можешь сколько угодно рассказывать, что устал в дороге. Но я вижу в твоих глазах печаль и тревогу. Что-то случилось?
– Да так… Ничего серьезного.
– Говори!
– Белоян, – ответил Добрыня с неудовольствием, – это мелочь… Не настолько уж я и встревожился. Просто на днях явился мне один черт… Или демон, хотя сам он назвался богом. Сказал, что из старых богов, которых мы позабыли. И что терпение его лопнуло. Требует жертв и признания своей власти.
Говорил он легко, беспечно, улыбался красиво и мужественно, но Белоян следил за лицом богатыря, хмурился.
– Что он восхотел?
– Всего лишь коня в жертву.
– Твоего?
Добрыня покачал головой:
– Я тоже его спросил. Он сказал, что ему все равно, чей конь, лишь бы конь был боевым, а не рабочей лошадью, что таскает плуг.
Наступило молчание, Белоян спросил после паузы:
– Жертва не велика. Почему ты отказался?
– Уже знаешь, что отказался?
– Достаточно знать тебя.
Добрыня откинулся к стене. Широкая спина уперлась в толстые надежные бревна. Красивое мужественное лицо напряглось, под кожей вздулись рифленые желваки.
– А что бы ответил ты?
Белоян развел руками:
– Ну, я – другое дело. Я волхв…
– А я, – ответил Добрыня надменно, – человек. И не могу склонять голову перед… – Он запнулся.
Белоян спросил с нажимом:
– Перед кем?.. Или – чем?
– Я могу, – ответил Добрыня тише, – склонять голову перед справедливостью, перед чужой правдой. Но не склонюсь перед силой! Этот бог… кто бы ни был, не попросил меня принести ему жертву. Я знаю, боги без жертв чахнут и мрут. Он потребовал! – Он снова умолк.
Белоян спросил быстро:
– Ну-ну! Самое важное!
– Он сказал, – выдавил Добрыня с неохотой, – что если я не принесу ему эту жертву, то через двенадцать дней в моем доме будет пожар. – Он умолк.
Белоян неотрывно смотрел в темное, как грозовое небо, лицо витязя.
– Ну, пожаром тебя не испугать. Что сказал еще?
– Что в огне погибнет мой отец.
Белоян после паузы спросил осторожно:
– Это когда было?
– Десять дней тому.
– Значит, через два дня?
Добрыня сказал угрюмо:
– Думаю, послезавтра. Но вряд ли наши боги допустят, чтобы появился какой-то чужак, начал требовать себе жертвенники, капища.
Белоян после паузы проговорил, морщась:
– Наши боги… знаешь ли, чересчур терпимы. Им бы поесть да поспать. А просыпаются, когда враг уж совсем на горле. Счастье еще, что силы неимоверной!.. Но и беда. При такой силище слишком благодушны. Уверились, что никто одолеть не сумеет. Вот и проводят время в пирах да веселии, как наш князь.
Добрыня нахмурился:
– Владимира не замай. Сам знаешь, для него это не пиры.
– Знаю, – согласился Белоян, – так, к слову… Его имя только ленивый не треплет. Знаешь, ты хоть и отверг того бога, но на всякий случай за домом проследи. В Киеве что ни день, то пожар! В такую жару да сушь от малой лучинки весь город сгорит!.. Как уже не раз сгорал. Дотла сгорал. Какой он с виду?
По быстрому ответу Белоян понял, что облик чужого бога все еще стоит перед глазами отважного витязя.
– Похож на большую толстую ящерицу, однако ростом с барана, покрыт каменной чешуей. На спине гребень, как у стерляди. Вид такой, словно в земле пролежал века… Зеленый, мох по всему телу… Ростом, как уже сказал, мне по пряжку пояса. Но в плечах широк… С виду не так уж и силен… Прости, я о своем! Морда широка, но это ж ящерица… Но что дивно, на плечах шкура тарпана. Я таких не видел!
Белоян поморщился:
– Подробнее.
– Чересчур простенько для бога. Как если бы срезал сам. Еще на нем простой ремень. Из невыделанной кожи!
Медвежья морда казалась неподвижной, но Добрыня видел, как под мохнатой кожей ходят широкие бугры мышц, а на широком лбу пытаются собраться морщинки. Когда Добрыня умолк, Белоян проронил тяжело:
– Что из невыделанной – понятно… Это только кажется, что мы родились со всем умением на свете. А боги – не люди, к новому привыкают медленнее. Может быть, у него самый первый на свете пояс? Потому и простой, что бог из древних, потому и в шкуре дикого коня… Но осталась ли в нем хоть капля мощи? Вряд ли…
Добрыня оживился, перевел дух, даже лицо порозовело. Сказал уже громче:
– Вот и я сразу подумал. Перуну по всей Старой Руси, Новой и двум окраинным жертвы возносят, а теперь еще и в Киевской Руси столбы поставили, молодых телят и пленников режут! Кто с ним сравнится по мощи? Разве что Велес, ему еще и молодых девок топят по весне, а осенью младенцев закапывают, чтобы урожай дал… Я так понимаю, что бог, которому не дают жертв, разве что может?
– Правильно понимаешь, – одобрил Белоян. – Правильно.
– Просто пугает, верно?
– Просто пугает, – повторил Белоян.
Пожаром неведомый бог пригрозил на послезавтра, но уже с ночи напротив дома Добрыни начали прогуливаться крепкие мужики. Добрыня узнал гридней из личной охраны князя. Белоян придерживается старой мудрости: на бога надейся, но к берегу греби. Пугает или нет чужой бог, но на всякий случай пусть погуляют парни на людной улице. Пусть даже на день раньше. На случай, если Добрыня дни перепутал, чужой бог ошибся в днях или вообще… так, на всякий случай.
Милена, все такая же добрая и ласковая, не возгордившаяся, что ее муж – самый знатный витязь на всей Руси, за его отсутствие малость раздобрела, но лицом оставалась такая же светлая, глаза ясные, а голос звучал приветливо.
Сейчас она быстро собрала на стол, поклонилась свекру, стукнула по лбу ложкой племянника, маленького Бора, что норовил первым зачерпнуть горячей разваристой каши.
Когда-то семья была побольше, но мать Добрыни прибрали боги, как и двух детей, что померли во младенчестве, так что за огромный стол сейчас усаживались вчетвером. Сам глава рода – Мал, его единственный сын Добрыня, невестка Милена и маленький Бор, сын рано умершей сестры Милены, его звали просто Борькой.
После короткого благодарственного слова богам обед проходил в молчании. Слышался только стук ложек, довольно покряхтывал отец, каша удалась, по всей комнате шли волны мясного духа и разваристой гречневой каши. Когда-то князь крупного племени древлян, а по меркам западных земель – король, Мал много воевал, ходил в походы, огнем и кровью объединил три десятка племен в единое целое, но потерпел поражение в схватке с Киевом, где утвердились пришельцы с севера. Был схвачен, увезен в полон. Казнить княгиня Ольга не решилась: у древлян тут же появится новый князь, все начинай сначала, а так законный князь древлян у нее под замком. Двух детей, Малушу и Добрыню, держала в Киеве под надзором. Малушу выдала замуж за сына Святослава, расчет прост: ее внуки уже и по древлянским законам могут претендовать на власть над все еще непокорными племенами. Добрыню держала вместе с челядью, где он вскоре начал выделяться силой и удалью, стал отроком. Его взяли в младшие дружинники, а через год уже перешел в старшие богатыри.
Мал, сломленный растущей мощью Киева, переживал поражение болезненно, но затем как-то охляп, затих, в его глазах уже не было прежнего огня. Все еще громадный, похожий больше на скалу, чем на человека, за последние годы плена оброс лишней плотью, двигался медленно. Грохочущий голос стал тише, а длинные седые волосы, пышно падавшие на спину и плечи, заметно поредели и теперь едва ли защитили бы от ударов сабли. Да и стали тоньше, почти человеческие, а раньше были как у кабана щетина! Конский волос и то тоньше. Теперь Мал чаще проводил время в беседах с волхвами о небесных знамениях, чем вспоминал победные сражения с такими же лесными племенами.
Добрыня с детства видел красочный мир Киева, вырос на берегу великой реки, постоянно зрел иноземных купцов, заморских гостей, слышал чужую речь. Ему давали подержать драгоценные мечи, узорные ткани, а когда однажды взяли как отрока в дальнюю поездку за данью в одно из лесных племен, со страхом и удивлением, что перешли в горечь, увидел, что на самом деле мир его отца и дедов маловат и скуден.
Святославу часто нашептывали на молодого богатыря: мол, волчонок отомстит за пленение родителей и разор царства, которое его царство, но Святослав отмахивался: не дурак Добрыня, хоть и силен. Здесь он уже получил больше своим умом и отвагой, чем если бы сидел лесным царьком в глуши…
Пленного князя Мала насильно окрестили, греческий священник при княгине Ольге нарек его Никитой и долго внушал, что отныне он раб не только великой княгини, но и божий и что сам бог велит во всем повиноваться своим господам, не перечить, а буде те врежут по правой щеке, тут же подставлять левую. Мал хмуро молчал, он знал, что княгиня Ольга, приняв чужую веру, должна именоваться Еленой, так ее переназвали чужаки в черных одеяниях, но и другие ее зовут по-прежнему Ольгой, и сама себя так кличет. А левую щеку никому не подставит.
Милена собрала пустые миски. Добрыня указал глазами на Бора, она тут же ухватила мальчонку за руку:
– Пойдем со мной, поможешь мыть посуду.
– Не хочу… Я посижу послушаю!
– Борька, не упрямься, – сказала она строже. – Это же так интересно!
– Что? – удивился малыш. – Мыть посуду?
– Миски были грязные, – объяснила она, – а начинают блестеть!
– Мужчины посуду не моют, – ответил он гордо.
– Расти быстрее, – засмеялась Милена, – вот и станешь мужчиной. А пока годишься только мыть посуду. Пойдем, не упрямься.
Когда за ними захлопнулась дверь, Добрыня повернулся к отцу. В горле стоял ком, он все сглатывал, но тот лишь опустился ниже, передавил дыхание, остался распирать болезненно грудь.
– Отец, – сказал он тихо, – мне надо совет с тобой держать. Как скажешь, так и поступим.
Мал сцепил пальцы, столешница дрогнула под тяжестью его огромных жилистых рук. Глаза прятались под тяжелыми, набрякшими, как тучи, веками. Добрыня вслед за отцом положил руки на стол, застыл.
– Говори, – пророкотал Мал. – Что бы ни случилось, ты мой сын.
– Отец, – повторил Добрыня. – Двенадцать дней тому мне явился древний демон. Не наш и не славянский. Белоян сказал, что и не росский. Вообще каких-то неведомых народов, чьи кости выкапываем, когда роем колодцы. Он потребовал в жертву коня. И пригрозил, что если откажусь, то у меня сгорит дом, а в пожаре погибнешь ты.
Мал молчал, ждал. Добрыня тоже молчал, в комнате застыла тяжелая, напряженная тишина. Наконец Мал проговорил неспешным рокочущим голосом, далеким от старческого:
– Я не понял, о каком совете речь?
– Отец…
Он смешался, внезапно ощутив, что из непонятной трусости переложил тяжесть решения на отцовские плечи. Начал подыскивать слова, сейчас бы попятиться, однако Мал уже сжал и разжал огромные кулаки со старчески вздутыми суставами, пророкотал неспешно:
– Что за молодежь пошла? Вот в наше время… Сын мой, разве мы когда торговали честью? Ты и сейчас служишь не князю, а земле нашей. Если суждено погибнуть в огне, то так тому и быть. Конечно, лучше бы от меча… Но и то хорошо, что не в постели. Пусть в постели мрут бабы. Я ответил тебе, сын мой?
Добрыня обошел стол, обнял отца. Совсем недавно ему чудилось в таких случаях, что обнимает разогретую на солнце скалу, руки коротки обхватить отцовские плечи, но теперь то ли руки вытянулись, то ли отцовские плечи усохли, прижал отцовскую голову к груди.
За окном простучали копыта, звонко пропел петух. Слышно было, как проехала телега с несмазанными колесами. Мал отодвинул сына-богатыря, хлопнул по плечам:
– У героев, сын мой, иные дороги, чем у пахарей.
– Знаю, отец… Но это когда своя жизнь на кону!
– Да, – кивнул отец, – чужой распоряжаться труднее. Если не сам дрянь, конечно.
– Ни в жизнь не стал бы князем, – вырвалось у Добрыни. – Даже воеводой не хочу! Сколько посылал на смерть, а не привыкну…
За полночь лег в теплую постель, уже согретую Миленой, обнял ее мягкое тело, но мысли блуждали далеко, а взор шарил по потолочным балкам. Она посопела рядом, ее голова умостилась у него на плече. Пальцы ласково пощекотали ему живот, вскоре он услышал ее тихое сопение. Набегавшись за день, она заснула как ребенок, тихо и счастливо.
Он не стал высвобождать руку, так и лежал, пока, наконец, веки не стали тяжелее свинцовых глыб, а вместо закопченных бревен увидел небо и скачущих там коней.
Глава 3
На заставах привык ночевать у костра, спать на голой земле, на камнях, на песке, на дереве, на снегу, а когда попадал в этот огромный двухповерховый домище, раскинувшийся крыльями на полдвора, морщился в недоумении: неужто это принадлежит ему?
Уже не раб, а знатный боярин, а боярину и терем боярский. Сегодня с утра долго и с недоумением бродил по многочисленным светлицам, горницам, палатам, опускался в глубокие подвалы, где рядами висят копченые туши, окорока, связки колбас. Зашел и в винный подвал: бочки с вином до самого потолка, нигде ни факела, ни светильника, кроме того, что в руке. Когда поднялся в светлицу жены, сурово велел загасить купленные за большие деньги у ромеев нежно пахнущие свечи.
– День яснее не бывает, – сказал он сурово, – куда твоим свечам супротив солнышка!
– Да я так, – ответила жена виновато. – Пахнут больно сладко.
– Погаси, – велел он.
– Как велишь, – сказала она испуганно.
– И не зажигай сегодня вовсе. Поняла? Завтра можно, сегодня нельзя. Пройди по терему, проверь еще. Чтоб ни факела, ни светильника. Увидишь у кого кремень и кресало – отбери!
– Да-да, – согласилась она поспешно, – день ясный, солнце во все окна… И так глазам больно! Неча зря транжирить.
– Вот-вот. Скажи, если надо, насчет бережливости.
– Как скажешь!
Двор он осмотрел тщательнее, чем по дороге на заставу осматривал подозрительные овраги и балки. В кузнице велел загасить горн, а повара и стряпух отправил в село проведать престарелых родителей.
К вечеру, когда солнце опускалось к виднокраю, ноги подкашивались, словно он трое суток бежал без воды и еды в полном доспехе, с мечом и щитом. Тягостное ощущение заставляло вздрагивать, с огромным трудом держал спину прямой, а плечи гордо развернутыми. Огромный багровый диск сползает по красному небосклону, как яичный желток по раскаленной сковороде, ветерок утих, наступает вечер…
Терем и весь двор, как в болото, погрузились в тянущую тишину, а тут неуместно громко по ту сторону забора послышался звонкий перестук копыт. Чей-то конь промчался в сторону ворот. Послышался требовательный стук. Добрыня открыл сам, во двор въехал, гордо подбоченясь, на высоком тонконогом коне Векша, молодой и верткий гридень князя, услужливый и подловатый.
Конь встал на дыбки, послушный, чуткий, звонко заржал. Копыта красиво потоптали воздух, а гридень бросил свысока:
– Что-то не торопишься перед княжеским человеком открывать ворота, Добрыня!
– За воротами не видно, – буркнул Добрыня.
– Чуять должен, – сказал Векша еще громче. Голос стал угрожающим. – Перед князем что-то скрываешь?
– Ты пока еще не князь, – отрезал Добрыня недружелюбно. – Что надобно?
– Князь Владимир изволит… – сказал гридень значительно. – А ежели великий князь изволит, то что ты супротив?.. Так, не человек даже…
На крыше аист поджал ногу, застыл, разогретый за жаркий день, теперь уже спит в тишине. Оранжевая солома на крыше хлева блестит, как расплавленное червонное золото, глазам смотреть больно. В окне терема на миг мелькнуло цветное платье жены. Во дворе все тихо, труба не дымится, все заснуло до утра.
– Так что же изволит князь?
– Великий князь, – сказал Векша угрожающе.
– Что изволит великий князь? – спросил Добрыня.
– Вот так-то лучше, – сказал Векша снисходительно. – Кто сегодня умаляет княжеское имя, завтра Русь продаст!
Добрыня стиснул зубы. Это не застава богатырская, а Киев, где всякая дрянь не только выживает, но и пристраивается. Всяк падок на лесть, а князь тоже человек. Подхалимы оттирают защитников земли сперва от княжеского стола, потом и с подворья.
– Ну-ну, – сказал он сдавленно, – ты тоже забыл, с кем разговариваешь, тварь.
Векша дернулся, конь под ним раньше ощутил злость огромного человека, пугливо попятился. Белесые шрамы на лице сурового хозяина терема сперва побелели, а потом стали страшно багровыми, вздулись, как растолстевшие сороконожки. Векша спохватился, не всяк склоняется перед княжеским гриднем! Иной сразу на дыбки, таких имя князя не пугает, прут на рожон, их не понять, от таких надо подальше…
– Ну, – сказал он поспешно, – князь не сказал…
Рука Добрыни метнулась вперед, словно стрела, что сорвалась с тетивы. Ногу Векши дернуло, он ощутил, что летит по воздуху. В спину грохнуло, в хребет больно ударила твердая как камень земля. В следующее мгновение огромная и крепкая, как ствол дуба, рука воздела Векшу. Расширенные глаза гридня оказались на уровне лица богатыря. Но Добрыня на земле, даже ноги расставил в стойке кулачного бойца, а подошвы гридня скребли по воздуху.
– Гм, – сказал Добрыня со зловещим спокойствием, – удавить тебя, что ли?..
– Добрыня… – прохрипел полузадушенный Векша. – Я княжеский гридень!
– Ага, значит, гридень… – сказал Добрыня задумчиво. – За смерда полгривны виры… за гридня – гривна, а за княжеского – полторы… Плевать, не в деньгах счастье, верно? У меня эти гривны складывать некуда. Подвал завален, надо тратить!
Векша завизжал. Сильные пальцы стянули кольчугу на груди в ком, все тело сжало, как лягушку в мешке. Глаза Добрыни вперились в его лицо с такой силой, что у Векши из обеих ноздрей потекли тонкие красные струйки. Он заплакал, с ужасом ощутив, что хотя за спиной блистает имя грозного князя, но все же его, княжеского гридня, можно удавить как червяка, заплатить за такое удавление небольшую виру и забыть…
Добрыня повел носом, с удивлением взглянул на землю. Из сапог вестника текла желтая вонючая струйка. Векша плакал навзрыд, маленький и жалкий. В следующее мгновение он полетел в эту лужу, а Добрыня мощно и страшно свистнул.
С грохотом, будто под ударом тарана, распахнулись ворота конюшни. Из темноты в полумрак двора выметнулся огромный белый жеребец. Роскошная грива развевалась по ветру, хвост стелился следом широкий и длинный. Глаза горели дикие, кровавые, а когда открыл пасть, мелькнули огромные и совсем не по-лошадиному острые зубы.
– Мразь…
Векша видел, как могучий витязь легко метнул огромное тело на конскую спину. Жеребец заржал так, что затряслась земля, а с деревьев посыпались листья. Вжавшись в дурно пахнущую землю, гридень всхлипывал, его трясло. Снова он ощутил себя маленьким и жалким, как когда-то в детстве. И снова услышал ненавистный голос отца – тот говорил, что надо самому быть сильным, а не становиться у сильных шутом и слугой.
Горбик багрового диска исчез за темным краем земли. Недобрые сумерки пали на улицы города. Добрыня несся вдоль домов, однако летняя ночь наступает стремительно, и когда впереди показался княжеский терем, над ним уже колыхалось темное звездное небо.
Бросив поводья мальчишке, почти бегом поднялся на крыльцо. Стражи узнали, отступили от входа. Один даже открыл перед богатырем дверь, и когда Добрыня взбегал по лестнице на второй поверх, он чувствовал на спине восторженный взгляд стража и не забывал держать спину прямой, а плечи развернутыми.
В просторной светлице спиной к нему стоял высокий, узкий в бедрах человек. Гладко выбритый череп отливал синевой, а иссиня-черный чуб, похожий на толстую змею, свисал до плеча, касаясь темно-красного плеча. На скрип половиц обернулся, на Добрыню взглянули темные впадины, похожие на пещеры. Глаза прятались глубоко, лицо казалось вырезанным из серого камня, но Добрыне почудилась глубоко упрятанная вечная тоска.
– Как семья? – спросил князь. – Как отец?
– Спасибо, княже, – ответил Добрыня угрюмо. – И жена здорова, и отец крепок. И твоим всем женам желаю такого же здоровья… Что-то стряслось?
Князь усмехнулся:
– Да ничего особенного. Просто на тебя наговаривать начали… особенно упорно. Не чтишь меня, неволю ощутил, удельным князем стать вознамерился. Даже ромеям готов меня продать. Интересно мне, что за этим кроется? Кому ты так насолил? Самые разные люди говорят!.. Вроде бы совсем друг с другом не связанные. Да ты сядь, в ногах правды нет.
Но сам не сел, прохаживался в задумчивости по горнице. В трепещущем свете факелов лицо выглядело еще резче, злее, а складки стали глубже. Добрыня не чувствовал неловкости, что расселся в присутствии князя, на Руси пока что не такие строгие правила, как в старых королевствах Востока или Запада, к тому же постарше князя, ходил в его наставниках.
– Не знаю, – ответил он.
– Исчерпывающий ответ, – усмехнулся князь. – А какие предположения?
– Ты князь, – уклонился Добрыня. – С дальней заставы богатырской дела княжества смотрятся как-то иначе.
– А как? – спросил Владимир. – Как? Добрыня, ты что-то таишь. Ты ведь старший дружинник! А это выше, чем бояре. Старшие дружинники – это мои друзья. Они водят войска, когда ведем войны. Им я доверяю управлять землями, когда отбываю на кордоны. Им, а не знатным боярам. Но у тебя что-то завелось тайное… Что на окна-то глядишь?
Добрыня вздрогнул, князь посматривает подозрительно. Все помнили, как совсем недавно прямо в окна лезли нанятые убийцы. А предавали совсем близкие люди.
– Да так, – ответил он неопределенно. – Жду полночи.
– Зачем?
– Что-то мне полночь больно нравится.
Владимир смотрел исподлобья, в черных глазах росла подозрительность.
– Петухи еще не кричали… Или тебе нужна не просто ночь, а полная луна?
Добрыня буркнул:
– Зачем?
– Тебя в древлянской земле называли Добрыней Лунным, – ответил Владимир с усмешкой. – Да и тут иногда…
Их взгляды встретились. Оба знали, о чем речь. Юная красавица Белокорка, жена Мала, однажды понесла свою годовалую дочь Малушу в корзинке к лесному озеру, искупать, заодно самой поплавать в чистой спокойной воде. Было это вечером, когда солнце уже зашло, на небе вечерняя заря, а в медленно темнеющем небе уже проступает пока еще бледный диск или серпик месяца…
В городище заметили, как вдруг налился светом месяц, но только Белокорка знала, что случилось. Когда сняла одежды и нагая вошла в тихую воду, с неба упал ясный луч. Свет был настолько ярок, что просвечивал воду до самого дна. Она видела корни болотных растений, дивных безглазых червей в бездне, что подняли головы и смотрели на ее белое тело.
Устрашившись, она поскорее выбралась на берег. Но там ощутила такое томление, что легла на мягкую траву, раскинулась в неге, чувствуя, как по всему телу ходят прохладные пальцы, как некто незримый трогает ее за грудь, подминает, берет грубо, горячо… Когда она наконец встала, уже чувствовала, что понесла от неведомого, явившегося в лунном луче. Малуша мирно спала в корзинке, улыбалась во сне. Белокорка чувствовала себя настолько странно, что ухватила корзинку и поспешно вернулась в городище, так и не помыв дочку. С того дня брюхо ее начало расти.
На седьмом месяце она как-то пошла в лес, где князь Мал указывал, где строить первые засеки супротив киевских насильников. То ли злой умысел, то ли случайность, но столетняя сосна обрушилась на Мала. Белокорка подбежала первой, увидела перекошенное лицо мужа. Его вбило по колени в землю, он хрипел, держался изо всех сил, дерево вот-вот сломает ему спину, и Белокорка поспешно подставила плечо, приподняла тяжелый ствол.
Когда подбежали плотники, она уже лежала на земле, а Мал с безумными глазами стоял перед ней на коленях, умолял не умирать, обещал богам любые жертвы. Белокорка выжила, но родила прямо тут же, в лесу. Сам Мал в присутствии десятка мужиков принял роды, отнес недоношенного ребенка в городище.
Никто не думал, что ребенок выживет. У Белокорки молока не было, сама металась в горячке, ребенка поили молоком диких лосей, волчиц, даже медведиц, благо их всегда куча на цепи. Рос не по годам быстро, однако, в отличие от других детей, не любил шумные игры, а в светлые ночи часто выходил во двор и сидел на крылечке. Его недетски серьезное личико бывало обращено к месяцу.
Когда ему исполнилось семь лет, кто-то из взрослых мужиков обозвал его недоноском. Мальчишка молча ухватил обидчика, все увидели, как от усилий покраснели оба. Затем хрустнули кости, изо рта мужика плеснула кровь. Добрыня отпустил обидчика, тот рухнул с переломанными костями. На Добрыню все уставились со страхом и великим почтением. А старый мудрый волхв пробормотал: «Дурни вы все, радоваться надо, а не зубы скалить! А если бы родился доношенным? Все бы здесь разнес…»
– Тебя тоже называют, – ответил Добрыня сумрачно. – Только по-разному… Еще как по-разному!
Далеко в ночи вроде бы озарилось багровым. Свет едва был отличим от ночи, но сердце у Добрыни едва не выпрыгнуло. Он не помнил, как вскрикнул тонким срывающимся голосом:
– Пожар?.. В той стороне мой дом!
Затем все словно бы застыло, он один двигался среди остановившегося мира, несся через палату, успевая заметить и застывших с поднятыми кубками гостей, и красные рожи бояр, и веселых стражей в коридорах…
Дверь распахнулась в прогретый за день ночной воздух. Загрохотала земля под его сапогами, возле ворот сбоку выбежал младой отрок, держа в поводу коня. Добрыня бездумно толкнулся от земли, взлетел и плюхнулся на конскую спину, мелькнули ворота, дальше ветер засвистал в ушах, а улица понеслась навстречу.
Ночь стала совсем черная, как угольная яма, а впереди на багровой площади, залитой злым светом пролитой крови, страшно полыхал, как огромный стог сухого сена, терем. Стены из толстых бревен еще держались, но из окон и даже из-под крыши с диким воем, свистом, треском вырывался широкий оранжевый огонь.
Вокруг терема носились всполошенно люди. От колодца уже выстроилась цепочка мужиков, передавали ведра, набегали и, отворачивая от огня лица, с размаху плескали холодную воду на стены, на горящее крыльцо. Причитали бабы.
Добрыня едва не ринулся прямо на коне в дом, но сбоку раздался знакомый крик. С растрепанными волосами к нему неслась Милена:
– Добрыня!.. Добрынюшка!.. Горе-то какое!
– Отец?! – крикнул он, сердце сжало болью, а в горле встал ком. – Что с отцом?
Она ударилась с разбегу о коня, ее руки ухватили его за сапог. Он чувствовал, как дрожит все ее тело, а голос прерывается от плача:
– Отец… Ты бы хоть о Борьке спросил!
– Что с ним? – повторил он, глядя поверх ее головы.
– Ему обожгло руку до локтя!.. Сейчас бабка мажет гусиным жиром, отец вынес из горящего дома…
Он переспросил сдавленным голосом:
– Отец?
Она всхлипнула, все прижималась к его сапогу, растерянная и ищущая защиты. Дыхание остановилось в груди Добрыни: расталкивая зевак и сердобольных, вышел огромный темный старик, ведя перед собой хнычущего Борьку. Не сразу узнал в этом освещенном багровым заревом человеке отца – одежда обгорела, а серебряные волосы в саже и копоти. Теперь Мал походил на вожака лесных разбойников, даже двигался без уже привычной старческой осторожности и заметных усилий.
– Отец, – выдохнул Добрыня. Гора рухнула с его плеч, он чувствовал подступающие слезы облегчения. – Как хорошо…
Милена повернулась к мальцу, что заменял им сына, обхватила с негромким плачем. Тот стоял как маленький дубок, смотрел на огромного витязя исподлобья. Мал кивнул на бушующий огонь:
– Не знаю, как получилось… Печи не топили. Разве кто-то из слуг с лучиной баловался? Но я помнил твои слова!.. Как только занялось, не стал гасить, сразу за Борьку, а тут и княжеские люди набежали как муравьи… Меня прямо на руках вынесли!
Белоян, понял Добрыня. По его приказу. Он отшатнулся, в лицо полыхнуло жаром – из окон с жутким треском вырвались такие ревущие столбы огня, что в народе послышались крики: не бочки ли с кипящим маслом взрываются внутри, а то и греческий огонь, который в Киев привезла еще княгиня Ольга.
Милена всхлипывала, потом заголосила:
– Да что же это делается?.. Там же столько добра пропадает!.. Там же…
Мал сурово цыкнул:
– Умолкни! Зато мы все целы.
– Мы-то целы, – заголосила она еще громче, – а там у меня пять сундуков с белоснежным полотном!.. И Добрыне я рубаху вышивала петухами…
Мал отвернулся, с сыном смотрели на страшный костер, в котором огромный терем полыхал, как простая поленница дров. С правой стороны пламя удалось сбить, там плескали воду уже из двух колодцев. Даже к третьему дальнему выстроилась цепочка из набежавшего люда, особенно из соседских домов. Эти уже суетились с баграми, готовые растаскивать по бревнышку, дабы сохранить свои.
– Отстроим, – сказал Добрыня, на душе у него стало светло. – Даже если сгорит дотла, дня за три еще краше построим!
Цепкие пальцы Мала ухватили пробегавшего мимо дружинника с такой силой, что тот едва не упал на спину.
– Эй, эй! Это тебе я поручал вынести мой сундучок с книгами?.. Где ты поставил? Не сопрут?
А к Добрыне подскакал на маленькой печенежской лошаденке отрок, прокричал, запыхавшись:
– Добрыня!.. Там князь на той стороне привел воев! Тебя ищет!
Добрыня хлестнул коня, успел увидеть, как отец лается с дружинником, толпа раздалась, он по широкому, освещенному красным кругу обогнул горящий терем. С той стороны, вытаптывая огород и цветник, суетились люди в блестящих кольчугах и с железными шлемами на головах.
На глазах остолбеневшего Добрыни из окна прямо через стену красного огня выпал человек, перекувыркнулся в воздухе и встал на подошвы, только присел до земли. К груди прижимал шкатулку. К нему набежали воины и, отворачивая лица от огня, под руки бегом вывели на место, где можно было дышать.
Добрыня ахнул, узнав князя. Владимир, весь покрытый копотью, с обожженным лицом, но улыбающийся, протянул шкатулку:
– На! Тут твои камешки.
Добрыня взял из княжеской руки ларец, едва не выронил с руганью, металл раскалился и жег пальцы. Владимир захохотал, дружно заржали его дружинники.
Добрыня сказал, сердясь:
– Какого черта? Князю рисковать из-за камней?
Владимир ответил насмешливо:
– А чтоб не просил на новый терем. У тебя ж в этой шкатулке на три таких терема.
– Ну и шпионы у тебя, княже, – ответил Добрыня с упреком. – Добро бы за ромеями так, а то за своими!
– За своими тоже нужен глаз да глаз, – возразил Владимир уже серьезно.
Морщась, он снял шлем. По закопченному лицу текли струйки пота, прокладывая дорожки. Привычно черные мохнатые брови обгорели, отчего лицо великого князя показалось совсем юным.
Глава 4
От главного входа донеслись крики. Чувствуя неладное, Добрыня повернул коня. За спиной выругался быстроглазый князь, отчего мороз прошел по спине. Он погнал коня, а сзади загрохотали копыта множества коней.
На крыльцо бросались люди, плескали воду из ведер и бадей, отскакивали. На одном загорелась одежда. Его повалили и вываляли в грязных лужах. Милена выла в голос и бросалась в дом, ее удерживали силой.
Добрыня заорал еще издали:
– Что случилось еще?
Милена прокричала сквозь слезы:
– Твой отец!.. Он…
Он вскрикнул в страхе:
– Что с ним?
– Забыл свои проклятые книги!..
Добрыня спрыгнул с коня. Не помня себя, метнулся к пылающему крыльцу. Его ухватили за руки, он попробовал расшвырять державших, но с князем прибыли сильнейшие богатыри. Добрыня сумел протащить их почти до крыльца, жар опалил лицо и накалил кольчугу…
Страшно загрохотало. Тугая струя жара ударила, как могучая океанская волна. Их отшвырнуло, оглушенных и ослепленных. Добрыня сквозь багровый огонь увидел, как обрушилась вовнутрь терема крыша. Тяжелые бревна, рассыпая искры, исчезали в стене огня, в ответ взметнулось пламя еще яростнее, победнее. Земля вздрогнула от удара.
Добрыня упал на колени, закрыл лицо ладонями. Плечи тряслись, горький ком распирал сердце, грозил разорвать грудь.
– Отец… Отец!
Смутно слышал, как застучали копыта, тяжелая ладонь упала на плечо. Негромкий голос Владимира произнес:
– Что там было? Из-за чего он так?
Плечи Добрыни тряслись, ответить не мог, из-за спины прозвучал плачущий голос Милены:
– Да все книги, будь они неладны!.. Глаза бы выдрала тому, кто на старости лет дал ему грамоту!
Голос князя был полон участия:
– Книги книгам рознь. За иные стоит и в огонь… Добрыня, мы все с тобой. Твой отец был великим человеком. Сам знаешь, он давно уже не был пленником, как бы враги ни стравливали нас. Он все понял… и тоже строил Новую Русь. А сейчас ушел… красиво! Прямо в огонь, из которого мы все вышли. Вставай! Твой отец – это славное прошлое. А мы должны думать о дне завтрашнем.
Добрыня поднял бледное лицо, на щеках блестели слезы. Князь смотрел с глубоким участием. На молодом лице глаза были грустные и не по возрасту всепонимающие.
– Ты тоже думаешь, – спросил Добрыня с надеждой, – что он сам… сам так захотел?
– Знаю, – ответил Владимир твердо. – Мужчина всегда страшится умереть в постели, а твой отец был… образцом для мужчин. Не знаю, что за книги он читал, но от падающего бревна не стал увертываться… даже если и смог бы. Какую еще краду может пожелать по себе воин?
Терем полыхал, бревна трещали и раскалывались по всей длине. Огненные фонтаны били в небо, достигая звезд. Небо стало страшно и весело багровым, звезды померкли. Красное зарево освещало окрестные дома. Люди облепили крыши, как муравьи головку сыра, им подавали ведра с водой, там поливали, баграми спихивали занесенные ветром горящие щепки.
– Тогда пусть догорит, – проговорил Добрыня, в горле стоял ком из горьких слез. – Пусть это будет воинской крадой!
Владимир зычно крикнул:
– Отозвать людей! Следить, чтобы не перекинулось к соседям!
Остатки терема растащили, нетронутыми оставались только подвалы. Топоры начали стучать уже с ночи – по княжескому распоряжению плотники были переброшены с ремонта городской стены на восстановление терема именитого витязя. В багровом свете костров подвозили огромные толстые бревна, пахло сосновой стружкой. Стены росли медленно, но неуклонно. Десятки плотников работали и ночами.
Подошел грузный воевода, Добрыня по тяжелым шагам узнал Волчьего Хвоста. Тот посопел сочувствующе, предложил:
– Давай пока в мой терем!.. Там хоромы – заблудиться можно. И не знаю, зачем мне такие?.. Говорят, положено.
– Да положено, положено, – отмахнулся Добрыня. – Ты ж боярин.
– Или поместье в Родне возьми, – сказал Волчий Хвост. – Я там всего два раза побывал!.. Не все у ромеев надо перенимать, как смекаешь?
– Не все, – согласился Добрыня. – Спасибо, Волчара. Терем сгорел, но все пристройки уцелели. С недельку поживем, а за это время целый город поднять можно.
– Можно, – согласился Волчий Хвост. – Тем наши города и хороши…
– Чем? Что сгорают дотла?
– Что заново выстроить легче, – возразил Волчий Хвост. – Как та птица… как ее… что из пепла!.. Всякий раз можно строить иначе, лучше, шире, выше. Не то что ромейские города – зажаты в эти каменные стены, как устрица створками…
Добрыня кивал, умелый воевода все сворачивает на воинские тонкости, старается отвлечь от горьких дум, а мужчин проще всего отвлечь рассказами о необыкновенных мечах, каленых стрелах и быстрых как ветер конях. Да еще о строении крепостей, если мужчина не простой воин.
– Я пойду, – сказал он. – Ты уж извини.
– По делу аль как?
– Аль как. Просто по бережку реки. Подумаю.
– Не попади русалкам в руки, – предостерег воевода. – В такие ночи они особенно…
– Да нет, просто подумать надо.
– О чем?
– О жизни.
Свод выгнулся гигантской черной, как угольная яма, чашей. Звезд мало, тусклые и блеклые. Под ногами похрустывало, будто все еще шел по уголькам от терема.
Милена осталась обживать пристройки, суетливо указывала плотникам, где рубить и как вообще пользоваться топорами, Волчий Хвост взобрался на коня, послышался стук копыт удаляющегося коня, а он шел куда глаза глядят, перед глазами расплывалось, а в груди пекло, словно Людота всадил раскаленную полосу для меча. До этого дня про отца почти не помнил, но теперь внезапно ощутил тянущую пустоту, словно из души вырвали нечто важное.
Богатые терема остались далеко за спиной, мимо шли добротные дома кожевников, плотников, горшечников, мукомолов и пекарей, оружейников, наконец, потянулись мазанки и наспех вырытые землянки. Прохладный ночной воздух стал влажным, а звездное небо появилось внизу, только эти звезды подрагивали и качались на волнах темного, как деготь, Днепра. А потом из-за тучки выплыл блистающий полный месяц, яркий, загадочный. Сердце стукнуло чаще, взволнованнее. Он сразу вспомнил, что он не просто Добрыня, а Добрыня Лунный.
До берега оставалось с десяток шагов. Впереди, прямо в том месте, где он должен был пройти, в темной земле появился гнилостно лиловый свет. Он разрастался, словно из глубин темной воды к поверхности поднимался пузырь затхлого воздуха. Застыв, Добрыня увидел, как подземный огонь прорвал землю, не затронув поверхности, встал короной, а в середке, окруженной зубцами синюшного огня, разогнулся гигантский богомол, в рост человека, жуткий, с огромными зазубренными лапами. Зеленые надкрылья казались темно-зелеными, почти черными, а шипы на лапах, боках и голове блестели, как заточенные лезвия коротких ножей.
Треугольная голова с торчащими усиками, похожими на обрубки стальных прутьев, на фоне черного звездного неба казалась самой смертью. В огромных фасеточных глазах Добрыня увидел себя, крохотного, перевернутого, раздробленного на сотни измельченных жалких человечков. Он стиснул губы, страшась, что задрожат. Богомолов с детства боялся и ненавидел, что-то в них страшное и неправильное, в то время как у похожих на них кузнечиков все ладно…
Пасть богомола распахнулась, нечеловеческий голос проскрежетал, словно внутри покрытого хитином тела терлись и крошились камни:
– Ты не послушал… Потерял отца… Моя воля… Моя сила…
Добрыня произнес с дрожью в голосе:
– Ты… это ты? В прошлый раз я говорил с… большой ящерицей.
Богомол проскрипел:
– Мы вольны… В любых личинах. И еще… Даже будь у тебя конь-Ветер, догоню быстрее, чем ты конным – бредущего старика… Куда бы ни… ни скрылся…
Добрыня сделал судорожный вздох. Губы и даже колени начали подрагивать. Но темно, никто из людей не зрит, что неустрашимого Добрыню трясет как лист на ветру.
– Понял, – сказал он как можно ровнее, хотя голос тоже дрожал. – Если брошу коня на жертвенный камень – хорошего коня!.. – отца вернешь?
Он задержал дыхание. Звезды исчезали за головой богомола то справа, то слева. Добрыня знал эту привычку хищников покачиваться из стороны в сторону, так они точнее определяют расстояние для прыжка.
Богомол проскрежетал что-то, Добрыня с трудом различил слова:
– Нет… нет…
– Табун коней?.. Чистокровных арабских скакунов!
Огромная пасть задвигалась, слова вылетали изломанные, сухие, как камешки под ударами тяжелого молота камнетеса.
– Даже боги не могут сделанное… несделанным. Но скажу другое… Если не… жертвы коня… через неделю умрет твоя жена.
Из-под отвратительных голенастых ног выплеснулись зубцы гнилостного лилового пламени. Жесткие надкрылья слегка приподнялись, словно богомол готовился взлететь. Выпуклые фасеточные глаза вспыхнули красным. От язычков огня повеяло нестерпимым жаром.
Добрыня отшатнулся, прикрыл глаза ладонью. В призрачном свете успел увидеть кости и суставы, просвечивающие сквозь розовую плоть. Тут же огонь померк. Когда он опустил ладонь, на том месте, где только что полыхало пламя, угольно чернела земля. Он присел на корточки, потрогал землю. Кончики пальцев ощутили холод и сырость. А металлический щиток на груди оставался таким же холодным, как и до встречи с чужим богом.
За неделю он исхудал так, что встревоженный Владимир прислал лекаря. Тяжелые доспехи звякали на богатыре, как на скелете. Кожа на лице обтянула череп плотно, острые скулы едва не прорываются, раздвоенный подбородок стал страшен, а глаза втянулись под тяжелые выступы, откуда сверкали то рассерженно, то угасали вовсе.
Белоян допытывался о причине хвори, пробовал лечить, думая, что все дело в муках совести по погибшему отцу. Добрыня рассерженно рычал, отмалчивался, а то и вовсе падал на ложе и отворачивался к стене.
Он сам привык идти на смерть, не раз посылал других, но то воины, сами выбрали дорогу, которая ведет как к славе и богатству, так и к смерти, а могли бы мирно пахать землицу… но за всю свою жизнь никогда не убивал женщин и не содействовал их убиению! Даже на злодеек рука не поднималась. А сейчас его поставили перед мучительным выбором. Имеет ли он право распоряжаться чужими жизнями?.. Да еще не ради спасения, скажем, Отечества, а вот ради… ради чего?
В дальних скитаниях… да что там в скитаниях, даже на Руси приходилось слыхивать, как чужие уговаривают принять новую веру, ибо с нею жить легче: стыд – не дым, глаза не выест, поклонись – спина не переломится, с сильным не борись… Да, эта вера для слабых, с нею жить и выживать легче, но разве он не слаб перед бессмертными?
Было страшно и жутко от осознания безнадежности, ибо внутри нечто огромное твердило, что да, он не слаб даже перед богом, все равно не поклонится, это у слабых спины как веревки, а сильные принимают удары на себя. Слабые есть в любом племени и любом народе, их большинство, но любой народ обречен, если в нем начинают кланяться даже сильные, если гордость уступает смирению и покорности…
Милена умерла во сне. Утром ее обнаружили застывшей, лицо спокойное, глаза закрыты. Белоян определил, что поела не тех грибов, в это время в лесах погани, как никогда. Владимир прислал гонца со словами жалости, Милена была настоящей женой: ласковой, приветливой, работящей, никто не слыхивал от нее дурного слова, все ее любили, и всех опечалила смерть хорошего человека, в то время как всякая мразь шастает взад-вперед, и никакая мара ее не берет.
Добрыня скрежетал зубами, ярился, но в глубине души испытывал страшное и стыдное облегчение. Все уже свершилось, не передумать. Милену наверняка взяли на небеса, а у него вместо страшного бремени выбора останется только тягостное чувство вины.
После недельного заточения он впервые вышел во двор. Даже проводил повозку с гробом до кладбища. Милену захоронили по обычаю полян: в деревянной домовине, чистой одежде, на глаза положили серебряные монеты, дабы заплатила за перевоз. В правую руку дали прялку: Мокошь любит, когда женщина является со своей, не одалживается.
Его утешали, хлопали по плечам, а когда все деликатно оставили его у могилки одного, он долго стоял бездумно, опустошенный, как дупло старого дуба, из которого выгребли и пчелиный мед, и орехи, запасенные белками, потом сел, уронил голову.
Деревья тихо и сочувствующе шелестели, опускали зеленые ветви, касались непокрытой головы, плеч. Под сапогами шелестела мягкая трава. Кладбище настолько заросло травой, кустами и деревьями, что зеленые холмики уже через год-другой прячутся в зелени.
Багровое солнце медленно опустилось за верхушки деревьев, на мир легли сумерки. В темнеющем небе зажглись звезды, а половинка месяца, как утлая лодочка, начала торопливо пробираться до спасительного края земли. Темные волны облаков захлестывают, топят, но упрямый човник борется, выныривает, пробирается…
Земля под ногами едва слышно дрогнула. Донесся далекий подземный шорох. В трех шагах почва покраснела, словно туда вылили ведро крови. Трава разом исчезла, а земля зашевелилась, поднялась холмиком, будто огромный крот выбирался наверх. Темно-красные комья сырой земли сыпались по склонам. Вершинка взлетела вверх. Добрыня напрягся, чтобы не вскрикнуть, не уронить честь, не потерять лицо…
Из холма поднялось гигантское гибкое тело. Толщиной почти в его бедро, голова как пивной котел, чешуйки размером в ладонь, тускло блестят, переливаются в лунном свете. Вытянутый вперед змеиный череп покрыт костяными щитками, словно пластинами стального доспеха.
С чмоканьем распахнулась исполинская пасть. Он стиснул зубы, чтобы не выдать себя вскриком. Даже с простой змеей таких размеров не совладать и дружине, но это не простая, не простая, а буде выползет, это ж на версту…
Немигающие глаза, покрытые кожистой пленкой, взглянули с такой нечеловеческой злобой, что руки и ноги превратились в сосульки, а сердце затрепыхалось, как будто в него уже вцепились страшные зубы.
Добрыне почудилось, что от страшного шипящего голоса дрогнули земля, мир и даже звезды.
– Смертный!.. Ты посмел… У тебя было время понять мою мощь. Ты слишком туп. Теперь умрешь… ты!
Змеиное тело раскачивалось точно так же, как в прошлый раз массивное тело богомола. Только вместо огромных страшных глаз насекомого сейчас его пронизывал взгляд пресмыкающегося, древнего, ползающего, жуткого.
Добрыня с трудом вытолкнул через перехваченное страхом горло нужные слова:
– Мужчина всегда готов к гибели.
Змея раскачивалась все сильнее и сильнее. Мир колыхнулся, Добрыня с трудом оторвал взор, к горлу подступила тошнота. Чтобы не встречаться с колдовскими глазами, он как можно высокомернее окинул змею взглядом с головы до хвоста, сумел даже презрительно поморщиться.
Змеиный голос прошипел яростно:
– Мне не гибель твоя нужна… Жертва!.. Ты принесешь… Принесешь! Я даю тебе две недели. Но если нет… умрешь ты сам!.. Умрешь страшно и позорно! Даже боги не могут отказаться от слова. Я… убью. Куда бы ни уехал, куда бы отныне ни пытался скрыться, через две недели приду… Умрешь не так красиво, как твой отец, не так мирно, как твоя жена!.. Твоя смерть будет страшной и гадкой.
Из холмика пошел черный дым. Змея перестала раскачиваться, дым окутал ее, но Добрыня и через огненную стену видел страшные горящие глаза. Во рту пересохло, а жесткий распухший язык царапнул высохшие десны.
– Я не опозорил ни свое имя, – ответил он хрипло, – ни свой меч, защищая кордоны. Так опозорюсь ли, спасая всего лишь жизнь? Нет, от меня ты не дождешься жертвы!
В дыму загрохотало, земля снова дрогнула, деревья тревожно зашумели. Когда черный дым втянулся в глубины, воздух еще оставался горячим, а под ногами спеклась корка, похожая на обожженную глину.
Глава 5
Белоян подпрыгнул как заяц, когда увидел Добрыню. Серая шерсть на широкой медвежьей морде на миг стала белой, а пасть открылась и тут же с щелкающим звуком захлопнулась. В его комнате стоял сильный аромат жженых трав, что странно смешивался с запахом немытого медвежьего тела. На столе горели свечи, уже не заморские, местные бабы наловчились делать свои, а между свечами жутко скалил зубы человеческий череп.
– Я уже знаю о Милене, – проговорил Белоян сипло. – Но… это не все?
– Не все, – ответил Добрыня. – Почему не спишь?
Верховный волхв сам выглядел не лучше: шерсть клочьями, морда вытянулась, а воспаленные глаза гноятся, как при болезни.
– Да так… – ответил Белоян неопределенно. – Что-то тревожное подкрадывается, а не пойму что… Да и ночи летом с воробьиный нос. Добрыня, к тебе являлся… этот?
Добрыня кивнул. Белоян долго всматривался, кивнул:
– Я вижу, ты даже рад. Что он сказал?
– Через две недели мой черед.
В тусклых медвежьих глазах блеснул огонек. После паузы верховный волхв промолвил:
– Понятно. Мол, придет конец терзаниям, что из-за тебя погибли отец и жена…
– Разве не так? Это я обрек их на смерть.
– Ладно, я не о том… Что собираешься делать?
Добрыня пожал плечами:
– Что делал всегда. Я всю жизнь сражался с чудищами, идолищами, Змеями, степными удальцами, мечом ограждал кордоны Руси… так что же, на склоне лет вдруг да сдамся? Когда на чаше весов такая малость.
Белоян смотрел испытующе.
– Да, ты крепок…
– Только уеду, – признался Добрыня. – На миру и смерть красна, но этот рек, что умру страшно и позорно. А позорно и есть позорно. Пусть никто не узрит.
– Пойдем к князю, – сказал Белоян.
– Зачем? Пусть спит. Уже полночь.
– Не спит, – сказал Белоян. – Он хоть и не волхв, а тоже что-то чует… Да и кому, как не князю, знать, что из пределов уезжает сильнейший из богатырей?
Владимир снял со стены меч в простых ножнах. По рукояти Добрыня узнал тот самый, который Людота выковал из небесного железа. Теперь в рукояти блистали драгоценные камни, вделанные так искусно, что никак не смогли бы помешать самому лютому бою.
– Возьми, – сказал Владимир. – В неведомых землях… что не встретишь? Будет лучше, если под рукой меч понадежнее.
Добрыня непроизвольно взял меч. От кончиков пальцев в тело стрельнула диковатая радость. Он сразу ощутил себя отдохнувшим и сильным. По рукояти пробежала синеватая искра, юркнула в щель между железом и ножнами. Там едва слышно потрескивает, будто крохотные молнии трутся спинами.
Владимир поглядывал с некоторой ревностью, это лучший меч на Руси, а Добрыня взвесил его на руках, протянул обратно:
– Я же сказал, на смерть еду. Не стану ждать, когда пройдут две недели. Смерть обещана гадкая и страшная. А так сразу за пределами Руси влезу в первую же драку… ну и… Так что плакал твой меч, княже.
Белоян кивнул:
– Да, княже, этот меч достанется, скорее всего, каким-нибудь лесным разбойникам.
Владимир явно заколебался, даже чуть не потянулся за драгоценным оружием, затем с усилием растянул губы в невеселой усмешке:
– Возьми. Если не дам, будут говорить, что на смерть отправил безоружным.
– Тогда скажут еще гаже, – громыхнул Белоян.
– Что?
– А то, – сказал Белоян хладнокровно, – вот как он, мол, рад был спровадить опасного соперника!
Добрыня поморщился:
– Это я-то соперник?
– Ну, поговорить у нас любят, – буркнул Владимир с недоброй улыбкой. – Не то, так другое, а гадость какую-нибудь в спину скажут. Возьми! Если я теряю тебя – что при такой утрате… лишиться полоски железа?
Мгновение они смотрели друг другу в глаза, потом распахнули руки. Белоян отодвинулся. Богатыри крепко обнялись, но не хлопали друг друга по спине и плечам, а застыли на время в скорби и печали.
Но когда выехали на улицу, Добрыня снял перевязь с княжеским мечом, бережно поцеловал лезвие и уже в ножнах протянул княжескому гридню:
– Все. Дальше меня провожать не надо.
Гридень, толстый и преданный малый, испуганно отшатнулся, оглянулся на терем. В одном из окон горит свет, мелькнула тень.
– Как велишь, Добрыня. Но меч…
– Отнеси князю.
– Как скажешь, Добрыня, – повторил гридень. – Но теперь это твой меч…
– Он нужнее Киеву, – отрезал Добрыня. – Пусть отдаст, к примеру, Алеше Поповичу.
Гридень покачал головой:
– Кроме тебя, такой меч князь никому не даст. К тому же Лешак вчера тоже умчался из Киева. Что-то срочное на дальней заставе!
Добрыня нахмурился. Тревожное почудилось, еще когда в Золотой Палате не узрел ни единого из семидесяти сильнейших богатырей, прозванных в народе сильномогучими. Мелькнул только Лешак, поповский сын, но вот унесло и его… Однако мимолетная мысль исчезла так же быстро, как и родилась.
Всю жизнь он посвятил защите родных земель. И сделал немало… Но оставшиеся две недели потратит только на себя.
Небо блистало утренним холодом, похожее на громадную льдину. На востоке из-за края земли поднималась алая заря, а с запада пронеслась странная звезда с двумя хвостами.
Застывшие за ночь створки городских врат надсадно заскрипели. Распахнулся простор, за спиной остались запахи сыромятных кож, горящего железа, хлеба, а впереди лишь широкий Днепр, а за ним – бескрайняя степь…
Стражи ворот хмуро смотрели, как огромный белый жеребец гордо и надменно ступил за черту города. Витязь держался в седле с такой же надменностью, смотрел вперед с упрямо выдвинутой нижней челюстью, суровый, по сторонам даже не повел глазом. Надвинутый по брови, блестит конический шлем, кольчужная сетка падает на широкие плечи. Его знаменитый длинный меч настолько длинен, что не пристроишь у бедра, как носят печенеги и славяне, а на широкой кожаной перевязи торчит по обычаю людей северного моря из-за спины.
Секиру и лук пристроил справа у седла, небольшой круглый щит – слева, выкованный из цельного куска железа, закаленный так, что даже прямой удар топора не оставит царапины, но и без хрупкости, когда может рассыпаться только потому, что небрежно бросишь наземь.
Он чувствовал в теле гремящую мощь, а под коленями перекатывались тугие мышцы коня, которого еще жеребенком сумел добыть в дивных странах. Если Снежка накормить отборным зерном, он мог мчаться выше леса стоячего, ниже облака ходячего, но только редкий человек усидит на таком богатырском коне!
Далеко на севере, почти по самому виднокраю тянулась темная полоска леса, а здесь степь стелилась без конца и края. У него было чувство, что вот так мир будет мчаться навстречу все отведенные ему две недели, дорога будет бросаться под копыта коня и пропадать как марево…
Под копытами гремела сухая земля, над головой выгнулось синее небо. Он мчался один в этом бескрайнем мире, ничьи глаза не смотрят, как он сидит, что делает, но он по-прежнему держался в седле красиво и надменно, как все эти горькие и трудные годы, словно за ним наблюдают тысячи глаз.
Когда-то раб, пинаемый любым презренным челядином, он питался объедками со стола дворовой черни, бегал полуголый, в обносках, все же силой и умом добился того, что теперь перед ним склоняют головы даже самые знатные бояре. Он сражал сильнейших ворогов Руси, вызволял полон, улещивал базилевса, бывал принят германским императором и пивал с ним вино, пригонял из дальних стран диковинных коней, добывал Жар-птицу, находил меч-кладенец, истреблял Змеев, побивал смоков и яжей, но мало кто знает, что в глубинах души он оставался все тем же испуганным подростком, которого схватили в горящем Искоростене и бросили под ноги злой надменной женщине в богатом наряде.
Он был раб, с ним держались высокомерно, в ответ он научился держать нижнюю челюсть воинственно выдвинутой вперед: что ж, давайте сразимся, и обидчик обычно отступал. Но не со всеми можно подраться – старые бояре в драку не вступят, приходилось учиться смотреть в их сторону таким же мутным презрительным взором, научиться надменно цедить слова, ронять их словно бы нехотя, подчеркивая каждым движением, что это он оказывает им честь, общаясь с ними, а не они ему…
И вот когда добился всего, чего может желать человек: огромного богатства, бескрайних владений, боярства, дружбы великого князя… потерял все разом, и страшно. Но нужно и здесь держаться изо всех сил, не выказать ни страха, ни растерянности. Вся Русь уже знает великого героя Добрыню. О нем поют песни, рассказывают кощуны. О нем мечтают молодые девушки, а парни стремятся быть хоть в чем-то на него похожими.
Так что и свой смертный час надобно встретить красиво. Гордо. А если суждено умереть смертью гадкой, то пусть никто не узрит, а в народе что-нибудь да придумают красивое и достойное, какой была вся его жизнь!
…Но уже к полудню в бескрайней дали, почти на стыке неба с землей заклубилась пыль. Облачко было желтым, пронизанным солнечными лучами, но почти сразу в нем заблистали металлические искорки.
Добрыня слегка придержал разгоряченного коня. Пыльное облако росло, над ним мелькали черные точки. Не стая ворон, как показалось вначале, а комья твердой земли, выбитые огромными копытами с чудовищной силой!
Наконец из желтого облака вычленился всадник. Добрыня поправил меч, топор, проверил, как закреплен щит. Прямо на него, совсем не собираясь уклониться от встречи с вооруженным человеком, несся на рослом черном жеребце огромный воин с непокрытой головой, но в тяжелом доспехе и с широким топором справа от седла. Слева покачивается круглый щит. Черные как смоль волосы треплет ветром, они развеваются, такие же длинные, как и конская грива.
Не доезжая один до другого, осадили коней, пожирая друг друга яростными взглядами. Добрыня чувствовал, что это оскорбление: встретить кого-то, кто почти такого же роста, а то и не уступает, сволочь, да еще на лошади, готовой подраться с его благородным конем!
Молча он достал из-за спины шлем, надел и опустил забрало. Воин проделал то же самое едва ли не раньше, копируя его как отражение в блестящем лезвии меча. Волосы скрылись, шлем оказался полным, даже щеки и подбородок закрыл, оставив прорези для глаз. Добрыне почудилось, что глаза чужака вспыхнули желтым, как у дикого зверя.
– Можешь сказать свое имя, – бросил Добрыня небрежно, – я передам встречным, чтобы такого больше дома не ждали.
Всадник презрительно фыркнул. Голос из-под шлема прозвучал гнусаво:
– Это тебе остаться воронью на расклевание.
– Как хочешь, – ответил Добрыня холодно. Он потащил из-за спины меч, поцеловал лезвие. – Этот меч напьется твоей крови. Если бы ты говорил вежественно, я бы закопал твои останки… может быть.
Снежок двинулся боком, сам выбирая для любимого седока удобную позицию для удара. Чужак быстро протянул руку за спину, в его ладони оказалась зажата рукоять меча едва ли короче, чем у Добрыни. И был тот меч слегка загнут на конце, и хотя заточен только с одной стороны, но показался Добрыне коварным и опасным.
Не говоря ни слова больше, они разъехались на дальние концы поляны, развернулись разом. Добрыня тут же пустил коня в галоп. Всадник на черном коне мчится во весь опор, разрастается, становится огромным, как гора. На миг по телу прошла дрожь, но напомнил себе, что сам он силен, опасен и быстр и что врагу сейчас кажется тоже огромным, как гора, и страшным, как разъяренный лев.
Меч его слегка колыхался в поднятой руке, удар будет сверху наискось, конь послушно берет чуть влево, надо пройти стремя в стремя, меч ударит чужака в шлем над ухом, рассечет любой булат, лоб, скулу, челюсть. Кони пронесутся в разные стороны, и меч, чтобы освободиться, сорвет с седла это разрубленное по пояс тело…
Раздался грохот, от которого на версту вокруг испуганно вскочили звери и птицы, в норах проснулись подземные обитатели, а в небе всполошенно закричала стая гусей и поспешно поднялась выше.
Щит затрясся, как конь, при ударе грома над головой. Руку тряхнуло, от кисти в плечо прошла дрожь. Свой удар Добрыня нанес сокрушающе, второй не надобен, но всадник пронесся мимо, даже не пошатнулся, только щит на месте не удержал, отдернул чуть, ослабляя силу удара.
Проскакав по инерции несколько саженей, они развернули коней. Добрыня видел в прорези шлема пылающие ненавистью глаза чужака. Уже медленнее они пустили коней навстречу один другому.
– Ты хорош, – прорычал чужак. – Но не достаточно… чтобы… долго.
– Не хвались… на рать, – выдохнул Добрыня, – а хвались… с рати!
Некоторое время кружили, наносили проверяющие удары. Добрыня наконец решил, что уже оценил противника верно, начал бить сильно, прицельно, не забывая о защите. Враг тоже остановил коня, заметно было, как напрягся, а щит в руке Добрыни затрясло от тяжелых ударов.
Они дрались долго, Добрыня чувствовал, что каждый удар этого круглоглазого сокрушающ для простого воина. Щиты трещали, от них с тонким визгом отлетали мелкие осколки. Кони хрипели, кружили, нервно перебирая ногами. Крупы покрылись мылом, а с удил свисали желтые клочья пены. Добрыня чувствовал, как устал его верный конь, как уже двигается неверно, в этот момент раздался ненавистный голос чужака:
– Эй!.. Не сойти ли нам с коней?
– С какой стати? – прохрипел Добрыня. – Сражайся, трус!
– Как хочешь, – ответил богатырь. Добрыня видел пылающие злобой глаза, хотя чужак дышал тяжело, с хрипами. – Просто победитель может забрать двух целых коней… а не замученных, а то и раненых кляч…
– Принимаю! – крикнул Добрыня.
Они разом подали коней назад. Когда он спрыгнул, колени подогнулись, едва не упал, а разогнулся с таким усилием, что если бы не держался за седло…
Конь, все еще на дрожащих ногах, поспешно отступил. Чужак уже стоял с мечом в правой, левой прикрывал щитом грудь. Сверкающие в прорези шлема глаза неотрывно следили за Добрыней.
– Пора завершать бой, – сказал Добрыня.
Он отшвырнул меч, дотянулся до седла и вытащил из петли секиру. Широкое лезвие носило следы ударов, видны зазубрины, чуть изогнутая рукоять из старого дуба, почерневшая от впитавшейся крови и частой хватки крепких ладоней.
Чужак кивнул, тоже поменял меч на секиру, шлепком отогнал коня. Его секира выглядела еще страшнее, широкая и с оттянутыми назад концами, а на обухе хищно загибается клюв крюка, которым так хорошо пробивать самые прочные шлемы и сволакивать их с голов, выламывая заодно и кости черепа.
По круговым движениям чужого топора Добрыня понял, что имеет дело с опытным и страшным противником. Похоже, он одинаково успешно владеет мечом и топором. Они медленно двигались по кругу, нанося тяжелые удары уже в полную силу. Чужак подставлял щит навстречу каждому удару, но едва секира Добрыни касалась щита, чуть отдергивал назад и ставил слегка под углом, отчего самые страшные удары не могли просечь щит. Да что там просечь – со злостью и недоумением Добрыня не мог рассмотреть даже царапин от своей секиры!
Он попытался наносить удары точнее, неожиданнее, но секира – не меч, чужак успевал умело гасить их щитом. Богатырские удары теряли силу, уходя как в песок, а чужак злобно скалил зубы. Добрыня это чувствовал по сиплому дыханию, что едва не раздувало шлем, даже по движениям руки с топором.
Солнце зависло над виднокраем, тот прогнулся, и огромный багровый шар медленно пошел в подземный мир. Длинные тени пробежали по степи, земля потемнела. Наконец красный ободок исчез, только темно-багровое небо с подсвеченными снизу облаками указывало на место, где скрылось солнце.
– Что-то… – прохрипел Добрыня, – тебя ведет… паря… Вот тут тебя и заклюет… воронье… Ы-ы-ых!
Секира обрушилась на щит, чужак пытался его отдернуть или поставить под углом, но не успел, щит бросило обратно. Добрыня со злой радостью увидел, как со звоном выщербился металлический край размером с ладонь. Чужак пошатнулся, но устоял, неверными движениями вскинул топор.
– Все равно… – прохрипел он, – завалю… Не таких… колол… на бойне…
– Хрен тебе в сумку, – выдохнул Добрыня. Сердце колотилось о ребра так, что едва дышал, сквозь мутную пелену в глазах видел только расплывающийся силуэт врага. – Это я завалю…
Чужак сделал шаг, его раскачивало из стороны в сторону, но выщербленным щитом умело закрывал себя слева, а топор покачивался в ладони, как голова большой ядовитой змеи, что нацеливается на жертву.
– Тебе… – просипело из шлема, – просто… повезло… Я бы тебя уже давно…
– Повезло?
– Я двое суток… не слезал с коня…
Добрыня не рискнул взглянуть в сторону коней, чужак может шарахнуть в затылок, но помнил, что черный жеребец еще в самом начале показался изможденным.
– Черт бы тебя побрал, – сказал он люто. – Так какого же черта?.. Ляг, поспи. Я посторожу, чтобы никто тебя не потревожил, ублюдок!
– Да, – прохрипело из-под шлема, – ты посторожишь…
– Посторожу, посторожу, – ответил Добрыня саркастически. – Вовек не проснешься!
Сквозь мутную пелену он видел, как чужак выронил щит, затем из потной ладони выскользнуло древко топора. Его раскачивало, затем колени подломились, он рухнул ими на землю, руки поднялись и с трудом содрали шлем с распухшей головы.
Добрыня торопливо снял шлем, как выскочил из жарко натопленной бани, смахнул горстью струи мутного соленого пота. Чужак рухнул навзничь. Черные волосы прилипли к голове, лицо было мокрым, глаза в самом деле как уголья – даже веки распухли.
Он уже спал, бесстыдно раскрыв рот, хотя могут залезть жабы и вывести жабенят, после чего человек мрет в жутких мучениях, а из этих жаб потом вырастают смоки и яжи.
– Черт бы тебя побрал, – выдавил Добрыня. Он чувствовал в теле такую тяжесть, что едва мог шевелить губами. – Не мог смолчать… Да и меня бес за язык дернул…
Тело кричало от боли. С трудом поднялся, ноги как две дубовые колоды, глазом наметил сухие ветки, заставил себя потащиться, собрал в охапку, едва не падая за каждой веточкой.
Искорки от ударов огнива падали жалкие, дохленькие. Костер долго не желал заниматься. Трижды попал по пальцам, неслыханно для бывалого воина, а когда первый язычок пламени ухватился за тонкую стружку бересты, он едва не всхлипнул от радости.
Глава 6
Чужак зашевелился, зевнул, не просыпаясь. По лицу пробежала быстрая тень. Он разом распахнул круглые, как у птицы, глаза, сел, уставившись в Добрыню. Расширенные со сна зрачки несколько мгновений изучали лицо русского витязя. Ноздри непроизвольно дернулись. Костер уже прогорел, по обе стороны багровой россыпи мелких углей стояли рогульки, на ореховом пруте со снятой корой жарилась освежеванная тушка. Заяц, судя по белому, как у курицы, мясу, попался под стрелу молодой, сочный, толстый. Видно, как блестящие капельки срываются с тушки, в ответ снизу зло шипит, плюется быстрыми синими струйками.
– Ого, – прорычал чужак. – Ты это чего?
– А чтоб не говорил, что плохо спал да мало ел, – отрезал Добрыня. – Ешь быстрее! Мне ехать дальше.
Он встал, пошел к своей секире. Пока чужак торопливо рвал на части зайца и засовывал в пасть, широкую, как жерло печки, Добрыня несколько раз с силой провел камнем по лезвию, сглаживая зазубрины. Звук был отвратительный, зато не слышно, как отвратительно чавкает чужак.
Когда он неспешно надел шлем и взял в обе руки секиру, ощутил, как в усталое тело возвращается былая мощь. От костра гремело, чужак поспешно вытирал жирные ладони травой, чтобы древко топора не скользило, суетливо напяливал шлем, крикнул наконец:
– Я готов!
– Начнем, – предложил Добрыня.
Он подхватил щит, пошел упругим шагом, которым легко как стремительно скакнуть вперед, так и отпрыгнуть назад или в сторону.
– Как звать тебя? – прокричал чужак.
– Скажешь в аду, что тебя отправил туда Добрыня!
Он нанес удар, тут же ударил краем щита, без передышки пошел грохать тяжелой секирой.
У чужака был еще прием, который применял не часто, но первый раз Добрыня едва не лишился головы. С тех пор постоянно был настороже, страшился наносить удары в полную силу: в тот момент, когда Добрыня наносил удар, чужак не подставлял щит, а молниеносно поворачивался на пятке, оказываясь сбоку. Эти моменты были самые опасные, однажды Добрыня почти потерял равновесие, едва-едва не упал, тогда чужаку пришлось бы всего лишь добить дурака.
К счастью, забыт счет поединкам, выработалось чутье опасности, даже при самом сильном замахе богатырском расставлял ноги пошире и удерживал тяжесть на одной или другой ноге.
Однако рука, которой удерживал щит, совсем онемела от страшных ударов. Противник оказался сильнее, чем он думал, к тому же ловок и быстр, и если не сбить с ног удачным ударом или приемом, то бой затянется, а так всякое может случиться.
В прорези шлема видел сверкающие глаза. Доносилось глухое дыхание. Не владея таким искусным приемом, как поворот на пятке, Добрыня умело пользовался щитом, а когда в широком замахе заносил секиру для особо тяжелого удара, не открывал грудь и голову для чужого топора.
Он потерял счет победам, сражениям и поединкам, видел богатырей и сильнее, чем он сам, но всякий раз одерживал победы, ибо что такое сила в сравнении с воинским умением, воинской жилкой, воинской страстью к победе? Есть и на Руси богатыри, которые одним пальцем могут его пригнуть к земле: Микула Селянинович, старый Вольга, Збых, Горыня, Вырвидуб, Самсон, не говоря уже о Святогоре или Михайле Потыке, но те либо вообще не берут в руки оружия, либо не покидают своих мест. Но этот чужак был и силен, и, что главнее, рожден для боев, для схваток. Человек побеждает огромного быка, потому что тот все же по природе своей не боец, но не всякий одолеет даже малого волка, ибо волк нацелен на бой, он хищный зверь всегда, а бык – только если разъярить…
Чужак был волком, сильным, как бык, и гибким, как пардус.
Чувствуя, что силы уходят, как вода в песок, Добрыня начал беречь их, прижал щит, двигался мало, не наступал и не пятился, выжидал удобного случая для страшного и быстрого удара, чтобы разом закончить затянувшийся бой, но еще больше показывал всем видом, что уже нащупал такое уязвимое место в обороне врага и вот-вот ударит, уже изготавливается…
Чужак в самом деле ощутил неладное, Добрыня заметил, как движения стали чуть скованнее, топор двигается не по такой широкой дуге, отчего удары сразу стали слабее, щит тоже прижат к туловищу…
Красный распухший шар солнца коснулся темного как уголь края земли. Они дрались на кровавом закате, багровые лучи зловеще играли на металле доспехов, и те казались залитыми кровью.
В небе пронеслась, шурша крыльями, стая мелких птах. Их пронзительный крик был единственным, что нарушило страшную тишину, прерываемую только частыми ударами железа по железу да хриплым дыханием.
Он все чаще промахивался. Чужак под его ударами стоял как скала, а потом Добрыня без страха, но с облегченностью понял, что вот и настал тот день, который предрекал демон. Но только он не считает, что смерть в поединке ужасна и отвратительна…
Должен был последовать страшный, сокрушающий удар топором, от которого разлетится шлем вместе с головой, но все три мутных силуэта на месте чужака раскачивались на месте. Прогремел мощный голос:
– Да буду я проклят… если победа моя не будет честной!
– Сражайся, трус… – прохрипел Добрыня.
Чужак отступил на шаг, топор опустился, затем с размаху ушел в землю до середины обуха. Чужак показал растопыренные пальцы:
– Передышка!
– Оп-пять? – прохрипел Добрыня.
Чужак сказал зло:
– Ты, презренный, хочешь украсть у меня заслуженную победу?.. Какая честь сразить не спавшего ночь да еще подстрелившего для меня зайца? Ты, поди, еще и сон мой охранял, чтобы я отдохнул как следует? Комаров гонял? Дабы на тебя честь и слава, а мне стыд и поношение?
Секира выскользнула из пальцев Добрыни. Последнее, что он помнил, – это небо, что встало на ребро, вздыбившаяся земля, залитое кровью и потом лицо чужака.
В усталое тело от земли, из воздуха вливалась мощь. Он чувствовал, что уже способен поднять коня и бежать с ним версту, но лучше бы этот конь был не его жеребцом, да чтоб без седла и седельных мешков…
Потянулся, суставы затрещали. Еще не открывая глаз, ощутил сладкий запах костра, жареного мяса, по аромату определил – птичье, поспешно сел, разлепляя сонные глаза.
Костер догорал на том же месте. На прутьях истекали ароматным соком две крупные птичьи туши, он сразу узнал молодых гусей, уже нагулявших жирок, но не успевших перетопить в тугие мышцы и жилы.
Чужой богатырь полулежал с другой стороны костра. Глаза покраснели от бессонницы, на щеку прилипли хлопья пепла. Он бесцельно тыкал в догорающие угли прутиком, не столько для дела, а чтобы, как догадался Добрыня, не дать себе заснуть.
– Ешь, – буркнул он хрипло, – и набирайся сил. Нет славы забить усталого да голодного. А я способен с тобой справиться и с таким. Нажратым.
– Спасибо, – ответил Добрыня. И хотя он помнил, что о нем идет слава как о самом вежественном, не зря же именно его посылали с самыми сложными поручениями к чужим кесарям, но сейчас так хотелось сказать что-нибудь в духе воеводы Волчьего Хвоста, чтобы зубы заломило как от ледяной воды. – Так звать того дурня, чьего коня я возьму в заводные? Доспехи, пожалуй, снимать не буду, посечены моей секирой знатно…
Он разрывал гуся, обжигая пальцы о горячее мясо, жадно вонзал зубы в брызгающее соком белое мясо.
Богатырь сказал с презрением:
– Меня зовут Батордз! Ты со страхом будешь повторять это имя, когда тебя поволокут твои гнусные демоны в нашу преисподнюю!
Он резко встал, не желая общаться с врагом. Добрыня видел, как этот богатырь, которого звали так странно, сел на седельный мешок и принялся водить камнем по лезвию секиры. Звук получался негромкий, но страшноватый, от него холодела кровь и шевелились волосы на загривке.
От горячего мяса тепло разливалось по всему телу. Мощь нарастала, руки перестали чувствовать усталость. Мелкие косточки трещали на крепких зубах, сладкий сок брызгал на язык и нёбо.
Грохот от ударов железа по железу сотрясал степь на несколько верст. Звери, надрожавшись за двое суток, покидали норы и уводили детенышей на новые места. Птицы перестали высиживать птенцов. Даже змеи и ящерицы уползали от страшного места, где два закованных в железо гиганта утаптывают землю до плотности камня.
Место, где шел бой, постепенно опускалось, вбитое их тяжелыми шагами. Они дрались в широком котловане, а края все повышались. Солнце вышло из-за края, мучительно долго жгло головы и плечи с зенита, затем медленно ушло на другую сторону, а яму закрыло тенью. Небо из синего стало алым, багровым, наконец, на нем проступили первые звезды.
Они все еще держались на ногах, но секира и топор выскальзывали из вспотевших пальцев. Добрыня видел только двигающиеся силуэты и, даже подними секиру, не знал бы, по какому нанести удар.
– К черту… – прохрипел Батордз. – Отдохнем ночь… утром продолжим!
– Отдохнем, – услышал Добрыня свой сиплый голос. – Но утром не продолжим, а… закончим!
Утро было бледное, хмурое. Костер погас, от земли тянуло сыростью. Добрыня замерз, зубы стучали, тело сотрясала стыдная для мужчины дрожь. Приходилось спать и на снегу, но сейчас измученное тело, все в кровоподтеках, с побитыми мышцами и порванными жилами, отказывается давать тепло из своих глубин, спешно заращивает раны и все не может зарастить…
Рядом послышался стон. Чужак скорчился, исхудавший, правую сторону лица закрыло синюшным цветом. Глаза не видно под вздувшимся кровоподтеком. Бровь разбита, запеклась кровь, а на вязаной рубашке в двух местах коричневая корка, где секира все-таки просекла доспехи.
Он едва не вскрикнул, поворачивая голову. В шею словно кинжал воткнули, позвонки скрипят и задевают один за другой. Его доспехи лежат бесформенной кучей, побитые и посеченные так, что теперь разве что кузнецу на подковы. Засохшая кровь на правом плече, рука не слушается, как чужая, колет в боку, там разрез, но ранка легкая. Уже затянулась. Если не делать резких движений, то не откроется…
Он стиснул зубы, дотянулся до веточек, бросил на то место, где оставалась кучка серого пепла. Хлопья взлетели, он попробовал раздуть, стоя на четвереньках, но не мог согнуться от боли в пояснице. Лег на бок, подул, угольки слегка покраснели, но пришлось дуть изо всех сил, прежде чем затрепетал первый огонек.
Он поспешно подбросил хвороста, обернулся, ощутив пристальный взгляд. Чужак, привстав на локте, молча наблюдал. Один глаз закрылся, осталась узкая щель, зато второй смотрит с упорством, способным продырявить даже металл доспехов.
– А, – произнес Добрыня с наибольшим холодом, который мог подпустить в голос, – очнулся?.. Ну, бери свою железку. На этот раз бой долго не затянется.
Чужак кивнул, начал подниматься. Добрыня видел, как напряглось его лицо, заиграли желваки, а в единственно живом глазу отразилась боль. Все же встал, сделал два неверных шага к топору.
Собрав все силы, стараясь не вскрикнуть, Добрыня переборол боль и ломоту, отступил к секире, наклонился и взял за рукоять. Холодная, мокрая от росы, она упорно выскальзывала из пальцев. Он взял ее обеими руками и повернулся к противнику.
Тот уже стоял в боевой стойке, топор держал в обеих руках. Добрыня надменно поинтересовался:
– Я долго буду ждать, пока наденешь доспехи?
– Они мне не понадобятся, – ответил Батордз. – Тебя раскачивает как тростник на ветру.
– Я не знаю, что такое тростник, – ответил Добрыня, – но ты и без ветра как камыш в бурю. Что ж, умрешь без доспехов.
Он сделал шаг, начал поднимать секиру. Древко все пыталось выскользнуть, он стиснул зубы и напомнил себе, что чужак без щита и доспехов, в простой вязаной рубашке. Один удар… даже не молодецкий, не богатырский, а просто один удар зазубренной секиры закончит этот самый страшный и долгий поединок за всю его жизнь.
Секира, тяжелая, как железная гора, приподнялась до пояса. Руки тряслись, мышцы кричали от боли, суставы трещали. Затихшая за ночь боль с готовностью вонзилась во все ушибленные и раненые места. Сквозь стиснутые зубы вырвался тихий стон, и, чтобы прикрыть его, он издал хриплый рык, злой и свирепый.
Чужак с перекошенным лицом стоял напротив в двух шагах и тоже пытался вскинуть огромный топор, покрытый крупными каплями росы. Он был похож на вставшего из могилы, такой же ослабевший, дрожащий от усилий удержаться на ногах.
Взревев, Добрыня бросил вперед свое тело. Чужак успел растопырить руки, роняя топор. Они тяжело рухнули на землю, перекатились и, расцепив руки, остались как два извалянных в грязи бревна, не в силах подняться и даже шевельнуть хотя бы пальцем.
Наверху выгнулся быстро голубеющий свод. Облачка плыли медленно, белые, как овечки. На востоке вспыхнуло красным и оранжевым. Темный край земли заискрился, оттуда пошло бьющее высоко по своду сияние. После томительного ожидания высунулся искрящийся, как раскаленная заготовка меча, краешек солнца.
Чужак прошипел сипло:
– Клянусь этим высоким небом… я еще не встречал более достойного противника…
– Если честно, – прошептал Добрыня, – мне тоже такое дерьмо не попадалось…
– Но, клянусь этим небом, я все-таки тебя одолею.
– Сопли утри, – посоветовал Добрыня вяло.
Он не чувствовал в своем голосе вражды или ненависти. И не потому, что смертельно измучен, а просто чистое синее небо, уже стрекочут кузнечики, где-то зачирикала птаха, воздух на ночь очистился, наполнился пронзительной свежестью, а вдохни глубже – режет как нож. Или же это впиваются в измученную плоть при каждом вздохе сломанные ребра.
– Я вобью тебя в землю по уши, – продолжал Батордз.
– Умойся.
– Я разорву тебя в клочья…
– Онучи замотай.
– Я затопчу тебя как муравья…
– Давай-давай… Кто воевать не умеет, тот языком горазд. Ты не Фарлаф, случаем?
Батордз с трудом повернул в его сторону голову:
– Кто такой Фарлаф?
– Есть у нас в Киеве один… В поле его не видать, но за столом у князя – нет ему равных по силе и отваге!
Батордз подумал, поинтересовался:
– Киев – это что?
– Столица мира, – пояснил Добрыня. – А все остальное – деревни в лесах да пустынях. Даже царьграды всякие. И богатыри в нашем Киеве самые лучшие.
Он чувствовал на себе устремленный взгляд Батордза. После паузы тот поинтересовался:
– Ты там – первый?
– По силе? Нет, конечно. Ты бы видел Селяниновича или, скажем, Святогора!
Батордз подумал, произнес негромко:
– Твои слова делают тебе честь. Я счастлив, что мне пришлось скрестить оружие с таким доблестным воином. Кто бы ни был тот Селянинович, я не поверю, что он равен тебе в воинской хватке, умении владеть оружием, доблести и благородстве! Разве не так?
Добрыня нехотя вымолвил:
– Просто Селянинович не берется за оружие.
Батордз кивнул:
– Я так и думал. В моем краю тоже иной простолюдин посильнее доблестного воина. Ну и что? Защищаем их мы, а не они нас.
– Они нас кормят.
Батордз стиснул зубы, чтобы не застонать, потянулся и лишь потом, выпустив воздух, произнес высокомерно:
– Все-таки я почти рад, что не убил тебя. Хотя, конечно, мог бы.
Добрыня ощутил, как внутри все сразу ощетинилось. На язык всползли злые и горячие слова, что это он мог бы легко прибить как бог черепаху, но то ли от усталости, то ли вспомнил, что ему отведено всего две недели, из которых трое суток уже истратил глупо и по-дурацки… перевел дыхание и пробормотал:
– Да, я тоже рад.
Батордз помолчал, посопел, явно озадаченный, не ожидал такого ответа, потом голос его стал тише:
– Ну, вообще-то это ты мог меня сразить… У тебя таких моментов было больше…
– Да ладно, – буркнул Добрыня. – Оба хороши.
Батордз опять помолчал, а когда заговорил, металл испарился из голоса, как иней под жарким солнцем.
– Я все стрелы истратил, пока двух гусей подстрелил. У тебя остались?
Добрыня не стал говорить, что и он на зайца извел три стрелы, но косой оказался редкостным дурнем, продолжал грызть кору, на чем и попался, ответил с достоинством:
– Полон колчан!
– Я слышу… гогочут с севера…
– Пользуйся, – разрешил Добрыня. – Я сегодня что-то совсем добрый.
Батордз высыпал стрелы на утоптанную как камень землю, перевернулся на спину и натянул лук. Теперь и Добрыня увидел косяк гусей. Батордз оттянул тетиву до уха, быстро подвигал из стороны в сторону острым комочком металла. Стрела сорвалась как короткая злая молния. Добрыня видел, как высоко в небе задний гусь вздрогнул, нелепо забил крылами, пошел винтом вниз. Батордз торопливо схватил вторую стрелу, наложил на тетиву, выстрелил почти не целясь.
Добрыня проследил, как стрела догнала следующего, теперь задним оказался он, клюнула в брюхо. Брызнули перья, гусь заорал истошно, задергался, начал лупить крыльями, но его понесло по кругу вниз.
Сколько же у него было стрел, подумал Добрыня. Если в прошлый раз сбил двух гусей, то вряд ли стрел потратил больше.
– Много народу за тобой гналось? – поинтересовался он.
Батордз сразу насторожился:
– Откуда знаешь?
Первый гусь шлепнулся оземь как полено, подпрыгнул и распластался. Второй бился в воздухе, растопыривал крылья, его относило ветром, как большой кусок холста.
– Да так… – ответил Добрыня злорадно. – Больно заморенный был. А стрелять умеешь на скаку, оборотясь назад?
– Ну, умею, – прорычал Батордз с угрозой. – И что?
– Две стрелы оставил, – похвалил Добрыня. – Молодец!
– Откуда знаешь? – повторил Батордз.
Не отвечая, Добрыня с трудом поднялся, подобрал гуся, тяжелого, как корова, поколебался, но взгляд уже вычленил место, где рухнул второй, в том месте как раз затрепетала трава, мелькнуло рыжее. Добрыня заорал, пугая лису, прибавил шаг.
Вскоре костер уже полыхал вовсю, а они молча торопливо разделывали добычу. Добрыня зашвырнул внутренности за кусты, пусть бедный лисенок хоть что-то получит за отвагу и терпение.
Батордз ел быстро, но не забывал про вежество, шумно подхватывал длинным языком струи оранжево-прозрачного сока, что вытекал из молодого мяса и забивал ноздри одуряющим запахом, с треском разгрызал косточки и поглядывал по сторонам, из чего Добрыня понял, что Батордз жил в западных странах. Только там люди и собаки спят в одних помещениях, чистоты не знают и чуть ли не с одного стола едят…
Насытившись, Батордз икнул, вежливо прикрыл пасть широкой ладонью. Добрыня с треском размалывал крепкими зубами кости, наслаждался сладким соком. Батордз огляделся по сторонам:
– Красивое место… А лес просто волшебный. Тут на каждой ветке что-то сидит… Как зовется?
– Сетунь, – буркнул Добрыня. – А что?
– Да так… Запомню место. Самая необычная моя схватка.
Поляна вся была изрыта и перепахана тяжелыми сапогами. Целые пласты земли вздыбились, как гребни Змеев, а в тех местах, где тяжелые богатыри падали, там земля была утоптана до плотности камня, словно по ней били падающими с неба скалами, затем тут же ее взрывали железными локтями, коленями, а то и мечами, когда промахивались.
Зато дальше лес огромный, величавый, с толстыми стволами в коричневых наплывах, с узловатыми ветвями, высокими сочными кронами. На толстых, как столетние дубы, березах чернеют наплывы лечебной чаги, в ветвях возятся лесные зверьки…
– Сетунь, – повторил Добрыня значительно. – Да зовется отныне это место Сетуньским станом! Да проводятся тут схватки молодых витязей, да бьются доблестно и честно!
– Да, – согласился Батордз. – Это надо делать в красивом месте.
Добрыня ухмыльнулся:
– И чтобы был пример.
Батордз критически оглядел его обезображенное лицо, заплывший глаз, рассеченную скулу, кровоподтеки. Киевский герой едва двигал челюстью, каждый кусок проглатывал с таким трудом, словно тащил на гору телегу.
– На себя посмотри, – посоветовал Добрыня злорадно.
Глава 7
Расстались, как и встретились. Батордз взобрался в седло, его конь жалкой трусцой пустился дальше на север. Добрыня пустил Снежка в ту сторону, в какую тот смотрел. Лес расступился, деревья долго шли по сторонам, такие же массивные, могучие, рослые. Он погрузился в думы, а когда очнулся от нехорошего предчувствия, вокруг мир уже измельчал, даже кусты прижались к земле, а травы исчезли, уступив место грязно-серому мху.
За тощими деревьями открылась огромная поляна. Над ней висели клочья сырого неопрятного тумана. Конь пошел осторожнее, словно нащупывал дорогу. Мшистые кочки не проваливались, даже не раскачивались, как бывает, когда ступаешь по едва заросшему болоту. В траве пугливо перекликивались невидимые кузнечики, хрипло и тоскующе подала голос неведомая птица. Холодок страха прополз по спине, но конь, чуя решимость хозяина, все так же ломился грудью сквозь кусты.
Туман то поднимался слегка, и тогда открывалась взору ржавая земля с пучками жесткой травы, что растет на болотах, то сгущался. Конь испуганно прижимал уши, двигался осторожно, словно боясь удариться о дерево. Иногда в разрывах тумана Добрыня видел темную воду.
Избушка выступила сперва как огромный выворотень, неопрятный, лохматый, потом глаз вычленил на крыше пучки трав, кореньев, из-за чего избушка показалась страшной и загадочной. Туман нехотя, словно по наказу хозяина, рассеялся. Проступили почерневшие стены из неошкуренных бревен, забор, колода с водой для свиней, хотя какие свиньи уцелеют в лесу, где волки и медведи?
Посреди двора лежал, медленно погружаясь в сырую землю, похожий на барана массивный камень. Земля вокруг осела, утоптанная до плотности этого же камня. Добрыня словно воочию увидел немолодого грузного мужика, что взбирается в седло, как все немолодые люди, с этого камня, которые так и зовут на Руси – седальными.
Из дома вышла старая женщина с добрым усталым лицом. Ее дряблая рука с таким усилием пошла к глазам, что Добрыня почти услышал скрип старческих суставов, вздутых болезнями на гнилом болоте.
– Каким ветром занесло, добрый молодец?
Голос ее был дребезжащий, но со следами былой красоты. Добрыня собрался с силами, ответил почтительно:
– Попутным. Позволь в твоем доме… испить водицы?
– Изволь, – ответила старуха. – Сойди с коня, пусть отдохнет. Да и ему найдется мера отборного овса.
В голове стоял шум, грохотали камни. Страшась свалиться как куль, он с третьей попытки перенес ногу через седло, сполз по горячему потному боку на землю. Ватные ноги не держали, поспешно оперся о плотную тушу Снежка. В глазах красный туман, из которого то выступает, то исчезает доброе старушечье лицо.
Конь облегченно вздохнул, когда Добрыня кое-как повернулся и попробовал распустить подпругу. Как из другого мира прозвучал участливый голос:
– Сильно же тебе досталось, богатырь… Полон выручал аль землю боронил?
Он стиснул зубы, превозмогая дурноту. По телу прошла дрожь, но удержался, не рухнул. Проползла вялая злая мысль, что за полон или за землю так не бьются, есть ценности выше, но женщинам их не понять, дуры.
Сбоку что-то толкалось, с грохотом упало на землю тяжелое, как сундук, седло. Конь радостно фыркнул, пошлепал копытами по влажной земле куда-то вдаль, а Добрыня запоздало сообразил, что старуха помогла расседлать коня.
– Спасибо, бабушка, – прошептал он. – Водицы…
– Присядь вот сюда, кашатик…
Он сел, чувствуя, что никакая сила теперь не оторвет его отяжелевшее тело от этого седального камня. Старуха все еще двигалась в красном тумане, который то сгущался, то становился реже.
Когда она вернулась, медленная как черепаха, Добрыня едва удержал в обеих руках ковшик, но пил и пил, и каким-то образом в глазах чуть прояснилось. Земля перестала качаться, как палуба корабля, а старуха теперь выглядела обыкновенной старухой: лицо темное и морщинистое, как печеное яблоко, беззубый рот собран в жемок, одета в кучу тряпок, на ногах, однако, не лапти, а добротные кожаные сапоги, что и понятно: какие лапти среди этого болота…
– Добро пожаловать в жилье, – сказала старуха нараспев.
– Бла… благодар… ствую…
Слова давались с трудом. Старуха даже попыталась поддержать его под руку. Добрыня отстранился, едва не упал. Тяжелые подошвы едва отрывались от земли. Ноги внесли в темные сени, где с головы до ног сразу окутали плотные запахи лечебных и колдовских трав, аромат березовой коры и перебродившего сока.
От широкой печи шел сухой жар. Чугунная заслонка побагровела, в середине проступило красное разогретое пятно. Старуха ухватом поддела крючок, заслонка распахнулась, Добрыня закрылся ладонью, успев увидеть раскаленное жерло, где только младенцев живьем запекать. В руках старухи мелькнул ухват. Пятясь, она с натугой вытащила, захватив рожками, чугунок.
По комнате потек густой запах гречневой каши. Стол едва не рассыпался, когда бабка грохнула на середку чугунный горшок. Заслонка уже прихлопнулась под своей тяжестью, старуха только набросила ухватом щеколду, поставила в угол и повернулась к Добрыне:
– Ну что же ты, добрый молодец? За стол! Налегай на кашу, пока не застыла.
Добрыня огляделся:
– А где бы, хозяюшка, руки помыть?
Старуха несказанно удивилась:
– А что это за ритуал такой?
– Да пыль на руках, – пояснил Добрыня. – Грязь, за коня брался, с каликой по дороге здоровался, сопли сиротке вытирал, юрода по голове погладил…
– А-а-а-а, – протянула старуха, – то-то гляжу, ты весь не такой. Ну, не как люди. Не аримасп, случаем?
– Случаем, нет, – заверил Добрыня.
– То и гляжу: ни баньку не потребовал, ни старой хрычовкой не обозвал… Нет у меня кадки с водой, зато болотце близко. Ежели твои боги велят перед едой руки мыть, то вон туда пройдешь, там водица почище…
Под сапогами по дороге к чистой водице начало прогибаться, шел как по тонкому льду. В одном месте толстый мох прорвало, на сапоги брызнула струйка затхлой воды. Впереди блеснуло пятнышко открытой воды, размером с тазик. Едва Добрыня присел, как ощутил пристальный взгляд. Всмотревшись, увидел размытые очертания полурыбы-получеловека, голова как у сома, блестит, глаза выпученные.
Едва протянул руки, намереваясь зачерпнуть горсточкой, как существо зашевелилось, метнулось навстречу. Добрыня едва успел отдернуть пальцы, а из воды высунулась бледная, как у утопленника, рука. Ногти блестят, как крупная чешуя, между пальцами дрожит туго натянутая перепонка.
Озлившись за испуг, Добрыня цапнул за бледную кисть, потащил водяного наружу. Тот от неожиданности высунулся чуть ли не до пояса, но опомнился и начал упорно тащить человека к себе в омут. Долго пыхтели, тужились, затем Добрыня ощутил, что крепкий покров мха начинает подаваться, вот-вот он весь ухнет в эту гниль, а там ждет то, что приготовил проклятый демон…
– Ах, ты так?
Водяной с торжеством тащил в болото. Задержав дыхание, Добрыня подставил колено, ударил, послышался мокрый хруст, водяной взвыл совсем не рыбьим голосом, забарахтался. Добрыня переступил в сторону, но и там мох раздвигался, с сожалением разжал пальцы. Мокрое тело с шумом плюхнулось, подняв столб вонючих брызг, ушло на темное дно.
Старуха с сомнением оглядела вернувшегося богатыря:
– Это помыл руки?.. Чудные теперь ритуалы.
Добрыня снял с головы клок тины, брезгливо сбросил с плеча плеть водяной травы, буркнул:
– Зато каша как раз остыла.
Пахло от него гадостно, а когда сломал руку водяному, брызнуло не то затхлой кровью, не то еще чем-то мерзким. Он сам чувствовал, какой от него смрад, и успел подумать с раскаянием, что не все обычаи Востока надо тащить на родные земли. В тамошних знойных песках нет таких вот мерзких тварей, которым ни руки не сломи, ни в болото плюнь.
С сердитости зачерпнул каши из глубины горшка, бросил в рот, обманувшись затвердевшей корочкой, но внутри каша еще как лава в недрах земли, застыл с раскрытым ртом, сам весь красный, как заходящее солнце, не решаясь выплюнуть, зато с обгоревшими языком и гортанью.
– Кто ты есть, добрый молодец, – сказала старуха нараспев, – по делу тикаешь аль от дела лытаешь?
Добрыня с трудом проглотил, чувствуя, как по горлу медленно опустился, сжигая все на своем пути, раскаленный ком металла, просипел сдавленно:
– Лучше ты… расскажи… мать… твою…
– Да что я? – откликнулась старуха охотно. – Да ты ешь, ешь!.. Живу здесь одна с невесткой… Она сейчас на охоту пошла, слава богам! Зверь, а не женщина. Пока мой сын был жив, как-то держал ее в руках… а теперь…
Она пригорюнилась. Добрыня посидел с открытым ртом, чувствуя, как из раскрытого рта плещет пламя, словно из пасти крылатого Змея. Наконец выдавил сипло:
– А… что… те… перь?
– Теперь терплю…
– Обижает?
Это слово ему далось целиком, хотя и исцарапало горло. Старуха выдавила с неохотой:
– Не то слово. Если бы хоть не била! А так…
Только сейчас он заметил старые кровоподтеки. На темной морщинистой коже проступали слабо, но теперь рассмотрел на лице, руках, да и перекашивается бабка на один бок не просто ради того, чтобы передразнить.
– Ладно, – сказал он сипло, – придет с охоты, я с ней поговорю.
Она испугалась:
– Нет-нет! Она ж совсем дикая! Ты ж видишь, где живем? Тебя не послушает, а мне вовсе житья не будет.
– Поглядим.
– Ты ешь, ешь, кашатик. Забудь о моих горестях.
Он ел молча, но брови сшиблись на переносице. Горячая каша опускалась по горлу все еще торопливо, тут же давала соки в измученное тело. Он с ужасом подумал, что его ждет завтра, когда тело за ночь застынет, станет отзываться болью на каждое шевеление…
После обеда он вышел на крыльцо. Хотел сесть на ступеньку, но не был уверен, что сумеет потом встать без бабкиной помощи. С трудом передвигая ноги, вышел на середку двора.
Из тумана вышла девушка в безрукавке. Солнце уже опускалось к верхушкам деревьев, багровые лучи осыпали ее червонным золотом. На ее узком поясе болтались три толстых зайца, но Добрыня засмотрелся на спокойное лицо, безмятежное настолько, словно только тело двигается к избушке, а душа все еще носится за зверьми по лесу.
Русые волосы, коса толщиной в его руку падает до поясницы. Ясные серые глаза, высокие скулы и несколько тяжеловатая нижняя челюсть, к тому же, как и у него, вызывающе выдвинута вперед, что больше пристало мужчине. Женщине же надлежит быть с подбородком, скошенным назад, глазами, потупленными долу, на щеках милые ямочки, да и шаг чтоб не столь размашист…
Она на ходу отцепила зайцев. Добрыня проследил, как она швырнула их на крыльцо. Ее глаза не оставляли сурового лица витязя.
– У нас гость?..
– Да-да, – льстиво заговорила старуха, – у нас дорогой гость, доченька! Доблестный богатырь из-за леса…
– Добро пожаловать, – сказала девушка. – Гость в дом – бог в дом. Меня зовут Леся, по-батюшке – Микулишна. Сейчас сготовлю зайцев…
– Я уже пообедал, – прервал Добрыня властно, как надлежит разговаривать с женщиной. – Твоя мать накормила досыта. Кстати, мать, ты пойди погляди, как там мой конь. Овес у вас какой-то больно чудной. Не захворает ли мой Снежок?
Старуха поспешно убралась. Леся чему-то улыбнулась, бросив ей в спину короткий взгляд. Добрыне он показался брошенным вдогонку ножом.
Он сел на колоду, кивком разрешил сесть поблизости. Она послушно опустилась на седальный камень, учтиво держа колени вместе, ссутулилась, отчего ее груди не спрятались, а выдвинулись острыми вершинками. Круглые плечи блестели, чистые и коричневые от солнца. На коленях белели следы царапин, на правом темнела короста засохшей крови.
– Я приехал из Киева, – сказал он строго, – где привыкли чтить старших. Побывал в других землях, везде чтят старших! Даже в самых дальних заморских странах пришлось побывать. Князь посылал с красной ложью в Царьград, насквозь прогнивший мир, но и там все еще чтят старших… или хотя бы делают вид, что чтят! Всюду и везде караемы те, кто не чтит. Если ты меня правильно поняла…
Она кивнула, не поднимая глаз. Голос ее был смиренным:
– Я поняла.
– Никто не смеет перечить старшим, – повторил он властно. – А эта женщина тебе в матери годится!
Леся несмело улыбнулась:
– Не годится, а лезет в матери. Угораздило же отца выдать меня за Лесобоя! Мы и пожить-то не успели, как его деревом задавило. А эта ведьма тут же принялась мною помыкать…
Он вспылил, начал приподниматься, но вдруг его взгляд упал на ее руку. В рассеянности, опираясь о глыбу седального камня, она водила по ней пальцем. С легким щелчком отлетали чешуйки гранита, похожие на елочные, а за пальцем осталась ровная дорожка, словно по нему с силой вели, нажимая изо всех сил, раскаленным зубилом.
Ноги стали ватными, он снова плюхнулся на колоду. Сердце колотилось учащенно, а глаза застыли. Леся рассеянно стряхнула с пальца пыль, застенчиво улыбнулась. Взор ее был чист и светел.
Да что у нее за сила, мелькнула у него суматошная мысль. Как, она сказала, по батюшке? Микулишна, Микулишна… Что-то знакомое… А если эта Леся – дочь Микулы Селяниновича? Если в ней хоть частичка его нечеловеческой мощи? Вот был бы позор на всю Русь, если бы отняла плеть да его самого…
Из внезапно перехваченного горла он выдавил сипло:
– Ну, это ваши дела. У меня своих выше крыши.
Она вежливо наклонила голову, солнце играло в русых волосах.
– Золотые слова, витязь.
– Ну?
– Ты сам рек, – добавила она, – что тебя посылали даже в дальние страны. А дурака не пошлют.
Еще и изгаляется, мелькнуло униженное. Явно же поняла, что собирался дать ей трепку. Или не поняла? Все-таки женщина, а они все дуры набитые.
Искоса взглянул в ее безмятежное лицо. На полных губах играла улыбка, но серые глаза были чистые и наивные. Она проследила, как он поднялся, сказала внезапно:
– А как ты думаешь выбраться?
Он буркнул, стараясь не встречаться с нею взглядом:
– Как и приехал.
– Да? – сказала она мирно, но у него по спине пробежал холодок. – Ну, попробуй, попробуй.
– А что? – поинтересовался он все еще враждебно.
– Сюда много путников попадало. Но выбраться… пока ни один не выбрался. Эта женщина… моя свекровь… она слишком хорошо ладит с лесной нечистью. Ты заприметил ее синяки, по глазам вижу! Но невдомек, что пальцы то отпечатались не человечьи…
Она умолкла на полуслове, проследив за его взглядом. Далекий лес исчез, только верхушки странно зеленеют над облачно-серым полем. Туман поднялся, и сколько Добрыня ни оглядывался, со всех сторон сейчас медленно приближались высокие серые волны. Впереди двигались разлохмаченные клочья, за ними наступало стадо плотно притиснутых одно к другому облаков, а дальше ощущалась настоящая стена, серая и плотная, как гранит.
– Не люблю, – признался он. – Не люблю, когда так подкрадываются!
Девушка кивнула:
– Ты прав больше, чем думаешь. Вместе с туманом в самом деле подкрадываются разные… Не думаю, что сможешь отбиваться… долго.
Вот оно, мелькнуло в голове. Вот та мерзкая смерть, что напророчена демоном.
Он опустил ладонь на рукоять меча:
– Сколько смогу. А отсюда нельзя удрать? Пока старуха не вернулась?
– А это она возвращается, – пояснила Леся. – И с приятелями. Мне удалось как-то украсть у одного из старухиных… нечеловеков нечто. Но куда мне бежать? Если же отдам тебе, то мне уже не выбраться.
Туман приближался, Добрыня услышал странное хлюпанье. Напрягая глаза, увидел, как сама земля под второй волной тумана прогибается, наверх выступает гнилая желтая жижа. Если подойдет сюда, он окажется по колено в болотной воде. Хорошо, если только по колено.
– Выберемся вместе, – предложил он торопливо.
– А потом? – спросила она печально. – Это вам, мужчинам, перо в… и вольный полет! А женщина одна из дому выйти не смеет: не принято. Нехорошо. Не по-женски. Вот если бы ты меня взял с собой…
Он ответил излишне резко, краем глаза следя за наступающей волной:
– Да ты знаешь, зачем я еду?
– Да какая мне разница? Здесь тошнее смерти. Если возьмешь, я не буду тебе обузой.
– Со мной опасно, – произнес он угрюмо.
– Ты думаешь, заживо гнить лучше?
Глава 8
Из глубины серой стены услышал шелест, словно гигантский рак неспешно полз в его сторону, шурша костяным панцирем. Болото чавкало под невидимыми лапами все громче. По хлюпанью определил, что в стене тумана прячется множество нежити, слышно, как лязгают зубы, когти, скрипят суставы.
Нахмурившись, потащил меч из ножен, встал в бойцовскую стойку, голову повернул в сторону опасности. Сам ощутил, что лицо стало красивым и суровым, нижняя челюсть выпятилась еще дальше. А когда заговорил, голос прозвучал как удар меча по наковальне:
– Недостойно витязя!
– Что?
– Пользоваться женскими слабостями.
Из тумана протянулась в его сторону длинная лапа. Добрыня сделал два быстрых шага навстречу. Коротко блеснуло лезвие. Звук был такой, словно отрубил тонкую ветвь. Отрубленная кисть упала на землю, а Добрыня так же быстро отступил, огляделся по сторонам:
– Так, эту гадость рубить не трудно.
– При чем тут женские слабости? – спросила Леся печально.
– А что же?
– Ты можешь меня спасти! А ты бросаешь.
Он остановился в затруднении с поднятым мечом. Конечно, ей здесь ничего не грозит, уже прижилась, но с другой стороны, что за жизнь в таком лесу? К тому же, самое главное, ему осталось одиннадцать дней. А потом она… да и он будут свободны. А она наверняка намного раньше.
Мокрое липкое нечто выметнулось из тумана. Меч встретил чудовище в прыжке, руки слегка тряхнуло. Две половинки зеленого и перепончатого рухнули справа и слева. Тут же его избитое тело само сделало полуоборот, чмокающий удар, взлетели и кувыркнулись когтистые лапы. Слизь брызнула на руки. Рукоять начала скользить в ладонях, а на губах ощутился гадостный привкус гниющего мяса.
– Сог… ла… сен! – прохрипел он. – Беру с собой!.. Но… с условием!
– Согласна на любое, – ответила она чересчур поспешно.
– Я оставлю тебя в первой же веси!
– Согласна, – ответила она упавшим голосом.
– Тогда, – крикнул Добрыня, – где мой конь?
Оглушительный свист ударил по ушам как дубиной. Из тумана вылетел ком грязи с тиной, шлепнулся в лоб, грязь потекла в глаза. Ослепленный, чувствуя на губах вкус гнили, он отчаянно размахивал мечом во все стороны, стараясь по чавкающим шагам определить, где враг.
В сторонке раздалось конское ржание. Снежок хоть и усомнился, но прибежал на разбойничий свист молодой вдовы. Добрыня ощутил на поясе сзади сильные руки. Женский голос прокричал в ухо:
– Хватайся за седло!
Когти и клыки вцеплялись уже со всех сторон. Доспехи заскрежетали, он чувствовал, как острые зубы дернули за край кольчуги, едва не свалив с ног. Острой болью кольнуло в бок, шею. Он сунул меч в ножны, обеими руками вцепился в седло. Ноги поволоклись по грязи, загребая тину и ряску. За плечи держали крепко, хватали за сапоги, за ноги. В ушах стоял крик, шум, плеск, потом в глазах вспыхнул болезненно яркий свет. Как будто издали услышал свой вопль. Свет тут же сменился чернотой, где страшно заблистали фиолетовые звезды.
Прямо в ухо прокричал женский голос:
– Да хоть лягни же…
Все еще вслепую, он схватил скользкое, с мерзким запахом, задавил, еще хватал и ломал кости, пока в глазах не прояснилось. Он держал под мышкой зеленую, облепленную ряской голову. Мелкие, как у рыбы, зубы вцепились в кольчугу. В двух шагах Леся, залепленная зеленой ряской, удерживала под уздцы испуганного коня, смотрела, как показалось Добрыне, со страхом и отчаянием.
Он сдавил, услышал влажный хруст, отпустил переставшее трепыхаться тело. Кольчуга от самого ворота забрызгана зеленой слизью, на сапогах налипла тяжелая, смердящая грязь, по лицу и шее ползет мерзкая жижа, срывается тяжелыми липкими каплями.
Изогнутая стена тумана вздымалась, плотная и жутковатая, уже в десятке шагов. Добрыня с облегчением понял, что они каким-то образом очутились по эту сторону. Двух-трех болотных тварей, что успели ухватиться мертвой хваткой, вынес на себе, вон растекаются слизью, как огромные жирные жабы.
Леся сказала с бледной улыбкой:
– Нам бы поспешить…
– А что, погоня? – спросил он хрипло.
– Пока нет…
– Понял, – ответил он. – Я не хочу окончить дни в болоте.
Только он сам понимал подтекст своих горьких слов, но Леся бегом подвела коня, даже вроде бы пыталась подсадить. Добрыня нахмурился, за это оскорбление надо убивать на месте, сам с усилием взобрался в седло, протянул ей руку. Ее пальцы были мягкие, теплые, но он ощутил настоящую крепость в тонкой кисти.
Конь пошел в галоп, деревья мелькали, как летящие навстречу птицы. Постепенно земля загремела под копытами, затем стук стал таким сухим, словно мчались по камню. Справа и слева замелькали сосны, что терпеть не могут болот.
Добрыня остановил коня:
– Ну, здесь болотные твари не достанут?
– Нет, – ответила она. – Но меня страшит другое.
– Что?
– Что за всю жизнь не отмоюсь.
Пока неслись через лес, болотная грязь не просто высохла, а въелась, прикипела. Даже у ручья не сразу смыли, пришлось долго размачивать, отдирать налипшую, как прочный рыбий клей, слизь и кровь. Между кольцами кольчуги застряли не то лохмотья плоти, не то клочья внутренностей, липкие, как живица, воняющие мерзостно.
Леся бледно улыбалась. Золотистые волосы Добрыни слиплись и торчали страшными космами. Зеленая слизь окрасила их в странный цвет, болотные твари приняли бы за своего.
– Если кривичи не ушли, – проговорила Леся, – то вниз по реке наткнемся на их селение… А чуть ниже у них городок. Купим коня.
Добрыня покачал головой:
– Зачем? Я привык обходиться без засводного.
– А я? – произнесла она совсем тихо.
– Что – ты?
– Как поеду я?.. Если за твоей спиной, то… ладно.
Он нахмурился:
– Что-то я не понял. Мы договорились, что оставим тебя там же в веси.
Она ответила погасшим голосом:
– Зачем?
– Не женское дело, – ответил он строго, – незамужней женщине находиться в лесу… да и вообще, с посторонним мужчиной.
Она слабо усмехнулась:
– Не совсем женское было и медведя рогатиной… Но никто меня не осудил! А я не одного медведя добыла, когда отцу на лечение понадобилось медвежьего жира.
Он поморщился:
– Здесь медведи не понадобятся.
– Вот и хорошо, – согласилась она просто. – У тебя в мешке ничего нет? Ну, так я собрала нам на дорогу.
Он остолбенело смотрел, как она сняла с седла узелок, развязала, расстелила на траве. На маленькой скатерке расположились тонко нарезанные ломти холодного мяса, головка сыра, краюха хлеба, комок серой соли.
– Когда же ты… Или настолько была уверена, что возьму с собой?
– Ну не последний же ты дурак, – удивилась она. – Садись, отведай.
Все-таки последний дурак, сказал он себе мрачно. Ладно, через одиннадцать дней перестанет делать глупости.
Перекусив, он ощутил, что сила быстро вливается в его избитое, но все еще могучее тело. Каждая жилка молила об отдыхе, однако какой витязь выкажет слабость перед женщиной, и Добрыня, надменно выпятив нижнюю челюсть, с трудом разогнул ноющую спину.
– В путь.
– Уже? – удивилась Леся. – Мне показалось…
Он не стал спрашивать, что могло показаться молодой вдове, молча оседлал коня. Леся покорно смотрела, как он, отвернувшись, чтобы женщина не видела его перекошенного от усилий лица, ухватился за луку, одним усилием воздел себя в седло. Потом его широкая длань опустилась к ней. Леся ухватилась обеими руками, Добрыня дернул, и девушка оказалась за его спиной.
Снежок покорно вздохнул, Добрыня легонько толкнул под бока. Конь вздохнул снова, но деревья уже тронулись и поплыли навстречу. Лес постепенно крупнел, жалкие покореженные стволы неспешно сменялись высокими, толстыми, со здоровой корой и свежими зелеными листьями.
Выехали к реке, а в излучине наткнулись на малую весь. Местные жители встретили Добрыню настороженно, киян не любили, но, когда Добрыня объявил, что купит коня и за ценой не постоит, ему привели на выбор едва ли не все живое, что могло двигаться. Леся выбрала смирную кобылу. Добрыня одобрительно отметил широкую грудь и сухие бабки невзрачной с виду коняги, – Леся толк знает, – расплатился, и дальше вдоль реки поехали уже вдвоем.
Почти сразу на околице Снежок фыркнул, но Добрыня уже и сам увидел впереди троих всадников. Едут навстречу, еще три коня двигаются сзади, доверху нагруженные тюками и седельными мешками. Первым ехал рослый, обнаженный по пояс, могучего сложения воин, еще молодой, но уже в шрамах, боевых отметинах. Зоркий глаз Добрыни заметил три-четыре шрамика в виде звездочек, такие остаются от выдернутых с мясом стрел.
На запястьях и предплечьях молодого богатыря тускло поблескивали широкие металлические браслеты. Для кого просто украшение, а умелец знает, как ловить на них удары мечей. В таких браслетах особые щели-ловушки для лезвий… Через широкую выпуклую грудь идет перевязь, а из-за бугристого от мышц плеча выглядывает рукоять огромного меча.
Следом за богатырем ехала на грациозной игровой лошади молодая и очень красивая девушка. Одета в одни ремешки, Леся сразу гневно засопела. Замыкал их отряд мерно ступающий темный лохматый конь, угрюмый, как ночь. На нем сидел непомерно короткий человек с раздутым туловищем и кривыми ногами. Добрыня с удивлением признал подземного рудокопа, такого редкого в этих краях.
– Это не кривичи, – сказала Леся.
– И этот… коротконогий, не кривич? – спросил Добрыня.
– И коротконогий не кривич, – ответила Леся, не замечая насмешки. – У кривичей глаза кривые, но не ноги.
Богатырь подъехал ближе, Добрыня разглядел по лицу, что не так уже и молод, просто постоянная жизнь в седле и с мечом в руке не дала нарастить дурное мясо, а мышцы сохранились и даже стянулись в узлы потуже.
– Приветствую! – сказал Добрыня громко. Он вскинул ладонь, подержал в гордом жесте. – Откуда путь держишь, герой?
Богатырь засмеялся. Это был смех сильного зрелого мужа, много повидавшего, много терявшего, но который не потерял надежды еще найти.
– Приветствую и тебя, герой. Мне проще сказать, куда еду!
– Куда? – поинтересовался Добрыня.
– Я ищу себе королевство. Ну, которое мог бы подгрести под себя… Ха-ха!.. Пора остановиться…
Добрыня удивился:
– Здесь?.. Похоже, ты опоздал.
Богатырь вскинул брови:
– Почему?
– Здесь земли уже поделены… Почти поделены. С запада пришел Рюрик, основал свое королевство, с юга – хан Аспарух, покорил пару племен и тоже основал царство, с востока пришли угры, им дали место на равнине… Гм, пришли еще Радим и Вятко, тоже создали свои племена, грозят превратить в королевства… Разве в лесах севернее отсюда остались места. Можешь основывать свое королевство. Если с этой красавицей, то от вас пойдет сильный и красивый народ!
Леся громко фыркнула. Богатырь широко и открыто улыбнулся:
– Спасибо за лестные слова. Но нет, этот путь чересчур медленный. Не для меня! Это для простого люда… Эти Радим и Вятко – простолюдины? Я с моим длинным мечом хочу завоевать себе королевство готовенькое!
Добрыня кивнул угрюмо:
– Да, конечно. Чтоб не трудясь… Но у Рюрика была еще и дружина. А что ты можешь сам?
Богатырь оглядел его оценивающе. Улыбка стала шире.
– А ты можешь оценить?
– Еще как, – ответил Добрыня. – К тому же я как раз защитник рубежей… уже нашего королевства!
Он вытащил меч, богатырь вытащил свой. Пустили коней по кругу, присматриваясь и примериваясь. Богатырь держался на коне свободно, в движениях чувствовалась сила и ловкость, а мечом двигал легко, без напряжения. Мускулы играли и перекатывались под темной от солнца кожей. Многочисленные шрамы выделялись как узоры странной татуировки.
Его спутница и рудокоп высокомерно наблюдали за схваткой. Кобыла Леси приблизилась, обнюхивалась с лошадкой красавицы. Леся зло дернула повод, едва не оторвала кобыле голову. Та всхрапнула и повернула голову, чтобы обнюхиваться с конем рудокопа.
Мечи заблистали на солнце. Добрыня нанес пробный удар, воин легко парировал, в свою очередь ударил красиво и сильно наискось. Железо зазвенело звонко и страшно. Добрыня чувствовал, как от кисти по всей руке пробежала дрожь и растаяла в теле. Он угрюмо присматривался к противнику, оценил длину рук, мощь ударов. Слабые места отыскивать не стал: достаточно и того, что голый как дурак перед бабой и уродом красуется, а тут тебе не ярмарка…
Он пошел на опасный прием, раскрывшись, меч противника блеснул у самых глаз, острое лезвие с силой ударило в грудь. Его тряхнуло, на солнце блеснули булатные пластинки, разлетелись, как холодные осколки льда под ударом молота. Однако и его меч провел точно такую же полосу по груди заморского противника.
Оба отпрянули, тяжело переводя дыхание. С груди Добрыни исчезли три булатные пластины, спасла кольчуга. Зато от его меча на груди воина пролегла длинная борозда, откуда сейчас бурно плеснула кровь. Судя по широкой струе, рана глубокая и опасная.
Добрыня поднял коня на дыбы, вскинул окровавленный меч:
– Слава!..
Воин, не веря глазам своим, ухватил ладонью за края раны, словно пытался свести их, срастить, остановить кровь. Лицо его посерело.
– Ты… кто ты?
– Бдитель кордонов земель наших, – ответил Добрыня высокомерно. – Возвращайся, герой. Здесь тебе искать нечего. Мы эти земли уже заняли, отдавать не собираемся.
Воин поднял голову. В глазах было бешенство. Из горла вырвался звериный рык:
– Я не отступлю!.. Здесь будет мое королевство!
– Здесь будет твоя могила, – прорычал Добрыня.
Воин с лютым криком поднял коня на дыбы. Его меч взвился как твердая молния, Добрыня поспешно закрылся щитом, подставив наискось, смягчая удар, но и без того руку тряхнуло так, что онемела по плечо. Правой же рукой он ткнул мечом вперед, словно сулицей. Острие коснулось живота героя, уперлось в твердые, как дерево, мышцы. Если бы на чужаке была еще и кольчуга, хоть плохонькая, Добрыня рисковал бы сам, но так острое как бритва лезвие пропороло плоть, погрузилось почти на ладонь.
Добрыня поспешно выдернул дымящийся от крови меч, заставил коня попятиться. Воин вскрикнул с такой мощью, словно бы закричала сразу сотня человек. Конь Добрыни даже присел, но Добрыня хладнокровно заставил его отступить еще на пару шагов.
– Трус! – вскричал воин. – Остановись и сражайся!
– А кто бежит? – удивился Добрыня. – Не туда забрел, парниша. В каких краях сходило голым воевать-то? Небось с тараканами?.. Или люди аки тараканы?
Воин зажимал раны на животе. Лицо перекосилось, рот дергался. Похоже, меч порвал в его теле важные жилы, ибо он захрипел, начал раскачиваться в седле. Женщина и рудокоп решились подъехать. Рудокоп подставил широкое плечо. Воин с усилием оперся, залитая кровью ладонь скользила, он едва не падал. Женщина поспешно придержала с другой стороны.
Добрыня вложил меч в ножны. На сраженного смотрел без злобы, а его спутникам сказал деловито:
– Когда зароете этого… короля, возьмите коня и пожитки… Это, конечно, не королевство, но отсюда уходят стрижеными, ребята.
Женщина, которая не стала королевой, и рудокоп, которому явно светило стать управителем королевства, медленно снимали умирающего воина с седла. Добрыня пустил коня шагом, дабы не подумали, что их побаивается, но голову отворачивал, не любил смотреть на мертвяков.
Глава 9
Сзади прогремела частая дробь копыт. Леся догнала, протянула руку. На ладони блестели три смятые страшными ударами, искореженные пластинки из булата.
– Возьми. Если будешь так часто драться, то сам пойдешь голым. Ну, как этот…
Добрыня двинул плечами. Голос прогремел сурово, только сам он уловил в нем горечь и скрытый смысл:
– На мою жизнь хватит.
– Уверен? – спросила Леся с сомнением.
– Да.
– Ну, как скажешь.
– Да и нет здесь горна, – добавил он, смягчая резкость, – чтобы раскалить, расклепать, согнуть, снова склепать…
Леся, поколебавшись, спрятала пластины в дорожную сумку, одну повертела в руке. В серых чистых глазах была задумчивость, губы слегка дрогнули.
– Ну… на ближайшем привале… я попробую.
Ее пальцы проглаживали булатную пластину, словно та была из сырой глины. Когда стала ровной и красиво выгнутой, тоже отправила вслед за другими, а серые внимательные глаза прошлись взглядом по широкой груди Добрыни.
Добрыня ощутил, что против воли поглядывает на ее сильную, развитую фигуру. Конь несется под Лесей как ветер, но она в седле держится ровно, как свеча, навстречу ветру смотрит открыто, в конскую гриву лицо не прячет. Волосы убрала, стянула ремешком, но он невольно представил, как ветер растреплет роскошную косу и они водопадом будут струиться следом.
Она перехватила его взгляд. Ему показалось, что щеки молодой вдовы чуть порозовели. Скрывая непонятно откуда возникшую неловкость, он перевел коня на шаг, пусть отдохнет, кивнул на лук за ее плечами:
– Не могу признать, что за дерево…
– Не знаю, – ответила она смущенно. – Мне отец подарил.
– Микула? – удивился он. – Вот уж не подумал бы…
– Да нет, – поправилась она торопливо. – Он никогда не был воином. По крайней мере, не рассказывал. А ему лук в молодости подарил не то Святогор, не то кто-то из велетов… У меня даже три стрелы сохранилось! Правда, их берегу. А пользуюсь теми, что сама делаю.
Он повертел лук в руке. Дерево темное, необычайно плотное, тяжелое. Как если бы сырой ком железа с овцу размером ковать и ковать, пока не станет с курицу. Дерево не куют, но есть, наверное, такие породы, перед которыми и дуб столь рыхлый, как сосна перед дубом.
– А тетива из чего?
– Двойная из задних ног тура, – ответила она.
Он прикусил язык, когда увидел, какие рукавички она натягивает на руки. Тетива из двойной турьей жилы прошибет насквозь любую кожу из простой бычьей шкуры. Но эти… Наверное, тоже достались от отца. А тому от неведомых велетов, что били зверей дивных, чьи непомерные кости порой выпахивают из земли.
А Леся, перехватив его взгляд, сказала убежденно:
– Святогор рассказывал бате, что раньше люди были о-го-го какие здоровые! Даже богов били как зайцев… А сами боги ходили по земле, силой мерились. Как с другими богами, так и с людьми. И не всякий раз можно было угадать, кто бог, а кто человек. Вот такие люди в старину были сильные…
– Враки, – отмахнулся Добрыня. – Скорее боги мелкие.
Леся поморщилась, но спорить с витязем не рискнула, и то счастье, что отвечает хоть сквозь зубы, заговорила с жаром:
– А потом Род повелел богам драться только с богами! А человека бог мог только… ну, к примеру, уговаривать прыгнуть… в пропасть, обещая крылья… или же как-то… к слепоте или разору! Но другой бог, хоть и не волен отменить сделанное первым богом, в его воле слепого сделать ясновидящим, разоренного – могучим и красивым, а летящего в пропасть по его указке подхватит орел или другая птица…
Она не поняла, почему от ее беззаботного голоса, ясного и чистого, витязь потемнел, соболиные брови сдвинулись, даже чуть сгорбился вроде…
А Добрыня, стараясь остаться наедине со своей долей, начал понукать коня. Земля снова загремела под копытами. Некоторое время мчался один, одинокий и считающий дни, потом сзади стучали копыта легкой лошадки, сбоку снова замаячил силуэт стройной женщины с русой косой.
А Леся поймала себя на том, что снова украдкой посматривает на сурового витязя. Она всегда съеживалась, будто ее били, когда от друзей отца слышала одобрительное: «Девка у тебя, Микула, удалась на славу! Рослая, здоровая, такая любой пень из земли выдерет, а буде конь завязнет, то на плечи возьмет и домой отнесет…» А ей хотелось быть маленькой и слабенькой, рядом с которой каждый мозгляк чувствует себя настоящим мужчиной, гордо расправляет плечи. Маленьких да слабеньких женщин всяк любит и жалеет.
Как ей хотелось быть похожей на тех беспечных румянощеких хохотушек, что всегда у парней нарасхват, у которых на щеках милые ямочки, а голоса звучат весело и зовуще! Увы, на ее щеках ни единой веснушки, а глаза без женской лукавинки, смотрят прямо и ясно, что мужчинам совсем не нравится. Им надо, чтобы очи долу, а она всякий раз забывает…
Тем более забывает сейчас, когда рядом с таким огромным и властным героем в самом деле и мелковата, и почти послушна!
Запад покраснел, солнце перешло на его половину неба. Облака стали пурпурными. Дальний лес темнел, от него под ноги коням потянулись длинные острые тени. Впадины и рытвина заполнились красноватой тьмой, ветерок затих, воздух стоял неподвижный и теплый, как только что сдоенное молоко.
По бокам земля начала бугриться, пошла холмами. Кони стучали копытами сперва по распадку, а когда пошел орешник, на ходу хватали пастями сочные молодые листья. Леся украдкой посматривала на богатыря. Его заостренное лицо с высокими скулами и упрямо выдвинутым вперед подбородком казалось спокойным, как весь этот мир, но в больших серых глазах иногда проскальзывала странная обреченность, которой Леся не могла понять.
– Озеро, – внезапно сказал Добрыня. – Очень кстати.
– Привал?
– Искупаемся заодно, – добавил Добрыня.
Кони пошли быстрее, дорога понижалась. Холм повернулся, за ним раскинулось широкое озеро с такой ровной поверхностью, что оно казалось куском слюды. Тишину нарушал только стук копыт, фырканье, треск веточек.
Добрыня расседлал коней, вытер пот и сразу же с остервенением принялся сволакивать доспехи. От него пошли волны крепкого мужского пота. Когда стянул через голову вязаную рубашку и швырнул на траву, все тело блестело, словно он уже вынырнул из глубин озера.
– Я быстро! – крикнул он.
Леся видела, как витязь прыгнул с берега, красиво, как лезвие меча, вошел в воду. Исчез он так надолго, что у нее едва сердце не остановилось. Почти на самой середине озера вода поднялась столбом, мелькнуло белое, не тронутое солнцем, тело, но с темными лицом и руками.
Донесся его зычный голос, плотное тело обрушилось обратно в озеро. Когда он вынырнул, то пошел резать воду саженками. Вода за ним бурлила, словно тащили огромное бревно. Лесе почудилось, что в глубине замелькали неясные тени, устремились вдогонку.
Вдобавок он снова нырнул и пошел как лягушка под водой, точно так же раздвигая воду руками и ногами. Леся видела сквозь чистую воду его струящийся силуэт, за ним в самом деле плывут водяные девы, Добрыня их не замечает, но они все ближе, волосы у них зеленые, как болотная трава, а тела по-рыбьи белые, бесстыжие…
Он вынырнул с шумом возле самого берега. Воздух ворвался в его раздувающуюся грудь легкий и чистый. Леся услышала громкий смех. Крупное тело, сплошь в тугих валиках мускулов, толстых жилах, тоже стало резким и рельефным, освободившись от пота, пыли, слюней и крови, как своей, так и всяких встречных искателей королевств.
Добрыня вышел, натянул портки, оставив рубашку, направился к Лесе, что все еще стыдливо отводила взгляд. Легкий ветерок от озера подул на его мокрое тело. Плечи передернулись, мускулы напряглись. Добрыня сам чувствовал, что похож на древнюю статую, какие иногда встречаются в ромейских городах.
У нее на коленях лежала его кольчуга. Быстрые пальцы девушки сновали как муравьи. Поскрипывали железные кольца, тихим звоном отзывались нагрудные пластины. Леся наконец вскинула голову. В серых глазах было странное выражение, но на губах проступила неуверенная улыбка.
– Кажется, получилось, – сказала она робко. – Не так красиво, понятно, как сделал бы Людота, но держатся крепко.
Добрыня, не веря глазам, взял кольчугу, растянул за короткие рукава. Все пластины на месте! Не сказать даже, какие были сорваны, а которые не затронуты мечом искателя королевств.
– Здорово, – сказал он пораженно. – Это просто… я даже не знаю… Как тебе удалось?
Она усмехнулась:
– Кто к белошвейной работе приучен…
Он оглядел ее с головы до ног:
– Потому ты и купаться не пошла?
– Да как-то, – ответила она несмело, – не приучены мы… Я из полян, а у нас девки с мужчинами вместе не купаются.
– Брось, – сказал он великодушно. – Озеро велико. Вон, видишь, какие кусты? Ты раздеваешься с одной стороны, я – с другой. А поплавать можем вместе.
Она отвела взгляд в сторону:
– Ну, в другой раз как-нибудь. Я тут испекла малость рябчиков…
У костра в самом деле на воткнутых в землю прутиках коричневели в пахучей корочке плотные комочки. Добрыня ощутил, как во рту скапливается слюна. Подумал смущенно, что долго плавал, если девка успела и кольчугу ему поправить, и рябчиков набить, ощипать и даже зажарить… Проворная. Кому-то здорово повезет.
– Спасибо, – сказал он. – Рябчики – тоже еда. Просто княжеская! Королевская…
– А ты и королей зрел?
– И королей, – отмахнулся он, – и базилевсов, в других странах зовомых императорами. Шахов… это такие же ханы, только побольше. Раджей, каганов и каганчиков… Это все одно и то же. Просто князья, только зовомые по-разному. В Европе полно королей, у которых земли меньше, чем в моем поместье, а людей меньше, чем у меня в одном дворе, зато короли!..
Она с удивлением смотрела, как он, поставив на глыбу камня блестящий шлем, вытащил нож и начал сбривать отросшую щетину. Кожа скрипела, хотя Леся не сомневалась, что нож острее бритвы: Добрыня из тех мужчин, что не лягут спать, не наточив оружие, не починив седло, не накормив коня.
– Зачем? – сказала она жалостливо. – Мой отец вовсе не скоблит рожу. А ты богатырь, другого такого не найти.
– Твой отец – простолюдин, – обронил Добрыня холодновато. – Вам дозволено не очень-то отличаться от дикого зверья.
– А ты? – спросила она уязвленно.
– А я обязан бриться, мыться, – ответил Добрыня, морщась. Он перекосил лицо, другой рукой натянул кожу. Лезвие скребло кожу с таким скрипом, словно по каменному полу тащили целую скалу.
– Бедный, – сказала Леся жалостливо. – Давай я…
Добрыня отстранился:
– Нет. Я никому не позволяю подносить острое лезвие к моему горлу.
Она удивленно вскинула брови, а он подумал запоздало, что вообще-то глупо вот так, когда осталось всего одиннадцать… или десять дней… но Леся уже встала, пошла проверить коней, а он доскоблил кожу, чувствуя, как та горит, словно ошпаренная кипятком.
Пламя костра становилось ярче. Мир за пределами освещенного круга темнел, пока не налился угольной чернотой, а над головой выгнулся усыпанный звездами роскошнейший шатер. Высоко под куполом мелькали неясные тени. Летучие мыши хватали жуков, хрустели на лету маленькими сильными челюстями, беззвучно пролетел огромный филин.
Пламя медленно опускалось, а толстые поленья медленно распадались на крупные, светящиеся изнутри багровые уголья.
– Пора спать, – сказал он наконец. – Вот и еще один день долой…
И хотя слова самые обычные, она слышала такое сотни раз, но лицо героя показалось темнее грозовой тучи. А голос прозвучал так, будто шел из глубокой могилы.
Но в следующее мгновение Добрыня тряхнул головой. Белые ровные зубы блеснули в беспечной усмешке. Леся исподлобья с недоумением наблюдала, как он ушел в темноту, где, судя по шороху, небрежно швырнул на землю конскую попону. Через мгновение донесся шум от падения тяжелого тела, шорохи – устраивается поудобнее, – затем тишина.
Леся вздохнула. Что ушел в темноту, понятно: кто бы ни подкрался к костру, его не увидит, а он успеет либо напасть с мечом, либо убежать, но вот что даже не попытался подгрести ее под себя…
Молодая вдова зябко повела плечами. Жар затаился в теле глубоко, а ночь холодная, страшноватая и всегда враждебная. А когда женщина одна, она страшится даже мыши.
Глава 10
Яркое слепящее солнце выжимало слезы. Жаркий золотой песок под ногами плавился от зноя, нещадно бил острыми лучами снизу, попадая между приспущенных век. Узун ехал с красными слезящимися глазами, а старый Ковыль вовсе зажмурился. Здесь, в испепеляющей стране песков, люди должны рождаться с прищуренными глазами, но, к удивлению степняков, они всюду встречали красивых стройных людей с крупными живыми глазами, веселыми и смеющимися, совсем не воспаленными.
Вот и сейчас навстречу на ослике едет бодрый загорелый мужчина в цветном халате и с повязкой на голове. Черные как смоль брови высоко вздернуты, крупные и круглые, как у орла, глаза безбоязненно смотрят на сверкающий песок, грозно блистающее небо, по-южному слепящее солнце. За ним двигается вереница верблюдов, с боков свисают тюки, сундуки, узлы. Верблюды шагают степенно, сытые и холеные, шерсть блестит, упряжь богатая, на лбу венчики из ярких перьев.
Ковыль первым съехал на обочину, за ним Узун. Пережидали долго, а верблюды шли и шли. От каравана веяло богатством и уверенностью. В самом конце показались всадники, неслись во весь опор, но коней не погоняли, те сами скакали весело и азартно, полные силы и молодости.
Когда всадники, явно охрана каравана, промчались вперед, Ковыль с восхищением поглядел вослед, задрал голову и прокричал одному из караванщиков:
– Скажи, почтенный, чей это караван?
Человек, что сидел на верблюде, раздвинул губы в доброжелательной усмешке:
– Нравится?.. Этот караван принадлежит самому королю Отроку. Великая честь служить этому мудрому и справедливому королю!
Он проехал мимо, а Ковыль крикнул другому, тот ехал в сторонке на бодром веселом ишачке:
– Наверное, ваш король владеет всеми богатствами этой земли?
Человек весело засмеялся:
– Ну уж нет! В наших краях немало людей богаче нашего короля. Но и они славят его мудрость и отвагу, ибо с приходом короля Отрока – он тогда еще был не королем, а ханом! – прекратились распри в наших землях, воцарился мир, а по дорогам стало безопасно ездить купцам и мирным людям!
Ковыль долго смотрел ему вслед, прошептал своему спутнику:
– Один этот караван стоит больше всех наших стад, всех наших сокровищ… Но явно же это не все, чем владеет Отрок. Но сколь же тогда велики богатства его подданных?
Узун молчал, но лицо его, покрытое маской из пота и пыли, помрачнело еще больше. Они, в их изношенных халатах, не выдерживают сравнения даже с самыми бедными из слуг этого каравана. Когда-то он отдал за своего коня половину состояния, но, когда они с благородным Ковылем вступили в пределы Шахеманского царства, у него язык едва не присох к гортани. Здесь у каждого простолюдина в повозке конь выше и статнее, а когда мимо ехали воины, они оба поспешно сходили на обочину и низко кланялись, уверенные, что едут правители страны.
– Продолжим путь, – сказал он наконец.
– Продолжим, – убито согласился Ковыль.
За караваном осталось медленно опадающее облако желтой прокаленной пыли. Она накапливалась в складках халатов, набивалась в потертости, иссушала тела и вызывала невыносимый зуд. Впрочем, изможденные тела почти не чувствовали ни зуда, ни жара, только безмерную усталость. А кони под ними шатались, шли на подгибающихся ногах.
– Вижу блеск!.. – вскрикнул Ковыль. – Но то ли облако горит над горизонтом, то ли…
– Я тоже вижу, – сказал Узун.
А Ковыль, всмотревшись, сказал потрясенно:
– Это не облако. Это стены из белого камня немыслимой чистоты!
– Впереди город? – спросил Узун, который устал удивляться диковинкам этого царства.
– Если это не врата в небесное царство…
Узун поднял измученного коня на дыбы:
– Тогда вперед! Так или иначе, но скоро все решится.
– И мы отдохнем, – добавил Ковыль.
Голос его прозвучал мрачно, словно он имел в виду совсем не тот отдых, после которого просыпаются.
Стена из белого камня закрыла полмира. Они приблизились к огромным вратам, Ковыль суетливо перебирал серебряные монеты. За вход в такой сказочный город могут потребовать и чистое золото, однако стражей у ворот не оказалось вовсе.
Ошеломленные, они вступили в этот неслыханно огромный город, в котором поместилось бы все население их Степи.
По улицам развозили с веселыми воплями на лошадях и мулах огромные бурдюки, продавали вино, наливая в подставленные чаши и кувшины. Ковыль и Узун двигались мимо многочисленных лавок, где чуть ли не даром продавали горы душистой халвы, самых разных сладостей.
В восточной части базара торговали удивительными конями: высокими и широкогрудыми, но тонконогими, с огненными глазами, под шелковой кожей проступают сухие мышцы. Чутье подсказало обоим степнякам, что такие кони могут скакать без устали вдвое быстрее и дольше их выносливых лошадок. Эти кони были благородного коричневого цвета, красивые и гордые, а собственные лошадки мышиного цвета сразу потускнели и показались просто мулами.
Часть базара отдана торговцам странными птицами, из которых Ковыль признал только петухов, но и те непривычно крупные и мускулистые. На лапах кожаные перчатки с железными когтями, словно таких петухов разводят как боевых собак, а не за то, что без их хвалы восходящему солнцу может не наступить рассвет…
Особенно потрясло, что прямо на прилавках лежали драгоценные жемчужины, крупные алмазы, сапфиры, рубины, прочие редкие и ценные камни, а также удивительные куски камня цвета чистейшего меда, доставленные с самых северных морей, где люди не живут, деревья лопаются от холода, а птицы падают замертво.
Торговец, завидев двух степняков, бодро воззвал:
– О, сыны степей! Покупайте этот камень, он принесет счастье! Видите, в нем волшебством древних магов заключен в самую середину муравей, как символ достатка и трудолюбия?.. Ни один из нынешних магов не в состоянии это повторить. Это могущественный камень…
Ковыль приосанился, а Узун, подозревая насмешку, спросил хмуро:
– Этого камня хватает в наших степях. А есть ли у тебя настоящий черный жемчуг, который находят в желудках черных кобылиц?
Торговец запнулся, вытаращил глаза, наконец сказал неуверенно:
– Разве такой… бывает?
– Я трижды находил в своих конях, – сообщил Узун мрачно. – Но мой сосед, проклятый хан Узурлак, находил чаще!.. Так что в следующий раз я захвачу целый мешок, привезу, если дашь хорошую цену.
– Дам! – пообещал торговец. – Договоримся!
Ковылю стало стыдно, поспешно утащил друга, но со стороны выглядело, словно он нашел покупателя получше. Узун, все же потрясенный до глубины души, вежливо остановил одного богато одетого человека, поклонился:
– Скажи, уважаемый, да будут твои года долгими, а кобылицы плодовитыми… К какому великому празднику вы готовитесь?
А Ковыль добавил простодушно:
– Или же ваш великий праздник уже начался?
Богатый человек ответил с удивлением:
– Какой праздник?.. Никакого праздника… Что за праздник, когда работаю с утра до вечера, а потом едва успеваю посидеть с соседями за чашкой хорошего вина, как снова ночь, затем утро – и… опять в лес рубить дрова?
И удалился, рассерженный, подозревающий, что над ним шутят. Ковыль и Узун остолбенело смотрели в широкую удаляющуюся спину в богатом халате, их хану разве что под стать. Этот дровосек, выходит, каждый вечер сидит с соседями и за неспешной беседой попивает настоящее вино? Не кумыс? А спать ложится без обнаженной сабли у изголовья?
Когда с великим трудом выбрались с базара, думали, никогда не кончится, то увидели, что вино продают и прямо из огромных бочек, установленных на всех перекрестках города. На маленьких площадях жонглировали острыми ножами пестро одетые фокусники, танцевала почти нагая девушка.
Они принимали за царский дворец каждый богатый дом, а к самому дворцу добрались только к вечеру. Ноги подкашивались, во рту пересохло. Стража беззлобно посмеялась над двумя дикими людьми из степей, а кто-то, сжалившись, бросил им мелкую монетку.
Но Узун был упорен, он не уходил и всем объяснял, что прибыли из родных мест их правителя, что он будет рад их видеть, что они с ним родня, что степняки родни никогда не стыдятся…
Мудрый Ковыль быстро понял, что все бесполезно, уговаривал упрямого Узуна, тот наконец сдался и отступил, но в этот момент проходил какой-то знатный человек. Он выслушал, посмеялся еще громче стражи, сказал, что правителю будет забавно увидеть таких существ, и по его знаку их пропустили через врата дворца.
Оказалось, что это еще не сам дворец, а двор перед дворцом. Узун и Ковыль едва передвигали ноги, от потрясения кружились головы, а во рту стало сухо. Двор огромен, вымощен мраморными плитами. Всюду розы, бьют фонтаны, порхают яркие птицы и поют сладкими голосами. По ту сторону двора гостеприимно распахнул врата сам дворец. По ступеням сходят и поднимаются празднично одетые люди, на бедных степняков в их серых халатах посматривали как на диковинных, но безобидных зверей.
Их провели в огромный зал, а затем через этот зал в другой, еще краше, а потом в третий. И так вели через сорок залов, даже Узун побледнел, глаза расширились, он готов был впасть в беспамятство.
Наконец их поставили перед последней дверью, объяснили, как кланяться. Створки пошли в стороны. Из зала навстречу ударило такое сияние, что степняки отшатнулись и прикрыли глаза. Открывшийся перед ними зал был огромен, как степь, далекие стены искрились искусно сделанными изразцами: зелеными, розовыми, синими, расписанные диковинными узорами.
Под стенами сидят на роскошных диванах седобородые старцы в дорогих халатах, величественные и с лицами, исполненными достоинства и мудрости. До ушей степняков донесся ровный шум голосов, неторопливых и осторожных.
Широкая дорожка толстого ковра, расшитого цветами, повела через огромный зал вдаль, а там под бесконечно далекой стеной возвышался трон с высокой спинкой, на котором сидел красноголовый орел. Справа и слева от трона застыли в почтительных позах знатные мужи этого королевства, а на самом троне в небрежной позе сидел еще крепкий человек в богатой одежде. Лоб его избороздили морщины, лицо темное от солнца и ветра, глаза слегка сощурены, словно все еще всматривается в тонкую линию между небом и землей. Однако взгляд остер, как у степного орла, что из-за облаков различает как прошмыгнувшую по земле ничтожную мышь, так и муравья.
Степняки шли по ковру, утопая по щиколотку. Сопровождающий их вельможа прошептал на ухо настойчиво:
– Падайте ниц! Падайте ниц!
Ковыль заколебался, но Узун сделал еще два шага вперед. Стражи за спиной трона насторожились. Узун слегка склонил голову и сказал:
– Люди бедной Степи приветствуют могущественного правителя.
Властелин наклонился, подался вперед, всматриваясь в изнуренные лица степных людей. На смуглом лице проступило изумление. Он слегка привстал, словно собирался шагнуть к странным гостям:
– Быть того не может!.. Кипчаки?
– Да, господин, – ответил Узун. – Из рода Степного Беркута, а этот вот седобородый батыр – последний из некогда славного рода Серой Ящерицы.
К изумлению присутствующих, правитель встал и резво сбежал по ступенькам, покинув трон. Еще больше изумились, когда он, раскинув руки, обнял одного за другим этих бедных людей, похожих на странствующих дервишей.
– Глазам не верю, – приговаривал он. – Нет, это чудо!.. Как вы сюда добрались? Как меня нашли?
Мудрый Ковыль покосился на замерших придворных, поклонился и сказал с великим почтением:
– Слух о славе и богатстве твоего королевства прошел по всем землям. И настолько этот слух был силен, что достиг пределов нашей бескрайней степи.
Седобородые старцы заулыбались, важно кивали, переглядывались, довольные, а король Отрок засмеялся:
– Да, пришлось сперва и крови пролить, и усмирять распри, но теперь все уладилось. Землепашец уже не берет в поле с собой саблю, а торговец везет товары без боязни! Никто по дороге не ограбит. Но это все моя нынешняя жизнь… А мне интересно, что творится в Степи. Прошу в мои личные покои. Нам принесут изысканные вина и редкие яства. За неспешной беседой поведаете все новости…
Придворные мудрецы переглядывались со снисходительными улыбками. Какому правителю не льстит встретить старых друзей детства, что так и остались в нищете и бедности, когда можно удивить их дорогими одеждами, роскошными залами, мраморным полом, по которому ступаешь как по окаменевшей поверхности зеркального озера!
В огромных дорогих покоях, которые отвели им под отдых, половину занимал бассейн с кристально чистой водой. Появились улыбающиеся полуголые девы, прекрасные, как небесные существа, веселые и смеющиеся. Со звонким смехом содрали с них, преодолевая сопротивление, одежду, завели голых в воду, что оказалась теплой, как молоко кобылицы, нежной и пахнущей диковинными травами.
Ковыль закрыл глаза, стыдясь того, что с ним делают. Узун, напротив, смотрел во все глаза, а прекрасные девы мыли их и терли скребками, как степных коней, обливали водой и снова терли то жестко, то нежно и сладостно. Когда сами обрызгались, то сбросили остатки своих прозрачных одежд, что все равно ничего не скрывают, и тоже восхитительно нагие полезли в воду. Снова терли, разминали мышцы, гоняли кровь по усталым телам, и вскоре даже старый Ковыль ощутил себя молодым и сильным, со стыдом понял, что желает этих женщин. Они тоже заметили и заливались смехом, дразнились, задевали вроде невзначай. Затем обоих вывели и положили возле воды на разостланные упругие циновки. Тонкие, но сильные девичьи руки снова разминали мышцы спины, прошлись по хребту, перебрав каждый позвонок, и снова даже старый Ковыль ощутил в себе юношескую мощь.
Узун лежал вниз лицом. Ловкие девичьи пальцы перебирали каждую мышцу, встряхивали, заставляли наливаться кровью, просыпаться. Он чувствовал, как юная дева наклоняется над ним, при каждом движении острые груди касаются его спины, и там, где острые соски прочерчивают незримые линии, на коже вспыхивают красные полосы прилившей горячей крови, уже почти закипающей. В теле росло неудержимое желание, но в сердце, напротив, поселилась черная горечь. Нет, их поездка не только глупа, но, хуже всего, безнадежна…
Ковыль рядом пыхтел, позабыв о своей почтенной мудрости, всхрюкивал от удовольствия, глаза полузакрыл. Когда его перевернули лицом вверх и над ним нависло смеющееся девичье лицо с копной заколотых сверху волос, он стиснул зубы и застонал от сладкой муки. Совершенно нагая, юная и свежая, но уже с пышными формами, она с хитрой улыбкой продолжала разминать ему мышцы груди, живота, ее пальцы мучительно медленно опускались все ниже и ниже…
Глава 11
Отрок уже ждал их в своих покоях, которые ошеломили степняков великолепием, хотя оба были уверены, что ничто их больше не удивит. Отрок возлежал на роскошном ложе, красное сукно покрыло три ряда толстых перин, по бокам громоздились бархатные подушечки всех размеров, а пол устлан ковром, в котором ноги утопали, как в толстом мху лесных болот.
Перед ложем раскорячился длинный низкий стол. Истекали сладким соком жареные тушки птиц, блестели тугие виноградные гроздья, а узкогорлые кувшины высились, как минареты в богатом городе.
– Велик ты и славен, – сказал Ковыль. – Пока мы ехали, наслушались о твоей мудрости, справедливости, твоей заботе о жителях страны. Поистине всяк счастлив, что ты явился в их земли!
Отрок отмахнулся, чело на миг омрачилось.
– Это сейчас. А когда я прибыл, здесь был такой клубок змей… Уже искусали друг друга, уже дохнут, но ни одна не желает разомкнуть челюсти. Нам терять было нечего, мы сами были на грани издыхания… помнишь, каких нас изгнали?.. Ударили всеми людьми, что у нас оставались. Даже женщины и дети взялись за оружие. Больше половины моих людей полегло, зато на залитой кровью земле воцарился мир. Пусть на страхе, но все же мир. А затем увидели, что я выше всего поставил закон, а уж потом знатность и высокое имя. И когда земледелец начал без страха уходить в поле, когда схваченных разбойников – будь это голодный работник или знатный хан – одинаково вешали на первом же дереве, тогда заговорили, что мы не зря пришли в их земли, а были посланы их богами. Так что сейчас в самом деле люди впервые за много лет наслаждаются миром. Да и нет особой нужды разбойничать, когда колосья ломятся от тяжести зерна, когда коровы приносят по два теленка, когда куры несутся круглый год, а болезни сытое и довольное королевство обходят стороной!
Степняки кивали, а Ковыль сказал уважительно:
– Ты и раньше был мудр. Но только здесь ты смог применить свое умение видеть людей и события.
Узун сказал честно:
– Я верю, что эти земли не знали лучшего правителя.
Отрок засмеялся:
– Дорогие друзья! Я должен бы засмущаться и сказать что-то вроде: ну что вы, я не самый лучший… Но если честно, мне прочли все старые хроники этих земель! Ну, скажу вам, это только в этих богатых землях можно было выжить при таких правителях. Я не лучший, я просто… просто правитель. Но что мы все обо мне и обо мне?.. Расскажите, что в родных степях творится.
Он откинулся на подушки, черные глаза блестели живо и счастливо. Правая рука привычно ухватила гроздь винограда с такими огромными и лопающимися от сладкого сока ягодами, что Ковыль не удержался, громко сглотнул слюну.
Отрок нетерпеливым жестом повел в сторону стола: все в вашем распоряжении, угощайтесь. Бесцеремонный Узун тут же принялся хватать все подряд и засовывать в пасть, гнусно чавкая и брызгая соком. Ковыль ел степенно, памятуя о возрасте и достоинстве. Но и у него сочные фрукты то сплющивались в корявых пальцах, больше пригодных метать аркан и укрощать коней строптивых, то лопались, как надутые пузыри, оставляя прозрачные капли сока на седой бороде, усах и даже падающих на лоб серебряных волосах.
– Степь в огне, – сказал Узун медленно, через силу, потому что ощущение безнадежности окаменело и залегло в душе, тяжелое и неподвижное. – Сын предыдущего кагана русов… да-да, каган Вольдемар, умело теснит нас по всей великой Степи.
Брови Отрока взлетели.
– Он решился пойти в глубь Степи?
– Нет, – признал Узун, – в глубь не идет, но он выстроил гигантский защитный вал, отныне называемый Змеевым Валом…
– Змеев Вал был всегда, – заметил Отрок. – Говорят, их герой Таргитай запряг самого властелина подземного мира и провел борозду по земле, а вывернутая из-под плуга земля и создала эти валы…
– Тот вал уже почти размыли ливни и разнесли ветры. Это Владимир, согнав массы полона, велел выкопать Валы. Кто выжил на этих страшных работах, тех велел зарубить там же во рву. Тем самым принося жертву своим жестоким богам. Кроме того, он выдвинул далеко в степь заставы… Это такие вышки, с которых следят за степью денно и нощно. Внизу оседланные кони. Как только показываются наши удальцы, на вышке сразу же огонь, дым! Это замечают с другой вышки… Словом, наши набеги пресекаются, а свои войска он постепенно продвигает. Медленно, осторожно. Он не похож на своего героического отца, но зато уж куда пришел – палкой не выгонишь. Ханы, лишившись возможности делать лихие набеги на этих презренных землепашцев, снова начали свары… Опять льется кровь, гибнут в сражениях славные батыры, исчезают в огне древние корни некогда славных родов, а вражда выплескивается на соседей…
А Ковыль, помрачнев, задержал возле губ диковинный сочный персик, откусил, положил обратно, словно потерял вкус:
– Как последнюю попытку возродить былое величие Степи… ханы сговорились собраться в Великий Поход.
– На Русь? – спросил Отрок.
– Да.
– Но как же заставы богатырские?
– Они хороши против малых отрядов. А большое войско все равно не скроешь. Князь Владимир не сумеет собрать достаточно сил, чтобы дать нам отпор. К тому же, как сообщили ромеи, сейчас, как никогда, удачное время! Из Киева уехали почти все великие герои. Защищать город некому.
Отрок с сомнением покачал головой:
– На князя Вольдемара это не похоже. Он всегда большую часть богатырей держит при себе.
– Здесь постарались ромеи, – сказал Узун горячо. – Кого посулами, кого жаждой подвигов, кого… кого как-то иначе, нам неведомо, но всех героев удалили из города! Остались только могучие силой Зарей Красный и великан Кышатич, но что двое героев против нашего объединенного войска? Мы возьмем Киев, сожжем дотла, как и все города тех земель! Мужчин убьем, а женщин и детей уведем в полон. Всю Русь превратим в ровное поле, вольную Степь, пастбище для наших коней!
Он говорил все громче, на желтых впалых щеках выступили красные пятна, а глаза загорелись. Ковыль и даже Отрок слушали зачарованно. Ковыль перестал жевать заморские яства.
– Возродить величие, – повторил Отрок мечтательно. На миг глаза затуманились, сказал проникновенно: – О чем еще так мечтали долгими зимними ночами?.. Что ж, честь вам и слава.
Его украшенные драгоценными перстнями пальцы небрежно отщипывали роскошные ягоды, ловко бросали в рот. Пухлые губы двигались, виноградные косточки ухитрялся выплевывать, в то время как Узун глотал даже абрикосовые – выбрасывать такие ценности?
Ковыль повозился на месте, было видно, как ему трудно говорить слова, которые и самому теперь кажутся пустыми, как чешуйки от чечевицы.
– Отрок… Нас послали старейшины рода. Тебя просят вернуться в родную Степь.
Отрок отшатнулся, виноградина остановилась у губ. Мгновение смотрел вытаращенными глазами, затем виноградина исчезла во рту. Отрок закашлялся, побагровел, глаза полезли на лоб. Узун с готовностью постучал бывшего степняка по спине, виноградина вылетела, как камешек из пращи, покатилась по роскошному ковру.
– Ч-ч-что? – переспросил Отрок. – Что?
– Просят вернуться, – повторил Ковыль убито.
– К-к-кто просит?
– Старейшины, – повторил Ковыль снова. – Самые знатные люди.
Отрок отдышался, но лицо осталось багровым. Грудь вздымалась, как волны моря в прибой.
– Старейшины, – повторил он. Голос его задрожал от старой ненависти. – Это те, которые меня изгнали? Которые требовали казни?
Ковыль и Узун молчали, потупив головы. Ковыль сказал тихо, униженно:
– Времена меняются. Теперь они готовы тебя простить… во многом.
Отрок вспыхнул, все ожидали крика, бешеного гнева, но правитель совладал с собой, а голос его прозвучал негромко, только в нем было доверху горечи:
– Простить?.. Да еще и не полностью? А знают ли, что не готов их простить я? Что я все помню?.. И позор изгнания, и слова, которые выкрикивали вслед?.. А здесь я – настоящий правитель. Которого чтят, которого слушают не из-за его острого меча, а потому что… потому что уважают! Идите и скажите… Нет, не надо говорить ничего из того, что говорил я. Просто расскажите, что видели. Какой город. Каков здесь народ. Какой у меня дворец и какие слуги. Просто расскажите! У меня не будет более сладкой мести.
Ковыль и Узун опустили головы. Ковыль сказал тихо:
– Мы все скажем, как ты велишь. Но… Отрок, умоляю тебя! Ты должен вернуться!
Отрок прошипел, лицо нервно дергалось:
– Почему? Скажи мне почему, или прикажу казнить тебя!
– Ты нужен нам!
– Что значит – нужен?
– Мы все поставили на кон. Если потеряем – потеряем все… Владимир разгромит наше войско. И тогда ворвется на наших плечах в нашу Степь!.. Но ты именно тот камешек, о который споткнется князь русов. Ты необходим Степи, а не тому или другому роду! Ты необходим, хан Отрок.
Он процедил сквозь сжатые зубы:
– Я давно уже не хан.
– Но ты Отрок…
– Я король Отрок, – ответил он.
– Отрок, ради всех родов и племен Степи!
– Они отреклись от меня.
– Ради наших детей и наших женщин!
– Это ваши дети, – напомнил он жестко, – и ваши женщины.
– Но они были и твоими!
– Теперь у меня эти дети, – сказал он твердо, – и эти женщины… мои. Я их взялся растить и защищать.
Ковыль продолжать умолять, в глазах были страх и отчаяние. Лицо Отрока становилось все жестче. Не сводя с них упорного взгляда, он протянул руку к столу. Ковыль и Узун обреченно смотрели, как усеянные драгоценными перстнями пальцы ухватили серебряный колокольчик. С неподвижным лицом, словно в маске, потряс колокольчиком. По залу разлился мелодичный звон.
Из потайных дверей мгновенно ворвались четверо огромных стражей. Лица горели решимостью уничтожить любого, кто посмеет вызвать неудовольствие их обожаемого правителя.
Отрок кивнул в сторону застывших степняков:
– Вывести за пределы дворца. Утром выставить за городские врата. Дать по медной монете, как подаем нищим.
Их схватили, ноги оторвались от пола, бегом пронесли к выходу. Ковыль и Узун обреченно болтались в их руках, как старые мешки со свалявшейся шерстью. Внезапно Узун закричал:
– Отрок! Ты прав, ты прав!.. Мы уходим. Но позволь тебе… подарок… которого не смогут никакие короли…
Страж пинком распахнул двери, но по знаку Отрока Узуна опустили на землю. Он сунул пальцы за пазуху. Тут же его схватили с двух сторон за кисти обеих рук. Страшась, что всадят кинжалы, он очень медленно вытащил полотняную тряпицу, ветхую, потертую, с желтыми пятнами не то лошажьей мочи, не то в потеках глины.
– Прими это… на прощанье. И… прости нас!