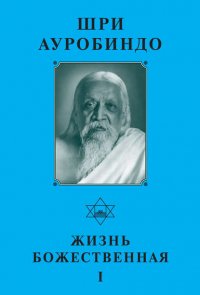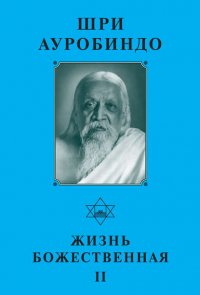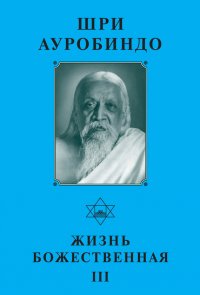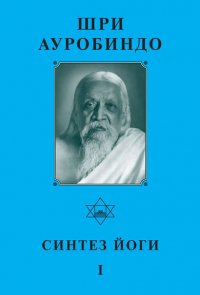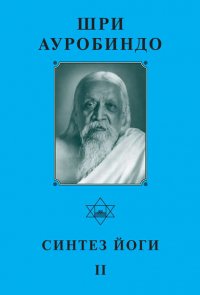Читать онлайн Шри Ауробиндо. Тайна Веды бесплатно
- Все книги автора: Шри Ауробиндо
Предисловие
Веды – священные писания древней Индии, свод гимнов богам и жертвенных формул, авторство которых приписывается легендарным провидцам риши, являются наиболее ранними из дошедших до нас памятников древнеиндийской литературы. Веды (в переводе с санскрита веда буквально означает «знание») всегда почитались в Индии как источник сакрального знания, как запечатленные в слове откровения вечной мудрости. Однако со временем смысл древнего знания был утрачен, чему способствовал и особый символический язык, которым пользовались создатели Вед. В результате и в самой Индии, а позднее и в западной индологии возникли самые разнообразные трактовки древних гимнов, подчас прямо противоречащие друг другу.
Шри Ауробиндо рассматривает Веду в первую очередь как мистическое писание, повествующее нам о духовном опыте, религиозном мировоззрении, поэтическом миросозерцании людей той далекой эпохи. Однако в своих работах, посвященных этой теме, Шри Ауробиндо неоднократно упоминал, что, лишь соприкоснувшись непосредственно в собственных духовных исследованиях с теми откровениями и переживаниями, которые вдохновляли древних риши на создание этих бессмертных произведений, он смог проникнуть за покров ведийских символов и приоткрыть тайный смысл Веды.
Шри Ауробиндо называл свой подход к интерпретации Вед «психологическим». Этот подход, а также сама форма изложения отличаются от принятых в современной европейской индологии. Здесь мы встречаем не рационалистическое исследование, изложенное сухим языком научного трактата, а выражение мистического видения, стремящегося проникнуть в самые глубины сокровенного знания древнего писания, чтобы открыть в нем те живые истины, которые и поныне движут и определяют духовный поиск человека. И это видение выражено свободным и даже поэтическим стилем, подчас приближающимся по духу к языку самих Вед и позволяющим нам воспринимать написанное не как отстраненное размышление на избранную тему, а как плод пережитых озарений.
Нужно сказать, что эта работа, хотя и была написана в начале прошлого столетия, не потеряла своей актуальности и поныне, поскольку остается еще очень много неразрешенных вопросов, возникающих при изучении и истолковании Веды, несмотря на то, что рассмотрению этого предмета посвящены труды многих ученых как в Индии, так и в Европе.
Чтобы проникнуть в тайны древней мысли и символики, нам, безусловно, придется приложить усилия, ибо не только время и расстояние, но и огромная разница в мировоззрении и культуре отделяют нас от создателей гимнов Вед.
Шри Ауробиндо так писал о переводе Вед: «Перевод Веды порой представляется задачей едва ли выполнимой. Ибо буквальный перевод на современный английский язык гимнов древних провидцев был бы фальсификацией смысла и духа этих гимнов, а изложение, имеющее своей целью раскрытие их подлинной мысли, было бы скорее интерпретацией, нежели переводом». Так и при переводе данной книги на русский язык приходилось сталкиваться подчас с теми же самыми во просами: каким образом сохранить смысл и дух этой работы и в то же время сделать ее максимально доступной для понимания современного русского читателя. Поэтому читатель, если он действительно хочет постичь образность и мысль древних Вед, должен быть готов отойти от стереотипов привычного ему мышления и встретиться с новой во многом для него системой представлений о внутреннем и внешнем мире человека, причем изложенной не в абстрактных философских терминах, а языком символов, скрывающим за, казалось бы, обыденными понятиями повседневной жизни сокровенные реалии духа.
В заключение приведем слова самого Шри Ауробиндо: «Невелика вероятность, что в эпоху, которая ослепляет нас преходящим великолепием внешней жизни и оглушает нас победными маршами материального и механистического знания, найдется много тех, кто не просто кинет мимолетный взгляд разбуженного интеллектуального любопытства или воображения на ключевые образы этого древнего учения риши, но постарается проникнуть в сердце их светозарных мистерий. Хотя тайна Веды, даже когда с нее сняты покровы, все равно остается тайной».
Шри Ауробиндо, Пондичери, 1915—1918 г.г.
Биографическая справка
Шри Ауробиндо – выдающийся мыслитель, общественный и политический деятель, поэт-провидец, йогин – родился в Калькутте 15 августа 1872 г. в семье доктора Гхоша, происходившего из знатного рода воинов-кшатриев. С семилетнего возраста обучался в Англии – сначала в школе Св. Павла в Лондоне, а затем в Королевском колледже в Кембридже, специализируясь в изучении классической и современной западной литературы. С ранних лет он проявил выдающиеся способности в латыни и греческом, а также в стихосложении.
В 1893 г. в возрасте 21 года Шри Ауробиндо возвращается в Индию. В течение последующих 13 лет он занимает различные посты в администрации города Бароды, преподает английскую и французскую литературу в местном университете, а в 1906 г. переезжает в Калькутту, где становится ректором Национального колледжа. Кроме того, в эти годы он включается в активную политическую борьбу за независимость Индии. Издававшийся им журнал «Банде Матарам» стал могучим голосом освободительного движения, впервые выдвинув идеал полной независимости страны, а также сформулировав конкретные методы его достижения. Одновременно он продолжает свое поэтическое творчество, а также погружается в изучение культурного и духовного наследия Индии, овладевает санскритом и другими ее языками и начинает постигать ее древние священные писания. Осознав подлинное могущество и ценность духовных открытий, давших жизнь всей ее богатейшей многовековой культуре, он в 1904 г. решает ступить на путь йоги, стремясь использовать духовную силу для освобождения своей родины.
В 1908 г. Шри Ауробиндо был арестован по подозрению в организации покушения на одного из чиновников британского колониального правительства и оказался в тюрьме по обвинению, грозившему ему смертной казнью, однако по окончании следствия, длившегося целый год, был полностью оправдан и освобожден.
Этот год стал для него «университетом йоги»: он достиг фундаментальных духовных реализаций и осознал, что его цель не ограничивается освобождением Индии от иноземного господства, но состоит в революционном преобразовании всей природы мироздания, в победе над неведением, ложью, страданием и смертью.
В 1910 г., повинуясь внутреннему голосу, он оставляет «внешнюю» революционную работу и удаляется в Пондичери, французскую колонию на юге Индии, чтобы продолжить интенсивные занятия йогой. На собственном опыте реализовав высшие духовные достижения прошлого, Шри Ауробиндо смог превзойти их и осознал, что окончательной и закономерной целью духовных поисков является полная трансформация человека, вплоть до физического уровня, и воплощение на земле «жизни божественной». Достижению этой цели он и посвятил себя, разработав для этого свою Интегральную Йогу.
С 1914 по 1921 г. он издает ежемесячное философское обозрение «Арья», где публикует свои главные труды, в которых подробно рассматривает основные сферы человеческого бытия в свете высшего Знания, обретенного в результате практики йоги, раскрывает истинный смысл древних писаний – Вед, Упанишад, Бхагавадгиты, значение и роль индийской культуры, исследует проблемы развития общества, эволюцию поэзии и поэтического творчества.
Шри Ауробиндо оставил физическое тело 5 декабря 1950 г. Его литературное наследие насчитывает 35 томов, среди которых мировоззренческие труды, обширная переписка с учениками, множество стихов, пьес и грандиозная эпическая поэма «Савитри», которую он создавал в течение последних тридцати пяти лет жизни и которая явилась действенным воплощением его многогранного духовного опыта.
В центре уникального мировоззрения Шри Ауробиндо – утверждение о том, что мировая эволюция есть постепенное самопроявление, самообнаружение Божества, скрыто пребывающего в Природе в результате предшествующей инволюции. Поэтапно восходя от камня к растению, от растения к животному и от животного к человеку, эволюция не останавливается на человеке, но, реализуя свою внутреннюю истину, тайную Божественность, устремляется дальше, к созданию более совершенного, «божественного» вида, который будет превосходить человека в гораздо большей мере, чем тот превосходит животное. Человек – лишь переходное ментальное существо, чье призвание – достичь более высокого, «супраментального», уровня сознания, Сознания-Истины, и низвести его в мир, преобразив все свое существо и всю жизнь в непосредственное выражение Истины.
Всю свою жизнь Шри Ауробиндо посвятил утверждению в нашем мире этого супраментального сознания, реализация которого должна привести к созданию на земле мира истины, гармонии и справедливости, предвещенного пророками всех времен и народов.
Часть Первая
Тайна Веды
Глава I. Проблема и ее решение
Существует ли вообще или остается ли до сих пор неразгаданной тайна Веды?
Согласно нынешним представлениям, суть той древней тайны уже выявлена и представлена ко всеобщему обозрению или же, скорее всего, настоящей тайны не было вовсе. Гимны Веды – это жертвенные сочинения примитивной, не вышедшей из варварства расы, сложившиеся вокруг системы церемониальных и искупительных обрядов, обращенных к персонифицированным силам природы; они наполнены туманными, еще не сложившимися мифами и грубыми астрономическими аллегориями, также находящимися в процессе становления. Лишь в поздних гимнах мы впервые ощущаем присутствие более глубоких психологических и моральных идей – заимствованных, как иные полагают, у враждебных дравидов, «грабителей» и «противников Веды», как откровенно именуются они в самих гимнах, – и обнаруживаем первые семена, хоть и непонятно откуда возникшие, позднейших ведантийских построений. Эта современная теория согласуется с общепризнанной идеей о стремительной эволюции человека с совсем еще недавнего уровня дикаря; она опирается на внушительный аппарат критических исследований и поддерживается рядом научных дисциплин, к сожалению, еще весьма юных и во многом пока гипотетических в своих методах и непостоянных в своих результатах, таких, как сравнительная филология, сравнительная мифология, а также сравнительное религиоведение.
В этих главах я ставлю своей целью предложить новый подход к этой древней проблеме. Я не намерен идти путем негативного и деструктивного метода, вступающего в противоречие с общепризнанными решениями, я просто хочу изложить, позитивно и конструктивно, более полную и, в известном смысле, дополняющую другие гипотезу, построенную на более широкой основе, – гипотезу, которая вдобавок может пролить свет на некоторые важные проблемы в истории древней мысли и культа, весьма неудовлетворительным образом решаемые обычными теориями.
В Ригведе, по оценке европейских ученых – единственной и подлинной Веде, мы сталкиваемся с собранием жертвенных гимнов, изложенных очень древним языком, овладение которым представляет ряд почти непреодолимых трудностей. Она полна древних форм и слов, не встречающихся в позднем языке, смысл которых часто приходится устанавливать при помощи догадок; многие слова, хотя и вошедшие в классический санскрит, имеют или, по крайней мере, допускают толкование, отличное от их смысла в позднем литературном языке; кроме того многие слова, в особенности наиболее распространенные и важные для понимания смысла, обнаруживают поразительное число несвязанных между собой значений, способных, в зависимости от предпочтения нашего выбора, придать совершенно разную окраску целым фрагментам, целым гимнам и даже всей мысли Веды. На протяжении нескольких тысячелетий были сделаны по меньшей мере три значительные попытки, хотя и совершенно отличные по своим методам и результатам, установить смысл этих древних изречений. Одна относится ко временам очень древним и представлена фрагментами из Брахман и Упанишад; но мы располагаем во всей полноте традиционной интерпретацией индийского ученого Саяны и уже в наши дни обрели интерпретацию Вед современной европейской школой, плод колоссального труда по сопоставлению и выдвижению гипотез. Обе интерпретации обнаруживают в общем одну особенность – они приписывают древним гимнам поразительную несвязанность мысли и смысловую бедность. Отдельным строкам можно придать – без особого усилия либо с некоторой натяжкой – определенный смысл или хотя бы осмысленность; язык, возникающий в результате, при всей своей стилевой напыщенности, перегруженности избыточными и декоративными эпитетами и невероятной бедности смысла этой огромной массы высокопарных слов и витиеватых фигур речи, все же выстраивается в доступные пониманию фразы. Но, принимаясь читать гимны в целом, мы словно бы соприкасаемся с людьми, которые в отличие от древних писателей других народов были неспособны связно и естественно выражать мысли или логически завершить их. Язык большинства гимнов, за исключением более коротких и простых, представляется либо туманным, либо искусственным; мысли или не связаны между собой, или истолкователю приходится изрядно потрудиться, чтобы объединить их в единое целое. Исследователь, работая со своим текстом, принужден заменить процесс истолкования чуть ли не процессом фабрикациии. Мы ощущаем, что он не столько выявляет смысл, сколько силится уложить непокорный материал в некое подобие формы и последовательности.
Но этим туманным и варварским сочинениям выпала счастливейшая судьба в истории мировой литературы. Они стали признанным источником не только для богатейших и глубочайших мировых религий, но также и для тончайших метафизических философий. В непрерывной тысячелетней традиции они почитались в качестве источника и критерия всего, что признавалось авторитетным и подлинным в Брахманах и Упанишадах, в Тантрах и Пуранах, в доктринах великих философских школ и учениях прославленных святых и мудрецов. Они носили имя «Веда», то есть знание, – имя, присвоенное высочайшей духовной истине, какую только способен воспринять человеческий разум. Но если согласиться с нынешними интерпретациями, Саяны ли или современных теоретиков, то вся их величественная и священная слава обращается в грандиозную фикцию. Гимны же удивительным образом становятся не более чем наивными верованиями необразованных и материалистичных варваров, поглощенных только самыми поверхностными приобретениями и удовольствиями, практически не имеющих понятия об элементарных моральных устоях и религиозных побуждениях. Это общее впечатление не могут разрушить отдельные фрагменты, совершенно не гармонирующие с общим духом писания. Подлинная основа или начальная точка отсчета для позднейших религий и философий – это Упанишады, которые в таком случае следует рассматривать как бунт философских и умозрительных построений против ритуалистического материализма Вед.
Однако эта концепция, опирающаяся на вводящие в заблуждение европейские аналогии, на самом деле ничего не объясняет. Такие глубокие и высокие мысли, такие тонкие и разработанные психологические системы, какие обнаруживаются в Упанишадах, не могли появиться из ничего. Человеческий ум идет в своем прогрессе от знания к знанию, или же обновляет и расширяет предшествующее знание, которое оказалось забытым и погребенным под наслоениями иного, или же ум ухватывается за старые несовершенные представления и они ведут его к новым открытиям. Мысль Упанишад предполагает существование великих истоков, предшествующих ей самой, а в обычных теориях это опускается. Гипотеза, предназначенная для заполнения этого пробела, которая гласит, что идеи эти были заимствованы арийскими варварами-завоевателями у цивилизованных дравидов, представляет собой всего лишь предположение, опирающееся только на другие догадки. На самом деле возникают даже сомнения, не является ли вся история об арийском вторжении в Пенджаб мифом филологов.
Школам интеллектуальной философии античной Европы предшествовали тайные доктрины мистиков; орфические и элевзинские мистерии подготовили плодородную почву для воззрений, из которых, в свою очередь, возникли идеи Пифагора и Платона. Наличие подобной отправной точки для всего последующего развития мысли в Индии, по меньшей мере, можно считать вероятным. На самом деле многие формы и символы идей, обнаруживаемые нами в Упанишадах, а также многое из содержания Брахман предполагает существование в Индии периода, когда мысль развивалась в скрытой форме тайных учений, подобных греческим мистериям.
Другой пробел, оставляемый общепринятыми теориями, есть пропасть, отделяющая материальное поклонение внешним силам природы в Веде от развитой религии греков и от психологических и духовных идей, которые связаны с функциями богов в Упанишадах и Пуранах. Мы можем, на данный момент, принять теорию о том, что самая ранняя полностью осознанная форма религии неизбежно – ибо человек на Земле начинает с внешнего и движется ко внутреннему – должна быть поклонением внешним Силам Природы, наделяемым сознанием и личностными качествами, которые человек обнаруживает в самом себе.
Агни в Веде – это несомненно Огонь; Сурья – Солнце, Парджанья – Дождевая туча, Уша – Заря; а если материальное происхождение или функция каких-то других богов не столь очевидны, то нетрудно сделать туманное ясным при помощи филологических предположений или изобретательных умозаключений. Но если обратиться к религии греков, которая, в соответствии с современными хронологическими представлениями, датируется не намного позднее Веды, мы сталкиваемся с существенной разницей. Материальные атрибуты богов отошли на второй план или оказались подчинены психологическим концепциям. Порывистый бог Огня обратился в хромого бога Труда; Аполлон, Солнце, управляет поэтическим и пророческим вдохновением; Афина, которую по происхождению можно с большой долей вероятности считать богиней Зари, утратила все воспоминания о своей материальной функции, став мудрой, сильной и чистой богиней Знания; есть и другие божества, боги Войны, Любви и Красоты, утратившие свои материальные функции, если они у них вообще были. Недостаточно утверждения, что перемена неизбежно должна была наступить с развитием человеческой цивилизации: сам процесс перемен тоже требует исследования и прояснения. Мы видим, как та же революция совершается в Пуранах, отчасти путем замены имен и обликов богов, но отчасти и через тот же неясный процесс, который мы наблюдаем в эволюции греческой мифологии. Река Сарасвати превращается в богиню Вдохновения и Учености; ведийские Вишну и Рудра становятся верховными Божествами, членами божественной триады, и выражают обособленно охранительные и разрушительные процессы в космосе. В Иша Упанишаде мы находим обращение к Сурье как к Богу озарения, с помощью которого мы можем постичь высочайшую истину. Таковой же была его функция в священной ведийской формуле Гаятри, которую на протяжении тысячелетий ежедневно повторяет во время молитвы каждый брахман; можно, кстати, отметить, что эта формула есть стих из Ригведы, из гимна риши Вишвамитры. В той же Упанишаде Агни призывается как божество с чисто моральными функциями, как очиститель от зла, проводник души путем добра к божественному Блаженству; он, повидимому, отождествляется с силой воли и несет ответственность за человеческие деяния. Сома, растение, из которого производился мистический нектар для ведийских жертвоприношений, теперь становится не только Божеством луны, но еще и олицетворением разума в человеческом существе. Наличие этих эволюционных перемен предполагает некий временной промежуток, следующий за ранним материальным богопочитанием или за более высоким пантеистическим анимизмом, приписываемым Ведам, и предшествующий развитой пуранической мифологии, в которой боги наделены глубинными психологическими функциями, – промежуток или период, который вполне мог быть Веком мистерий. Однако нынешнее понимание вещей оставляет брешь, или же этот разрыв создан нашей исключительной сосредоточенностью на натуралистическом элементе религии ведийских риши.
Я полагаю, что эту пропасть создали мы сами, в действительности же в древних священных писаниях ее нет. Гипотеза, предлагаемая мной, состоит в том, что сама Ригведа есть важнейший документ, дошедший до наших дней от раннего периода человеческой мысли – меркнущими останками которого были исторические элевзинские и орфические мистерии – периода, когда духовные и психологические знания расы, в силу трудноопределимых сейчас причин, были скрыты покровом конкретных и материальных фигур и символов, оберегающих смысл от невежд и раскрывающих его посвященным. Одним из главных принципов мистиков была сакральность и сокровенность познания себя и истинного знания богов. Мистики считали, что эта мудрость не предназначена, возможно даже опасна, для обычного человеческого разума; в любом случае, будучи открыта грубым и не очистившимся душам, мудрость может быть извращена, употреблена во зло и лишена чистоты. Поэтому они поддерживали существование внешнего богопочитания, действенного, но несовершенного, для непосвященных, посвященным же предлагали внутреннюю дисциплину, облекая свои мысли в слова и образы, в равной мере обладавшие духовным смыслом для избранных и конкретным – для массы простых верующих. Ведийские гимны были задуманы и созданы по этому принципу. Внешне их формулы и описанные в них церемонии – это детали внешних же ритуалов, предназначенных для пантеистического поклонения Природе, что и было распространенной религией тех времен, скрытый же смысл священных слов заключал в себе действенную символику духовного опыта и знания, психологическую дисциплину самосовершенствования, бывшую тогда высочайшим достижением человеческого рода. Система ритуалов, признаваемая Саяной, может сохранять свое внешнее значение, можно принять и общие концепции натуралистического толкования, открытого европейскими исследователями, но за всем этим пребывает истинная и все еще скрытая тайна Вед – тайные слова, niṇyā vacāṁsi, изреченные для тех, кто чист в душе и пробужден в знании. Таким образом, извлечение менее очевидного, но более важного смысла посредством истолкования ведийских терминов и ведийских символов и установление психологических функций богов есть задача трудная, но необходимая, и данные главы, а также переводы, сопровождающие их, являются только подготовкой к ее решению.
Эта гипотеза, если она окажется состоятельной, даст три преимущества. Будут просто и успешно прояснены те части Упанишад, которые пока остаются непонятыми или понятыми неверно, а также прояснится многое из истоков Пуран. Будет объяснена и рационально оправдана вся древняя традиция Индии, ибо обнаружится, что, по сути дела, Веданта, Пураны, Тантры, философские школы и великие индийские религии уходят своими корнями в Веды. Мы сможем увидеть там в их изначальном источнике, в их ранних и даже примитивных формах фундаментальные концепции позднейшей индийской мысли. Таким образом, будет установлена настоящая точка отсчета для более углубленного сравнительного религиоведения индийского ареала. Вместо блуждания среди необоснованных умозаключений или необходимости разбираться в немыслимых преобразованиях и необъяснимых превращениях мы получим ключ к естественному и прогрессивному развитию, удовлетворяющему требования логики. Заодно, возможно, будет пролит свет на темные места ранних культов и мифов других народов древности. Наконец, раз и навсегда будут прояснены и перестанут существовать несообразности ведийских текстов. Они только кажутся несообразностями, их подлинная связующая нить должна быть найдена в сокровенном значении. Стоит найти ее, и гимны предстают в своей органической и логической цельности, а манера выражения, хотя и чуждая нашему современному образу мышления и речи, становится – в своем собственном стиле – верной и точной, она грешит, скорее, лаконичностью, нежели избыточностью выразительных средств, скорее, смысловой перегруженностью, нежели обделенностью. Веда перестает быть просто интересным пережитком варварства, а занимает свое место в ряду наиболее значимых ранних Священных Писаний мира.
Глава II. Ретроспектива ведийской теории
Веды есть творение эпохи, предшествовавшей нашим интеллектуальным философиям. В ту начальную эпоху мысль развивалась методами, отличными от наших логических рассуждений, а язык допускал средства выражения, которые для стиля наших времен были бы неприемлемы. Тогда мудрейшие опирались на внутренний опыт и следовали подсказкам интуитивного разума в поиске знания, которое выходило за пределы обычных человеческих восприятий и повседневной человеческой деятельности. Их целью было озарение, а не логическое убеждение, их идеалом был вдохновенный провидец, а не прилежный логик. Индийская традиция сохранила в неприкосновенности такое представление о происхождении Вед. Риши был не индивидом, слагающим гимны, но провидцем (draṣṭā) нетленной истины и внеличностного знания. Сам язык Вед есть шрути (śruti), стих, не сложенный интеллектом, но «услышанный», – это божественное Слово, вибрации которого дошли из Бесконечности до внутреннего слуха человека, заранее приготовившего себя к восприятию внеличностного знания. Сами эти слова, дришти (dṛṣṭi) и шрути (śruti), «видение» и «слышание», являются ведийскими выражениями; в эзотерической терминологии гимнов эти и родственные им слова означают откровенное знание и суть вдохновения.
В ведийской идее откровения нет и намека на чудесное или сверхъестественное. Риши, использовавшие эти способности, приобретали их через последовательное саморазвитие. Само знание было путешествием и достижением или нахождением и завоеванием; откровение приходило только в конце, свет был трофеем окончательной победы. В Веде постоянно повторяется тема путешествия, продвижения души по пути Истины. Следуя по этому пути, душа возвышается, ее устремлениям раскрываются все новые горизонты силы и света; но свои расширяющиеся духовные владения душа завоевывает героическими усилиями.
С исторической точки зрения Ригведа может рассматриваться как летопись великого продвижения человечества, осуществленного особыми средствами в определенный период его коллективного развития. По своему содержанию, как эзотерическому, так и экзотерическому, это есть Книга Трудов, внутреннего и внешнего жертвоприношения; это боевой и победный гимн души, свершающей открытия и поднимающейся до уровня мысли и опыта, недосягаемого для человека дикого или животного, это человеческая хвала божественному Свету, Силе и Благодати, вершащим свою работу в смертном. Это ни в коей мере не попытка изложить результаты интеллектуальных или навеянных воображением спекуляций и не собрание догматов примитивной религии. Только из сходства опыта и внеличностности полученного знания возникает четкий ряд постоянно повторяемых концепций и четкий символический язык, который, по всей вероятности, в те ранние времена и был единственно возможной формой описания этих концепций, как единственный способ – сочетающий реальность с силой мистического миросозерцания – передачи того, что не в силах был выразить средний человек той эпохи. Во всяком случае, мы встречаемся с одними и теми же понятиями, повторяющимися из гимна в гимн, выраженными в одних и тех же терминах и фигурах речи, часто в одних и тех же фразах, при полном безразличии к поиску поэтической оригинальности, новизны мысли или свежести языка. Никакое стремление к эстетическому изяществу, к богатству или красоте выражения не побуждает этих поэтов-мистиков отойти от устоявшихся форм, превратившихся для них в подобие божественной алгебры, несущей вечные формулы Знания сменяющим друг друга поколениям посвященных.
Гимны, действительно, обладают завершенной метрической формой, изысканностью и искусностью исполнения, большим стилевым разнообразием и поэтической неповторимостью; это не произведения грубых, диких и примитивных ремесленников, но живое дыхание возвышенного и осознанного Искусства, созидающего свои творения в мощном, но хорошо направляемом движении самосозерцающего вдохновения. И вместе с тем, все эти высокие таланты нарочито осуществляются в рамках одной неизменной схемы и постоянно одними и теми же инструментами. Ибо искусство выражения было для риши только средством, а не целью; они были сосредоточены, главным образом, на сугубо практической, почти утилитарной, в самом высоком смысле этого слова, цели. Гимн был средством духовного прогресса и для самого риши, сложившего его, и для других. Он поднимался из его души, становился силой его ума, способом его самовыражения в некий важнейший или даже критический момент внутренней истории его жизни. Гимн помогал ему выразить в себе бога, одолеть пожирателя, носителя зла; он превращался в оружие в руках арийского борца за совершенство, он сверкал как молния Индры, поражая Сокрывателя на горных склонах, Волка на тропе, Грабителя у водных потоков.
Неизменное постоянство ведийской мысли в сочетании с ее глубиной, богатством и тонкостью наводит на некоторые интересные размышления. Ибо мы можем обоснованно утверждать, что столь устоявшиеся форма и содержание едва ли могли сложиться на начальных этапах зарождения идеи и психологического опыта, не могли они появиться и даже на ранних этапах их развития и становления. Отсюда мы можем заключить, что существующая в нашем распоряжении Самхита являет собой завершение некоего периода, а не его начало и даже не одну из его последующих стадий. Возможно даже, что древнейшие гимны есть сравнительно позднее развитие или вариант более древнего[1] поэтического евангелия, изложенного в более свободных и гибких формах еще более раннего языка. Или возможно, что все это многотомное собрание изречений есть всего лишь выборка, сделанная Вьясой из еще более богатого арийского устного наследия. Выборка – по преданию сделанная Кришной Двайпаяной (Островным), великим древним мудрецом, превосходным составителем (Вьясой), чей лик был обращен к начинающемуся Железному Веку, к столетиям сгущающихся сумерек и окончательной тьмы, – может быть, есть последнее завещание Веков Интуиции, ясных Зорь Праотцев, предназначенное потомкам, роду человеческому, уже нисходящему в духе на уровни более низкие, к достижениям более легким и прочным – прочным, возможно, лишь на первый взгляд, – относящимся к физической жизни, интеллекту и логическому разуму.
Но это всего лишь домыслы и предположения. Уверенность есть только в том, что дальнейшие события полностью подтвердили старое предание о постепенном упадке и утрате Веды как закона человеческого цикла. Этот упадок уже зашел далеко, прежде чем начался следующий великий период индийской духовности, период Веданты, в который были сделаны попытки сохранить или восстановить то, что еще было возможно, из древнего знания. Едва ли это могло быть иначе. Ибо система ведийских мистиков основывалась на опыте, труднодоступном обычному человеку, и развивалась при помощи способностей, которые у большинства из нас рудиментарны и едва сформированы, а если же и просыпаются, то неоднородны и непостоянны в своем действии. Когда прошла первая устремленность к поиску истины, неизбежно должны были наступить времена истощения и ослабления, а в эти периоды старые истины частично утрачиваются. Будучи же однажды утраченными, они не могут быть с легкостью восстановлены одним лишь тщательным изучением смысла древних гимнов, ибо смысл этот скрывался за языком нарочито двусмысленным.
Недоступный нашему разумению язык можно правильно понять, подобрав к нему ключ; но язык нарочито двусмысленный хранит свои секреты гораздо более упорно и успешно, ибо он полон ловушек и указаний, вводящих в заблуждение. Вот почему, когда индийская мысль вновь обратилась к исследованию смысла Веды, задача оказалась трудной, а успеха удалось добиться лишь отчасти. Один источник света все еще существовал: это традиционное знание, передававшееся из поколения в поколение теми, кто заучивал наизусть и толковал ведийские тексты или совершал ведийские обряды, – две эти функции были изначально едины, ибо в древние времена жрец был одновременно и учителем, и провидцем. Но яркость света уже померкла. Даже известные жрецы-пурохиты совершали обряды, недостаточно понимая силу и смысл произносимых ими священных слов. Ибо материальные аспекты ведийского культа образовали своего рода плотный покров на сокровенном знании, который теперь заслонял то, что некогда был призван охранять. Веда уже превратилась в собрание мифов и ритуалов. Символический ритуал начал терять силу, свет покинул мистическое иносказание, и осталась лишь внешняя оболочка, гротескная и наивная по форме.
Брахманы и Упанишады есть письменное свидетельство мощного возрождения, для которого этот священный текст и ритуал стали опорой и отправной точкой обновленного духовного мышления и опыта. У этого движения было два взаимодополняющих аспекта: первый – сохранение формы, второй – выявление души Веды. Первый аспект представлен Брахманами[2] , второй – Упанишадами.
В Брахманах предпринята попытка зафиксировать и сохранить мельчайшие подробности ведийских ритуалов, условия, обеспечивающие их материальную действенность, символический смысл и назначение их отдельных частей, движения и предметы, необходимые для их совершения, значение текстов, читаемых во время обряда, общую суть туманных аллюзий, память о древних мифах и традициях. Многие легенды, очевидно, появились позднее гимнов, они сочинялись для объяснения тех отрывков, смысл которых был уже непонятен; другие могли быть частью первоначального мифа и преданиями, которыми пользовались авторы древних символов, или же воспоминаниями о действительных исторических обстоятельствах, связанных с созданием гимнов. Устная традиция это всегда свет, который ослепляет; новая символика, действующая на основе полузабытой старой, скорее подминает ее под себя, чем проясняет; поэтому, хоть Брахманы и изобилуют интересными намеками, они весьма мало помогают нашему исследованию; так же как они не являются надежными проводниками к значению отдельных текстов, когда стараются дать им точное дословное истолкование.
Риши Упанишад следовали другим путем. Они пытались восстановить утраченное или стертое знание посредством духовной практики и опыта, употребляя тексты древних мантр как основу или авторитетный источник для собственных интуитивных прозрений; или же рассматривали ведийское Слово как семя мысли и видения, посредством которого они восстанавливали старые истины в новых формах. То, что они обнаруживали, они выражали в других терминах, более созвучных времени, в котором жили. В известном смысле их отношение к текстам не было беспристрастным, ими руководило не стремление скрупулезного ученого добраться до точного назначения слов и точной мысли, передаваемой фразой. Они искали вещи более возвышенные, нежели изреченная истина, и использовали слова только как знаки озарения, к которому они стремились. Они не знали, или не принимали во внимание, этимологическое значение и часто прибегали к методу символического толкования звуков слова, в чем нам очень трудно следовать за ними. По этой причине, хотя значение Упанишад неоценимо за тот свет, который они проливают на основные идеи и психологическую систему древних риши, они столь же мало, как и Брахманы, помогают нам определить точный смысл цитируемых в них текстов. Их задача заключалась в создании Веданты, а не в интерпретации Веды.
Ибо результатом этого великого движения стало возникновение новой и дольше сохраняющей силу философии и духовной традиции; Веданта стала кульминацией Вед. И она заключала в себе две мощные тенденции, которые действовали на разрушение древней ведийской мысли и культуры. Во-первых, в Веданте прослеживается тенденция все более полного подчинения внешнего ритуала, а также материальной направленности мантр и жертвоприношений чисто духовной цели и назначению. При этом было смещено и нарушено равновесие, исчез синтез внешнего и внутреннего, материальной и духовной жизни, оберегавшийся древними мистиками. И установилось новое равновесие, возник новый синтез, в конечном счете тяготеющий к аскетизму и отречению от мира, просуществовавший до той поры, пока он в свою очередь не был смещен и нарушен буддийской проповедью, усилившей его же собственные тенденции. Жертвоприношение, символический ритуал, все более превращался в бесполезный пережиток прошлого, даже в бремя; однако, как это часто случается, именно в силу того, что оно превратилось в механистичное и малоэффективное действо, та часть умов общества, которая все еще за него держалась, преувеличила значимость наиболее внешнего его элемента и практически иррационально следила за соблюдением всех его деталей. Возникло четкое практическое разделение между Ведой и Ведантой – хотя никогда полностью не признававшееся в теоретии, – разделение, смысл которого укладывается в высказывание: «Веда для жрецов, Веданта для мудрецов».
Вторая тенденция ведантийского движения заключалась в постепенном избавлении от груза символического языка, в освобождении от покрова конкретных мифов и поэтических фигур, которыми мистики окутали свою мысль, и замене его на более ясную манеру изложения и более философский язык. Полностью развившись, эта тенденция сделала изжившей себя целесообразность не только ведийского ритуала, но также и ведийских текстов. Выработав свой ясный и недвусмысленный язык, Упанишады стали главным источником высочайшей индийской мысли и заняли место, некогда принадлежавшее вдохновенным стихам Васиштхи и Вишвамитры[3] . Веды постепенно утрачивают роль непременной основы образования, они уже не изучаются с прежним рвением и тщанием; поскольку их символический язык выходит из употребления, то и остатки их внутреннего смысла теряются для новых поколений, чей образ мышления уже отличен от образа мышления их ведийских праотцев. Века Интуиции меркнут в свете зари Века Разума.
Буддизм довершил эту революцию и от внешних примет древнего мира оставил лишь некое чтимое внешнее благолепие и механистическую обрядность. Буддизм старался упразднить ведийское жертвоприношение и ввести в употребление разговорный язык вместо языка литературного. И хотя окончательная реализация этих попыток была задержана на несколько столетий возрождением индуизма в виде учения Пуран, сама Веда мало что от этого выиграла. Для борьбы с популярностью новой религии необходимо было на место всеми почитаемых, но непонятных текстов выдвинуть священное писание на современном санскрите, написанное в новой более доступной форме. В массовом сознании Пураны оттеснили на второй план Веду, а место древних ритуалов заняли формы богопочитания новых религиозных систем. Если некогда Веда перешла из рук провидца в руки жреца, то теперь она начала переходить из рук священнослужителя в руки ученого. И в этом процессе был окончательно искажен ее смысл и были окончательно принижены ее истинное величие и святость.
Нельзя, однако, сказать, будто все, что делали индийские ученые с гимнами, начиная с дохристианских веков, это сплошная история потерь. Скорее, именно безупречному прилежанию и традиционно бережному отношению к ней ученых-пандитов мы обязаны сохранением Веды вообще, после того как ее тайна была утрачена, а гимны на практике перестали быть живым священным писанием. А для нового открытия этой тайны два тысячелетия ученой ортодоксии оставили нам много ценнейших подспорий – текст, тщательнейшим образом выверенный вплоть до постановки ударений, важнейший словарь Яски и великий комментарий Саяны, который, несмотря на большое число подчас ошеломляющих несуразностей, по-прежнему остается для исследователя незаменимым первичным пособием при серьезном изучении Веды.
Исследователи
Текст Веды, которым мы располагаем, сохранялся без искажений на протяжении двух тысяч лет. Насколько мы можем судить, он восходит к великому периоду интеллектуальной деятельности Индии, по времени совпадающему с расцветом Греции, но начавшемуся раньше, который является основой культуры и цивилизации, отраженной в нашей классической литературе. Определить с уверенностью дату первоначального появления текста невозможно, однако существуют определенные соображения, позволяющие предположить его почти невообразимую древность. Точность текста, точность произнесения каждого слога и каждого ударения имела чрезвычайное значение для тех, кто совершал ведийские обряды, ибо от этой точности зависела действенность жертвоприношения. Например, в Брахманах есть история о Тваштаре, который, совершая жертвоприношение с целью найти мстителя за смерть сына, убитого Индрой, из-за неправильно поставленного ударения сотворил не убийцу Индры, но того, кого должен убить Индра. Хорошо известна невероятная способность запоминания у древних индийцев. Священность же текста не допускала интерполяций, изменений и обновленных переработок типа тех, которые придали древнему эпосу рода Куру ныне существующую форму «Махабхараты». Поэтому вполне вероятно, что, по сути мы имеем дело с Самхитой самого Вьясы в том виде, в каком она была систематизирована великим мудрецом и составителем.
По сути, но не в ее нынешней письменной форме. Ведийская просодия отличалась во многих отношениях от просодии классического санскрита, в особенности тем, что допускала большую свободу в использовании принципа сочленения отдельных слов по благозвучию (sandhi), составляющего столь характерную черту литературного языка. Ведийские риши следовали, скорее, звучанию слов, чем писанным правилам, – что естественно в живой речи; иногда они соединяли отдельные слова, иногда оставляли их без соединения. Когда же Веда появилась в письменной форме, то правила эвфонического сочленения обрели гораздо более жесткую власть над языком, и древний текст был записан грамматистами по возможности с соблюдением существующих правил. Однако они позаботились о том, чтобы сопроводить этот текст другим, именуемым падапатхой, где все эвфонические соединения были возвращены к оригинальным раздельным словам, причем были отмечены даже компоненты сложных слов.
Это замечательное свидетельство добросовестности древних ученых, записывавших Веды, ибо их система не внесла путаницу в дело, что могло легко произойти, а дала возможность без труда обратить формальный текст в исходную гармонию ведийской просодии. Случаев, когда точность или верность падапатхи вызывает сомнения, до крайности мало. Таким образом, наши изыскания основываются на тексте, который мы можем с уверенностью принять и который, даже при наличии ряда мест, вызывающих сомнения, не требует работы по устранению ошибок и разночтений – работы нередко вольной, какую требуют классические произведения Европы. Для начала, это бесценное преимущество, за которое мы должны быть бесконечно благодарны добросовестности древней индийской науки.
В других отношениях слепое следование научной традиции может оказаться не всегда безопасным – как в случае с приписыванием авторства отдельных ведийских гимнов тем или иным риши, когда более древняя традиция в этом не столь уж определенна и тверда. Однако это детали менее значительного характера. С моей точки зрения, нет нужды сомневаться в том, что в существующем виде гимны большей частью выстроены в верном порядке стихов и не имеют сокращений. Если и есть исключения, то их число и их значение невелики. Когда гимны кажутся нам бессвязными, причина этого в том, что мы не понимаем их. Стоит нам найти к ним верный ключ, как мы убеждаемся, что они представляют собой законченное целое и столь же замечательны по структуре своей мысли, сколь и по своему языку и строю.
Однако самые большие оговорки мы вынуждены делать при обращении к древней индийской науке за помощью в истолковании Веды. Ибо уже в самые ранние времена классической учености ритуалистический взгляд на Веду был доминирующим, ведь первоначальный смысл слов, строк, иносказаний, ключ к структуре мысли были утрачены еще раньше; к тому же в этой учености не было ни того интуитивного знания, ни того духовного опыта, которые могли бы хоть частично помочь восстановлению забытой тайны. На этом поприще простая ученость, особенно ученость искушенного схоластического ума, столь же часто становится ловушкой, сколь и путеводной нитью.
В словаре Яски, нашем наиболее важном пособии, мы должны делать различие между двумя элементами, несоизмеримыми по ценности. Когда Яска, как лексикограф, приводит различные значения ведийских слов, его мнение чрезвычайно авторитетно, а помощь огромна. Но это не значит, что ему были доступны все древние значения слов, ибо многое было стерто Временем и Переменами и при отсутствии научной филологии не могло быть восстановлено, хотя многое и было сохранено традицией. В той степени, в какой Яска следует этой традиции, не прибегая к изобретательности грамматиста, значения, которые он приписывает словам, хоть и не всегда согласующиеся с тем местом в тексте, куда он их относит, могут быть все же приняты, с точки зрения здравой филологии, как возможные. Но Яска, как этимолог, не сопоставим с Яской, как лексикографом. Научная грамматика впервые была разработана индийскими учеными, однако зарождением здравой филологии мы обязаны современной науке. Нет ничего надуманнее или неправомернее, чем метод чистого домысливания, которым пользовались прежние этимологи вплоть до XIX века как в Европе, так и в Индии. Как только Яска ступает на эту стезю, мы вынуждены распроститься с ним. Да и его истолкование конкретных текстов не более убедительно, чем позднейшие трактовки Саяны.
Комментарием Саяны завершается период самостоятельных и активных исследований Веды, начало которому, можно сказать, было положено «Нируктой» Яски наряду с другими значимыми работами в этой области. Этот словарь был составлен в ранний период мощного исследовательского пыла в индийских умах, когда они собирали все свои предыдущие достижения как материал для нового самобытного прорыва; комментарий же Саяны почти последний из великих трудов такого рода, оставленный нам классической традицией в ее конечном прибежище и центре на юге Индии, прежде чем удар магометанского завоевания погрузил старую культуру в хаос и раздробил ее на региональные осколки. После этого у нас были отдельные порывы сильных и самобытных изысканий, были отдельные попытки создания нового или новых сочетаний старого, но едва ли представлялась возможность появления трудов столь же обобщающего, грандиозного и монументального характера.
Несомненные достоинства этого великого наследия прошлого очевидны. Комментарий, составленный Саяной с помощью самых образованных ученых того времени, представляет собой громадную научную работу, какую в ту эпоху, пожалуй, было бы не под силу провести одному человеку. Однако в ней ощущается координирующая работа одного ума. Труд в целом последователен, несмотря на множество несогласованностей в деталях, масштабно задуман, хоть и прост по композиции, написан ясным и четким стилем, который обладает почти литературным изяществом, казалось бы, немыслимым в традиционном индийском жанре комментария. Здесь не найти и следа педантичности; борьба с трудностями текста умело затушевана, и комментарий в целом производит впечатление ясности, уверенности и непритязательной авторитетности, оказывающей воздействие даже на того, кто не согласен с ним. Первые европейские исследователи Веды особенно высоко ценили рациональность толкований Саяны.
Тем не менее даже для исследования внешнего смысла Веды невозможно без серьезнейших оговорок ни следовать методу Саяны, ни пользоваться достигнутыми им результатами. Дело не только в том, что он в своем методе допускает ненужные, а часто и немыслимые, вольности в толковании языка и языковых конструкций, и не в том, что он часто приходит к своим заключениям на основании поразительно непоследовательных толкований распространенных ведийских терминов и даже строго фиксированных ведийских формул. Это еще мелкие погрешности, возможно даже неизбежные, с учетом характера исследуемого им материала. Главный порок подхода Саяны заключается в том, что он постоянно придерживается ритуалистического толкования и все время старается поместить смысл Веды в его узкие рамки. Таким образом он упускает из виду многие ключи огромной значимости и важности к толкованию внешнего смысла древнего писания – что является столь же интересной задачей, как и толкование его внутреннего смысла. В результате риши с их мыслями, их культурой, их устремлениями предстают в образе настолько плоском и бедном, что если этот образ принять, то древнее почитание Веды, ее авторитет священного писания и репутация божественного откровения становятся недоступными пониманию или могут быть объяснены только слепой и бездумной традицией веры, возникшей в результате изначальной ошибки.
В комментарии, разумеется, есть и другие аспекты и элементы, но все они согласуются с главной идеей или подчинены ей. Саяне и его помощникам пришлось работать с огромной массой часто противоречивых умозаключений и с традицией, все еще сохранявшейся с былых времен. Иные из этих элементов им нужно было формально увязать, другим они были вынуждены делать незначительные уступки. Возможно, комментарий своим огромным авторитетом, который очень долгое время был неоспорим, обязан умению Саяны извлечь из неясности или даже сумбура строгое по форме и последовательное толкование текста.
Первый элемент, с которым пришлось иметь дело Саяне и который представляет наибольший интерес для нас, составляли остатки старых духовных, философских и психологических толкований Шрути, которые и были подлинной основой ее священного авторитета. Саяна признает их в той степени, в какой они входят в общепризнанное или ортодоксальное[4] представление, но они стоят особняком в его труде, занимая в нем небольшое и не очень значимое место. Время от времени он мимоходом упоминает или признает существование менее распространенных психологических толкований. Например, упоминает, правда не признавая, древнее понимание Вритры как Сокрывателя, как того, кто скрывает от человека предмет его желаний или устремлений. Для Саяны Вритра либо просто враг, либо конкретный демон туч, который удерживает воды и которого должен пронзить Индра, Дарующий дождь.
Второй элемент – мифологический или, как его можно фактически назвать, пуранический – это мифы и легенды о богах, представленных в их наиболее доступных образах, без того внутреннего значения и символики, которые составляют суть всего жанра Пуран[5] .
Третий элемент – легендарный и исторический: предания о правителях и мудрецах древности, приводимые в Брахманах или в позднейшей традиции для объяснения туманных аллюзий Веды. В отношениях Саяны к этому элементу видна некоторая неопределенность. Часто он признает их в качестве верного толкования гимнов; иногда он приводит другое значение, которое, очевидно, ближе его рассудку, таким образом колеблясь между тем и другим традиционным подходом.
Более важным выступает элемент натуралистической интерпретации. Мы видим здесь не только очевидные или традиционные отождествления Индры, Марутов, тройственной природы Агни, Сурьи, Уши, но также обнаруживаем, что Митра отождествляется с Днем, Варуна – с Ночью, Арьяман и Бхага – с Солнцем, а мастеровые Рибху – с солнечными лучами. Мы сталкивается здесь с семенами той натуралистической теории Веды, которую так широко распространили европейские ученые. Древние индийские исследователи в своих рассуждениях не позволяли себе такой свободы и не прибегали к такой систематической детализации. И все же этот элемент в комментарии Саяны есть истинный прародитель европейской научной дисциплины – сравнительной мифологии.
Однако преобладающей является ритуалистическая концепция, она звучит настойчивой нотой, заглушающей все остальное. В построениях философских школ ведийские гимны, даже когда они рассматриваются в качестве наивысшего источника знания, все же в первую голову и по сути связаны с Кармакандой, с Разделом о трудах, а под трудами подразумевается, главным образом, ритуальное совершение ведийских жертвоприношений. Саяна неизменно действует в свете этой идеи. В эти рамки он укладывает язык Веды, обращая большое количество ее характерных слов в ритуальные символы: пища, жрец, жертвователь, богатство, хвала, молитва, обряд, жертва.
Богатство и пища, – ибо целями жертвоприношения считаются наиболее эгоистические и материальные устремления: обретения, сила, власть, потомство, слуги, золото, кони, коровы, победы, уничтожение и разорение врагов, устранение соперника и недоброжелателя. Читая гимн за гимном, истолкованные подобным образом, начинаешь лучше понимать то, что кажется противоречием в Гите, где Веда неизменно рассматривается как божественное знание[6] , и тут же резко осуждаются крайние поборники ведийской догмы[7] , все те, чьи цветистые проповеди посвящены исключительно материальному богатству, власти и наслаждению.
Наиболее прискорбным результатом комментария Саяны как раз и стало это окончательное и основанное на авторитетной традиции низведение Веды к самому низкому из всех возможных уровней толкования. Доминирование ритуалистической интерпретации уже лишило Индию живого использования величайшей из своих священных книг и лишило ее настоящего ключа к полному осмыслению Упанишад. Своим комментарием Саяна окончательно утвердил прежнее неправильное понимание Веды, которое не удавалось сломать на протяжении столетий. Когда же другая цивилизация открыла для себя Веду и принялась за ее изучение, то подсказки Саяны сделались для европейского ума источником новых ошибок.
Тем не менее, если труд Саяны и был ключом, который замкнул на два поворота сокровенный смысл Веды, все же он неоценим для проникновения в передние покои знания о Веде. Вся огромная работа, проделанная европейской наукой, не смогла заменить практическую пользу этого комментария. На каждом шагу мы вынуждены не соглашаться с ним, но и пользоваться им нам тоже приходится на каждом шагу. Это необходимый трамплин, или необходимая ступенька, ведущая к входу, на которую мы должны вступить, но и которую нам следует переступить, если мы хотим войти во внутренние покои.
Глава III. Современные теории
Только пытливость ума чужой культуры спустя много столетий сломала печать окончательного утверждения ритуалистического истолкования Веды, поставленную комментарием Саяны. Древняя священная книга была вручена исследователям – усердным в работе, смелым в рассуждениях, искусным в полетах мысли, добросовестно следующим собственным правилам работы, но весьма плохо подготовленным для понимания метода древних поэтов-мистиков; ибо не было у них никакого понимания тех древних нравов, а их собственная интеллектуальная и духовная среда не могла дать им верный ключ к идеям, скрытым в ведийских образах и иносказаниях. Результат получился двойственный: с одной стороны, то было начало более детального, досконального, внимательного и одновременно более свободного подхода к проблемам интерпретации Веды, с другой стороны, окончательно получил признание ее наиболее очевидный материальный смысл – при полном небрежении к ее истинной, сокровенной тайне.
Европейская школа изучения Веды – вопреки всей смелости своих умозаключений и свободе мыслей или измышлений – на самом деле строилась целиком на традиционных элементах, сохраненных в комментарии Саяны, и не предпринимала попыток найти по-настоящему независимый подход к проблеме. То, что она обнаружила в комментарии Саяны и в Брахманах, она развила в свете современных теорий и современного знания; через оригинальные выводы из сравнительного метода, примененного к филологии, мифологии и истории, через существенное увеличение количества данных при помощи хитроумных умозаключений, через объединение разрозненных доступных фактов наука пришла к созданию цельной теории ведийской мифологии, ведийской истории, ведийской цивилизации, которая завораживала своей детальностью и доскональностью, но скрывала под кажущейся уверенностью в методе тот факт, что вся эта внушительная стройная система зиждется, по большей части, на зыбком основании предположений.
Современная теория Веды исходит из концепции – ответственность за которую лежит на Саяне, – говорящей о том, что Веды представляют собой собрание гимнов раннего, примитивного, преимущественно варварского общества, грубого по своим нравственным и религиозным представлениям, неразвитого по социальной структуре и совершенно наивного во взгляде на окружающий мир. Тот ритуализм, который в глазах Саяны был частью божественного знания, соответственно наделенного непостижимой силой, европейская наука восприняла как дальнейшее развитие системы древних, жестоких искупительных жертв, приносимых неким воображаемым сверхъестественным существам, которые могут помогать или вредить в зависимости от того, почитают их или держат в небрежении. Европейская наука с готовностью ухватилась за исторический элемент, признававшийся Саяной, расширила его новыми толкованиями и новыми объяснениями мифов, представленных в гимнах, в жадном поиске материала по первобытной истории, образу жизни и институтам этих варварских народов. Натуралистический элемент сыграл еще более важную роль. Очевидное отождествление ведийских богов в их внешних аспектах с определенными силами и явлениями природы послужило толчком к сравнительному изучению арийских мифологических систем; осторожное уподобление некоторых менее значимых божеств Силам Солнца было воспринято как путеводная нить ко всей системе первобытного мифотворчества, на основании чего появились замысловатые теории сравнительной мифологии о солярных и астрологических мифах. В этом новом свете ведийские гимны стали интерпретироваться как полусуеверные, полупоэтические аллегории Природы, включающие в себя значительный астрономический элемент. Все остальное – это отчасти история тех времен, отчасти магические формулы и правила отправления жертвенных обрядов, не мистические, а просто примитивные и построенные на суевериях.
Это толкование полностью согласуется с научными теориями о древних культурах и о совсем недавнем выходе человечества из дикарского состояния, которые были модны на всем протяжении XIX века и не утратили власти над умами даже сейчас. Однако расширение наших представлений и накопление фактов нанесло серьезный удар по этим первоначальным и чересчур поспешным обобщениям. Теперь нам известно, какие поразительные цивилизации существовали много тысячелетий назад в Китае, Египте, Халдее, Ассирии, и ученые уже приходят к единому мнению по поводу того, что Греция и Индия не были исключением на фоне общего высокого культурного развития народов Азии и Средиземноморья. Если эти пересмотренные представления еще не коснулись народов Индии ведийских времен, то причина в живучести той теории, с которой начинала европейская наука, построенная на их принадлежности к так называемой арийской расе и их нахождении на одном культурном уровне с ранними арийскими греками, кельтами, германцами, как они представлены нам в гомеровских поэмах, древних нордических сагах и римских описаниях древних галлов и тевтонов. Отсюда возникла теория о том, что эти арийские расы были северными варварами, вторгшимися из своих холодных стран в пределы древних и богатых цивилизаций средиземноморской Европы и дравидийской Индии.
Но указания в Веде, на основании которых строится эта теория о недавнем арийском вторжении, весьма скудны и весьма сомнительны по значению. На самом деле о таком вторжении нигде не упоминается. То различие между ариями и не-ариями, на котором возводится столько построений, в целом скорее указывает на расхождения культурные, нежели расовые[8] . Язык гимнов ясно свидетельствует о том, что арии выделяются определенным способом богопочитания или духовной культурой – поклонением Свету или светлым Силам, а также самодисциплиной, основанной на культе «Истины» и на стремлении к Бессмертию, которые выражаются в понятиях Ритам и Амритам. И там нет никаких достоверных указаний на присутствие расовых различий. Вполне возможно, что значительная часть нынешнего населения Индии могла происходить от некой новой расы, явившейся с более северных широт, возможно даже из Арктики, как доказывает мистер Тилак, однако в Веде не содержится ничего, как нет ничего и в нынешних этнологических особенностях[9] нашей страны, что доказывало бы появление этой расы во времена, близкие к созданию ведийских гимнов, или говорило бы в пользу медленного проникновения небольшого числа светлокожих варваров на цивилизованный дравидийский субконтинент.
Нельзя с уверенностью полагаться на выводы, сделанные из имеющихся свидетельств, о том, что ранние арийские культуры – если считать, что кельты, тевтоны, греки и индийцы имеют единое общее культурное происхождение, – были на самом деле неразвитыми и варварскими. Своего рода чистая и возвышенная простота во внешней жизни и ее организации, своего рода прямота и живая человеческая близость в представлении ариев о своих богах и в их отношении к ним отличают арийскую цивилизацию от более пышной и материалистичной египто-халдейской с ее внушительной оккультной традицией. Но эти особенности не являются несовместимыми с высокой внутренней культурой. Напротив, мы на каждом шагу обнаруживаем свидетельства высокой духовной традиции, которые опровергают расхожую теорию. Древние кельтские народы, без сомнения, обладали возвышенными философскими воззрениями, они и по сей день несут на себе отпечаток древнего мистического и интуитивного опыта, который должен был развиваться на протяжении длительного времени и достичь высоких ступеней, чтобы дать столь прочные результаты. Что касается Греции, то вполне вероятно, что эллинская цивилизация сформировалась тем же образом через орфические и элевзинские влияния и что греческая мифология, в том виде, как она дошла до нас, изобилующая тонкими психологическими указаниями, есть наследие орфического учения. Если выяснится, что индийская цивилизация на всем протяжении своего существования была продолжением тенденций и идей, завещанных нашими ведийскими праотцами, то это только будет созвучно общей традиции. Поразительная жизнеспособность этих ранних культур, которые и сейчас определяют для нас основные типы современного человека, существенные элементы его характера, главные направления его мысли, искусства и религии, говорит не в пользу того, что они зародились у примитивных дикарей. Эти культуры являются результатом глубокого и мощного доисторического развития.
Пренебрегая этой важной стадией человеческого прогресса, сравнительная мифология деформировала в нас чувство традиции. Она строит все свои толкования на теории, которая оставляет разрыв в культурном развитии между древним дикарем и Платоном или мыслями Упанишад. Она предполагает, что ранние религии основывались на том чувстве изумления, которое охватывало первобытного дикаря, вдруг осознавшего поразительный факт, что существуют такие необычные явления, как заря, ночь и солнце, и попытавшегося дать объяснение их существованию своим грубым, примитивным и образным способом. И от этого по-детски наивного изумления мы единым шагом переходим к глубоким мыслям греческих философов и ведантийских мудрецов. Сравнительная мифология есть дело рук филологов-эллинистов, толкующих сведения далеко не древнегреческого свойства под углом зрения, возникшим из неверного понимания греческого же склада ума. Метод этой науки есть скорее искусная игра поэтического воображения, нежели кропотливое научное исследование.
Взглянув на результаты этого метода, мы обнаружим поразительное смешение образов и их интерпретаций, лишенное всякой связности и последовательности. Это масса частностей, переплетенных друг с другом, перемешанных между собой, несогласующихся, но неразделимых, достоверность которых определяется безудержностью сомнительных домыслов, как наших единственных инструментов познания. Несвязность была возведена в ранг истины, ибо известные ученые серьезно доказывают, что метод, приводящий к более логичным и стройным результатам, будет опровергнут собственной же логической последовательностью, поскольку сумбур следует считать самой сутью раннего мифопоэтического сознания. Но в таком случае ни один из выводов сравнительной мифологии ни к чему не обязывает и ни одна теория вполне не стоит другой – нет же причины, по которой одно нагромождение несвязностей достоверней другого, отличного лишь в компонентах.
В построениях сравнительной мифологии есть много полезного, но чтобы сделать большинство своих выводов достоверным и приемлемым, она должна обратиться к более тщательному и последовательному методу и организовать себя как раздел науки о религиях, имеющей прочные основания. Мы должны признать, что древние религии были органичными системами, основанными на идеях, по меньшей мере столь же последовательных, как и те, что составляют наши современные системы верований. Мы обязаны также признать, что происходило вполне доступное пониманию прогрессивное и постепенное развитие, от ранних к более поздним формам, систем религиозных верований и философской мысли. Только широкое и глубокое изучение доступных нам данных, идущее в таком духе, и открытие подлинной эволюции человеческой мысли и веры приведет нас к настоящему знанию. Простое отождествление греческих и санскритских имен, мудреные открытия, наподобие того, что погребальный костер Геракла есть образ заходящего солнца, а Парис и Елена есть греческие искаженные аналогии ведийских Сарамы и пани, чрезвычайно интересные забавы для живого воображения, но сами по себе они не могут привести к серьезным выводам, даже если вдруг окажутся правильными. Хотя правильность их тоже вызывает серьезные сомнения, ибо это порок несистематичного и основанного на домыслах метода, который позволяет построить толкования солярных и астрологических мифов так, чтобы они с равной легкостью и убедительностью могли быть применимы к любой и каждой людской традиции, верованию или даже историческому событию[10] . При этом методе у нас никогда нет уверенности, найдена ли истина, или мы имеем дело с очередной догадкой.
Сравнительная филология действительно может помочь нам, но в своем нынешнем состоянии эта наука весьма мало убедительна. Современная филология представляет собой огромный шаг вперед в сравнении с тем, что мы имели до XIX века. Она заменила безудержную игру воображения духом порядка и методичности, она дала нам более верные представления о морфологии языка и о том, что возможно, а что нет в области этимологии. Она вывела ряд правил, которые управляют феноменом «старения» языка и дают нам возможность идентифицировать одно слово или связанные слова при их видоизменении в родственных, но отличных языках. На этом, однако, и кончаются достижения филологии. Надежды, порожденные ее становлением, не оправдались с ее зрелостью. Наука о Языке так и не была создана, и мы по-прежнему вынуждены применять к филологии печальное определение, некогда данное крупнейшим филологом, которому после десятилетий упорнейшего труда пришлось признать свои любимые изыскания «наукой мелких домыслов». Но наука домыслов вовсе не есть наука. Поэтому сторонники более точных и скрупулезных форм знания полностью отказывают сравнительной филологии в праве именоваться наукой и даже отрицают саму возможность существования науки лингвистики.
В действительности, пока нет настоящей уверенности в результатах, достигнутых филологией, ибо, не считая одного-двух законов ограниченного применения, ни в чем нет твердой основы. Вчера мы все были убеждены, что Варуна тождественен Урану, греческому небу, сегодня это тождество отрицается как филологическая ошибка, завтра оно может быть опять реабилитировано. Parame vyoman есть ведийское выражение, которое большинство из нас перевели бы как «на высочайшем небе»; но мистер Т. Парамашива Айяр в своем блестящем и удивительном труде «Рики» сообщает нам, что это значит «в самой низкой впадине», поскольку vyoman «означает разрыв, трещину, буквально отсутствие защиты (ūmā)»; логика, к которой он прибегает, настолько следует методам современных исследователей, что филолог даже не может возразить, что «отсутствие защиты» никак не может означать трещину и что человеческий язык не строился по таким принципам. Ибо филология не сумела обнаружить те принципы, по которым строился язык или, скорее, органически развивался, а с другой стороны, она несет в себе былой дух откровенного вымысла и сочинительства и наделена именно такими талантами вольных умозаключений. Но в таком случае мы приходим к выводу о том, что нам ничто не может помочь решить: означает ли parame vyoman в Веде высочайшее небо или глубочайшую бездну. Ясно, что столь несовершенная филология может быть блестящим пособием, но никак не надежным проводником к смыслу Веды.
Надо признать, что европейская школа ведологии завоевала себе огромный авторитет тем, что в массовом сознании она была связана с развитием европейской науки в целом. Правда же заключается в том, что основательные, скрупулезные и точные физические исследования и те блестящие, но незрелые отрасли знания, на которые опирается изучение Веды, разделяет пропасть. Естественные науки тщательно закладывают свои основы, не спешат с обобщениями, основательны в своих заключениях, гуманитарные же вынуждены исходить из недостаточных данных, на которых они возводят крупномасштабные теории, отсутствие же достоверных свидетельств возмещают избытком домыслов и гипотез. Они полны блистательных начинаний, но не в силах прийти к надежным заключениям. Они похожи на грубые строительные леса для здания науки, но еще далеки от того, чтобы быть наукой.
Отсюда следует, что вся проблема интерпретации Веды остается пока непаханным полем, и надо приветствовать любую работу, способную пролить свет на этот вопрос. Индийские ученые выдвинули три подобные работы. Две из них следуют методикам европейских исследователей, но предлагают новые теории, которые, если найдут себе подтверждение, способны в значительной степени изменить наши взгляды на внешний смысл гимнов. В своем труде «Арктическая родина ариев в Ведах» мистер Тилак принял общие выводы европейской школы, но на основе нового изучения образа ведийской Зари, образа коров в Ведах и астрономических данных, встречающихся в гимнах, доказывает по меньшей мере значительную вероятность того, что арийские расы изначально пришли из арктического региона в ледниковый период. Мистер Т. Парамашива Айяр делает еще более смелый шаг и пытается доказать, что вся Ригведа есть фигуральное отображение геологического феномена, относящегося к возрождению нашей планеты после длительной эпохи ледниковой смерти в тот же период земной эволюции. Рассуждения и заключения мистера Айяра трудно принять в целом, но он по крайней мере пролил новый свет на великий ведийский миф об Ахи Вритре и освобождении семи рек. Его истолкование куда более последовательно и вероятно, нежели нынешняя теория, которая не подкрепляется языком гимнов. В сочетании с трудом мистера Тилака это истолкование может послужить началом для новой интерпретации внешней стороны древнего Писания, которая объяснит многое из того, что необъяснимо сейчас, а также восстановит для нас если не физическую среду обитания древних ариев, то хотя бы физические условия их происхождения.
Третий труд индийского автора хоть и более отдален от нас по времени, но стоит ближе к моей нынешней задаче. Я имею в виду замечательную попытку Свами Даянанды, основателя общества «Арья Самадж», возродить Веды как живое религиозное Писание. Даянанда взял за основу свободное применение методов древней индийской филологии, которые он обнаружил в трактате «Нирукта». Будучи сам крупнейшим знатоком санскрита, он брался за материал с поразительной уверенностью и независимостью. Его творческий метод особенно проявился в подходе к той специфической черте древнего санскрита, которую лучше всего характеризует фраза Саяны – «многозначность корней». Мы увидим, что правильное использование этого ключа имеет первостепенное значение для понимания особого метода ведийских риши.
При интерпретации гимнов Даянанда исходит из идеи, что Веды есть безусловное откровение религиозной, этической и научной истины. Религия Вед монотеистична, а ведийские боги представляют собой различные описательные имена единого Божества; в то же время они представляют собой проявления Его сил, как мы их видим в Природе, и подлинное понимание смысла Вед может привести нас ко всем тем научным истинам, которые теперь открыты современными методами исследования.
Ясно, что такую теорию трудно доказать. Конечно, в самой Ригведе сказано[11] , что боги – всего лишь различные имена и выражения единого универсального Существа, которое в своей реальности превосходит вселенную; однако язык гимнов принуждает нас признать, что боги не только различные имена, но еще и различные формы, силы и ипостаси единого Божества. Монотеизм Веды включает в себя и монистический, и пантеистический, и даже политеистический взгляды на космос и ни в какой мере не является простой и ясной доктриной теизма нашего времени. Только в яростной борьбе с текстом мы можем навязать ему менее сложную структуру.
То, что народы древности гораздо дальше продвинулись в области естественных наук, чем считается признанным, – об этом тоже следует упомянуть. Египтяне и халдеи, как нам теперь известно, сделали много открытий, которые затем заново открывала современная наука, и немало таких, которые она еще не знает. Древние индийцы были по крайней мере совсем неплохими астрономами и определенно умелыми врачами; нельзя сказать, будто индийская медицина и химия – дисциплины чужеземного происхождения. Возможно, что и в других отраслях естествознания Индия преуспела даже во времена древности. Однако абсолютная полнота научного откровения, утверждаемая Свами Даянандой, потребует серьезнейших доказательств.
Гипотеза, на которой я построю мое исследование, заключается в том, что у Веды есть два аспекта и что эти аспекты, хотя они и тесно связаны, следует разделять. Риши выстроили суть своей мысли в системе параллелизма, в которой одни и те же божества были одновременно и внутренними, и внешними силами универсальной Природы, и они отразили это через систему двойных значений, где один и тот же язык использовался для почитания богов в обоих их аспектах. Но психологический смысл доминирует, он пронизывает все, он более отчетлив и последователен, нежели физический. Веда прежде всего предназначалась для духовного просвещения и самосовершенствования. По этой причине прежде всего должен быть восстановлен этот ее смысл.
Каждая из систем интерпретации Веды, как древних, так и современных, оказывает нам в этом неоценимую помощь. Саяна и Яска дают нам ритуалистический остов внешней символики и огромный запас традиционных значений и объяснений. Упанишады предлагают свой ключ к пониманию психологических и философских идей древних риши и передают нам их метод духовного опыта и интуитивного знания. Европейская наука вручает нам критический метод сравнительного исследования, который еще требует усовершенствования, но помогает расширить доступный нам материал и, без сомнения, в конечном счете приведет к той научной достоверности и прочному интеллектуальному основанию, которых до настоящего времени недостает. Даянанда дал нам путеводную нить к секретам языка риши и вновь сделал акцент на единой определяющей идее ведийской религии – идее о Едином Существе со множеством Богов, выражающих в многообразии имен и форм многогранность Его единства.
Имея всю эту помощь из прошлого, мы можем преуспеть в воссоздании этой глубокой древности и войти через врата Веды в образ мыслей и реальность доисторической мудрости.
Глава IV. Основы психологической теории
Гипотезы о смысле Веды, для того чтобы считаться резонными и обоснованными, должны всегда исходить из основания, несомненно заложенного в самом языке Веды. Даже если большую часть содержания составляют образы и символы, значение которых предстоит раскрыть, все же в языке гимнов должно быть достаточное количество ясных указаний, которые и приведут нас к истинному смыслу. В противном случае, учитывая неоднозначность символов, можно опасаться, что мы создадим некую систему на основе собственных предположений и предпочтений, вместо того чтобы раскрыть подлинное назначение образов, избранных древними риши. Тогда, какой бы искусной и совершенной ни была бы наша теория, она будет скорее всего воздушным замком, блистательным, но лишенным реальности и прочности.
Таким образом, наш первейший долг заключается в том, чтобы определить, содержится ли в самом языке гимнов – не беря в расчет образы и символы – достаточное ядро психологических понятий, которое оправдало бы наше предположение о наличии в Ведах вообще чего-то более высокого, нежели примитивный смысл эпохи дикарей. После этого мы должны найти, по возможности на основе внутренних свидетельств самих гимнов, истолкование каждого символа и образа, а также правильную психологическую функцию каждого из богов. Для любого фиксированного ведийского термина должен быть найден определенный, а не относительный смысл, опирающийся на прочную филологическую почву и естественно согласующийся с тем контекстом, в котором он встречается. Как уже упоминалось, язык гимнов – это язык фиксированный и устойчивый; это бережно сохраненный и трепетно почитаемый слог, соответственно выражающий либо формальный символ веры и обряд, либо традиционную доктрину и неизменный опыт. Если бы язык ведийских риши был свободен и непостоянен, если бы их идеи очевидно находились в стадии становления, были изменчивы и неопределенны, то вольность ради удобства, какую мы допускаем по отношению к их терминологии, и непоследовательность смысла, какую мы обнаруживаем в их идеях и способах их выражения, можно было бы оправдать или допустить. Однако сами гимны служат доказательством обратного, поэтому мы вправе требовать от их интерпретатора той же точности и скрупулезности, какая обнаруживается в толкуемом им материале. Без сомнения, существует постоянная связь между различными понятиями и излюбленными терминами ведийской религии; непоследовательность и неопределенность интерпретации докажут нам не обманчивость свидетельств, находимых в Веде, а только неспособность интерпретатора установить верные связи.
Если по тщательному и скрупулезному завершению первичной работы из перевода гимнов станет ясно, что найденные нами истолкования естественно и легко согласуются с контекстом; если в результате проясняется то, что казалось туманным, и на месте былого хаоса возникает ясность и последовательность; если гимны в их цельности обнаруживают ясный и связный смысл и, стих за стихом, демонстрируют логическую преемственность мысли, а в конечном счете, перед нами предстает глубокая, последовательная структура древних доктрин, – тогда наша гипотеза получает право занять свое место наряду с другими, даже не соглашаться с ними, если те ей противоречат, или дополнять их в случае, когда они согласуются. Правдоподобность нашей гипотезы не умалится, скорее даже подтвердится ее верность, если обнаружится, что основная часть идей и доктрин, таким образом раскрытая в Веде, окажется древней формой позднейшей индийской мысли и религиозного опыта, естественным истоком Веданты и Пуран.
Работа столь значительная и тщательная выходит за рамки этих кратких и общих глав. Их цель лишь в том, чтобы указать тем, кто пожелает довериться путеводной нити, которую я сам получил в свои руки, направление движения и основные повороты на пути, – достигнутые мной результаты и главные указания самой Веды, помогающие к ним прийти. Мне представляется правильным сначала объяснить зарождение этой теории в моем собственном уме, чтобы читатель смог лучше понять избранную мной линию или, при желании, смог бы проверить те предубеждения или личные предпочтения, которые, возможно, повлияли на меня или сказались на правильности моих рассуждений по этому трудному вопросу.
Как большинство образованных индийцев, я, еще не приступив к чтению Вед, заранее принял на веру заключения европейских ученых, касающиеся как религиозной, так и исторической и этнической стороны древних гимнов. Соответственно, опять-таки следуя обычной линии, принятой в современных воззрениях индуизма, я считал Упанишады древнейшим источником индийской мысли и религии, настоящей Ведой, первой Книгой Знания. Ригведа в современных переводах – все, что я знал на тот момент об этом глубоком Писании – представлялась мне важным свидетельством нашей национальной истории, но не имеющим большого значения или ценности для истории мысли или живого духовного опыта.
Мое первое соприкосновение с ведийской мыслью произошло опосредовано – в то время, когда я следовал определенным направлениям саморазвития в традиции индийской йоги, даже не подозревая, что это спонтанно приведет меня к древним и сейчас редко используемым путям, которыми шли наши праотцы. В моем уме в ту пору начало выстраиваться соотношение символических имен с определенными психологическими переживаниями, которые становились все отчетливей; среди них выделялись образы трех женских энергий – Ила, Сарасвати, Сарама, представляющие соответственно три из четырех качеств интуитивного разума: озарение, вдохновение и интуицию. Два имени ассоциировались для меня не столько с ведийскими богинями, сколько с верованиями современного индуизма или с древними легендами из Пуран: Сарасвати, богиня учености, и Ила, праматерь лунной династии. Зато имя Сарамы мне было хорошо знакомо по Ведам. Правда, я не мог установить связь между фигурой, пришедшей мне на ум, и небесной гончей Вед, которая ассоциировалась в моей памяти с Еленой из Аргоса и представляла собой лишь образ физической Зари, в поисках исчезнувших стад Света вступившей в пещеру Сил тьмы. Как только найден ключ, ключ физического Света, отражающий субъективное, то легко увидеть, что небесная гончая может означать интуицию, вступающую в темные пещеры подсознания, чтобы подготовить освобождение и вспышку ярких озарений знания, которые были заперты в них. Но ключа у меня не было, и я был вынужден предполагать тождество имени без тождества символа.
Пребывание в южной Индии впервые серьезно обратило мои мысли к Ведам. Два наблюдения, которые вторглись в мой ум, нанесли серьезный удар по моему заимствованному представлению о расовом различии ариев севера и дравидов юга Индии. Основой этого различия для меня всегда была предполагаемая разница между физическим типом ария и дравида и более определенное несоответствие языков севера, происходящих от санскрита, и не-санскритских языков юга. В действительности, я был знаком с новейшими теориями, согласно которым Индийский субконтинент населен единой гомогенной расой – дравидийской или индо-афганской, но до приезда на юг не слишком обращал внимание на эти рассуждения. Однако, пробыв недолгое время на юге, я изумился большой распространенности северного или «арийского» типа среди тамильского населения. Куда бы я ни глянул, я с поразительной отчетливостью узнавал не только среди брахманов, но и среди людей всех каст и классов давно знакомые мне лица, черты, фигуры моих друзей из Махараштры, Гуджарата, Хиндустана, даже из моей родной Бенгалии, хотя таких было меньше. У меня создалось впечатление, будто армия, составленная из всех северных племен, вторглась на юг и поглотила ранее жившую тут популяцию. Сохранялось некое общее представление о типе южанина, но, рассматривая отдельные лица, было невозможно выделить этот тип. Единственное, что я в конечном счете сумел понять, – какая бы новая кровь ни примешивалась, какие бы региональные различия ни формировались, за всем этим разнообразием сохраняется по всей Индии единство, как физического, так и культурного типа[12] . К тому же именно этот вывод все чаще делается и из этнологических спекуляций[13] .
Но как в таком случае быть с тем четким различием между арийской и дравидийской расами, которое создано филологами? Оно исчезает. Если вообще признавать факт арийского вторжения, то нам следует либо предположить, что арии заполнили всю Индию и обусловили физический тип народа, со всевозможными вариациями, либо что речь идет о набегах незначительных групп, представлявших менее цивилизованную расу, которые растворились среди аборигенов. Тогда мы должны также предположить, что, вторгшись на огромный субконтинент, населенный цивилизованным народом, строителями больших городов, купцами, торговавшими со всем светом, людьми, не чуждыми интеллектуальной и духовной культуры, эти завоеватели сумели навязать им свой язык, религию, идеи и образ жизни. Такое чудо еще могло бы произойти, если бы эти завоеватели были носителями высоко организованного языка, обладали большей силой творческого ума и религией, более динамичной по форме и духу.
Кроме того, существовали еще и те языковые различия, на которые могла опереться теория слияния рас. Но мои предвзятые идеи на этот счет тоже были несколько поколеблены. Изучая слова тамильского языка, по виду такие непохожие на санскритские формы, я все же обнаруживал, что в процессе установления новых связей между санскритом и его дальней родственницей, латынью, а подчас и между санскритом и греческим, я постоянно опираюсь на слова или на семьи слов, предположительно чисто тамильские. Порой тамильское слово не только подсказывало мне наличие связи, но и оказывалось недостающим звеном между родственными словами. Именно при помощи этого дравидийского языка я впервые пришел к пониманию того, что теперь мне уже кажется истинным законом, – к пониманию происхождения и своего рода эмбриологии арийских языков. У меня не было возможности продолжить это исследование, с тем чтобы сделать определенные выводы, но мне, безусловно, кажется, что первоначальная связь дравидийских и арийских языков была и более тесной, и более обширной, чем это обычно предполагается; напрашивается мысль о вероятности того, что языки могли быть двумя отдельными ветвями, произошедшими от единого утраченного изначального языка. Если это так, то единственным свидетельством арийского вторжения в дравидийскую Индию остаются те указания, которые можно почерпнуть из ведийских гимнов.
Поэтому я с удвоенным интересом впервые принялся за чтение Веды в оригинале, хотя никаких непосредственных планов заняться ее тщательным и серьезным изучением у меня не было. Не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что ведийские указания на расовые различия между ариями и дасью, а также отождествление последних с коренными жителями Индии носят куда более поверхностный характер, чем я предполагал. Однако гораздо более интересным для меня стало открытие целой системы глубокой психологической мысли и опыта, затерянных в этих древних гимнах. Значение этого элемента еще больше возросло в моих глазах, когда я обнаружил, что, во-первых, ведийские мантры проливают яркий и ясный свет на мои собственные психологические переживания, которым я не мог найти достаточного объяснения ни в европейской психологии, ни в учении Йоги или Веданты, – насколько я был с ними знаком, – а во-вторых, что они помогают понять неясные места и идеи Упанишад, точное истолкование которых до этого не удавалось мне, и в то же время они придают новый смысл многому из Пуран.
Прийти к этому результату мне помогло то, что, к счастью, я не был знаком с комментарием Саяны. Мне ничто не мешало давать многим обычным и расхожим словам Веды их естественное психологическое толкование, скажем, таким, как дхи (dhī) – мысль или понимание; манас (manas) – ум; мати (mati) – мысль, чувство или состояние ума; маниша (manīṣā) – интеллект; ритам (ṛtam) – истина; а также находить точные оттенки значений для слов кави (kavi) – провидец, маниши (manīṣī) – мыслитель, випра (vipra), випашчит (vipaścit) – просветленный в уме и для ряда других подобных слов; я мог даже наугад дать психологическое толкование, впоследствии подтверждавшееся более доскональным исследованием, словам типа дакша (dakṣa), которое для Саяны означало силу, и шравас (śravas), которое он переводит как богатство, пища или слава. Психологическая теория Веды опирается на наше право признать присущее этим словам их естественное значение.
Саяна очень широко варьирует значения слов dhī, ṛtam и т. д. Ṛtam – почти ключевое слово при любой психологической или духовной интерпретации – иногда переводится им как «истина», чаще как «жертвоприношение», а иногда даже как «вода». Психологическая интерпретация закрепляет за этим словом значение Истины. Dhī по-разному переводится Саяной: это «мысль», «молитва», «действие», «пища» и т. д. Психологическая интерпретация слова обязательно будет передавать значение мысли или понимания. То же происходит и с другими ведийскими терминами. Более того, Саяна проявляет склонность к стиранию всех тонких нюансов и различий между словами, оставляя за ними самое общее значение. Все эпитеты, относящиеся к идеям умственной деятельности, для него означают просто «разумный»; все слова, выражающие разные идеи сил, – а Веда ими полна, – сведены к общему представлению о силе. На меня же, напротив, произвела огромное впечатление точность ассоциаций, связанных с отдельными словами, и я понял всю важность сохранения этих нюансов, сколь бы незначительной ни была разница в их общем смысле. Мне вообще непонятно, почему мы должны предполагать, будто ведийские риши, в отличие от всех прочих мастеров поэтического стиля, ставили слова как придется, не подбирая их, не чувствуя их подтекста и не выявляя соответствующими вербальными сочетаниями всю их мощь.
Следуя этому принципу, я обнаружил, что сохранение простого, естественного и прямого смысла слов и фраз сразу выводит на поверхность поразительно большое количество не только разрозненных стихов, но и целых отрывков, которые меняют весь характер Веды. Ибо тогда Писание предстает в виде богатейшей золотоносной жилы мысли и духовного опыта, которая выходит на поверхность иногда в виде тонкой россыпи, но в большинстве гимнов целыми самородками. Более того, помимо слов, которые в своем простом и обыденном смысле сразу превращают контекст в сокровищницу психологического содержания, Веда полна еще других, которым можно придать смысл либо внешний и материальный, либо внутренний и психологический, в зависимости от нашей собственной концепции общего назначения Веды. Например, такие слова, как райе (rāye), райи (rayi), радхас (rādhas), ратна (ratna), могут означать либо чисто материальное благосостояние, либо же прекрасный внутренний дар, богатство, в равной мере относящееся к субъективной и объективной реальности; дхана (dhana), ваджа (vāja), поша (poṣa) могут означать как объективное богатство, изобилие и процветание, так и все достояние внутреннего или внешнего мира, его изобилие и приумножение в жизни индивида. Rāye употребляется в Упанишадах, в цитате из Ригведы, в смысле духовного счастья – почему бы этому слову не иметь того же значения и в оригинальном тексте? Vāja часто встречается в контексте, где все прочие слова имеют психологический смысл и где его понимание как физического изобилия режет слух своим несоответствием единству общей мысли. В таком случае здравый смысл требует, чтобы было признано использование этих слов в Веде в значении психологическом.
Однако при последовательном применении такого метода не только отдельные стихи и строки, но и целые гимны сразу приобретают психологическую окраску. Чаще всего для такого превращения требуется одно условие, не оставляющее в стороне ни одного слова или фразы, – оно заключается в признании символического характера ведийского жертвоприношения. В Гите мы находим слово яджня (yajña) – жертва, – употребленное в символическом смысле для обозначения всякого деяния, внутреннего или внешнего, которое посвящено богам или Всевышнему. Было ли такое символическое употребление этого слова рождено позднейшей интеллектуальной философской традицией или же было присуще ведийскому представлению о жертвоприношении? Я обнаружил, что в самой Веде есть гимны, где идея яджни, или жертвы, излагается откровенно символически, и есть другие, в которых покров, скрывающий ее, весьма прозрачен. Тогда возникает вопрос о том, являются ли они позднейшими сочинениями, развивающими зачаточный символизм старых суеверий и обрядов, или же скорее откровенными проявлениями смысла, более или менее тщательно скрытого в образности большинства гимнов. Не будь в Веде постоянного повторения психологических пассажей, безусловно пришлось бы согласиться с первым объяснением. Но, напротив, целые гимны естественно принимали психологическое звучание, строка за строкой выстраиваясь в совершенно логичную и ясную последовательность, единственными же туманными местами были те, где речь шла о жертвоприношениях, или о подношениях, или иногда о жреце, совершающем обряд, который мог быть либо человеком, либо божеством. Я неизменно обнаруживал, что при символическом прочтении этих слов развитие мысли делалось более ясным, более светозарным, более отчетливым и смысл гимна во всей полноте победно выходил на свет. По этой причине я счел, что все каноны трезвой критики дают мне право дальше развивать мою гипотезу и включать в нее символическое значение ведийского ритуала.
Тем не менее, именно здесь возникает первая реальная трудность психологической интерпретации. До этого момента я следовал совершенно прямому и естественному методу истолкования, основываясь на смысле слов и предложений, лежащем на поверхности. Теперь же я столкнулся с элементом, где внешнее значение, в каком-то смысле, должно быть преодолено, а это процесс, вызывающий постоянную настороженность в любом критическом и добросовестном уме. При всем своем тщании исследователь не всегда может быть уверен, что нашел верный ключ и дал точную интерпретацию.
Ведийское жертвоприношение включает в себя три признака, если на минуту исключить божество и саму мантру, – это лицо, приносящее жертву, сама жертва и плоды жертвоприношения. Если яджня (yajña) есть действие, посвященное богам, то я не могу не признать, что яджамана (yajamāna), приносящий жертву, есть лицо, совершающее действие. Yajña есть труды, внутренние или внешние, следовательно yajamāna должна быть душа или личность, как вершитель труда. Но есть еще и священнослужители – хотар (hotā), ритвидж (ṛtvij), пурохита (purohita), брахман (brahmā), адхварью (adhvaryu) и т. д. Какова их роль в символике? Ибо, предполагая наличие символического смысла в жертвоприношении, мы должны предположить, что символическую нагрузку несут все компоненты обряда. Я обнаружил, что о богах постоянно говорится как о жрецах жертвоприношения, а во многих местах определенно сказано, что возглавляет обряд сила или энергия не человеческого свойства. Я также уловил, что в Веде постоянно персонифицируются элементы нашей личности. Мне потребовалось только применить это правило в обратном направлении и предположить, что тот, кто во внешнем образе представляется жрецом, во внутреннем действии является силой или энергией нечеловеческого свойства или неким элементом нашей личности. Оставалось уточнить психологические значения различных функций жрецов. Ключ к этому я нашел в самой Веде, в ее филологических указаниях и утверждениях, таких, как употребление слова purohita в отдельной форме в значении «представителя», «поставленного впереди», а также в частых упоминаниях бога Агни, который символизирует божественную Волю или Силу в человеке, действующую при всяком посвящении труда.
Труднее было понять роль приношений. Так, если Сома, напиток экстаза, с помощью контекста, в котором встречался, своим употреблением и воздействием, а также филологическим указанием своих синонимов подсказывал возможность своей интерпретации, то что могло означать в жертвоприношении гхритам (ghṛta), очищенное масло? Однако это слово, как оно употребляется в Веде, настойчиво говорит о своем символическом значении. Как, например, понимать очищенное масло, брызжущее с неба или с коней Индры или льющееся из ума? Похоже на какой-то полный абсурд, если только смысл ghṛta как очищенного масла не был чем-то большим, нежели весьма произвольно употребляемый символ, так что часто его внешнее значение в уме мыслителя целиком или частично уходило на второй план. Конечно, можно как угодно варьировать смысл слов, трактовать ghṛta то как очищенное масло, то как воду, трактовать manas в одних случаях как ум, в других – как пищу или лепешку. Но я обнаружил, что ghṛta постоянно употребляется в связи с мыслью или умом, что небо в Веде есть символ ума, что Индра представляет озаренную ментальность, а пара его коней есть удвоенная энергия этой ментальности, и что в Веде иногда прямо говорится о подношении богам мыслительной способности (dhiṣaṇā) как очищенного гхритам: ghṛtaṁ na pūtaṁ dhiṣaṇām (III.2.1). Слово гхритам в числе прочих филологических значений может также иметь смысл насыщенной или интенсивной яркости. Сопоставление ряда указаний убедило меня в том, что я был прав, установив определенный психологический смысл для образа очищенного масла. И я пришел к выводу, что то же правило и тот же метод применимы и для других составных частей жертвоприношения.
Плоды жертвоприношения были на вид чисто материальными: коровы, кони, золото, потомство, мужчины, физическая сила, победа в битве. Здесь трудности усугубились. Но я уже понял, что ведийская корова – животное необычайно загадочное, и явилось оно, определенно, не из земного стада. Слово го (go) несет двойной смысл: обозначает и корову, и свет, а во многих местах оно очевидно употребляется в значении «свет», хотя и представляет образ коровы. Это становится совершенно ясно, когда мы сталкиваемся с коровами солнца – гомеровская корова Гелиоса – и с коровами Зари. С психологической точки зрения физический свет может легко стать символом знания, в особенности – божественного знания. Но это не более чем вероятность, – как ее проверить и подтвердить? Я обнаружил ряд мест, где весь контекст носил психологический характер, и только образ коровы вторгался в него с грубым материальным смыслом. Индру, как творца совершенных форм, призывают испить вина Сомы; напившись, он приходит в состояние экстаза и становится «дарующим коров»; и вот тогда мы в силах достичь его сокровеннейших или его высочайших истинных мыслей, тогда мы вопрошаем его, и его ясное различение приносит нам наивысшее благо. Очевидно, что в подобном контексте коровы не могут быть обычными стадами, равно как и дарование физического света не может иметь здесь никакого смысла. По меньшей мере, в одном случае психологический символизм ведийской коровы показался мне убедительно доказанным. Затем я применил данное значение и к другим стихам, в которых встречалось это слово, и всякий раз убеждался, что оно дает наилучшие результаты с точки зрения ясности смысла и придает тексту наибольшую связность.
Корова и конь, го (go) и ашва (aśva), неизменно тесно связаны друг с другом. Уша, Заря, описывается как gomatī aśvavatī; она дарует коров и коней приносящему жертву. Применительно к рассвету gomatī означает «сопровождаемая лучами света» или «приносящая лучи света» и является образом прихода озарения в человеческий ум. Следовательно, и aśvavatī не может относиться просто к физическим коням, это слово должно иметь также и психологическое значение. Изучение образа коня в Ведах привело меня к заключению, что go и aśva представляют собой две парные идеи Света и Энергии, Сознания и Силы, которые для ведийского и ведантийского ума представляли двойной или парный аспект всех движений бытия.
Отсюда стало ясно, что два главнейших плода ведийского жертвоприношения – обилие коров и обилие коней символизировали богатство умственной озаренности и изобилие жизненной энергии. Из этого вытекало, что и прочие плоды, постоянно ассоциирующиеся с этими двумя главнейшими результатами ведийской кармы[14] должны также иметь психологическое значение. Оставалось лишь установить их точный смысл.
Другой чрезвычайно важной чертой ведийской символики является система миров и функции богов. Я нашел ключ к символике миров в ведийской концепции вьяхрити (vyāhṛti) – трех символических слов мантры: oṁ bhūr bhuvaḥ svaḥ, а также через связь четвертой вьяхрити, Махаса, с психологическим термином ṛtam. Риши говорят о трех космических делениях – это Земля, антарикша (antarikṣa), или срединное пространство, и Небо, дьяус (dyau); однако существует еще более великое Небо (bṛhad dyau), именуемое также Просторный Мир, Безбрежность, брихат (bṛhat), и иногда типизируемое как Великие Воды – maho arṇaḥ. Этот Просторный Мир, bṛhat, опять же описывается как ṛtam bṛhat или через тройственное определение – satyam ṛtam bṛhat. Раз три мира соответствуют трем вьяхрити, то и этот четвертый мир, мир Безбрежности и Истины, видимо, должен соответствовать упоминаемой в Упанишадах четвертой вьяхрити – Махасу. В пуранической формуле эти четыре мира дополнены тремя другими – Джана, Тапас и Сатья, знаменующими три наивысших мира индуистской космологии. В Ведах мы также встречаем упоминание о трех наивысших мирах, хотя их имена не названы. Однако в системах Веданты и Пуран семь миров соответствуют семи психологическим принципам или формам существования: Сат, Чит, Ананда, Виджняна, Манас, Прана и Анна. Так, Виджняна, основной принцип, принцип Махаса, великого мира, есть Истина сущего, тождественная ведийскому понятию ṛtam, что есть принцип Безбрежности, bṛhat; и в то время как в пуранической системе за Махасом в восходящем порядке следует Джана, мир Ананды, божественного Блаженства, в Веде ṛtam, Истина, также ведет вверх, к Маясу, Блаженству. Поэтому можно с достаточной долей уверенности говорить об идентичности двух систем, каждая из которых опирается на одну и ту же идею о семи принципах субъективного сознания, выражающих себя в семи объективных мирах. На этой основе я сумел отождествить эти ведийские слова мантры с соответствующими психологическими уровнями сознания, и вся ведийская система прояснилась для меня.
После того, как столь многое было установлено, остальное последовало естественно и неизбежно. Я уже понимал, что центральной идеей ведийских риши был переход человеческой души от состояния смерти к состоянию бессмертия посредством замены Лжи на Истину, разделенного и ограниченного бытия – на интегральное и бесконечное. Смерть – это бренное состояние материи с включенными в нее ментальной и витальной сферами; Бессмертие – это состояние бесконечного бытия, сознания и блаженства. Человек поднимается за пределы двух твердей, родаси (rodasī), – Небес и Земли, ума и тела – к бесконечности Истины, Махасу, и далее к божественному Блаженству. Это и есть «великий переход», открытый Предками, древними Риши.
Я обнаружил, что боги описываются как дети Света, сыновья Адити, Бесконечности; и все они, без исключения, выступают как благодетели человека, как те, которые взращивают его, даруют ему свет, изливают на него полноту вод и изобилие небес, увеличивают в нем истину, возводят божественные миры, ведут его вопреки всем опасностям к великой цели, к всеобъемлющему счастью, к совершенному блаженству. Различные функции богов прояснялись через их действия, их эпитеты, через психологический смысл связанных с ними легенд, через указания, содержащиеся в Упанишадах и Пуранах, а иногда и через отблески греческих мифов. С другой стороны, противостоящие им демоны есть силы раздробленности и ограничения, Сокрыватели, Разрыватели, Пожиратели, Заточители, Разделители, Чинители Препятствий, как явствует из их имен, это – силы, которые действуют против свободной и единой интегральности бытия. Все эти Вритры, пани, Атри, ракшасы, Самбара, Вала, Намучи – это не дравидийские цари и боги, как хотелось бы видеть современному уму с его преувеличенным чувством истории, они воплощают в себе куда более древнюю идею, лучше согласующуюся с религиозными и этическими предпочтениями наших предков. В них отразилась борьба между силами высокого Добра и низменной страсти, и это представление в Ригведе и та же оппозиция добра и зла, выраженная по-другому, с меньшей психологической тонкостью, но с большей этической прямотой в Писании зороастрийцев, наших древних соседей и родственников, вероятно, происходят из единой первоначальной дисциплины в арийской культуре.
Наконец, я обнаружил, что систематический символизм Веды распространяется и на легенды, повествующие о богах и их взаимоотношениях с древними провидцами. Иные из этих мифов – если не все они – могли иметь и, вероятно, имели натуралистические и астрономические основания; но если это так, к их первоначальному смыслу был добавлен психологический символизм. Как только понят смысл ведийских символов, духовный смысл и назначение этих легенд становится ясным и неизбежным. В Веде каждый элемент неразрывно сплетен со всеми другими, и сама природа этих сочинений принуждает нас довести любой принцип истолкования, если уж он принят нами, до его крайних разумных пределов. Эти материалы были умело спаяны в единое целое твердой рукой, и любая непоследовательность в нашем обращении с ними разрывает всю текстуру их смысла и логичность мысли.
Так выстраивалась в моем уме, словно проявляясь через древние строки, такая Веда, которая от начала до конца была Писанием великой древней религии, уже владевшей глубокой психологической дисциплиной, – Писанием, не сбивчивым по мысли или примитивным по содержанию, не смешением разнородных или грубых элементов, но целостным, завершенным и осознающим свой замысел и назначение, хотя и скрывающимся за покровом – иногда плотным, иногда прозрачным – иного, материального смысла, но ни на миг не теряющим из виду своей высокой духовной цели и устремления.
Глава V. Филологический метод Веды
Никакое истолкование Веды не может считаться надежным, если оно не опирается на прочную и достоверную филологическую основу; в то же время туманный и архаичный язык этого Писания, единственным сохранившимся свидетельством которого и является Веда, составляет уникальную филологическую трудность. Никакой критический ум не позволит себе целиком положиться на традиционные, зачастую весьма надуманные, толкования индийских ученых. Современная филология ищет себе более надежную и научную основу, хотя пока еще ее не нашла.
При психологическом истолковании Веды возникают две особые трудности, справиться с которыми можно только с помощью достаточного филологического доказательства. Это истолкование требует признать ряд новых значений для довольно большого количества твердо фиксированных специальных терминов Веды – таких как, например, ūti, avas