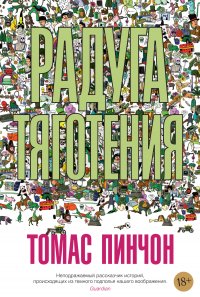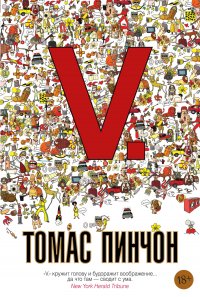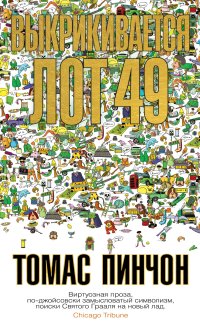Читать онлайн Нерадивый ученик бесплатно
- Все книги автора: Томас Пинчон
Thomas Pynchon
SLOW LEARNER
Copyright © 1984 by Thomas Pynchon
© А. Б. Гузман, перевод, примечания, 2022
© А. Б. Захаревич, перевод, 2000
© С. Ю. Кузнецов, перевод, примечания, 1996, 2000
© Н. В. Махлаюк, перевод, примечания, 2000
© С. Л. Слободянюк, перевод, примечания, 2000
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®
Предисловие
Если память мне не изменяет, эти рассказы появились между 1958 и 1964 годом. Четыре из них я написал еще в колледже, а пятый, «Секретная интеграция» (1964), – работа уже ремесленника, а не подмастерья. Не исключено, что вы успели узнать, какой это может быть удар по самолюбию – перечитывать что бы то ни было, написанное вами двадцать лет назад, хоть бы и росчерки на оплаченных чеках. Первой моей реакцией, когда я перечитал эти рассказы, было «господи боже мой», далее последовали физиологические симптомы, от описания которых я воздержусь. Затем я подумал, не переписать ли всё от и до. На смену этим двум импульсам пришел один из тех эпизодов зрелой безмятежности, когда я делаю вид, будто способен трезво оценивать молодого писателя, каким был тогда. Сами посудите – не могу же я взять и вычеркнуть его из жизни. С другой стороны, если бы при содействии какой-нибудь еще недоступной нам техники я столкнулся с ним на улице, так ли уж захотелось бы мне ссудить его деньгами, а то и, не знаю, пригласить в бар, чтобы вспомнить за кружкой пива дела давно минувших дней?
Будет только честным предупредить даже самых благорасположенных читателей, что здесь полно пассажей весьма утомительных, а также несовершеннолетних и преступных. Остается лишь надеяться, что, сколь бы претенциозно, придурочно или необдуманно эти рассказы порой ни звучали, они будут все же полезны, со всеми своими бережно сохраненными недостатками, как иллюстрация типичных проблем ранней прозы и предостережение насчет определенных практик, которых начинающим авторам лучше бы избежать.
«Мелкий дождь» – это был мой первый опубликованный рассказ. Конкретику обеспечил один друг, служивший в армии те же два года, что я на флоте. Буря действительно имела место, и его отделение связистов действительно выполняло задачу, описанную в рассказе. Изрядная часть того, что мне не нравится в моей манере письма, присутствует здесь как в зародыше, так и в более развитых формах. Начать хотя бы с того, что я не распознал: проблема главного героя достаточно интересна сама по себе, чтобы сгенерировать историю самостоятельно. Вероятно, мне казалось, что непременно нужно наложить дополнительный слой образов дождя и отсылок к «Бесплодной земле»{1} и «Прощай, оружие!». Моим лозунгом было «Добавь литературности» – плохой совет, который я высосал из пальца и которому сам же последовал.
Похвастать хорошим слухом в плане диалога я тоже никак не мог, особенно ближе к концу рассказа. Региональные акценты я тогда распознавал, мягко говоря, не вполне. Я обратил внимание, как в армии голоса сливаются в некий общеамериканский сельский говорок. Со временем итальянские гопники из Нью-Йорка начинали разговаривать как некая усредненная деревенщина, а матросы из Джорджии, возвращаясь из отпуска, жаловались, что никто их не понимает – они, мол, стали говорить как янки. То, что мне, как северянину, представлялось «южным акцентом», на деле было лишь этим общеармейским говором, не более того. Мне казалось, что в прибрежной Вирджинии гражданские говорят «уу» вместо «оу», но я не понимал, что в разных регионах этого реального или гражданского Юга, даже в разных районах Вирджинии, народ говорит с совершенно разным акцентом. Та же ошибка заметна в тогдашних фильмах. В сцене в баре моя проблема не только в том, что девушка из Луизианы говорит с (плохо расслышанными, если уж на то пошло) луизианскими дифтонгами, но хуже того – я делаю это опорным сюжетным элементом: это важно для Левайна и влияет на развитие сюжета. Ошибка моя в том, что я пытался щегольнуть слухом, прежде чем толком его развил.
Что самое неприятное, сердцевину истории составляет ущербное восприятие рассказчиком темы смерти. Любые разговоры о «серьезности» в литературе отражают в конечном счете отношение к смерти – как персонажи поступают в ее присутствии, например, или как реагируют на нее более опосредованно. Все об этом знают, но молодым писателям почти никто этого не объясняет – возможно, чувствуя, что человеку в возрасте подмастерья от такого совета проку не будет. (Подозреваю, научная фантастика и фэнтези настолько популярны у молодежи именно потому, что, когда время и пространство трансформированы так, что герои могут произвольно перемещаться по всему континууму, избегая физических опасностей и темпоральной фатальности, тема смертности едва ли возникает.)
В «Мелком дожде» персонажи реагируют на смерть самым незрелым образом. Они избегают всего с ней связанного: спят допоздна, используют эвфемизмы. А если упоминают смерть, то норовят отделаться шутками. И что хуже всего, они связывают ее с сексом. Можно заметить, что ближе к концу рассказа происходит некий сексуальный эпизод – хотя собственно по тексту этого никак не скажешь. Язык вдруг становится вычурным до неудобочитаемости. Возможно, дело не только в моей личной подростковой нервозности на предмет секса. Помнится, такая нервозность была свойственна всей тогдашней студенческой культуре. Вдобавок это была эра «Вопля», «Лолиты» и «Тропика Рака» – и всех спровоцированных ими правоохранительных эксцессов{2}. Даже американское мягкое порно тех времен погружалось в абсурдный символизм, лишь бы не описывать секс. Сейчас это кажется смешным, но тогда подобные ограничения ощущались явственно.
По-моему, сейчас рассказ интересен не столько устарелостью и незрелостью письма, сколько классовым ракурсом. Если воинская служба в мирное время чем-то и хороша, так это тем, что наблюдаешь в микрокосме точный срез общества в целом. Даже юный ум осознаёт, что непризнанные расслоения гражданской жизни явно и зримо отображаются в армейском делении на «офицеров» и «рядовых». В изумлении понимаешь, что люди с высшим образованием, расхаживающие в хаки со звездами и наделенные серьезными полномочиями, могут быть полными идиотами. И что парни из рабочего класса, теоретически вроде бы подверженные идиотизму, на деле куда более склонны проявлять компетентность, отвагу, человечность, мудрость и другие достоинства, которые образованный класс привык ассоциировать с собой. Хотя дилемма сформулирована в литературных терминах, Толстозадый Левайн должен выбрать, кому он верен. Как аполитичный студент пятидесятых, я тогда об этом не подозревал – но задним числом понимаю, что пытался разрешить внутренний конфликт, характерный для всех начинающих авторов того времени.
На простейшем уровне это был вопрос языка. С самых разных сторон – Керуак и битники, Сол Беллоу в «Приключениях Оги Марча», только начинавшие тогда Герберт Голд и Филип Рот – показывали нам, как в прозе могут законно сосуществовать по меньшей мере два совершенно разных типа английского языка. Законно! Оказывается, так можно писать! Кто бы мог подумать? Эффект был возбуждающий, освобождающий и крайне положительный. Речь шла не о выборе «или/или», а о расширении возможностей. Едва ли мы сознательно стремились к некоему синтезу – хотя, наверно, надо было. Впоследствии, в шестидесятых, успех «новых левых» будет ограничен неспособностью студентов и «синих воротничков» объединиться политически. И одна из причин тому – реальные, невидимые силовые барьеры, препятствующие общению между группами.
Как и почти все остальное в те дни, конфликт существовал приглушенно. На литературном фронте это выражалось как противостояние традиционной и битнической прозы. Издалека доносились отголоски происходившего в Университете Чикаго. Была, например, «чикагская школа» литературной критики, пользовавшаяся немалым уважением. В то же время случилась редакционная перетряска в «Чикаго ревью», по итогам которой возник «Биг тейбл» – журнал бит-направленности. Выражение «что случилось в Чикаго» использовали как символ некой невообразимой подрывной угрозы. И подобных дискуссий было множество. Несмотря на безусловный вес традиции, нас привлекали такие центробежные соблазны, как эссе Нормана Мейлера «Белый негр»{3}, широкая доступность джазовых пластинок и один из великих, как я по-прежнему считаю, американских романов – «В дороге» Керуака.
Немалый побочный эффект (на меня, по крайней мере) оказали и «Бродячие школяры» Хелен Уодделл, переизданные в начале пятидесятых и рассказывавшие о молодых средневековых поэтах{4}, которые массово покидали монастыри и отправлялись странствовать по Европе, воспевая разновидности опыта, недоступные в университетских стенах. С учетом нашей тогдашней академической атмосферы, параллели провести было нетрудно. Не то чтобы в колледжах была скука смертная, но информация о всякой альтернативной жизни в нижних слоях коварно просачивалась через плющевые препоны, намекая на тот другой мир, что бурлил где-то за пределами. Некоторые из нас поддавались-таки искушению вылезти наружу и проверить, что там происходит. Многие возвращались и делились передовым опытом и вдохновляли других своим примером – предвестие массового ухода студентов из университетов в шестидесятые.
С бит-движением я пересекся по касательной. Как и все, я подолгу торчал в джаз-клубах, максимально растягивая обязательный минимум в две пинты. По ночам я надевал темные очки в роговой оправе. Я ходил на чердачные вечеринки, где девушки носили странные наряды. Меня чрезвычайно занимали всякие шутки о марихуане, хотя говорили об этом полезном веществе куда больше, чем оно было доступно. В 1956 году в Норфолке, Вирджиния, я забрел в книжный магазин и обнаружил первый номер «Эвергрин ревью» – раннего форума для битнических идей. У меня буквально открылись глаза. Я тогда служил на флоте, но уже знал людей, которые рассаживались в кружок на палубе и распевали, с идеальной раскладкой на голоса, все эти ранние рок-н-роллы, играли на бонгах и саксофонах, искренне горевали, когда умер Птаха, а потом и Клиффорд Браун{5}. Вернувшись в университет, я обнаружил профессоров, которых пугала обложка свежего номера «Эвергрин ревью», не говоря уж о содержании. Казалось, некоторые литературные фигуры воспринимали бит-поколение примерно так же, как некоторые офицеры у меня на корабле – Элвиса Пресли. Они подходили к тем из команды, кто казался наиболее вероятным источником информации (например, причесывался под Элвиса). «Что он хочет сказать? – нервно выспрашивали они. – Что ему вообще нужно?»
Это был переходный момент, странный постбитнический эпизод культурной истории, когда мы пытались хранить верность и нашим и вашим. Как боп и рок-н-ролл относились к свингу и послевоенной поп-музыке, так же новая литература относилась к той модернистской традиции, которую мы усваивали в университете. Увы, других базовых выборов нам не предлагалось. Мы были не более чем наблюдателями: парад уже прошел, и мы получали все из третьих рук, потребляя то, что нам скармливали тогдашние медиа. Это не мешало нам имитировать битников в меру сил, и впоследствии, как постбитники, мы глубже осознали, до чего же это было разумное и достойное утверждение американских ценностей – таких, в какие нам всем хотелось бы верить. Когда десятилетие спустя появились хиппи, мы хотя бы временно ощутили некую ностальгию и запоздало поняли, что были правы. Воскресли бит-пророки, люди стали играть альт-саксофонные риффы на электрогитарах, опять вошла в моду восточная мудрость. Все то же самое, только другое.
Не обошлось и без минусов: обе формы движения излишне упирали на юность, в том числе вечную. Толком оценить юность я по юности, конечно, не мог, но я снова поднимаю тему незрелости оттого, что недоразвитым отношением к сексу и смерти дело не ограничивалось: подростковые ценности с удивительной легкостью могли прокрасться исподтишка и попортить вполне симпатичного, казалось бы, персонажа. Так, увы, и случилось с Деннисом Флэнджем в «К низинам низин». Это вообще, можно сказать, не рассказ, а лишь набросок персонажа, образ без развития. Старик Деннис по ходу дела особо не «растет». Он пребывает в статике, а его фантазии становятся яркими до неприличия – и больше не происходит ничего. В лучшем случае некое прояснение фокуса – но никакого разрешения проблемы, так что ни жизни там почти нет, ни движения.
В наши дни уже не секрет, особенно для женщин, что многие американские мужчины, даже зрелые на вид, в костюмах и с работой, на деле, как это ни удивительно, остаются в душе маленькими мальчиками. Таков и Флэндж – хотя, когда я писал эту историю, мне казалось, что он вполне себе клевый чувак. Он хочет детей (почему – остается необъясненным), но не ценой того, чтобы разделить какую-либо реальную жизнь со взрослой женщиной. Решение для него – это Нерисса, женщина детских габаритов и поведения. Уже точно не помню, но, кажется, мне хотелось добиться некой неопределенности: что, если она лишь порождение его фантазий? Было бы легко отговориться тем, что вся проблема – не Денниса, а моя и что я лишь проецирую ее на него. Так или этак, но проблема была распространенная. В то время я не имел никакого непосредственного опыта брака или воспитания детей и, может быть, улавливал некие общие мужские настроения, витавшие в воздухе, – например, почерпнутые со страниц журналов для мужчин, особенно «Плейбоя». Едва ли он транслировал исключительно личные ценности своего хозяина: если бы мужчины Америки не разделяли этих ценностей, «Плейбой» быстро прогорел бы.
Забавно, что сперва Деннис вовсе не предназначался на роль центрального героя – я видел в нем лишь партнера-простака для главного комика, Свина Будина. Собственно, реальный прототип этого небезупречного матроса и послужил отправной точкой. Историю о медовом месяце я услышал, когда служил на флоте, от одного знакомого комендора. Наш корабль стоял в Портсмуте, Вирджиния, и нас послали в наряд в береговой патруль. Патрулировали мы пустынный кусок периметра верфи – сплошные рельсы, заборы из проволочной сетки, ни единого хулиганистого матроса, которого потребовалось бы призвать к порядку, – и плюс холод стоял собачий. Так что на моего товарища, как на старшего по патрулю, пала обязанность травить флотские байки, и это была одна из них. То, что и вправду случилось с ним в его медовый месяц, я устроил Деннису Флэнджу. Особенно повеселило меня не столько содержание байки, сколько абстрактная убежденность в том, что на его месте так поступил бы каждый. Как выяснилось, собутыльник моего напарника фигурировал в огромной массе флотского фольклора. Переведенный в береговую службу еще до моего прихода на флот, он успел превратиться в легенду. Накануне моей демобилизации, возле казарм норфолкской базы, мне наконец довелось повстречать его на утренней перекличке. Стоило мне увидеть его, еще прежде чем выкликнули его имя, я ощутил странную экстрасенсорную уверенность: да это ж он самый. Не хотелось бы излишне драматизировать, но я до сих пор очень люблю Свина Будина, впоследствии ввел его в парочку романов{6}, и приятно вспомнить, что наши пути однажды пересеклись, хоть и столь призрачным образом.
Наверняка современных читателей по меньшей мере смутит недопустимый уровень расизма, сексизма и протофашизма в диалогах персонажей. Рад бы сказать, что это не мой голос, это все Свин Будин, – но тогда это был и мой голос тоже. Единственное, что могу добавить в оправдание: для своего времени звучало это довольно аутентично. Джеймс Бонд, ролевая модель Джона Кеннеди, вот-вот должен был сделать себе имя, всячески шпыняя людей третьего мира, – очередное продолжение приключенческих историй, на которых выросли многие мальчишки. Некоторое время преобладал определенный набор допущений и разграничений, не высказываемых и не оспариваемых, лучше всего воплощенный позже в одном сериале семидесятых персонажем по имени Арчи Банкер{7}. Еще может оказаться, что расовые отличия не так основополагающи, как вопросы денег и власти, но все же сыграли полезную роль (часто в интересах тех, кто больше всего их и порицает), оставляя нас разделенными, а значит, относительно бедными и бессильными. И тем не менее должен сказать, что рассказчик в «К низинам низин» по-прежнему звучит как самонадеянный идиот, за что я честно извиняюсь.
Как бы ни раздражал меня сейчас «К низинам низин», это все цветочки по сравнению с тем унынием, в которое ввергает меня «Энтропия». Этот рассказ – отличный пример ошибки метода, от которой всегда предостерегают молодых писателей. Нельзя начинать с темы, символа или еще какого объединяющего принципа – и уже потом подгонять под него поступки персонажей и события. Для сравнения, «К низинам низин», пусть и ущербный в других отношениях, хотя бы начался с персонажей, а всякое теоретизирование я наложил позднее, дабы показать свою образованность. Иначе это был бы только рассказ о неприятных личностях, которые никак не могут совладать с жизненными трудностями, а кому оно надо? Так что – травля баек и отважные лекции о геометрии.
Пару-тройку раз «Энтропию» включали в те или иные антологии, так что теперь люди думают, будто я знаю об энтропии куда больше, чем на самом деле. Даже Дональд Бартельми, которого обычно на кривой козе не объедешь{8}, в одном журнальном интервью высказался в том духе, что, мол, энтропия – это моя личная территория. Что ж, если верить «Оксфордскому словарю английского языка», слово это придумал Рудольф Клаузиус по аналогии с энергией, считая, что по-гречески «энергия» означает «мера работы». Энтропия, или «мера преобразования», должна была описывать изменения, происходящие с тепловым двигателем по ходу типичного цикла, когда тепло преобразуется в работу. Если бы Клаузиус не пренебрег своим родным немецким и назвал это Verwandlungsinhalt[1] вместо энтропии, эффект был бы совершенно иным. А так после 70–80 лет сдержанного употребления по назначению слово «энтропия» взяли в оборот некие адепты теории коммуникации, придав ему ту глобально-моральную нагрузку, от которой оно до сих пор не может избавиться{9}. Так вышло, что я прочел «Человеческое применение человеческих существ» Норберта Винера (популярное авторское переложение для заинтересованных мирян его же более специальной «Кибернетики») почти одновременно с «Воспитанием Генри Адамса»{10}, и вся «тема» моего рассказа более или менее вторична по отношению к тому, что имели сказать эти двое. Поза, которая так мне нравилась в те дни, – довольно распространенная среди незрелых личностей, надеюсь, – предписывала находить глубокомысленный восторг в любой идее массового разрушения или упадка{11}. Собственно, современный политический триллер часто эксплуатирует тему огламуренной или крупномасштабной смерти. С учетом моих школярских настроений, я радостно ухватился за идею бесконтрольной энергии, о которой говорил Адамс{12}, в сочетании с винеровским образом всеобщей тепловой смерти и математического замирания{13}. Картина грандиозная и выписанная с изрядной дистанции; на этом фоне люди в рассказе явно проигрывают. Они выглядят синтетическими, недостаточно живыми. Изображенный семейный кризис снова, как и в случае с Флэнджами, неубедительно упрощен. Урок печальный, как всегда грил Дион, но верный{14}: переберешь с концептуализмом, выпендрежем и отстраненностью – и твои персонажи этого не переживут.
Поначалу я тревожился только о том, что свел все к температуре, а не к энергии. Но, продолжая изучать литературу по теме, осознал, что был не так уж и не прав. Впрочем, не стоит недооценивать поверхностность моего понимания. Например, я выбрал в качестве точки равновесия 37 градусов по Фаренгейту[2] оттого, что нормальная температура человеческого тела – 37 градусов по Цельсию. Круто выпендрился, а?
Более того, оказывается, не все держали энтропию за врага. Снова обратимся к «Оксфордскому словарю» и увидим, что Джеймс Клерк Максвелл и П. Г. Тэйт использовали (по крайней мере, какое-то время) это слово в противоположном смысле: как меру энергии, доступной – а не, как у Клаузиуса, недоступной – для выполнения работы{15}. Наш американский Уиллард Гиббс вырастил на этой территории целую теорию, используя энтропию (хотя бы на диаграммах) для популяризации термодинамики, особенно ее второго закона.
Но сейчас в моем рассказе мне в первую очередь бросается в глаза не столько его термодинамическая мрачность, сколько то, как он отражает восприятие некоторыми людьми того десятилетия, когда был написан. Пожалуй, это самый битнический из моих рассказов – хотя тогда мне казалось, что я обогащаю дух бита подержанным наукообразием. Я написал «Энтропию» в 1958-м или 1959-м, и когда говорю там о 1957 годе «в те времена», это почти сарказм. В то десятилетие один год почти не отличался от другого. Таков был один из самых пагубных эффектов десятилетия – тогдашней молодежи внушалось, что пятидесятые не кончатся никогда{16}. Пока не стал обращать на себя внимание Джон Кеннеди, сперва казавшийся в конгрессе выскочкой с необычной прической, многие не знали, куда себя приткнуть. Ведь пока у власти находился Эйзенхауэр, не было никакой причины, почему бы и дальше все не продолжалось точно так же.
С тех пор как написал этот рассказ, я все пытался понять энтропию, но чем больше о ней читаю, тем больше плаваю. Я усвоил то, как ее определяет «Оксфордский словарь», и объяснения Айзека Азимова{17}, и даже частично математику. Но количества и качества никак не сводятся у меня в голове в единую картину. Мало утешает и то, что даже сам Гиббс предвидел такую проблему, объявляя энтропию «искусственной… неясной и трудной для понимания»{18}. Если я думаю об этой территории сегодня, то преимущественно в связи со временем – человеческим односторонним временем, от которого нам тут никуда не деться и которое, говорят, завершается смертью. Некоторые процессы – не только термодинамические, но также медицинские – необратимы. Рано или поздно мы все это осознаем, причем изнутри.
Когда писал «Энтропию», ни о чем подобном я не думал. Меня больше занимало совершение над бумагой различных надругательств, к примеру – чересчур витиеватое письмо. Избавлю всех от подробного разбора, скажу только, до чего же меня удручает обилие возникающих там усиков. Я до сих пор даже толком не уверен, что это за штука такая – усик. Скорее всего, я позаимствовал слово у Т. С. Элиота. Ничего не имею против усиков лично, но злоупотребление этим словом{19} – хороший пример того, что может случиться, когда тратишь слишком много сил и энергии на одни только слова. Другие формулировали тот же совет часто и куда убедительнее, но мой ущербный метод сводился тогда – вы не поверите – к следующему: я листал словарь, отмечая слова, звучавшие клево, модно или эффектно (читай: выставлявшие меня в лучшем виде), а потом не брал за труд уточнить, что они значат. Идиотизм? Идиотизм. Я и упоминаю это лишь потому, что другие могут заниматься тем же самым прямо сейчас, и знание о моей ошибке будет им небесполезно.
Тот же бесплатный совет применим к вопросам информации. Всем говорят писать о том, что они знают. Но многие из нас в молодости полагают, что знают всё, – или, если переформулировать полезнее, мы часто не понимаем масштаба и характера нашего невежества. Причем невежество – это не просто пустое пространство на внутренней карте человека. Оно имеет определенные очертания, связность и, может, даже правила эксплуатации. Так что совет писать, о чем знаешь, можно дополнить следствием: не исключено, что надо бы также изучить свое невежество и те возможности испортить хорошую историю, которые в нем скрыты. Оперным либретто, кино- и телефильмам прощают нестыковки в деталях. А просидев слишком долго перед телевизором, писатель может решить, что и в прозе такая небрежность простительна. Но нет. В принципе, не возбраняется выдумывать то, чего не знаешь, а выяснять лень, и я до сих пор так иногда делаю, но фальшивые данные норовят разместиться в чувствительных точках, где будут замечены, потеряв таким образом то маржинальное очарование, какое могли иметь вне контекста истории. Взять пример из «Энтропии»: стараясь достичь в образе Каллисто эффекта некой среднеевропейской пресыщенности, я употребил выражение grippe espagnole, позаимствованное из текста на конверте «Истории солдата» Стравинского. Должно быть, я думал, что это какое-нибудь духовное недомогание периода после Первой мировой. А оказалось, что значение тут абсолютно буквальное: испанский грипп – эпидемия, охватившая мир после войны.
Урок, очевидный, но нередко игнорируемый, здесь просто в том, что любую информацию необходимо перепроверять, особенно усвоенную случайно – понаслышке или с конвертов пластинок. Зря, что ли, мы дожили до эпохи, когда, по крайней мере теоретически, любой может поделиться невообразимо гигантским объемом информации, лишь тронув пару клавиш на клавиатуре. Оправданий для глупых мелких ошибок больше не существует, и, надеюсь, люди перестанут столь беззастенчиво красть данные в надежде, что никто не заметит.
Увлекательная это тема, литературная кража. Как и в уголовном кодексе, тут есть преступления разной тяжести, в диапазоне от плагиата до простой вторичности, но во всех случаях налицо ошибка метода. Если же, с другой стороны, вы полагаете, что нет ничего оригинального и все писатели «заимствуют» из «источников», все равно необходимо правильно оформить отсылки. Уже только в «Под розой» (1959) я смог себя заставить сослаться, пусть и опосредованно, на Карла Бедекера, чей путеводитель по Египту 1899 года выпуска{20} послужил основным «источником» всей истории.
Я заметил эту книжку в корнелловском «Ко-опе». Всю осень и зиму я страдал творческим кризисом. Я учился на литературном семинаре у Бакстера Хэтэуэя. Тот недавно вернулся в университет из долгого отпуска и, будучи неизвестной величиной, реально меня пугал. С начала курса я не сдал ему ни одной работы. «Да ладно тебе, – говорили мне люди, – он нормальный мужик. Чего ты волнуешься?» Шутят они, что ли? Чем дальше, тем больше я волновался. Наконец в середине семестра я достал из почтового ящика одну из этих «прикольных» открыток с изображением туалетной кабинки, обильно изукрашенной настенными росписями. «Ты уже довольно потренировался», – было написано на открытке снаружи, а внутри: «Теперь пиши!» И подпись: «Бакстер Хэтэуэй». Неужели, еще расплачиваясь на кассе за этот потертый красный томик, я уже планировал его обокрасть?
Неужели Вилли Саттон умеет вскрывать сейфы?{21} Я обокрал Бедекера подчистую – все исторические и географические подробности места, где я ни разу не бывал, вплоть до имен из дипломатического корпуса. Разве можно придумать фамилию Хевенгюллер-Меч? Но прежде, чем другие очаруются этим методом (как очаровался им я и был очарован какое-то время), должен отметить, что подобное сочинительство – путь в никуда. Проблема здесь та же, что с «Энтропией»: начать с чего-то абстрактного, будь то термин из термодинамики или факты из путеводителя, а уже потом разрабатывать сюжет и образы персонажей. То есть «через жопу накосяк», как это называется на нашем профессиональном жаргоне{22}. Лишенный основания в человеческой реальности, ваш текст останется не более чем ученическим экзерсисом – на них моя повесть неуютно и похожа.
Вдобавок мне удавалось воровать – или, скажем так, вдохновляться – и не столь грубым образом. В детстве я читал много шпионских романов, особенно Джона Бакена. Из всех его книг сейчас помнят только «Тридцать девять ступеней»{23}, но он написал еще минимум полдюжины не хуже, а то и лучше. Все они были в библиотеке нашего городка. А также романы Э. Филлипса Оппенгейма, Хелен Макиннес, Джеффри Хаусхолда и многих других. В итоге в моем некритичном мозгу сложился своеобразный теневой образ периода истории перед мировыми войнами. Политические решения и официальные документы играли там куда меньшую роль, чем слежка, шпионаж, вымышленные имена и психологические игры. Гораздо позже дошло дело до еще двух крайне влиятельных источников – «К Финляндскому вокзалу» Эдмунда Уилсона{24} и «Государь» Макиавелли, которые помогли мне сформулировать вопрос, лежащий в основе «Под розой»: чья роль в истории важнее – личности или статистики? Вдобавок я тогда читал много викторианцев, так что Первая мировая в моем воображении приобрела вид этого милого пустяка, столь привлекательного для неокрепших умов, – последней апокалиптической битвы.
Я не пытаюсь отшутиться. Наш общий кошмар – Бомба – в рассказе тоже поучаствовал. Угроза атомного уничтожения пугала и тогда, в 1959-м, а сейчас пугает еще сильнее. И ничего подсознательного – страх был и есть совершенно явный. За исключением череды преступных безумцев, что обладали властью с 1945 года, в том числе властью как-то решить эту проблему, бедные овечки в нашем лице всегда испытывали только обычный, простейший страх. Полагаю, все мы пытались совладать с эскалацией ужаса и беспомощности немногими доступными нам способами: кто просто об этом не думал, а кто и сходил с ума. Где-то между этими крайними полюсами бессилия находится и сочинение историй о нем – иногда, как в моем случае, отнесенных в более живописные места и времена.
Так что, пусть только ввиду хилых благих намерений, «Под розой» раздражает меня не так сильно, как более ранние рассказы. Персонажи вышли чуть поживее – они уже не просто лежат на столе в морге, а начинают хотя бы немного подергиваться и хлопать глазами, даже если диалог по-прежнему страдает от моего устойчивого Плохого Слуха. Благодаря неустанным усилиям образовательных программ Пи-би-эс, все мы теперь знакомы с тончайшими нюансами того английского языка, на котором разговаривают англичане{25}. В юности же мне приходилось полагаться на кино и радио, которые как источники не вполне достоверны. Отсюда и все эти «гип-гоп-аля-улю», которые для современного читателя звучат шаблонно и неубедительно. К тому же читатели могут ощутить, что им недодали, поскольку с тех пор такой мастер, как Джон Ле Карре, поднял жанровую планку на недосягаемую высоту. Сегодня мы ждем от шпионской истории куда искуснее разработанного сюжета и куда глубже прописанных персонажей, чем то, что смог изобразить я. Впрочем, «Под розой» состоит главным образом из сцен погони, до которых я всегда был крайне охоч, – с этим аспектом незрелости я не готов расстаться. Да пребудут мультфильмы о Дорожном Бегуне{26} на видеоволнах вечно, так я считаю.
Внимательные поклонники Шекспира заметят, что имя Порпентайн я позаимствовал из «Гамлета» (акт I, сцена 5). Это ранняя форма слова porcupine – дикобраз{27}. Имя Молдуорп на древнегерманском языке означает крота – животное, не лазутчика. Я подумал, можно выпендриться: пусть судьбу Европы решают на кулаках люди, названные в честь двух симпатичных пушистых тварюшек. Вдобавок, что уже не так изящно, в Молдуорпе можно уловить отзвук фамилии Уормолда – шпиона поневоле из романа Грэма Грина «Наш человек в Гаване», опубликованного как раз незадолго до того{28}.
Другой источник влияния в «Под розой», слишком свежий на тот момент, чтобы я злоупотребил им так, как злоупотреблял впоследствии, – это сюрреализм. Я тогда ходил на факультатив по современному искусству и особенно впечатлился сюрреалистами. Сновидческого процесса я почти еще не освоил и поэтому, не осознав главного смысла движения, увлекся вместо этого простой идеей сочетания разнородных элементов для достижения алогичного и ошеломительного эффекта. Но, как я понял только потом, эта процедура требует определенного умения и прилежания: произвольное нагромождение не работает. Спайк-Джонс-мл. (пластинки оркестра под управлением его отца произвели на меня в детстве неизгладимое впечатление) однажды рассказывал в интервью: «Вот чего люди не понимают насчет отцовской музыки – если заменяешь до-диез выстрелом, это должен быть выстрел в до-диезе, иначе звучит ужасно»{29}.
Дальше у меня с этим было еще хуже, судя по тому, что многие сцены в «Секретной интеграции» собраны по принципу лавки старьевщика. Но в общем и целом мне этот рассказ скорее нравится, чем не нравится, так что иногда я готов списать эффект захламления на особенности функционирования нашей памяти. Подобно «К низинам низин», это одна из немногих историй в моем багаже, непосредственно основанных на детских пейзажах и впечатлениях. Тогда я ошибочно видел в Лонг-Айленде лишь гигантскую безликую песчаную косу, лишенную истории, – оттуда можно разве что сбежать, а особой привязанности испытывать не к чему. Интересно, что в обоих рассказах я наложил на то, что казалось мне пустым пространством, более замысловатую топографию, и не одну. Может быть, мне казалось, что так я привношу немного экзотики.
Мало было мне усложнить реальную географию Лонг-Айленда – я еще взял всю окрестность, обвел чертой да перенес в Беркширы, где не бывал ни разу до сих пор. Снова тот же старый фокус, как с Бедекером. На этот раз я нашел нужные мне подробности в беркширском путеводителе, подготовленном в 1930-е годы в рамках Федеральной программы помощи писателям под эгидой Управления общественных работ{30}. Это был один из целого набора отменных томов по штатам и регионам, до сих пор, наверно, доступных в библиотеках. Крайне познавательное и приятное чтение. Некоторые эпизоды в беркширской книжке были прописаны так здорово, так подробно и с таким чувством, что даже я стыдился оттуда красть.
Уже не припомню, зачем мне понадобилась такая стратегия переноса. Проецированием собственного опыта на иное окружение я занимался еще с «Мелкого дождя». Отчасти виной тому моя тогдашняя нелюбовь к прозе, которая казалась «чересчур автобиографичной». С чего-то я возомнил, будто личные обстоятельства отражаться в прозе не должны, тогда как всем известно, что в действительности дело обстоит, можно сказать, с точностью до наоборот. Более того, свидетельства обратному были повсюду, но я предпочитал их игнорировать, хотя и тогда, и сейчас меня особенно трогала и радовала ровно та проза, и опубликованная, и неопубликованная, которая светится от достоверности, почерпнутой – всегда не без жертв – с тех глубоких, более общих уровней жизни, которыми все мы живем на самом деле. Неприятно думать, что тогда я этого не понимал даже в первом приближении. Может быть, плата была слишком высока. В любом случае я, дурилка, предпочитал вычурное маневрирование.
А может быть, дело просто в клаустрофобии. Многим тогдашним авторам хотелось как следует потянуться, выступить за знакомые пределы. Возможно, напоминала о себе замкнутость университетской среды, когда нас так манили приключения, о которых писали битники. Подмастерьям во все времена не терпится стать ремесленниками.
К тому времени, когда писал «Секретную интеграцию», я уже находился на этой стадии процесса. Я опубликовал роман и думал, что кое-что начал понимать, но также, наверно, впервые стал затыкаться и прислушиваться к окружающим меня американским голосам и даже отрывать глаза от печатных источников и приглядываться к американской невербальной реальности. И я теперь тоже был в дороге, наконец посещая те места, о которых писал Керуак. Эти городки, и голоса из грейхаундовских автобусов, и гостиницы-клоповники проникли в мою повесть, и меня вполне устраивает, как она работает.
Не то чтобы она вышла идеально, отнюдь нет. Герои-дети, например, выглядят довольно туповатыми, особенно по сравнению с детьми восьмидесятых. И я бы с легкой душой вычеркнул изрядную часть безответственного сюрреализма. Но все же некоторые сцены… даже не верится, что это написал я. Должно быть, за прошедшие пару десятилетий туда прокрались какие-нибудь эльфы-диверсанты и порезвились вволю. Впрочем, как свидетельствует синусоидальная кривая моего обучения, было бы странно и дальше ожидать позитивной эволюции в сторону большего профессионализма. Затем я написал «Выкрикивается лот 49» – повесть, опубликованную как роман, в которой я, такое ощущение, забыл почти все усвоенное раньше.
Вероятнее всего, мои чувства к «Секретной интеграции» можно объяснить простой ностальгией – тоской по тому периоду моей жизни, по тому писателю, который только вылуплялся со всеми своими дурными привычками, идиотскими теориями и редкими моментами продуктивного молчания, когда он, возможно, начинал догадываться, как это делается в действительности. Ведь больше всего в молодежи подкупает происходящая эволюция; не фотография завершенного образа, но кино, душа в метаниях. Может быть, такая привязанность к моему прошлому – лишь очередной пример того, что Фрэнк Заппа называет «сидят старые пердуны и играют рок-н-ролл»{31}. Но, как мы все знаем, рок-н-ролл никогда не умрет{32}, а воспитание, как говорил Генри Адамс, никогда не прекращается{33}.
Снаружи солнце неспешно прожаривало территорию роты. Влажный воздух был неподвижен. В солнечном свете ярко желтел песок вокруг казармы, где размещались связисты. В казарме никого не было, кроме сонного дневального, который лениво курил, прислонившись к стене, и еще одного солдата в полевой форме, который лежал на койке и читал книжку в бумажной обложке. Дневальный зевнул и сплюнул через дверь в горячий песок, а лежавший на койке солдат, которого звали Левайн, перевернул страницу и поправил подушку под головой. В оконное стекло где-то с гудением бился большой комар, где-то еще играло радио, настроенное на рок-н-ролльную станцию Лизвилля, а снаружи беспрестанно сновали джипы и с урчанием проносились грузовики. Дело было в форте Таракань, штат Луизиана, в середине июля 1957 года. Натан Левайн по прозвищу Толстозадый, специалист 3-го класса, уже 13 месяцев (а точнее, 14-й) служил в одной и той же роте одного и того же батальона и занимал одну и ту же койку. За такой срок в таком гиблом месте, как форт Таракань, обычный человек вполне мог дойти до самоубийства или, по меньшей мере, до помешательства, что, собственно, и происходило довольно часто, судя по статистике, которая более или менее тщательно скрывалась армейским начальством. Левайн, однако, не относился к числу обычных людей. Натан был одним из немногих – кроме пытавшихся закосить под Восьмой раздел{35}, – кому, в сущности, нравилась служба в форте Таракань. Он спокойно и ненавязчиво адаптировался к местным условиям: сгладился и смягчился его резковатый бронксский выговор, став по-южному протяжным; Натан убедился, что самогон, обычно неразбавленный или смешанный с тем, что удавалось нацедить из ротного автомата с газировкой, можно пить с таким же удовольствием, как и виски со льдом; в барах он теперь балдел от музыки хиллбилли так же, как раньше тащился от Лестера Янга и Джерри Маллигана в «Бёрдленде»{36}. Левайн был ростом шесть футов с гаком и широк в кости, но если прежде у него было худощаво-мускулистое телосложение – фигура пахаря, как выражались некоторые знакомые студентки, – то за три года увиливания от нарядов на работу он обрюзг и растолстел. Отрастил изрядное пивное брюшко, которым определенно гордился, и толстый зад, которым гордился значительно меньше и которому был обязан своим прозвищем.
Дневальный щелчком отправил окурок за дверь в песок.
– Глянь, кто идет, – сказал он.
– Если генерал, скажи, что я сплю, – отозвался Левайн, зевнув, и закурил сигарету.
– Нет, это Балерун, – сообщил дневальный и снова прислонился к стене, закрыв глаза.
По ступеням протопали маломерные башмаки, и голос с вирджинским акцентом произнес:
– Капуччи, погань беспрокая.
Дневальный открыл глаза.
– Отвали, – сказал он.
Ротный писарь Дуган по кличке Балерун вошел в казарму и, недовольно скривив губы, приблизился к Левайну.
– Кому ты дашь эту порнушную книжку, когда закончишь, Левайн? – спросил он.
Левайн стряхнул пепел в подшлемник, который использовал в качестве пепельницы.
– В сортире на гвоздь повешу, наверно, – улыбнулся он.
Губы у писаря скривились еще больше.
– Тебя лейтенант зовет, – сказал Дуган, – так что давай поднимай свой жирный зад и чеши в дежурку.
Левайн перевернул страницу и продолжил читать.
– Эй, – сказал писарь.
Дуган служил по призыву. Он вылетел со второго курса Вирджинского университета и, как многие писари, имел склонность к садизму. Этим достоинства Дугана не исчерпывались. Он, например, нисколько не сомневался, что НАСПЦН{37} – коммунистическая организация, целью которой является стопроцентная интеграция белой и черной рас путем смешанных браков, или что вирджинский джентльмен – это наконец явленный миру Übermensch[3], которому только гнусные интриги нью-йоркских евреев мешают осуществить свое высокое предназначение. Главным образом из-за последнего пункта Левайн и не ладил с Дуганом.
– Меня вызывает лейтенант, – сказал Левайн. – Надо думать, ты уже выписал мне увольнительную. Черт, – он глянул на часы, – а еще только начало двенадцатого. Молодчина, Дуган. На пять с половиной часов раньше. – И Левайн восхищенно покачал головой.
Дуган ухмыльнулся:
– Вряд ли это насчет увольнения. Боюсь, оно тебе пока не светит.
Левайн отложил книгу и погасил окурок в подшлемнике. Затем посмотрел в потолок.
– Господи, – пробормотал он, – что я еще натворил? Неужто опять губа светит? За что?
– Всего-то через пару недель после прошлого раза, точно? – ввернул писарь.
Левайн знал эти уловки. Он думал, что Дуган давно уже понял: Левайн на дешевые подколы не ведется. Но похоже, такие типы неисправимы.
– Я к тому, что хватит валяться на койке, – сказал Дуган.
«Валяться» он произнес как «ва-аляца». Левайн с раздражением подобрал отложенную книгу и снова принялся читать.
– Ладно, – сказал он, отдавая честь. – Иди назад, бледнолицый.
Дуган смерил его взглядом и наконец ушел. Вероятно, по дороге к двери он споткнулся о винтовку дневального, поскольку раздался грохот и голос Капуччи произнес: «Господи, ну что за хмырь неуклюжий». Левайн закрыл книгу, сложил ее пополам и, перевернувшись на живот, засунул в задний карман. С минуту он лежал на животе, наблюдая за тараканом, петлявшим по невидимому лабиринту на полу. Зевнув, Левайн тяжело поднялся с койки, вытряхнул окурки из подшлемника на пол и криво нахлобучил подшлемник на голову. У выхода обнял дневального.
– Что стряслось? – поинтересовался Капуччи.
Левайн прищурился, глядя на яркое марево снаружи.
– Ох уж эти парни в Пентагоне, – сказал он. – Никак не хотят оставить меня в покое.
Он поплелся по песку к зданию, где была дежурная комната, даже через подшлемник чувствуя, как печет солнце. Вокруг здания была узкая полоска травы – единственная зелень на всей территории роты. Чуть дальше слева в столовую уже выстраивалась очередь. Левайн свернул на гравийную дорожку, утыкавшуюся в дверь дежурной комнаты. Он подозревал, что Дуган где-то рядом или, по крайней мере, наблюдает за ним из окна, но, когда он вошел, писарь сидел за своим столом у стены и что-то сосредоточенно печатал на машинке. Левайн облокотился о стойку перед столом первого сержанта.
– Привет, сержант, – поздоровался Левайн.
Сержант поднял глаза.
– Где тебя черти носят? – спросил он. – Опять читал порнуху?
– Точно, сержант, – ответил Левайн. – Учебник для сержантов.
Сержант бросил на него сердитый взгляд:
– Лейтенант хочет тебя видеть.
– Знаю, – сказал Левайн. – Где он?
– В комнате отдыха, – ответил сержант. – Остальные уже там.
– Что за буза, сержант? Что-то из ряда вон?
– Иди и все сам узнаешь, – проворчал сержант. – Черт возьми, Левайн, мог бы уже запомнить, что мне никто ничего не рассказывает.
Левайн вышел из дежурки и направился в комнату отдыха, расположенную с другой стороны здания. Через хлипкую дверь он услышал голос лейтенанта. Левайн толкнул дверь. Лейтенант инструктировал десяток рядовых и спецов из роты Браво{38}, сидевших и стоявших вокруг стола, на котором лежала карта, вся в круглых пятнах от кофейных чашек.
– Дигранди и Зигель, – говорил лейтенант, – Риццо и Бакстер… – Он поднял взгляд и увидел Левайна. – Левайн, поедешь с Пикником. – Он небрежно свернул карту и положил ее в задний карман. – Все ясно? – (Все кивнули.) – Ладно, готовность к часу. Вывести машины из гаража, и вперед. Я жду вас у Лейк-Чарльз.
Лейтенант надел фуражку и вышел, хлопнув дверью.
– Время пить колу, – сказал Риццо. – У кого есть курево?
Левайн уселся на стол и спросил:
– Что стряслось?
– О господи, – сказал Бакстер, светловолосый деревенский паренек из Пенсильвании. – Добро пожаловать в нашу компанию, Левайн. Да все из-за этих чертовых каджунов{39}. Понаставили кругом табличек «Выгул собак и солдат запрещен» и прочее в том же духе. А чуть возникнет какая заварушка, кого они слезно молят о помощи?
– Сто тридцать первый батальон связи, – сказал Риццо, – кого же еще?
– А куда это мы едем в час? – поинтересовался Левайн.
Пикник поднялся с места и направился к автомату с колой.
– Куда-то к Лейк-Чарльз, – ответил он. – Там была гроза или что-то в этом роде. Линии связи оборваны. – Он сунул пятак в автомат, но, как обычно, ничего не произошло. – Рота Браво спешит на помощь. Давай, детка, – вкрадчиво-ласковым голосом сказал он автомату и злобно пнул его ногой. Безрезультатно.
– Смотри не опрокинь, – сказал Бакстер.
Пикник стукнул автомат кулаком в строго определенные места. Что-то щелкнуло, и из краников полились две струйки – одна газировки, другая сиропа. Прежде чем они иссякли, изнутри, перевернувшись, выскочил пустой стаканчик, и сироп облил его снаружи.
– Хитер, чертяка, – сказал Пикник.
– Шизанутый, – сказал Риццо. – Одурел от жары.
Так они говорили еще какое-то время, рассуждая о том о сем, проклиная каджунов и армию, попивая кока-колу и куря сигареты. Наконец Левайн встал и, засунув руки в карманы, чтобы эффектнее выпятить живот, сказал:
– Ну, я, пожалуй, пойду собираться.
– Погоди, – сказал Пикник, – я с тобой.
Они вышли наружу. Пройдя по гравийной дорожке, ступили на песок и побрели к казарме, обливаясь пóтом в неподвижном воздухе под лучами палящего желтого солнца.
– Ни минуты покоя, Бенни, – пожаловался Левайн.
– Господи Исусе, – сказал Пикник.
Они вошли в казарму, волоча ноги, словно кандальники, и когда Капуччи спросил, что случилось, ему в ответ взметнулись два оттопыренных средних пальца – синхронно и слаженно, как в отработанном водевильном номере.
Левайн достал вещмешок и побросал туда полевую форму, белье и носки. Потом засунул бритвенный прибор, а в последний момент заткнул сбоку старую бейсбольную кепку синего цвета. Некоторое время он стоял над вещмешком, морща лоб. Затем сказал:
– Эй, Пикник.
– Чего? – отозвался Пикник с другого конца казармы.
– Я не могу ехать. У меня увольнение с шестнадцати тридцати.
– Тогда зачем ты собираешь вещи? – спросил Пикник.
– Думаю пойти поговорить с Пирсом.
– Он, наверное, обедает.
– Нам все равно надо пожрать. Пошли.
Они снова вышли под палящее солнце и побрели по раскаленному песку к столовой. Войдя через заднюю дверь, они увидели лейтенанта Пирса, в одиночестве сидевшего за столом возле раздачи. Левайн подошел к нему.
– Я тут вспомнил… – начал Левайн.
Лейтенант поднял глаза.
– Проблемы с машинами? – спросил он.
Левайн почесал живот и сдвинул пилотку на затылок.
– Не совсем, – сказал он, – просто у меня увольнение с шестнадцати тридцати, и я подумал, что…
Пирс выронил вилку. Она с громким звоном упала на поднос.
– Что ж, – сказал лейтенант, – увольнение подождет, Левайн.
Левайн улыбнулся широкой идиотской ухмылкой, которая, как он знал, раздражала лейтенанта, и сказал:
– Черт, с каких это пор я стал незаменимым человеком в роте?
Пирс раздраженно вздохнул:
– Слушай, тебе прекрасно известна ситуация в роте. Сейчас велено привлечь специалистов, классных специалистов. К сожалению, таких у нас нет. Только разгильдяи вроде тебя. Так что придется и тебе заняться делом.
Пирс был выпускником МТИ{40} и прошел обучение в Службе подготовки офицеров резерва. Он только что получил первого лейтенанта и изо всех сил старался не давить на других своей властью. Слова он произносил отчетливо, с суховатым выговором жителя Бикон-Хилла{41}.
– Лейтенант, – сказал Левайн, – вы тоже когда-то были молоды. Я уже договорился с девчонкой в Новом Орлеане, она будет меня ждать. Дайте юности шанс. В роте полно специалистов получше меня.
Лейтенант мрачно улыбнулся. Каждый раз в подобных ситуациях между ним и Левайном проявлялась скрытая взаимная приязнь. На первый взгляд они друг друга в грош не ставили, однако каждый смутно ощущал, что они ближе друг другу, чем сами могли себе признаться, что их связывают своего рода братские узы. Когда Пирс только прибыл в Таракань и узнал историю Левайна, он пытался поговорить с ним по душам. «Ты губишь свою жизнь, Левайн, – говорил он. – Ты же закончил колледж, и у тебя самый высокий ай-кью{42} в этом долбаном батальоне. А ты что делаешь? Торчишь в самой захудалой дыре в вооруженных силах и отращиваешь зад. Почему бы тебе не поступить в офицерскую школу? Ты мог бы даже попасть в Пойнт{43}, если бы захотел. Чего ради ты вообще пошел в армию?» На что Левайн отвечал с легкой ухмылкой, в которой не было ни тени смущения или насмешки: «Ну, я вроде как решил остаться рядовым – такую, в общем, сделать карьеру». Сперва лейтенанта возмущали подобные заявления и он начинал в запале нести околесицу. Потом он просто разворачивался и уходил, не говоря ни слова. В конце концов он вообще перестал разговаривать с Левайном.
– Ты в армии, Левайн, – продолжил лейтенант. – Увольнение – не право, а поощрение.
Левайн засунул руки в задние карманы.
– А, – сказал он. – Ну ладно.
Левайн повернулся и, не вынимая рук из карманов, побрел к раздаче. Взял поднос, ложку с вилкой и получил свою порцию. Опять рагу. По четвергам, похоже, всегда было рагу. Он подошел к столу, за которым сидел Пикник, и сказал:
– Ты не поверишь.
– Я так и думал, – ответил Пикник.
Они поели, вышли из столовой и около мили молча тащились по песку и бетону, еле волоча ноги; солнце плавило им мозги через подшлемники, волосы и черепные кости. Без четверти час они были у гаража; остальные связисты собрались возле шести машин с радиостанциями. Левайн и Пикник забрались в кабину одного из фургонов, Пикник сел за руль, и они поехали вслед за остальными в расположение роты. Остановившись у казармы, забрали свои вещмешки и забросили их в машину.
Автоколонна двигалась в юго-западном направлении, мимо болот и полей. Подъезжая к городку Де-Риддер, солдаты увидели тучи, собиравшиеся на юге.
– Будет дождь? – спросил Пикник. – Боже праведный.
Левайн надел темные очки и принялся читать свою книжонку, которая называлась «Болотная девка».
– Чем больше думаю, – лениво произнес он, – тем больше хочется набить этому лейтенантишке морду.
– Понимаю, – согласился Пикник.
– Точно, – сказал Левайн, положив книжку на живот. – Иногда мне хочется обратно в Город. А это хреново.
– Почему хреново? – спросил Пикник. – Да я бы хоть сейчас вернулся в Академию, всё лучше, чем копаться в этом дерьме.
– Нет, – нахмурился Левайн. – Назад пути нет. Помню, я однажды попробовал вернуться, ради одной девицы. И тоже вышло хреново.
– Да, – кивнул Пикник, – ты рассказывал. Лучше бы вернулся. Жаль, что я не могу. Вернуться хотя бы в казарму и завалиться спать.
– Спать можно где угодно, – сказал Левайн. – Я могу.
У самого Де-Риддера они повернули на юг. Впереди угрожающе сгущались темные тучи. По обеим сторонам дороги тянулись унылые мшистые болота, источающие зловоние, которые затем сменились неприглядными полями.
– Будешь читать эту книжку после меня? – спросил Левайн. – Довольно интересно. Как раз про болота и про девку, которая там живет.
– Правда? – сказал Пикник, мрачно глядя на едущий впереди фургон. – Хотелось бы мне найти девчонку в этих местах. Построил бы хижину посреди болот, где бы меня никакой Дядя Сэм не нашел.
– Еще бы не хотелось, – сказал Левайн.
– Да тебе самому того же хочется.
– Боюсь, мне это быстро надоест.
– Что тебе неймется, Натан? – спросил Пикник. – Найди себе хорошую девчонку и поезжай с ней на север.
– Армия – моя единственная любовь, – сказал Левайн.
– Все вы, тридцатилетние, одинаковы. По-твоему, Пирс все еще верит в эту дребедень насчет сверхсрочной?
– Не знаю. Я сам не верю. С какой стати должен верить он? Но я, по крайней мере, прямо говорю об этом. Подожду пока и посмотрю, как все обернется.
Так они ехали часа два, оставляя по дороге фургоны, чтобы установить радиорелейную связь с фортом, и к Лейк-Чарльз прибыли только две машины. Ехавшие в первом фургоне Риццо и Бакстер посигналили, чтобы Левайн и Пикник остановились. Небо уже сплошь затянуло тучами и подул ветерок, который холодил тела под отсыревшей формой.
– Давайте поищем бар, – предложил Риццо. – И подождем, когда приедет лейтенант.
Риццо был штаб-сержантом и считался самым большим интеллектуалом в роте. Он читал такие труды, как «Бытие и ничто» и «Форма и ценность современной поэзии»{44}, презрительно отвергая вестерны, эротические романы и детективы, которые ему то и дело предлагали сослуживцы. Он, Пикник и Левайн часто собирались по вечерам поболтать в ротной лавке или кофейне, хотя обычно говорил в основном Риццо. Они въехали в городок и вскоре обнаружили тихий бар возле старшей школы. В баре было пусто, если не считать пары школьников у стойки. Друзья заняли столик в глубине. Риццо сразу пошел в туалет, а Бакстер направился к выходу.
– Сейчас вернусь, – сказал он. – Только куплю газету.
Левайн пил пиво, погрузившись в мрачные раздумья, по привычке поджимая губы на манер Марлона Брандо и почесывая под мышкой. В зависимости от настроения он еще время от времени посапывал по-обезьяньи.
– Пикник, проснись, – сказал Левайн, очнувшись от раздумий. – Генерал идет.
– Ну его в задницу, – сказал Пикник.
– Ты явно не в духе, – сказал подошедший Риццо. – Бери пример с меня или с Толстозадого. Нам всё нипочем.
В этот момент в бар влетел возбужденный Бакстер с газетой в руках.
– Эй, парни, – воскликнул он, – мы попали на первые полосы!
Он разложил на столе местную газету, и они увидели набранный крупным шрифтом заголовок: «УРАГАН: 250 ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ».
– Ураган? – удивился Пикник. – Какой, к черту, ураган?
– Может, моряки не могут поднять самолет, – сказал Риццо, – а нас направили сюда искать глаз бури.
– Интересно, что там все-таки происходит, – задумчиво произнес Бакстер. – Черт, должно быть, дело дрянь, раз все линии связи оборваны.
Ураган, как выяснилось из газеты, полностью смел с лица земли поселок Креол, расположенный на острове или, вернее, на возвышенном участке посреди заболоченной дельты реки, милях в двадцати от Лейк-Чарльз{45}. Большой беды вполне можно было избежать, если бы не ошибка метеорологов. В среду днем, когда местные жители начали эвакуироваться, Бюро погоды объявило, что ураган придет не раньше вечера в четверг. Оно убеждало людей не торопиться и не создавать заторов на дорогах. Времени якобы имелось предостаточно. Ураган налетел в среду ночью, где-то между полуночью и тремя часами утра, и основной удар пришелся на Креол. Сюда стягивались силы Национальной гвардии, говорилось в газете, а также спасатели из Красного Креста, подразделения армии и флота. Предпринимались попытки направить самолеты с базы ВВС в Билокси, но погодные условия были очень плохими. Одна из крупных нефтяных компаний выделила два буксирных судна для спасения пострадавших. Креол, по всей видимости, вот-вот должны объявить зоной бедствия. И так далее. Они заказали еще пива и поговорили об урагане, и все согласились, что ближайшие несколько дней, скорее всего, придется вкалывать, и принялись на чем свет стоит проклинать армию США.
– Подавайтесь на сверхсрочную, – сказал Риццо, – пока еще можете. А мне осталось триста восемьдесят два треклятых дня. Ни черта я не успею.
Левайн улыбнулся.
– Ерунда, – сказал он, – просто тебя все это достало.
Когда они вышли из бара, на улице поливал дождь и становилось прохладней. Они сели в машины и выехали по слякоти из городка к пункту сбора, назначенному лейтенантом Пирсом. Его самого там еще не было. Припарковав машину, Левайн и Пикник остались сидеть в кабине, слушая, как дождь барабанит по крыше. Левайн достал из кармана «Болотную девку» и погрузился в чтение.
Чуть погодя подошел Риццо и постучал в стекло.
– Генерал едет, – сказал он, показывая на дорогу.
Сквозь пелену дождя они увидели приближающийся джип, за рулем которого смутно угадывалась фигура в хаки. Джип остановился у грузовика Риццо, водитель вылез из машины и вразвалку подбежал к ним. Лицо у водителя было небритым, глаза красными, а форма – потрепанной и грязной, и, когда он заговорил, голос у него слегка дрожал.
– Вы из Национальной гвардии? – спросил он надрывно-громким голосом.
– Ха, – возмутился Риццо. – Нет. Но, ей-богу, мы ничем не хуже.
– Да уж. – Прибывший повернулся, и Левайн с ужасом осознал, что у того на плечах по две серебряные нашивки. – Там такая кутерьма, – пробормотал офицер, покачав головой, и пошел к своему джипу.
– Извините, сэр, – крикнул ему вдогонку Левайн. И тихо добавил: – Бог ты мой, Риццо, ты видел?
Риццо рассмеялся.
– Война – это ад{46}, – жестко сказал он.
Они просидели в кабине еще с полчаса, прежде чем наконец появился лейтенант. Они рассказали ему о капитане, который искал Национальную гвардию, и показали статью об урагане.
– Ладно, пора двигаться, – сказал Пирс. – Там уже все с ума сходят без связи.
Как выяснилось, армейские подразделения обосновались на территории кампуса Макнизского колледжа на окраине городка. Уже стемнело, когда два фургона, проехав по тихим улочкам кампуса, остановились на огромном, поросшем травой пустыре.
– Эй, – крикнул Пикник Бакстеру, – давайте, кто быстрее.
Они бросились разворачивать 40-футовые антенны, и Бакстер с Риццо закончили первыми.
– Ну и черт с вами, – сказал Левайн, – угостим вас пивом, когда покончим с этой фигней.
Пикник занялся ТСС-3, а Левайн принялся налаживать РЛС-10{47}. К полуночи связь была установлена.
К ним в фургон заглянул Бакстер.
– С вас пиво, ребята, – сказал он.
– Здесь поблизости есть хоть один бар? – спросил Левайн.
– У нас только ты и Риццо в колледжах учились, – сказал Бакстер. – Так что вы должны быть здесь как дома.
– Да, Натан, – тихо поддакнул Пикник, оторвавшись от ТСС-3. – Тебе, как бывшему студенту, и карты в руки.
– Тоже мне вечер встречи выпускников, – сказал Левайн. – Может, лучше набить тебе морду?
– Может, лучше угостишь нас пивом? – предложил Бакстер.
В нескольких кварталах от стоянки они нашли небольшой студенческий бар. Сейчас в Макнизском колледже занятия продолжались только на летних курсах, и в баре было лишь несколько парочек, танцевавших под ритм-энд-блюз. Над стойкой висела полка, уставленная кружками, на которых были написаны имена завсегдатаев. Обычный студенческий бар.
– Ничего, – бодро сказал Бакстер, – пиво оно и в Африке пиво.
– Давайте петь студенческие застольные песни, – предложил Риццо.
Левайн посмотрел на него.
– Ты серьезно? – спросил он.
– Лично я, – сказал Бакстер, – терпеть не могу всей этой университетской чепухи. По мне, главное – жизненный опыт.
– Деревня, – сказал Риццо, – гордись, что сидишь в обществе трех лучших интеллектуалов армии.
– Я не в счет, – сказал Левайн. – Я карьерист, и точка.
– Вот и я о том же, Натан, – сказал Бакстер. – У тебя диплом колледжа, а добился ты того же, что и я, хотя я и в школе недоучился.
– Беда Левайна в том, – сказал Риццо, – что он хотя бы самый ленивый раздолбай в армии. Делать ничего не хочет и боится пустить корни. Он как зерно, упавшее на каменистое место, где земля неглубока.
– И когда восходит солнце, – улыбнулся Левайн, – я увядаю и засыхаю{48}. Как ты думаешь, какого черта я столько времени сижу в казарме?
– Риццо прав, – сказал Бакстер, – в этом смысле форт Таракань в Луизиане – самое каменистое место.
– И солнце там жарит будь здоров, это точно, – сказал Пикник.
Они сидели, пили пиво и трепались до трех часов утра. Уже в фургоне Пикник сказал:
– Господи, этот Риццо говорит как заведенный.
Левайн сложил руки на животе и зевнул.
– Кто-то ведь должен говорить, верно?
На рассвете Левайн проснулся от громкого рева и оглушительного грохота, раздававшегося в самом центре пустыря.
– Арррр, – зарычал Левайн, зажав уши. – Что за чертовщина?
Дождь перестал, и Пикник уже вылез из машины.
– Ты только посмотри, – сказал Пикник.
Левайн высунул голову из кабины и огляделся. В сотне ярдов от их машины один за другим, словно гигантские стрекозы, взлетали армейские вертолеты, видимо отправляясь обследовать то, что осталось от поселка Креол.
– Вот тебе на, – сказал Пикник. – Выходит, ночью они уже были здесь.
Левайн закрыл глаза и откинулся на сиденье.
– Ночи здесь темные, – сказал он, наладившись спать.
Проснулся около полудня, голодный и с пульсирующей болью в голове.
– Пикник, – рявкнул он, – где здесь дают пожрать?
Пикник продолжал храпеть.
– Эй, приятель! – Левайн схватил его за волосы и несколько раз тряхнул.
– Чего тебе? – спросил Пикник.
– Слушай, здесь есть полевые кухни или вообще какая-нибудь еда? – поинтересовался Левайн.
Риццо вылез из своего фургона и подошел к ним.
– Ну вы и лодыри, – сказал он. – Мы уже с десяти часов на ногах.
Чуть дальше на площадке приземлялись вертолеты с пострадавшими и, выгрузив их, взлетали вновь. Рядом стояли санитарные машины, суетились врачи и санитары. Вокруг было полно фургонов, джипов, грузовиков, солдат в полевой форме, и лишь изредка в этой толпе мелькали младшие офицеры в хаки и армейские чины со звездами.
– Боже мой, – сказал Левайн, – что за дурдом.
– Тут полно газетчиков, фотографы из «Лайфа», и кинохронику, наверно, снимают, – сказал Риццо. – Теперь это зона бедствия. Официально.
– Ничего себе, – сказал Пикник, прищурившись. – Гляньте, какие девушки.
Несмотря на летние каникулы, здесь было много студенток – и несколько довольно симпатичных, – бродивших в толпе защитного цвета. Бакстер повеселел.
– Я был прав, – сказал он. – Если достаточно долго торчать в Таракани, наверняка подвернется что-нибудь стоящее.
– Тут прямо как на Бурбон-стрит в день получки{49}, – сказал Риццо.
– Не трави душу, – сказал Левайн и чуть погодя добавил: – Какой здесь, к черту, Новый Орлеан.
Ярдах в двадцати он заметил фургон с надписью на борту «131-й батальон связи». Машина была основательно помята, одно крыло отсутствовало.
– Эй, Дуглас! – крикнул Левайн.
Сидевший у переднего колеса фургона долговязый рыжий РПК{50} поднял голову.
– Ну ничего себе, – отозвался он. – Где же это вы, парни, так застряли?
Левайн подошел к нему.
– Когда вас сюда перебросили? – спросил Левайн.
– Ха, – сказал Дуглас, – меня и Стила отправили прошлой ночью, сразу как началось. Чертов ветер сдул нас с дороги.
Левайн посмотрел на машину.
– Как там вообще? – спросил он.
– Хуже некуда, – ответил Дуглас. – Единственный мост снесло. Саперы наводят понтонную переправу. От поселка ни хрена не осталось. Все залило водой, река поднялась футов на восемь. Там только здание суда стоит, оно из бетона. И жмуриков немерено. Их на буксирах вывозят и складывают, как поленья. Вонь несусветная.
– Ладно, весельчак, – сказал Левайн. – Я еще не завтракал.
– Придется тебе, старик, пока что питаться бутербродами и кофе, – сказал Дуглас. – Тут кругом бегают девчонки и всем дают. В смысле, бутерброды и кофе. А больше нам тут ничего и не светит.
– Не бойся, – сказал Левайн, – еще засветит. Всем нам. Надо же как-то отыграться за пропавшее увольнение.
Левайн вернулся к своему грузовику. Пикник и Риццо сидели на капоте и жевали бутерброды, запивая их кофе.
– Где вы это раздобыли? – спросил Левайн.
– Одна девчонка принесла, – сказал Риццо.
– Надо же, – сказал Левайн, – первый раз этот чокнутый придурок не соврал.
– Посиди здесь, – сказал Риццо, – может, другая придет.
– Не уверен, – сказал Левайн. – Похоже, я могу подохнуть от голода. Как видно, удача сбежала от меня. – Он кивнул в сторону группки студенток и, словно ощутив некую доселе дремавшую эмпатию, сказал Риццо: – Уже столько времени прошло.
Риццо глухо рассмеялся.
– Тебе что, на гражданку захотелось? – спросил он.
– Не в этом дело. – Левайн покачал головой. – Это что-то вроде замкнутой цепи. Все настроены на одну частоту. Через какое-то время вообще забываешь об остальных излучениях спектра и начинаешь верить, что существует только эта частота и только она имеет смысл. Но на самом деле повсюду можно обнаружить другие прекрасные цвета, а также рентгеновское и ультрафиолетовое излучение.
– Тебе не кажется, что Таракань тоже в замкнутой цепи? – спросил Риццо. – На Макнизе свет клином не сошелся, но и Таракань еще не весь спектр.
Левайн покачал головой.
– Все вы, срочники, одинаковые, – сказал он.
– Знаю я эти песни. Только с армией нам по пути. По пути куда?
К ним подошла блондиночка с корзинкой, полной бутербродов и бумажных стаканов с кофе.
– Как раз вовремя, лапочка, – сказал Левайн. – Ты в некотором роде спасла меня от голодной смерти.
Она улыбнулась ему:
– На вид ты не так уж плох.
Левайн взял несколько бутербродов и стакан кофе.
– Ты тоже, – сказал он, плотоядно осклабившись. – Сенбернары нынче выглядят гораздо милее, чем раньше.
– Весьма сомнительный комплимент, – сказала девушка, – но по крайней мере не такой пошлый, как другие.
– Скажи, как тебя зовут, на тот случай, если я снова проголодаюсь, – попросил Левайн.
– Меня зовут Крошка Лютик, – ответила она, засмеявшись.
– Прямо водевиль{51}, – сказал Левайн. – Тебе надо бы пообщаться с Риццо. Он у нас ученый малый. Можете сыграть в «Угадай цитату».
– Не обращай внимания, – сказал Риццо. – Он только что от сохи.
Студентка оживилась.
– Тебе нравится пахать? – спросила она.
– Потом расскажу, – сказал Левайн, прихлебывая кофе.
– Потом так потом, – сказала она. – Увидимся.
Риццо, криво ухмыляясь, запел фальшивым тенором песню про студенточку Бетти.
– Заткнись, – сказал Левайн. – Это не смешно.
– Еле сопротивляешься, а?{52} – сказал Риццо.
– Кто, я? – сказал Левайн.
– Эй, – крикнул Дуглас, – я еду к причалу. Кто-нибудь хочет со мной?
– Я останусь у станции, – сказал Пикник.
– Поезжай, – сказал Бакстер. – Я лучше обожду тут, где больше девчонок.
Риццо усмехнулся.
– А я присмотрю за пацаном, – сказал он, – а то он, не дай бог, лишится девственности. – (Бакстер посмотрел на него исподлобья.) – Дырка следующая, она же первая.
Левайн уселся рядом с Дугласом в батальонный джип. Проехав через кампус, они помчались по дороге с щебеночным покрытием, которая по мере приближения к Заливу становилась все хуже. Почти ничего вокруг не указывало на то, что здесь пронесся ураган: лишь несколько поваленных деревьев и дорожных знаков да разбросанные по обочинам доски и черепица. Дуглас всю дорогу комментировал происшедшее, в основном цитируя чужую статистику, а Левайн рассеянно кивал. У него вдруг мелькнуло смутное подозрение, что, может быть, на самом деле Риццо не просто Вечный студент и что иногда маленькому сержанту удавалось уловить отблеск истины. Левайн ощутил некое смутное беспокойство, возможно, предчувствие радикальной перемены после трех лет среди песков и бетона под палящим солнцем. Может, причиной тому была атмосфера кампуса, первого, где он оказался, с тех пор как закончил Городской колледж в Нью-Йорке{53}. А может, просто подошло время внести разнообразие в монотонность, которую он только сейчас начинал ощущать. Уйти бы в самоволку по возвращении в Таракань или в пьяный загул дня на три.
На пристани было такое же столпотворение, как и на стоянке, но больше порядка и меньше суматохи. Буксиры нефтяной компании подвозили партию трупов, солдаты их разгружали, санитары опрыскивали бальзамирующей жидкостью, чтобы приостановить разложение, другие солдаты грузили трупы на грузовики, и грузовики отъезжали.
– Их хранят в школьном спортзале, – сообщил Дуглас Левайну, – и со всех сторон обкладывают льдом. Куча времени уходит на опознание. То ли оттого, что лица в воде раздуваются, то ли еще из-за чего.
В воздухе стоял запах тления, похожий, как показалось Левайну, на запах вермута, если его пить всю ночь. Солдаты работали несуетливо и споро, как рабочие на конвейере. Время от времени кто-нибудь из грузчиков отворачивался в сторону и его рвало, но работа не прекращалась ни на секунду. Левайн и Дуглас, сидя в джипе, наблюдали за происходящим, а небо становилось все темнее, утрачивая свет невидимого за тучами солнца. К джипу подошел пожилой старший сержант, и они какое-то время поговорили.
– Я был в Корее, – сказал сержант, увидев, как один из трупов развалился на части при перегрузке, – и могу понять, когда люди стреляют друг в друга, но это… – Он покачал головой. – Господи.
Вокруг ходили офицеры, но никто не обращал внимания на Левайна и Дугласа. Действия выполнялись механически и эффективно, но присутствовало в этом процессе и некое неформальное начало: почти все были без головных уборов, майор или полковник мог запросто остановиться и перекинуться парой слов с санитаром.
– Как в бою, – сказал сержант. – Никаких формальностей. Да и кому они, к черту, нужны.
Левайн и Дуглас пробыли у причала до половины шестого и поехали обратно.
– Здесь где-нибудь есть душ? – спросил Левайн. – Или нет?
Дуглас ухмыльнулся.
– Один мой кореш вчера мылся в женском клубе, – сказал он. – В общем, где найдешь, там и помоешься.
Когда они вернулись к грузовикам, Левайн заглянул к Пикнику.
– Иди прогуляйся, – сказал Левайн. – Если где-нибудь найдешь душ, сообщи мне.
– Черт, а ты прав, – сказал Пикник. – Как-никак июль месяц.
Левайн занял его место у РЛС-10 и какое-то время слушал эфир; там ничего особенного не происходило. Через полчаса Пикник вернулся.
– Можно не горбатиться, – сообщил он. – Риццо самолично слушает эфир. Хочет остаться в армии. Так что валяй в душ. Пройдешь примерно квартал, и за церковью будет общага. Ты ее сразу увидишь, там у входа полно народу.
– Спасибо, – сказал Левайн. – Я скоро. Потом сходим выпить пива.
Он достал из вещмешка смену белья и чистую форму, взял бритвенный прибор и вышел в теплую плотную мглу. Вертолеты по-прежнему приземлялись и взлетали, сверкая носовыми и хвостовыми огнями, похожие на космические аппараты в фантастическом фильме. Левайн нашел общежитие, отыскал там душ, помылся, побрился и переоделся. Вернувшись, он застал Пикника за чтением «Болотной девки». Они отправились прогуляться и нашли еще один бар, более шумный, где по случаю пятницы толпился народ. Там они заметили Бакстера, который пудрил мозги какой-то девушке, чей парень был уже слишком пьян, чтобы полезть в драку.
– Бог ты мой, – сказал Левайн.
Пикник посмотрел на него.
– Не хочу нудеть, как Риццо, – сказал он, – но все-таки что с тобой, Натан? Где тот прежний сержант Билко{54}, которого мы знали и любили? Неужели тебя допекла тоска по прошлому? Или накрыл очередной интеллектуальный кризис?
Левайн пожал плечами.
– Да нет, пожалуй, все дело в моем животе, – ответил он. – Я столько времени холил и лелеял свое пузо, а теперь насмотрелся на трупы, и меня с души воротит.
– Должно быть, паршиво? – предположил Пикник.
– Да, – согласился Левайн. – Давай поговорим о чем-нибудь другом.
Они сели за столик и принялись глазеть на студентов, стараясь воспринимать их как нечто необычное и чуждое. Блондинка, которая утром назвала себя Крошкой Лютик, подошла к ним и сказала:
– Угадай цитату.
– Я знаю игру получше, – сказал Левайн.
– Ха-ха, – хохотнула блондинка и подсела к ним. – Мой парень заболел, – объяснила она, – и пошел домой.
– Кабы не милость Божия…{55} – пробормотал Пикник.
– Уработались? – спросила Крошка Лютик, лучезарно улыбаясь.
Левайн откинулся на спинку стула и беззаботно положил руку ей на плечо.
– Я работаю, только когда игра стоит свеч, – сказал Левайн, глядя на нее, и какое-то время они пытались пересмотреть друг друга, и наконец он, торжествующе улыбнувшись, добавил: – Или когда до чего-то рукой подать.
Девушка вздернула брови.
– Наверное, ты и тогда не особенно надрываешься, – сказала она.
– Ты свободна завтра вечером? – спросил Левайн. – Тогда и выясним.
Какой-то юнец в вельветовом пиджаке, пошатываясь, подошел к ним и обвил рукой шею девушки, опрокинув по дороге пиво Пикника.
– Боже мой, – воскликнула девушка. – Ты вернулся?
Пикник печально посмотрел на свою промокшую форму.
– Отличный повод для драки, – сказал он. – Начнем, Натан?
Бакстер все слышал.
– Давай, – сказал он. – Бей первым, Бенни.
Он замахнулся, ни в кого конкретно не целясь, и случайно задел Пикника по голове, так что тот слетел со стула.
– Боже мой, – сказал Левайн, глядя вниз. – Как ты там, Бенни?
Пикник молчал.
Левайн пожал плечами.
– Пошли, Бакстер, отнесем его. Извини, Лютик.
Они подхватили Пикника и потащили к грузовику.
На следующее утро Левайн проснулся в семь. Побродил по кампусу в поисках кофе и после завтрака принял одно из тех спонтанных решений, о которых потом бывает смешно даже подумать.
– Эй, Риццо, – сказал он, тряся спящего сержанта. – Если меня кто будет искать, генерал или министр обороны, скажи, что я занят. Ладно?
Риццо что-то пробормотал в ответ, скорее всего какую-нибудь похабщину, и снова уснул.
На попутном джипе Левайн доехал до пристани и некоторое время слонялся там, наблюдая, как солдаты сгружают трупы. Когда один из буксиров был почти полностью разгружен, Левайн неспешно прошел к причалу и перебрался на судно. Никто, похоже, не обратил на него внимания. На борту было человек пять солдат и столько же гражданских спасателей, которые молча курили, глядя на мутный поток внизу. Миновав понтонный мост, который саперы уже почти закончили, буксир медленно поплыл дальше, расталкивая плавающие на поверхности обломки и лавируя между поваленными деревьями. Вскоре их суденышко добралось до места, где был Креол, пропыхтело мимо торчащих из воды верхних этажей здания суда и направилось в сторону окрестных ферм, где еще не побывали спасатели.
Изредка в небе слышался стрекот вертолетов. Взошло солнце, слабо просвечивая сквозь сплошную облачность и нагревая неподвижный, насыщенный миазмами воздух над водой.
Именно это в основном и запомнилось Левайну: странное атмосферное явление – серое солнце над серой водой, необычная тяжесть воздуха и запах. Десять часов они кружили по разлившейся реке в поисках мертвецов. Одного сняли с ограды из колючей проволоки. Он болтался там, как дурацкая пародия на воздушный шар, и, когда они дотронулись до него, труп громко лопнул, с шипением выпустил газы и скукожился. Они снимали трупы с крыш, с ветвей деревьев, вылавливали среди плавающих обломков домов. Левайн, как и остальные, работал молча, ощущая горячее солнце на лице и шее, вдыхая вонючие болотные испарения, смешанные с трупным запахом. Происходящее не вызывало в нем протеста; он не то чтобы не хотел или не мог думать об этом, просто где-то в глубине души осознавал, что сейчас не стоит пытаться осмыслить то, чем он занимается. Просто подбирает трупы, и больше ничего. Когда около шести буксир вернулся к пристани, Левайн сошел на берег так же беззаботно, как утром прыгнул на борт. До стоянки он ехал на попутке, сидя в кузове, чувствуя себя грязным и усталым, ощущая тошноту от собственного запаха. В фургоне он взял чистую одежду, не обращая внимания на Пикника, который уже дочитывал «Болотную девку» и хотел что-то сказать, но осекся. Левайн пошел в общежитие и там долго стоял под душем, представляя летний или весенний дождь и вспоминая все случаи, когда попадал под ливень. Когда, надев чистую форму, он вышел из общежития, было уже темно.
В фургоне он выудил из вещмешка синюю бейсболку и надел ее.
– Уходишь при полном параде, – сказал Пикник. – Куда это?
– На свидание, – сказал Левайн.
– Здорово, – сказал Пикник. – Приятно видеть, что молодежь общается. Это радует.
Левайн серьезно посмотрел на приятеля.
– Нет, – сказал он. – Нет, наверное, лучше назвать это «порывом души».
Он заглянул в фургон Риццо и стащил у спящего сержанта пачку сигарет и сигару «Де Нобили». Когда Левайн повернулся, чтобы уйти, Риццо открыл один глаз.
– А, наш старый верный друг Натан{56}, – сказал сержант.
– Спи, Риццо, – сказал Левайн.
Засунув руки в карманы и насвистывая, он зашагал в сторону вчерашнего бара. Звезд на небе не было, в воздухе пахло дождем. Левайн прошел мимо сосен, которые в свете фонарей отбрасывали огромные уродливые тени. Прислушиваясь к девичьим голосам и урчанию машин, он думал о том, какого черта он здесь делает; думал, что лучше было бы вернуться в Таракань, и в то же время прекрасно понимал, что, вернувшись в Таракань, он начнет думать, какого черта делает там, и, возможно, будет думать о том же повсюду, где бы ни оказался. Он вдруг представил нелепую картину, на мгновение вообразив себя, Толстозадого Левайна, Вечным жидом, обсуждающим будними вечерами в странных безымянных городках с другими Вечными жидами насущные проблемы подлинности, но не подлинности собственного бытия, а подлинности данного места и вообще правомерности и необходимости пребывания в каком бы то ни было месте. Наконец он дошел до бара, заглянул внутрь и увидел поджидавшую его Крошку Лютик.
– Я раздобыла машину, – улыбнулась она. Левайн сразу уловил в ее голосе легкий южный акцент.
– Эй, – сказал он, – что вы тут пьете?
– «Том Коллинз»{57}, – ответила Крошка Лютик.
Левайн заказал виски. Ее лицо стало серьезным.
– Там очень страшно? – спросила она.
– Жутковато, – сказал Левайн.
Она снова радостно улыбнулась:
– По крайней мере колледж совсем не пострадал.
– Зато Креол пострадал, – сказал Левайн.
– Ну да, Креол, – сказала она.
Левайн посмотрел на нее.
– По-твоему, пусть лучше они, чем колледж? – спросил он.
– Конечно, – усмехнулась она.
Левайн побарабанил пальцами по столу.
– Скажи «валяться», – попросил он.
– Ва-аляца, – произнесла она.
– Ясно, – сказал Левайн.
Они выпили и еще какое-то время говорили о студенческой жизни, а потом Левайн пожелал глянуть на окрестности в беззвездную ночь. Они вышли из бара и поехали в сторону залива сквозь ночной мрак. Крошка Лютик сидела, прижавшись к Левайну, и с нетерпеливым возбуждением гладила его. Он вел машину молча, пока она не показала ему на грунтовую дорогу, ведущую к болотам.
– Сюда, – прошептала она, – там есть хижина.
– А я уж было начал удивляться, – сказал он.
Вокруг распевали лягушки, на всевозможные лады восхваляя некие двусмысленные принципы. Вдоль дороги теснились замшелые мангровые деревья. Проехав еще около мили, Левайн и Крошка Лютик добрались до полуразрушенного строения, невесть откуда взявшегося в этих дебрях. Как ни странно, в хижине нашелся матрац.
– Не бог весть что, – сказала Крошка Лютик, прерывисто дыша, – но все-таки дом.
Она дрожала в темноте, прижимаясь к Левайну. Он достал позаимствованную у Риццо сигару и раскурил ее. Лицо девушки озарилось колеблющимся огоньком, а в глазах мелькнуло некое испуганное и запоздалое осознание того, что терзания этого парня от сохи были серьезнее всех проблем, связанных с сезонными изменениями и видами на урожай. Точно так же чуть раньше он осознал, что ее способность давать, в сущности, не предполагала ничего сверх обычного перечня повседневных предметов – ножниц, ножей, лент, шнурков; и поэтому он проникся к ней равнодушным сочувствием, которое обычно испытывал к героиням эротических романов или какому-нибудь усталому, бессильному хозяину ранчо в вестерне. Левайн позволил ей раздеться в сторонке, а сам стоял в одной майке и бейсбольной кепке, невозмутимо попыхивая сигарой, пока не услышал, как она захныкала, сидя на матраце.
В ночи неистовствовал лягушачий хор, из которого то и дело выделялись виртуозные дуэты, выводившие протяжные низкие рулады и серии легких придыханий и вскриков. Прерывисто дыша, ослепленные страстью, Левайн и Крошка Лютик, к своему удивлению, осознавали единение ночных певцов как нечто большее, чем обычные проявления близости: сплетение мизинцев, чоканье пивными кружками, добрососедские отношения в духе журнальчика «Макколл»{58}. Левайн в небрежно сдвинутой набок бейсбольной кепке на протяжении всего представления попыхивал сигарой, ощущая непроизвольное желание защитить девушку – еще не отданную на поругание Пасифаю{59}. Наконец, под неумолчное кваканье глупых лягушек, они опустились на матрац и легли, не касаясь друг друга.
– Посреди великой смерти, – сказал Левайн, – маленькая смерть. – И добавил: – Ха. Звучит как заголовок в журнале «Лайф». В расцвете «Жизни» мы объяты смертью[4]. Господи.
Они вернулись в кампус, и, прощаясь у фургона, Левайн сказал:
– Увидимся на стоянке.
Она слабо улыбнулась.
– Заходи как-нибудь, когда освободишься, – сказала она и уехала.
Пикник и Бакстер играли в очко при свете фар.
– Эй, Левайн, – сказал Бакстер, – я таки потерял сегодня невинность.
– А, – сказал Левайн. – Поздравляю.
На следующий день к ним заглянул лейтенант.
– Если хочешь, можешь идти в увольнение, Левайн, – сказал он. – Все уже утряслось. Ты здесь только мешаешься.
Левайн пожал плечами.
– Ладно, – сказал он.
Моросил дождь.
В фургоне Пикник сказал:
– Боже, как я ненавижу дождь.
– Ты прямо как Хемингуэй, – заметил Риццо. – Странно, да? Элиот, наоборот, любил дождь.
Левайн закинул на плечо вещмешок.
– Странная штука этот дождь, – сказал он. – Он может потревожить сонные корни, может выдрать их из почвы и смыть напрочь. Пока вы тут торчите по яйца в воде, я буду нежиться на солнце в Новом Орлеане и вспоминать о вас, парни.
– Ну так катись отсюда, – сказал Пикник, – да побыстрее.
– Кстати, – сказал Риццо, – Пирс искал тебя вчера, но я ему наплел, что ты, мол, пошел за запчастями для ТСС. Никак не мог сообразить, куда ты свалил.
– Ну и куда я, по-твоему, свалил? – тихо спросил Левайн.
– Я этого так и не понял, – ухмыльнулся Риццо.
– Пока, ребята, – сказал Левайн.
Он нашел попутную машину, направлявшуюся в Таракань. Когда они отъехали на пару миль от города, водитель сказал:
– Черт, а хорошо все-таки вернуться назад.
– Назад? – не понял Левайн. – Ах да, наверное.
Он уставился на дворники, сметавшие дождевые капли с ветрового стекла, прислушался к дождю, хлеставшему по крыше кабины. И через какое-то время уснул.
К низинам низин{60}
В половине шестого вечера Деннис Флэндж по-прежнему пьянствовал с мусорщиком. Мусорщика звали Рокко Скварчоне, и около девяти утра, едва завершив маршрут, он прибыл прямиком к дому Флэнджа, в рубахе с прилипшей апельсиновой кожурой и зажимая в мощном кулаке, перемазанном кофейной гущей, галлон домашнего мускателя.
– Эй, sfacim![5] – заревел он из гостиной. – Я принес вино. Выходи.
– Отлично! – заорал в ответ Флэндж и решил, что на работу не пойдет.
Он позвонил в адвокатскую контору Уоспа и Уинсама и наткнулся на чью-то секретаршу.
– Флэндж, – сказал он. – Нет. – (Секретарша принялась возражать.) – Потом, – сказал Флэндж, повесил трубку и уселся рядом с Рокко, намереваясь до конца дня пить мускатель и слушать стереосистему стоимостью 1000 долларов, которую заставила его купить Синди и которой, на памяти Флэнджа, она пользовалась разве что в качестве подставки для блюд с закусками или подносов с коктейлями.
Синди являлась женой Флэнджа – миссис Флэндж, – и нет нужды говорить, что она не одобряла затею с мускателем. Впрочем, она не одобряла и самого Рокко Скварчоне. Да, собственно говоря, и любого из друзей своего мужа. «Не выпускай этих уродов из игровой комнаты, – могла завопить она, потрясая шейкером для коктейлей. – Ты долбаный член общества защиты животных, вот ты кто. Хотя сомневаюсь, что даже в этом обществе примут тех зверей, которых ты таскаешь домой». Флэнджу следовало бы ответить – хотя он этого никогда не делал – что-нибудь вроде: «Рокко Скварчоне не зверь, он мусорщик, который, помимо прочего, обожает Вивальди». Именно Вивальди – шестой концерт для скрипки с подзаголовком Il Piacere[6] – они и слушали, пока Синди бушевала наверху. У Флэнджа создалось впечатление, что она швыряет вещи. Временами он с интересом представлял себе, какой была бы жизнь без второго этажа, и удивлялся, как это люди умудряются обитать на ранчо или ютиться в одноуровневых квартирках, не впадая в безумную ярость – ну, примерно раз в год. Жилище самого Флэнджа было расположено на скале высоко над проливом. Постройку, смутно напоминавшую английский коттедж, соорудил в 1920-х годах епископальный священник, по совместительству контрабандой возивший спиртное из Канады. Похоже, все жившие тогда на северном берегу Лонг-Айленда были в той или иной степени контрабандистами, поскольку кругом обнаруживались отмели и бухточки, проливчики и перешейки, о которых федералы не имели ни малейшего представления. Священник, должно быть, находил во всем этом своеобразную романтику: дом вырастал из земли, как большой мшистый курган, и цветом напоминал волосатого доисторического зверя. Внутри были кельи, потайные ходы и комнаты со странными углами; а в подвале, куда попадали через игровую комнату, во все стороны расходились бесчисленные туннели, извивавшиеся, как щупальца спрута, и сплошь ведущие в тупики, водоотводы, заброшенные канализационные трубы, а иногда и потайные винные погреба. Деннис и Синди Флэндж жили в этом причудливом замшелом, почти естественном могильнике все семь лет брака, и сейчас Флэндж стал ощущать, что прикреплен к дому некой пуповиной, сплетенной из лишайника, осоки, дрока и утесника обыкновенного; он называл его утробой с видом и в редкие минуты нежности напевал Синди песенку Ноэля Кауарда{61} – отчасти для того, чтобы напомнить о первых месяцах совместной жизни, отчасти просто как любовную песнь дому:
- И заживем мы, не ведая горя,
- Как птички в ветвях над горами и морем…
Впрочем, песни Ноэля Кауарда с реальностью, как правило, связаны мало – Флэндж, раньше этого не знавший, быстро в этом убедился, – и если через семь лет выяснилось, что он не столько птичка в ветвях, сколько крот в норе, виновата в этом была не столько его обитель, сколько Синди. Психоаналитик Флэнджа – тронутый и вечно пьяный мексиканец-нелегал по имени Херонимо Диас, – разумеется, многое мог высказать по этому поводу. Раз в неделю Флэндж в течение пятидесяти минут выслушивал между порциями мартини громогласные рассуждения о своей матери. Тот факт, что за деньги, потраченные на эти сеансы, он мог купить любой автомобиль, любого породистого пса или женщину на том отрезке Парк-авеню, который был виден из окна докторского офиса, волновал Флэнджа гораздо меньше, чем темное подозрение, что его неким образом надувают; возможно, это происходило из-за того, что он считал себя законным сыном своего поколения, и поскольку Фрейда это поколение впитало с молоком матери, Флэндж чувствовал, что ничего нового не узнаёт. Но иногда ночами, когда снег, который несло из Коннектикута через пролив, напоминанием хлестал в окно спальни, он ловил себя на том, что спит в позе зародыша; он заставал себя с поличным за кротоуподоблением, которое было не столько моделью поведения, сколько состоянием души, когда снежная буря не слышна вовсе, а храп жены представляется журчанием и капелью околоплодных вод где-то за покровом одеяла, и даже тайный ритм пульса становится простым эхом сердечного стука самого дома.
Херонимо Диас был абсолютно безумен, но у него была милая и безобидная разновидность тихого помешательства, не соотносившаяся ни с одним из известных примеров сумасшествия, – Херонимо невменяемо плавал в некой плазме иллюзий, глубоко убежденный, например, в том, что он Паганини, продавший душу дьяволу. В столе он держал бесценную скрипку Страдивари и, дабы доказать Флэнджу, что эта галлюцинация на самом деле реальна, пилил по струнам, извлекая жуткий сиплый скрежет, потом отшвыривал смычок и говорил: «Видишь? С тех пор как я заключил эту сделку – ни одной ноты не могу взять». И затем в течение всего сеанса зачитывал вслух таблицы случайных чисел или эббингаузовские списки бессмысленных слогов{62}, игнорируя все, что пытался рассказать ему Флэндж. Эти сеансы были невыносимы; контрапунктом к исповедям о неуклюжих сексуальных играх юности шли непрерывные «зап», «муг», «фад», «наф», «воб», и время от времени звякал и булькал шейкер для мартини. Но Флэндж упорно приходил снова и снова; он понимал, что, раз уж обречен провести остаток дней в безжалостной реальности утробы именно этого дома и только с этой женой, ему нужна поддержка, а поддержкой ему служило ирреальное безумие Херонимо. Вдобавок мартини наливали бесплатно.
Помимо психоаналитика, у Флэнджа была только одна отрада: море. Или пролив Лонг-Айленд, который временами достаточно приближался к образу шумной серой стихии, сохранившемуся у Флэнджа в памяти. В ранней юности он то ли где-то прочел, то ли от кого-то услышал, что море – это женщина, и метафора покорила его, в значительной степени сделав таким, каким он стал сейчас. Сначала она предопределила его трехлетнюю службу офицером связи на эсминце, который весь этот срок только и делал, что патрулировал побережье Кореи, причем Флэндж был единственным, кому это не надоедало. И она же в конечном счете заставила Флэнджа после демобилизации вытащить Синди из квартиры ее матери в Джексон-Хайтс и найти дом у моря – вот эту большую, наполовину вросшую в землю халабуду на вершине скалы. Херонимо педантично растолковал ему, что поскольку вся жизнь зародилась из простейших организмов, обитавших в морской воде, и поскольку затем формы жизни становились все более сложными, то морская вода выполняла функцию крови до тех пор, пока не появились кровяные шарики и масса прочего добавочного хлама, создавшие ту красную жидкость, которую мы имеем сейчас; а если так, значит море в буквальном смысле у нас в крови и, что еще важнее, именно море – а не земля, как принято считать, – является истинным образом матери для всех нас. В этом месте Флэндж попытался вышибить своему психоаналитику мозги скрипкой Страдивари. «Но ты же сам сказал, что море – это женщина», – защищался Херонимо, вспрыгивая на стол. «Chinga tu madre»[7], – прорычал разъяренный Флэндж. «Ага, – просиял Херонимо, – вот об этом и речь».
Таким образом, бушующее, стонущее или просто плещущее в ста футах под окном спальни море было с Флэнджем в трудные периоды его жизни, которые случались все чаще; миниатюрная копия Тихого океана, невообразимое волнение которого постоянно кренило память Флэнджа градусов на тридцать. Если богиня Фортуна властна над всем по эту сторону Луны, думал Флэндж, значит некой странной и нежной силой или качанием должен обладать и Тихий океан, представляющий собой, как говорят некоторые, расселину, оставшуюся, когда Луна оторвалась от Земли. В таком накренившемся воспоминании обитал в одиночестве своеобразный двойник Флэнджа: маленький эльф, дитя Фортуны, лишенный наследства отпрыск, юный и нахальный, самая соленая морская душа, какую только можно представить, – твердый подбородок, желваки на скулах при скорости ветра шестьдесят узлов в шторм, и в дерзко оскаленных белоснежных зубах зажата видавшая виды трубка; он несет на мостике ночную вахту, совсем один, не считая сонного штурмана, верного рулевого, сквернословящей радарной смены, картежников, режущихся в покер «красная собака» в будке акустика, и беглянки Луны, и лунной дорожки на поверхности океана. Правда, не очень понятно, что там делает Луна при шестидесятиузловом шторме. Но так ему это запомнилось. Вот каким был Деннис Флэндж в расцвете лет без нынешних признаков среднего возраста, и – что гораздо важнее – настолько далеко от Джексон-Хайтс, насколько вообще возможно, хотя он и писал Синди каждый божий вечер. Впрочем, тогда его брак тоже был в расцвете, а сейчас у брака выросло небольшое пивное брюшко, волосы начали выпадать, и Флэнджа до сих пор немного удивляло, почему это произошло, – а тем временем Вивальди рассуждал об удовольствиях и Рокко Скварчоне булькал своим мускателем.
На середине второй части в дверь позвонили, и Синди маленьким блондинистым терьером стремительно скатилась вниз на звонок, успев по дороге бросить злобный взгляд на Рокко и Флэнджа. То, что обнаружилось за открытой дверью, больше всего напоминало толстую и приземистую обезьяну в морской форме с похотливо-плотоядными глазками. Синди потрясенно выпучилась.