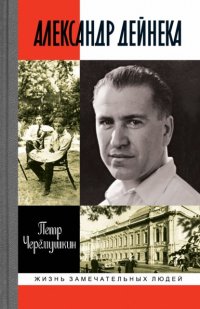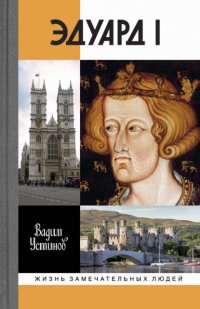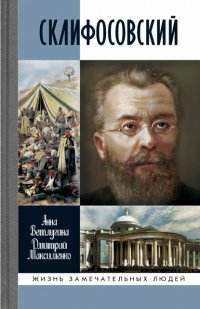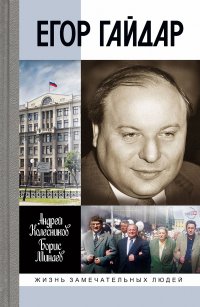
Читать онлайн Егор Гайдар бесплатно
- Все книги автора: Андрей Колесников, Борис Минаев
© Колесников А. В., Минаев Б. Д., 2021
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2021
Предисловие
На первый взгляд кажется, что писать о Гайдаре довольно просто. Его коллеги, друзья, соратники, слава богу, в основном еще живы, здоровы, полны сил – все они прекрасно, до деталей помнят все основные перипетии его биографии. И почти все они много раз давали интервью – в совокупности это тысячи страниц текста, где до деталей разобрана его жизнь, повороты судьбы.
Есть множество интервью самого Егора Гайдара, не говоря уж о сотнях его статей, о его книгах, которые составили пятнадцатитомное собрание сочинений. Существуют документальные фильмы и масса видеохроники. Десятки исследований о его экономических реформах. Тома статистики.
Но писать о Гайдаре все-таки очень трудно. Дело в том, что он не сводим ни к одной из своих ипостасей – политика, экономиста, ученого, депутата или частного человека. Интроверт по натуре, он до сих пор ускользает из любой ясной формулы, любого определения. Остается загадкой, которую почти невозможно разгадать.
Мы все живем в мире, который был создан Егором Гайдаром за несколько месяцев 1992 года. Удивительно, но в эти несколько месяцев российская история сделала один из самых крутых своих поворотов – из эпохи дефицита, вечных очередей и почти хронического недоедания, из эпохи пятилеток и командно-административной экономики мы шагнули в мир, который был неизвестен, непонятен, а для многих – враждебен.
В мир, где есть рынок, есть безработица, есть богатые и бедные, есть конкуренция и свободные цены.
Это мир, в котором не нужно «постановлений партий и правительства» для того, чтобы решить, сколько производить чугуна, а сколько алюминия, сколько угля и сколько автомобилей.
Это мир, который нельзя спланировать, который развивается непредсказуемо и в котором есть кризисы.
…Многие тоскуют по тому, прежнему миру. Но вряд ли он уже когда-нибудь вернется.
Велик соблазн представить Гайдара просто человеком, который оказался в нужное время в нужном месте и предъявил истории некую совокупность качеств, необходимых для такого крутого поворота. Но в том-то и загадка Егора, что его личная история – это еще и история незавершенного, не до конца реализованного плана. История несбывшегося замысла о русской истории. И все мы по-прежнему гадаем, сбудется он или нет.
Человек такого масштаба, конечно, заслуживает объективной, честной биографии.
Но критериев для того, чтобы оценить по достоинству его вклад, еще не существует. У нас нет и, наверное, не может быть единого мнения о том, что случилось в стране за последние тридцать лет. Нет и языка, на котором всё это можно описать.
Не случайно при всем богатстве материалов до сих пор увидела свет только биография Гайдара, написанная Мариэттой Чудаковой для подростков.
Наша попытка – одна из первых и оттого довольно рискованная.
Мы не старались угодить тем или этим, мы не хотели ни лакировать, ни очернять его биографию. Мы хотели изложить жизнь Гайдара в контексте воистину великих событий, коим он был свидетель и участник, а в каком-то смысле – и творец. Удалось ли – судить не нам.
Но одно мы поняли, пока писали эту книгу, – труды и дни Гайдара заслуживают того, чтобы о них знали все.
Мы благодарим Фонд Егора Гайдара, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, его семью, его друзей, а также Президентский центр Бориса Ельцина за неоценимую помощь в нашей работе.
Декабрь 2020 года
Глава первая. Два деда
У Егора Гайдара было два великих деда – оба Петровичи: Аркадий Петрович Гайдар и Павел Петрович Бажов.
Их книжки печатались миллионами экземпляров, инсценировались в театрах, экранизировались в кино; про них писали статьи, исследования, биографии; их портреты висели в домах культуры, пионерских лагерях, библиотеках, детских садах и школах.
Есть семейная легенда: когда Егор в школе написал сочинение по литературе, где просто упомянул этот факт (мол, один мой дед – Гайдар, другой – Бажов), ему поставили жирную двойку и вызвали родителей для беседы: ну что, мол, за наглое вранье?
Ну да, смешно… Но, наверное, ему-то было не очень смешно. Груз «великого отца» (или «великого деда») довольно часто давит на детские плечи, невольно заставляя согнуться. Этот груз может родить даже чувство вины или чувство страха, абсолютно на пустом месте – я-то ведь так, наверное, не смогу?..
Однако вот – смог. Ныне об Аркадии Петровиче и Павле Петровиче пишут и говорят именно в связи с их великим, без преувеличения, внуком. Пусть иные граждане этого внука вспоминают с предубеждением, даже с проклятием на устах, но забыть, стереть память о нем в истории уже не получится ни у кого.
Два великих деда в биографии Егора Гайдара обычно присутствуют как «казус», забавный или примечательный факт, удивительное совпадение. Недоброжелатели Егора трактуют эту наследственность гораздо злее – вменяют Егору революционную жестокость деда Аркадия и «советскость» деда Павла.
Но прямое родство с двумя Петровичами – вовсе не «казус». Понять Егора Гайдара без его дедов просто невозможно. Они оба, по большому счету, как бы в ответе за то, кем он стал, почему сделал то, а не это. Они невольно наметили тот абрис характера, который сформировался к 1991 году – сформировался так, что в какой-то момент стал играть решающую роль в истории России.
…В 1988 году Тимур Гайдар, отец будущего вице-премьера по экономике, выпустил книгу «Голиков Аркадий из Арзамаса». Главы из нее были напечатаны перед этим в «Новом мире». Интересно, что флагман перестроечной литературы, «Новый мир», печатавший тогда и Солженицына, и Бродского, отдал свои страницы столь, казалось бы, привычному и даже слегка официозному сюжету: сын Аркадия Гайдара о своем отце, «любимом писателе советской детворы». Значит, сотрудники «Нового мира» нашли в рукописи что-то такое, что зацепило их. Интересно и другое – сам Тимур, известный советский журналист, выпустивший до этого немало книг, свою личную книгу об отце «отложил» аж до самой перестройки (хотя писать ее начал еще в юности).
У Аркадия Гайдара были свои, официальные советские биографы. В серии «ЖЗЛ» таким биографом, например, был Борис Николаевич Камов.
Это был невероятно страстный, искренний, увлеченный творчеством и жизнью Гайдара человек. Но некоторые детали из книжки Тимура явно не вписывались в привычный образ «любимого писателя советской детворы». И вряд ли Камов о них вообще знал. (А если знал – предпочитал обходить стороной.)
Ну, скажем, знал ли он про то, что Аркадий Гайдар был внуком царского офицера, дворянина, поручика Салькова? «Окончил поручик Виленское пехотное училище, служил в 37-м пехотном Екатеринбургском, в 4-м его величества короля саксонского Капорском и в Бендерском крепостных полках. На Юго-Западном фронте (Первой мировой войны. – А. К., Б. М.) поручик Сальков пробыл до августа тысяча девятьсот шестнадцатого. За это время получил три ордена: св. Станислава 3-й степени, св. Анны 2-й и 3-й степени. С мечами и надписью “За храбрость”. А августе 1916-го заболел и отправлен в тыл на лечение. Ушел в запас из 102-го пехотного Вятского полка».
Одного этого было бы достаточно, чтобы такую книжку об Аркадии Гайдаре до перестройки в печать не пропустить.
Или вот такой эпизод из детства Аркадия Гайдара. О его первой, так сказать, «предварительной», попытке сбежать из дома на фронт. Только вот фронт этот был совершенно неправильный, «не наш».
«С полмесяца назад ушел на фронт Первой мировой войны Петр Исидорович Голиков. В Арзамас начали прибывать раненые. Их размещали в Спасском монастыре. Врачей, сестер не хватает, и Наталья Аркадьевна (мама Аркадия Гайдара. – А. К., Б. М.) переходит фельдшерицей в госпиталь.
Аркадий еще больше предоставлен себе. Тоскует по отцу. Раздобыл карту железных дорог, купил фонарик и… исчез из дома.
“Это было глубокой осенью четырнадцатого года, – рассказывает Адольф Моисеевич Гольдин. – Я хорошо помню, как поздним вечером у нас дома раздался звонок. Это Наталья Аркадьевна и Наташа (сестра А. Гайдара. – А. К., Б. М.) обходили друзей и товарищей Аркадия, у которых он мог бы поздно засидеться или заночевать. Встревоженные, с заплаканными глазами они ушли”.
Через четыре дня Аркадий обнаружен на станции Кудьма и водворен домой. Попытка убежать к отцу на фронт закончилась неудачно».
Напомним – в ту пору ему стукнуло всего десять лет.
Сам Гайдар в повести «Школа» тоже описал этот эпизод, но… приписал его товарищу, соученику.
Таких детей тогда в России было много. Тысячи их пытались убежать на фронты Первой мировой.
…Поколение Егора Гайдара было воспитано в том числе на образах «пионеров-героев». Пионеры-герои (в основном это были дети, павшие в боях с немцами на Великой Отечественной) – важнейшая часть советской иконографии. Их имена присваивались всему: от пароходов до проспектов; им ставили памятники, гипсовые изваяния в парках и пионерских лагерях, им поклонялись, о них писали сочинения. Но мы тогда, конечно, понятия не имели, откуда растут ноги у этой мифологии.
В 1915 году Корней Чуковский написал статью «Дети и война». О ней и сегодня редко вспоминают, а при советской власти и вовсе старались забыть.
В статье Чуковский дотошно и с огромным знанием дела разбирает, каким образом война вошла в мир русского детства, в каждую детскую комнату.
«…Вначале это было эпидемией. В газетах ежедневно мелькали такие телеграммы о детях:
“Вильна. Бежали на войну сын полковника Рубанович, реалист пятого класса Бейзак и сын местного пристава Кармелитов”.
“Серпухов. Скрылись на войну гимназисты: сын дворянина В. Ю. Фредерикс 13 лет и его товарищ Курдюков”.
“Москва. Скрылись от родителей с целью попасть в действующую армию гимназист Гернет-Короленко и его сверстник Куренин”.
Все эти дети из высшего круга. Крестьянских же мальчиков бежало без счету. Об них не станут публиковать телеграмм. В Пскове ежедневно задерживали около десяти малышей. В первые шесть месяцев из одной только Вильны их убежало до сотни. Полиция, как говорится, сбилась с ног, разыскивая их и водворяя обратно. Обычно они бегают партиями, по три, по четыре человека. Зачем они стремятся на войну, никто из них определенно не знает. Разве знают перелетные птицы, какая сила тянет их за тысячи верст! Древний неискоренимый инстинкт!»
…Пройдет 30 лет, и вот дети, бегущие на войну, опять шагнут на историческую сцену – но уже в качестве маленьких святых.
И сам Аркадий Гайдар, один из таких беглецов, станет проповедником крестового похода детей, того самого, о котором писал Чуковский. Во многих своих статьях и даже выступлениях по радио Аркадий Гайдар станет говорить о том, что подростки, дети должны смотреть правде в глаза – и учиться овладевать оружием, закаляться и готовиться воевать вместе со старшими.
Да и сам Чуковский, написавший сказку в стихах о приключениях Бибигона на войне, потративший на нее кучу сил и нервов, так и не добившись, чтобы ее пропустили в печать, теперь пытался вложить в эту тему – детского участия в войне – свою лепту.
Как бы противореча себе прежнему.
Но противоречия на самом деле не было. Просто история заговорила вдруг на другом языке. Совершив круг.
Гайдар – один из тех, кто почуял эту нарастающую «отчаянную», жертвенную волну загодя, за несколько лет до войны. Почуял – несмотря на официозную и насквозь фальшивую «дружбу» Гитлера и Сталина. «Дружбу», которая тогда прозвучала для советских людей как гром среди ясного неба, ведь их много лет воспитывали на ненависти к «германскому фашизму» и к фашизму вообще – испанскому, итальянскому, любому.
Кстати говоря, об этой «дружбе».
В 1936 году Гайдар напечатал рассказ «Голубая чашка» (сначала в журнале «Пионер»). Так вот, в рассказе этом стоит перечитать внимательнее один эпизод.
«– Есть в Германии город Дрезден, – спокойно сказал Пашка, – и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта, этот человек, Санька и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли… Нам смешно, а Санька злится. Перелез через забор и орет оттуда: “Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!” И Берта дуру уже хорошо по-русски понимает, а жидовку не понимает никак. Подходит ко мне и спрашивает: “Это что такое, жидовка?”»…
Место хрестоматийное, известное – во всей советской литературе, тем более в детской, пожалуй, совсем не много таких страниц – где автор так просто и ясно развенчивает бытовой антисемитизм.
Но в 1936 году это еще было можно издать, а в 1940 году – уже нет. «Голубую чашку» переиздали в том году в совершенно новой редакции. Исчезают «фашисты», исчезает «жидовка».
Получается следующий текст.
«– Перелез через забор и орет оттуда: “Дура, обманщица! Чтобы ты в свою заграницу обратно провалилась!” А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а обманщицу не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: “Это что такое, обманщица?”».
…Трудно даже понять, как Гайдар мог согласиться на такое.
В СССР каждый ребенок лет с трех знал, что главные враги – фашисты. Что фашисты – главное зло, с которым его страна будет воевать. Что Гитлер – главный враг. И когда это в одночасье изменилось, для многих это было шоком. Шок пережили и дети, и взрослые. Например, писатель Эренбург впал в депрессию, в которой, по его воспоминаниям, пребывал восемь месяцев и похудел на 20 килограммов. Пострадал не только рассказ Гайдара «Голубая чашка» – пострадали сотни статей и книг; государство вмешивалось в личную переписку граждан, затыкало рот всем, кто по привычке говорил об угрозе фашизма.
Отношение Аркадия Гайдара к Сталину – особая тема в семейной истории. «Примечательно, что ни в его прозе, ни даже в его журналистских публикациях и выступлениях по радио, – писал Егор Гайдар, – никогда ни разу не упоминался Сталин. Не знаю, было ли это осознанно. Но ясно, что Сталин был внутренне чужд светлой картине мира, за который Аркадий Гайдар готов был бороться».
Да, всё так. Зияющее отсутствие в творчестве Гайдара Сталина как иконы, которой принято в те годы кланяться, – это факт непреложный. Что не мешало, конечно, Гайдару быть в конце 30-х, может быть, главным детским писателем, а его книгам издаваться огромными тиражами. Впрочем, были на этом славном поприще и у него свои «подводные камни». «Голубые звезды» – так называлась повесть Аркадия Петровича, которую он взялся писать для журнала «Пионер» (где тогда работал его любимый редактор Боб Ивантер) в 1936 году. Взялся писать, заключил договор, получил аванс и… пропал. Книжку о колхозном мальчике, который борется с кулаками и погибает в этой священной борьбе, Гайдар согласился написать легко. Но вот уехал в командировку и… не написал. Почему? Какие там бездны ему открылись? Мы не знаем.
Впрочем, «вредителей и шпионов» в его творчестве и без того хватало. Своим талантом он очевидно поддерживал мифологию сталинского террора. Хотя и тут всё не так просто. В тридцать восьмом другое детское СМИ – газета «Пионерская правда» начала печатать «Судьбу барабанщика». Начала печатать, да и остановилась. Что, как, почему? Поползли тяжелые слухи, газету с первыми кусками повести начали изымать из библиотек. Аркадий готовился к аресту. По крайней мере – к крупным неприятностям.
Однако его вдруг награждают орденом, к очередному юбилею Октября повесть издают книжкой. Благодаря поддержке и советам все того же Боба Ивантера все как-то «рассосалось».
Да и то? Вредители, шпионы – всё ж вроде в повести нормально, по логике тех лет? А вы почитайте. У мальчика арестовывают отца. Он остается один. Один в пустой пыльной квартире. Отец мальчика – вроде как растратчик, а в первой редакции повести – жертва доноса. Вся «Судьба барабанщика» – чудовищное по силе свидетельство о поколении одиноких детей, оставшихся без родителей в годы террора. Долгое время в семье хранилась эта рукопись с вымаранными кусками – сейчас она находится в Арзамасе, в музее Аркадия Гайдара.
Тема отношения детского писателя к Сталину – это, скорее, бермудский треугольник, нежели открытый ясный пейзаж. Мужа его первой жены, Лии Лазаревны Соломянской, Израиля Разина, чекисты арестовали и расстреляли. Мама Тимура Гайдара как жена врага народа два года провела в лагерях. Аркадий лично участвовал в судьбе бывшей жены, звонил из телефона-автомата Николаю Ежову, требовал отпустить «мою Лийку». Подробности эпизода уже в постсоветское время восстановил Борис Камов, напечатав очерк об этом.
Еще одна семейная легенда?
Да вряд ли. Дело в том, что их всех, за редким исключением – Сталина, Буденного, Ежова, да и многих других – Аркадий Гайдар не воспринимал, как «политбюро», как «вождей», как богов на Олимпе. Это были люди, с которыми у него была масса общих знакомых, о которых он многое знал, которые для него были однополчанами по гражданской войне.
«Советской властью» или «советским строем» он считал не очередные решения конкретных исторических деятелей, это для него было куда более общее понятие.
Но вернемся к детству Аркадия Гайдара, к Первой мировой войне, «империалистической».
В эпизоде его первого, несостоявшегося побега из дома есть очень важные слова:
«Аркадий еще больше предоставлен себе. Тоскует по отцу».
Да, именно тоска по отцу становится главным двигателем его судьбы. Тоска мощная и всепоглощающая.
В 1917 году Временное правительство издало приказ № 1. Этот приказ отдавал полную власть в армии солдатским комитетам. Единоначалие и воинская дисциплина (в воюющей стране!) мгновенно рухнули. Солдаты перестали подчиняться своим командирам. Ни один приказ не мог быть утвержден без согласия солдатского комитета. Офицеров, которые пытались вернуть солдат к военной реальности, отстраняли или расстреливали. Генерал Краснов описывает в своем рассказе, как комиссара Временного правительства расстреливают разгневанные солдаты, за то, что он призывает их подчиняться приказу и идти воевать с немцами.
Петр Исидорович Голиков, прадед Егора, – интеллигент-разночинец, сначала учитель в городе Льгове Курской губернии, потом сотрудник фискального, как говорили тогда, то есть налогового ведомства в Арзамасе. Он ушел на Первую мировую по призыву – простым солдатом. Когда младших офицеров в окопах повыбило, закончил школу прапорщиков (послали как грамотного). Как и для миллионов других солдат, для Петра Голикова одна война – плавно или резко – перетекла в другую. «Германская» – в гражданскую.
В 1917 году он из простого солдата превратился в члена полкового комитета солдатских депутатов, а затем, уже во время гражданской войны, стал комиссаром дивизии.
То есть война затянулась для него на долгие годы. И вот все эти годы тоска по отцу становится важнейшей частью существования будущего писателя. Аркадий пишет отцу письма – раз в три дня, раз в неделю, иногда каждый день. Он сообщает ему о каждой мелочи своего бытия. Он рвется к нему всей своей пылкой душой.
«Милый папочка!
Как хорошо сейчас у нас. Светит солнышко, все зелено, весело. Цветет черемуха.
Мне сейчас ужасно хочется куда-нибудь ехать далеко-далеко, чтобы поезд меня уносил подальше, туда, за тобой, по той же линии, где ехал ты, с того же вокзала, где я так горько плакал. Бедный папочка, как у меня сжимается сердце и как мне тяжело при каждом воспоминании этого мимолетного сна. Помню, когда рота остановилась, я залез на гору, я смотрел на тебя и сдерживал слезы, “неужели” – пронеслось в голове, “неужели” – подумал я, “неужели его могут убить?” – точно сдавленный, рыдающий стон, вырвалось у меня… А поезд уходил все дальше и дальше, мерно стукал он по рельсам, и отрывалось от души что-то и уносилось вдаль за поездом к нему, милому и дорогому. Прощай, пиши, крепко целую, и напиши мне, хотя вкратце, содержание письма пропавшего.
Любящий Аркадий Голиков».
…О многом говорит это письмо сегодняшнему читателю. Об удивительной эмоциональности этого тринадцатилетнего мальчика, о его очень взрослой и вместе с тем наивной душе. Но прежде всего – о том, как много значил для Аркадия Гайдара его отец. Вернее, как многое значило – его отсутствие.
Но ведь и Тимур Гайдар вырос с этой же тоской по отцу. Это не было в те годы чем-то из ряда вон выходящим – неполных семей были миллионы. Но судьба действительно повторялась, хотя и по-другому.
Аркадий Гайдар погиб в 1941 году, оставшись за линией фронта, после того как наши войска сдали Киев, и став пулеметчиком в партизанском отряде.
Конечно, он не был единственным писателем, погибшим на войне. В фойе Центрального дома литераторов до сих пор висит этот скорбный список – начинает его Гайдар, продолжает, например, Евгений Петров, соавтор «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка».
Среди писателей было много военных корреспондентов. Отнюдь не все отправились в эвакуацию. Многие рвались на фронт: Андрей Платонов, Василий Гроссман, тот же Евгений Петров, десятки других.
Однако фронтовой корреспондент, сознательно оставшийся в тылу врага, чтобы воевать в партизанском отряде, – это редчайший случай. Биограф Гайдара Борис Камов пытался восстановить эти события так:
«Казнов и Белоконев показали на карте, где в крайнем случае его некоторое время будет ждать катер. Обнялись. Он попросил:
– Если все-таки я не вернусь ни сюда, ни к тому месту, где будет стоять катер, доложите при случае в Москву, что я остался в Киеве».
Гайдар остался за линией фронта, чтобы не просто писать о войне, а непосредственно в ней участвовать (в действующую армию его не брали по здоровью). Сегодня мы это уже знаем. Знаем, и все равно – поступок поразительный.
Реконструкция Камова, конечно, не из головы. И Казнов и Белоконев – реальные офицеры, фронтовики. Со всеми Камов говорил лично. Но…
Евгений Долматовский, известный советский поэт, например, три месяца выходил из окружения в сорок первом. Его считали погибшим. Но он выжил – и вышел.
Вот это было понятно каждому в том сорок первом году. Остаться в тылу врага – было страшно: или убьют немцы как коммуниста и комиссара, или, если вернешься, арестуют свои.
Среди писателей и поэтов, которые воевали в составе партизанских отрядов, можно назвать, пожалуй, лишь еще одно имя – Марк Максимов. Его так и звали в литературной среде: «поэт-партизан».
Кстати, он был одним из друзей Тимура Аркадьевича Гайдара.
Осенью 1941 года началась массовая эвакуация детей из Москвы.
Со стороны советской власти это было отнюдь не предложение, а приказ. Родители обязаны были вывозить детей до шести лет из Москвы. Начали составляться списки, пролагаться маршруты, их спешно вывозили на поездах и кораблях в самые разные места. Многие затем не видели своих матерей месяцы и годы.
Почему вывозили? Боялись бомбежек. Первая серьезная бомбежка состоялась 21 июля 1941 года, Москва серьезно полыхала, сразу были десятки, если не сотни жертв, всего от бомбежек в Москве погибло около трех тысяч жителей, но эти цифры неточны, их тщательно скрывали даже через десятилетия после войны. Боялись бомбежек в том числе и потому, что, в отличие от нас, сегодняшних, москвичи прекрасно знали о фашистской бомбардировке Лондона 1940 года. Тогда немецкие самолеты превратили в руины целые кварталы, улицы, районы британской столицы и погибли десятки тысяч человек. Знали и о страшных бомбардировках мирных городов во время гражданской войны в Испании. Маленьких москвичей грузили на поезда и корабли, чтобы вывезти из города. Хотя вера в то, что «война кончится быстро», была в народе еще жива.
Вторая волна эвакуации началась уже в сентябре – октябре, перед самым острым приступом всеобщей паники, который охватил Москву 16 октября. Тут детей эвакуировали уже с семьями.
Деятелей культуры, писателей, например, вывозили в Татарскую АССР, здесь они оказались в маленьком Чистополе, с которым отныне неразрывно оказалась связана история русской литературы. В Чистополе жили писали Борис Пастернак и Николай Асеев, неподалеку отсюда, в Елабуге, покончила с жизнью Марина Цветаева.
Многие писательские дети в октябре 1941 года оказались в чистопольском интернате, среди них – сын Цветаевой Георгий Эфрон (Мур), который в 1944-м погибнет на фронте.
«В те двадцать дней, которые Мур был в интернате, он успел подружиться с Тимуром Гайдаром… Там было множество детей знаменитостей. Дети Зинаиды Пастернак – Леня и Станислав Нейгауз, ночью играющий на разбитом рояле, чтобы не потерять музыкальную форму…» – рассказывает в книге «Ноев ковчег писателей» Наталья Громова.
Да, там были многие писательские дети. Но Мур выделялся среди всех. Только что потерявший мать, он был холоден и надменен. Он не желал читать ее стихи, он с какой-то брезгливостью говорил о ее самоубийстве, он прятал за этой «железной маской» свою гигантскую растерянность.
«…Было в его взгляде много ума, надменности и силы, – вспоминала Гедда Шор, одна из воспитанниц чистопольского интерната. – Сверстники до такой степени не были ему ровней, что ощущение собственного превосходства было неизбежно… В те страшные, военные дни осени сорок первого мы все, от мала до велика, слушали (по радио. – А. К., Б. М.) сводки Совинформбюро. Но никто из детей не слушал их так, как слушал их Мур. Спросили бы меня тогда, как это “так”, – я бы не сумела ответить. Так слушали сводки раненые в госпитале… Сегодня это слово знаю: причастность. Что делало его причастнее сверстников, которым, как и ему, предстоял фронт? Его зрелость, опережающая возраст? Трагедия семьи, неотступное злосчастие, взорвавшееся самоубийством матери? Он, как те раненые в госпитале, уже был ранен».
Сын Цветаевой – один из трагических героев своего поколения.
Но почему же среди его друзей оказался Тимур Гайдар? Только ли из-за любви к спорту, суровым мальчишеским играм? Или потому, что и Тимур тоже «уже был ранен»? Именно тогда, в октябре 1941 года от отца перестали приходить письма. Именно тогда ледяной ветер дунул в сторону Тимура – и тоска по отцу стала двигателем и его дальнейшей судьбы.
Казалось бы, что их могло связывать – несчастного сироту Мура, сына расстрелянного в тюрьме НКВД бывшего белогвардейца Сергея Эфрона – и сына Аркадия Гайдара, «любимого писателя советской детворы»? А общее все-таки было.
Их связало вот это сиротское чувство мальчиков, идущих навстречу войне как к избавлению от своего тотального одиночества.
Вообще жизнь в чистопольском интернате, где жили дети писателей, известных людей, была далеко не такой гладкой, как может показаться на первый взгляд. Да, тут были праздники, представления, спектакли театрального кружка, приходили «из города» эвакуированные поэты, чтобы читать детям свои стихи, но при этом дети оголодали до того, что написали жалобу Фадееву (секретарю писательского союза СССР) на директора интерната, прославившегося своим хамством и скупостью. Другой мрачный эпизод «детского» Чистополя связан с несчастным случаем – неожиданно разорвавшейся в руках учебной гранатой, случаем, во время которого погиб сын Василия Гроссмана, а другие подростки были ранены. Вообще все чистопольские страницы – горькие, тяжелые, отравленные тоской одиночества для Тимура: отец пропал без вести, мать побывала в лагере (с июня 1938-го по январь 1940-го) – и в то же время это годы, определившие многие из векторов его будущей судьбы.
И еще эти годы определили его главный жизненный выбор: армию.
Армия (та, военная и послевоенная Советская армия) станет для Тимура Гайдара профессией, биографией, эстетикой, моралью, в каком-то смысле даже его семьей.
Он вышел в отставку в 1984 году в чине контр-адмирала. Военный журналист, писавший очерки о военно-морском флоте, диктовавший в редакцию боевые репортажи с Кубы во время Карибского кризиса, выполнявший задания редакции в военном Афганистане, он в повседневной жизни очень часто носил флотскую форму (черную в обычные дни, белую в праздничные), ходил в ней на работу, гордился ею.
Надо сказать, что эта любовь к армии во многом была подхвачена, подсмотрена, вычитана им у отца. До болезненности звенящую почти в каждой книге Аркадия Гайдара любовь к оружию, к военной форме, к красоте строя, к тяжелой и страшной готовности умереть в бою, к повседневному героизму военной службы разные критики объясняют по-разному. Объясняют атмосферой эпохи, идейным фоном того поколения, которое буквально выросло в постоянной готовности к «мировой революции».
Но есть и другое объяснение – это была неразделенная, мучительная любовь. Отвергнутая любовь, если говорить точнее.
…Тимур Гайдар, сын Аркадия Гайдара, служил в армии 40 лет. Его отцу досталось лишь два с половиной армейских года. Включая обучение на военных курсах, хаос и фантасмагорию гражданской войны.
Всю свою очень короткую жизнь Аркадий Гайдар лишь мечтал об армии, грезил армией, создавал в своих книгах культ армии. Но после 1921 года она была для него навсегда закрыта: тяжелейшая контузия и целый букет ее медицинских последствий были тому причиной – включая сложнейший невроз и адские головные боли.
Однако эти два с половиной года, проведенные им на военной службе, оказались в итоге еще и источником прямо противоположных, контрастных мифологий.
Один из мифов гласит: в 16 лет Аркадий командовал полком, это был самый юный красный командир, красиво летящий впереди полка на боевом коне («всадник, скачущий впереди» – таково объяснение его псевдонима, ставшего фамилией), герой, рыцарь, практически ангел революции. Он воевал за правое дело.
Другой миф: Аркадий лично расстреливал пленных, он был жестокий садист, и в довершение этого мифологического ряда его собственная фраза, кочующая из одного разоблачительного памфлета в другой: «снились мне убитые мною в детстве люди».
Да, так бывает, что сентиментальные люди становятся хладнокровными убийцами, но это не случай Аркадия Гайдара. Тяжелая, острая, разрывающая душу память о гражданской войне станет лейтмотивом всей его жизни, его творчества и его сознания и подсознания. А ведь рядом жили сотни тысяч, миллионы других – для которых память о кровавом кошмаре гражданской стала лишь фоном, почти неразличимым за суетой дел.
А вот Аркадий помнил буквально всё – и переносил это в свои книги.
Ну а что касается его мифологической «жестокости», давайте с ней все-таки разберемся.
Настоящая, подлинная история гражданской войны, как и история русской революции, фактически неизвестна среднестатистическому гражданину России. Посмертная судьба Аркадия Гайдара – довольно яркое тому подтверждение.
Советские историки начиная уже с 1920-х годов настойчиво внедряли мысль о том, что гражданская война была войной «белых» и «красных». То есть сторонников «старого», царского режима и революционно настроенной народной массы. Поколение Егора выросло именно на такой мифологии – «бывшие люди» (дворяне, купцы, офицеры), с одной стороны, и «народ», то есть будущее страны – с другой.
Апофеозом этого исторического штампа в массовом сознании стал, как ни странно, безусловно детский и, безусловно, не очень серьезный фильм – «Неуловимые мстители». Образ «царского офицера» (штабс-капитана Овечкина) в гениальном исполнении актера Армена Джигарханяна для многих советских поколений стал неувядаемой матрицей.
Но это – обманная, фальшивая матрица.
На протяжении всей гражданской войны главными врагами советской власти были вовсе не штабс-капитаны Овечкины, не «белые» и уж тем более не скрытые или открытые монархисты.
Главными врагами большевиков были восставшие крестьяне. «В условиях ожесточенной гражданской войны, – пишут современные исследователи П. Алешкин и Ю. Васильев, – обе противоборствующие стороны, нередко в одних и тех же местностях, использовали… одинаковые методы принудительной мобилизации местного населения в армию, конфискаций и реквизиций имущества, лошадей, продовольствия, накладывали контрибуции, осуществляли аресты и расстрелы. Грабежи и мародерство в прифронтовой зоне стали обычным явлением… Отряды зеленых были неоднородными по составу, состояли по преимуществу из крестьянства. Зеленое движение являлось специфической формой крестьянского сопротивления… Зеленые выполняли функции крестьянского ополчения, отрядов самообороны для защиты селений от грабителей, продовольственных и карательных отрядов… Действия зеленых вносили серьезные осложнения в стратегию борющихся сторон, внося хаос в тылу и отвлекая войска с фронта».
Чем же были недовольны восставшие крестьяне? Всем.
«Бесчинствами комиссаров». Очень часто, особенно в маленьких уездных городках, смена власти происходила чрезвычайно карикатурно, жестоко и абсурдно. В какое-нибудь городское собрание врывалась пара мальчишек с наганами, производила показательный расстрел двух-трех чиновников и купцов, потом пьянствовала, дебоширила, арестовывала уважаемых людей, наводя на городок ужас.
Крестьяне были недовольны и подлым обманом большевиков – вместо обещанного мира они втягивали страну в бесконечную гражданскую войну всех против всех.
Вместо земли и мирного труда на земле крестьян снова гнали на войну – гнали принудительной жестокой мобилизацией.
Крестьяне, безусловно, были не просто раздражены, а возмущены до глубины души и полным обрушением хозяйственных связей и хозяйственной жизни – бесконечные конфискации, экспроприации обрушились на них еще до начала жуткого голода и грабительской продразверстки.
Закрылись крестьянские банки, выдававшие ссуды, закрылись ярмарки, где земледельцы продавали плоды своего труда, остановились мельницы, зерновые склады, полностью закрылись привычные рынки зерна и скота, кормившие всю страну, рухнула национальная финансовая система, обесценились деньги, исчез правопорядок, растаяла хоть какая-нибудь законность, крестьянский мир лишился своего главного свойства – стабильности и предсказуемости, в жизнь вторгся великий хаос, и не видеть в этом вины большевиков и комиссаров было попросту невозможно – именно они провозгласили этот хаос вершиной исторического развития.
Они сулили золотые горы, а потом расстреливали и загоняли в свою армию.
Большевики, и это было очевидно, украли у народа победу в революции 1917 года.
Именно поэтому в 1918–1920 годах началась война «крестьянского мира» против больших городов, в которых прочно установилась советская власть. Установилась благодаря поддержке рабочих и солдатских отрядов, обманутых большевистской агитацией. Началась война губерний с уездами. Война крестьянских восстаний против Харькова, Москвы, Питера, Ростова и других больших городов.
Параллельно этой крестьянской войне, охватившей всю страну, двигалась и другая история – возникновение очагов сопротивления, которые возглавили кадровые офицеры и генералы: Деникин, Колчак, Каппель, Шкуро и другие.
Однако крестьянские армии создавали не меньшую, а большую угрозу большевикам, потому что их численность невозможно было подсчитать, их действия – предугадать. Такой, например, была крестьянская армия знаменитого анархиста Нестора Махно, остановившая движение регулярной армии Деникина на Москву, как бревно, неожиданно брошенное под колеса модного лакированного автомобиля.
А вот что пишут современные исследователи крестьянских восстаний:
«Крестьянские волнения распространились на уральские и сибирские территории. В Томской губернии бунты и восстания охватили всю губернию. Восставшие захватили г. Колывань. Томские чекисты докладывали: слово “коммунист” стало ненавистным крестьянам, во время выступлений вырезались все коммунисты и их семейства с малыми детьми, по деревням прокатились избиения коммунистов. Активное недовольство выражали десятки сибирских казачьих станиц. В Оренбургской губернии повстанцы заняли район западнее Верхне-Уральска. Боевые силы повстанцев объединяли пять полков, в том числе казачий. Повстанческие части насчитывали до пяти тысяч башкир. В Башкирской губернии численность повстанцев достигала 1500 человек. Лозунги восставших: “Бей коммунистов! Да здравствует Советская власть, свободная торговля и мелкая собственность!”».
Крестьянские армии, по сути дела, захватили всю страну. Лишь в Поволжье произошли друг за другом четыре крупных восстания (так называемая «чапанная война», «вилочное движение», «сапожковщина», «серовщина» и десятки более мелких).
…Вот в этой чудовищной мясорубке и оказался шестнадцатилетний Аркадий Гайдар.
Что именно он в ней увидел? И что запомнил?
Главная характеристика – это хаос. Хаос, который жадно, со страшным людоедским чавканьем поглощает нормальную, рутинную, устоявшуюся человеческую жизнь.
То, что ожидалось с огромным нетерпением философами и поэтами начала ХХ века, то, о чем грезилось революционной молодежи в нескольких поколениях – старая, надоевшая историческая эпоха уходит, новая властно приходит – все это в реальности выглядело очень неаппетитно. Если не сказать иначе – выглядело жутко.
Что же противостояло той огромной, разнородной, всколыхнувшей всю Россию силе, которую сегодняшние историки очень аккуратно называют «антибольшевистскими силами»? Что смогло разомкнуть это самое «кольцо фронтов», что стало причиной поражения всей этой мощной стихии?
«Антибольшевистские силы», по сути, опиравшиеся на крестьянские восстания, имели множество центров, десятки «столиц» и «правительств»; это была центробежная стихия разбегавшихся в разные стороны векторов, кратно умножавших распад и хаос – национальных, социальных, политических, – в то время как большевики строили свою экспансию как раз на идее объединения страны вокруг ее центра и железного государственного порядка.
Большевики предлагали не только новую идеологию; вместе с этими нелепыми идеями они предлагали и главное – новый порядок, новую структуру, новую центральную власть.
А для юного Гайдара все это воплощалось именно в армии.
Армия – это ведь и есть порядок, и есть строй, это и есть железная дисциплина, пронизанная убежденностью в собственной правоте, это и есть иерархия, вертикаль, которая притягивает к себе все и организует все вокруг себя – некий электрический стержень, который создает мощный разряд и организует силовые поля, убирая хаос и уничтожая его.
Так, двигаясь от одной кровавой сцены к другой, по логике гражданской войны, – Гайдар втягивался все в новые и новые битвы с крестьянскими восстаниями и отрядами.
На Украине это были «народные республики» Донбасса, самостийные петлюровские сечевики, на Кубани – армии восставших казаков, затем он воевал в районе крестьянского Тамбовского восстания, затем устанавливал советскую власть очень далеко в Сибири, в Хакасии, – то есть всюду, куда его посылали, повышая в чине. Он участвовал именно в этом процессе – борьбы «центра» против окраин, Москвы – против национальных движений, регулярной военной силы – против крестьянского сопротивления, структуры – против хаоса, порядка – против анархии, центральной власти – против сепаратизма и раскола страны на части. Такой была его гражданская война. Такой он ее запомнил.
Каким же образом оборвалась эта блистательная военная карьера?
Напомним, что в 1918 году Аркадию было всего 14 лет. Он поступил адъютантом (по рекомендации отца) в штаб фронта, затем всеми правдами и неправдами выбил разрешение в 15 лет поступить на краткосрочные офицерские военные курсы, а вернее «курсы красных командиров». Затем их роту бросили в самое пекло под Киев, где Гайдар впервые и увидел настоящую войну.
Двигаясь в 1919 году с Красной армией на юг, Гайдар почти не принимал непосредственного участия в боевых действиях на Кавказе, а в 1920 году его неожиданно повысили – в силу адского дефицита грамотных командиров: направили командовать целым «укрепрайоном» в районе Тамбовского восстания.
Большую роль в его повышении сыграл будущий маршал Тухачевский. Он и сам был военным вундеркиндом: в двадцать с небольшим лет возглавил армию, а затем стал одним из непосредственных заместителей «военмора» (военного министра) Троцкого.
Тухачевский не мог не заметить необычайно талантливого розовощекого мальчишку, который спокойно руководил огромными армейскими подразделениями, в тылу и на марше, в бою и в позиционной обороне, держал в голове тонны военной информации, был вежлив и спокоен, хладнокровен в бою, словом, «держал удар», как и положено офицеру.
Кем и чем руководил Аркадий Гайдар во время подавления Антоновского восстания на Тамбовщине? Участвовал ли он лично в карательных акциях? Какова его мера ответственности за расстрелы и уничтожение восставших крестьян?
На этот вопрос можно ответить однозначно – его основной задачей было уговорить крестьян сдаться без оружия, выйти из леса, вернуться к мирной жизни.
Это и делал Аркадий Петрович в свои 18 лет, непрерывно засылая переговорщиков, посылая им депеши, ставя свои условия и принимая условия чужие. «Шесть тысяч молодых и не очень молодых людей перестали участвовать в братоубийственной войне. Шесть тысяч потенциальных и явных врагов в благодарность за проявленную к ним человечность пожелали служить в Красной армии. Шесть тысяч больших многодетных семейств перестали считаться врагами советской власти. Это означало, что десятки тысяч людей оказались выдернуты из круговерти войны», – пишет Борис Камов об итогах этого эпизода военной биографии Аркадия Петровича. Та часть антоновской армии, которая из леса не вышла, оказалась впоследствии под ударом. Их действительно травили газом, их окружали и уничтожали в бою.
Но большое количество крестьян из леса вышло и сдалось – чтобы вернуться к мирной жизни.
Эта его деятельность продолжалась несколько месяцев. И по достоинству была оценена командованием.
Так возник последний военный эпизод в карьере Гайдара как «красного командира» – сибирский. Эпизод, который и дал начало антигайдаровской мифологии, пышно расцветшей в начале 1990-х, после публикации очерка «Соленое озеро» В. Солоухина в «Огоньке» (в 1993 году).
«Ну и почему же Голиков взял себе в псевдонимы хакасское слово “куда”? – писал Солоухин в «Огоньке». – А его так хакасы называли. Кричали: “Прячьтесь! Бегите! Хайдар-Голик едет! Хайдар-Голик едет!” А прилепилось это словечко к нему потому, что он у всех спрашивал: “Хайдар?” То есть куда ехать? Он ведь других хакасских слов не знал. А искал он банду Соловьева. И самого Соловьева ему хотелось поймать. Его из Москвы специально прислали Соловьева ловить, а никто ему не говорил, где Соловьев прячется. Он подозревал, что хакасы знают, где Соловьев, знают, а не говорят. Вот он и спрашивал у каждого встречного и поперечного. “Хайдар?” Куда ехать? Где искать? А ему не говорили. Один раз в бане запер шестнадцать человек хакасов. “Если к утру не скажете, где Соловьев, всех расстреляю”. Не сказали. А может, и не знали, где Соловьев, тайга ведь большая. Утром он из бани по одному выпускал и каждого стрелял в затылок. Всех шестнадцать человек перестрелял. Своей рукой. А то еще, собрал население целого аила, ну, то есть целой деревни… Семьдесят шесть человек там было. Старухи и дети, все подряд. Выстроил их в одну шеренгу, поставил перед ними пулемет. “Не скажете, всех перекошу”. Не сказали. Сел за пулемет и… всех… А то еще в Соленом озере, да в Божьем озере топил. В прорубь под лед запихивал. Тоже – многих. Тебе и сейчас эти озера покажут. Старожилы помнят…»
Последствия этой публикации были настолько грандиозны, что о ней стоит поговорить отдельно. Статью Солоухина в том или ином виде перепечатала или пересказала почти каждая региональная (областная, районная) газета России. Повторно «убивая» деда, ментально уничтожая его, советские и постсоветские журналисты метили во внука. Хотели причинить ему боль. Да они этого и не скрывали – каждая такая статья кончалась упоминанием Егора Гайдара и его реформ.
Позднее Егор говорил: «Бывает, что дети расплачиваются за грехи отцов. Но чтоб дед, да еще покойный, расплачивался за грехи внука!» В Москве переименовали улицу Аркадия Гайдара. Некоторые библиотеки начали сжигать его книги «за ненадобностью».
После Солоухина ни одна статья, ни одна книга, посвященная Егору Гайдару, не обошлась без упоминания мифической «жестокости» его деда.
Но так ли это?
Мы уже упоминали о писателе Борисе Камове, ставшем главным биографом Аркадия Петровича Гайдара. В постсоветский период Камов посвятил практически все свое время разоблачению этого мифа. В его книге «Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров» подробно, с указанием документов, фамилий и дат, рассказана вся эта история. В отличие от Солоухина, который в своем очерке не приводит ни одной ссылки на архивные документы, расследование Камова опиралось на изучение личного дела Аркадия Петровича.
Прибывший в Хакасию восемнадцатилетний Аркадий Гайдар поразил тамошних советских товарищей, в частности из органов НКВД, своей молодостью. И уверенностью в том, что с боевой задачей он справится. Он с местными чекистами не пил, не дружил, не проводил время – он гонялся за отрядом атамана Соловьева, стараясь его уничтожить или хотя бы рассеять.
И это ему в конечном итоге удалось. Атаман Соловьев, вслед за многими командирами тогдашнего казачьего сопротивления, ушел в Монголию. Через горные хребты.
Однако это случилось уже после того, как Аркадия Гайдара арестовали, заключили в тюрьму, судили военным трибуналом и отправили в госпиталь с «белым билетом», уволив из армии.
Решения трибунала и различных парткомиссий – а Аркадий Гайдар был на шесть месяцев исключен из партии – не были следствием масштабных преступлений, а были следствием рутинного, как сама советская жизнь, аппаратного заговора, доноса и чиновничьей мести (которая бывает очень страшна). Местным чекистам Аркадий Гайдар был неудобен, он был им враждебен.
Голикову-Гайдару приписывали самые разные преступления – в основном те, на которые восемнадцатилетний юноша, «пламенный революционер», вряд ли был способен: тут мешок с овсом он якобы украл, тут два кольца золотых, тут торговал краденым бельем, тут в виде взятки отобрал 50 золотых монет, тут взял у крестьян 9 баранов… Похоже на него? Всю жизнь ютившегося по углам, по домам друзей, по летним дачам, из всего имущества возившего за собой по стране подушку да походную чернильницу? Вообще-то не очень. Да и обвинения впоследствии были сняты.
На Гайдара тем не менее написали десятки доносов. И все по поводу таких вот «бытовых» преступлений. Максимум, что удалось доказать, – выпорол плетьми пленного. Ни о каких расстрелах, пытках, уничтожении мирного населения речь не шла; командира Голикова пытались судить совсем за другое – за то, чего он не совершал.
Когда Тимур в 1980-е годы писал свою книгу об отце, темы «гайдаровской жестокости» в печати еще не существовало. В семейной легенде не было никаких упоминаний о чем-то, что могло бросить тень на репутацию старшего Гайдара. Когда же волна вокруг статьи Солоухина поднялась (напомним, это случилось в 1993-м), Тимур успел съездить в Хакасию, увидеть документы и коротко сообщить своим близким: это ложь. В архивах удалось выяснить – да, преступления против хакасов, против мирного населения были, но отца в этот момент в Хакасии не было.
Ариадна Павловна, мама Егора, спросила Тимура: будет ли он судиться с клеветниками? Нет, ответил Тимур, «нам это невместно» (то есть много им чести).
Однако последующие поколения российских литераторов, вслед за Солоухиным, подхватили легенду о «массовых репрессиях» и «садистской жестокости» Гайдара.
Но докопаться до правды нам все же удалось. Произошло это благодаря красноярскому историку А. П. Шекшееву и его тщательной работе в местных архивах. Он опубликовал несколько работ о ходе гражданской войны в Хакасии, причем каждый факт у него сопровождается ссылкой на архивное дело.
Конкретно о Гайдаре Шекшеев в одной из своих работ написал следующее:
«В результате выделения свежих сил численность чоновцев (чрезвычайный отряд особого назначения. – А. К., Б. М.) в Ачинско-Минусинском боевом районе увеличилась с 390 до 650 бойцов, вооруженных 15 пулеметами. Для их рационального использования были созданы три боевых участка, командовать которыми были назначены В. Ф. Поченко, В. А. Кудрявцев и А. П. Голиков (Гайдар). Начиная с апреля 1922 года отряд комбата Голикова в основном занимался разведкой, поиском и преследованием повстанцев. В то же время по его приказу было расстреляно пятеро лиц – лазутчиков Соловьева или представителей населения. Обвиняемый в злоупотреблении служебным положением (мы видели, в чем они состояли, а вот расстрелы Голикову как раз не вменялись. – А. К., Б. М.), Голиков в июне того же года был снят с должности, а затем наказан по партийной линии».
В этой статье, опубликованной в журнале «Вестник Евразии» и нашпигованной до предела фамилиями командиров – красных, казачьих, партизанских, а также боевыми эпизодами, фактами грабежей и репрессий, историк Шекшеев доходит и до эпизода, который стал ключевым для писателя В. Солоухина. Вот он:
«В ночь на 15 февраля в с. Шарыпово по инициативе и под руководством начальника Ачинской уездной милиции П. Е. Пруцкого и бывшего партизанского вожака и командира одного из отрядов М. Х. Перевалова были удушены, по разным данным, от 34 до 43 жителей. По приказу руководства Кызыльского волисполкома в с. Малое и Черное озеро расстрелу и удавлению подверглись 30 хакасов, заподозренных в снабжении повстанцев оружием и продуктами. Волостной комиссар Тартачаков душил людей, или, угрожая оружием, заставлял коммунистов топить их в озере».
Давайте сличать даты. Гайдар прибыл в Хакасию в апреле 1922-го. Жуткий случай с массовым утоплением в озере – это февраль. Ни один подобный эпизод Гайдару вменен не был. Тем более нет в его деле и того факта, что он лично кого-то пытал и расстреливал. Все эти обвинения возникли гораздо позже, в 1993 году, с «легкой» руки Солоухина.
Понять писателя можно – ему необходимо было создать символ. Для этого он приплел «свидетелей», ни один из которых потом не нашелся. А вместо безвестного командира Тартачакова в историю с озером поместил детского писателя Гайдара.
«Борьба принимала ожесточенный характер: соловьевцы стали приходить в деревни специально, чтобы вырезать коммунистов. Очевидцы сообщали, что “банда” за время переговоров (была создана комиссия для ведения мирных переговоров с атаманом Соловьевым. – Авт.) “выбила” до 100 коммунистов и 10 милиционеров, увезла 3 тыс. пудов хлеба, предназначенного для рудничных рабочих, разграбила ряд кооперативных лавок и Учумскую экономию. Посетив Ивановский рудник, с. Божье озеро и д. Парную, “бандиты” зарубили 8 коммунистов».
Современный историк Шекшеев не случайно ставит слова «банда», «бандиты», упоминаемые в советских документах, в кавычки. Ему-то понятно, что это никакие не бандиты, а крестьянские повстанцы. Но разве эти определения как-то облегчают наше впечатление от потоков крови, от зверских убийств (не менее зверских, чем те, которые совершали «партизанские» герои и чекисты) и грабежей?
Восемнадцатилетний Гайдар, возможно, отдавая приказ о расстреле пятерых «лазутчиков Соловьева», исходил вовсе не из абстрактной «классовой справедливости» или «классовой борьбы». Он оказался в кровавом котле и видел, как поступают со своими врагами эти восставшие крестьяне. Он воевал.
Но можно ли изолировать случай Аркадия Гайдара из общего фона большевистских репрессий времен гражданской войны? Можно ли «устранить» его из всей этой череды бесконечных скорых расстрелов без суда и следствия, взятия заложников и т. д.?
Ведь и сам он в автобиографической повести «Школа» этого не скрывал.
«Куда это они идут?» – подумал я, оглядывая хмурого растрепанного пленника.
– Стой! – скомандовал Чубук, и все остановились.
Взглянув на белого и на Чубука, я понял, зачем сюда привели пленного; с трудом отдирая ноги, побежал в сторону и остановился, крепко ухватившись за ствол молодой березки.
Позади коротко и деловито прозвучал залп.
– Мальчик, – сказал мне Чубук строго и в то же время с оттенком легкого сожаления, – если ты думаешь, что война – это вроде игры али прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой! Белый – это и есть белый, и нет между нами и ними никакой средней линии. Они нас стреляют – и мы их жалеть не будем!»
И тут нам вновь придется обратиться к судьбе Петра Исидоровича Голикова, отца Аркадия Гайдара. После бурных лет на фронтах Первой мировой и гражданской он, дослужившись в политотделах Красной армии до больших должностей, ушел в отставку, вернулся в Арзамас и закончил свои дни в 1927 году скромным служащим потребкооперации. Очень говорящая деталь – не собирался Петр Исидорович, скромный школьный учитель и служащий, делать мощную карьеру при новой власти. Не было у него наполеоновских замыслов, то есть воевал он за большевиков – по убеждениям. И поскольку убеждения эти оказали столь огромное влияние на его сына Аркадия, стоит посмотреть в корень событий – как же они сложились, эти убеждения?
Тимур Гайдар знал от отца, что предки его вовсе не из Арзамаса родом, а из города Льгова Курской губернии. Хотя факт этот в советской иконографии Аркадия Гайдара был настолько малоизвестен, что однажды даже школьная учительница обиделась на Тимура, когда он написал в школьном сочинении: «Мои предки происходят из Курской губернии», – мол, тебе ли не знать, что твой отец родился в Арзамасе?
Так как же семья оказалась далеко от родных мест, в Нижегородской губернии?
Может быть, поехали за лучшей долей, за более высокой зарплатой?
Дело было сложнее – и это тоже раскопал в своей книге Тимур. Родители Аркадия Гайдара покинули Льгов спешно, опасаясь преследований полиции. При том что на тот момент (1908 год) вовсе не были они ни большевиками, ни эсерами или анархистами, вообще ни в какой партии не состояли.
Вот что пишет Тимур Гайдар:
«Осенью 1908 года Голиковы внезапно покидают Льгов. Навсегда. Оставлено обжитое уютное гнездо. Едва успели попрощаться с друзьями. Два месяца спустя в деревню Карасевку (где работал Петр Исидорович учителем. – А. К., Б. М.) и во Льгов приходят письма… В конверты вложены фотографии. “Своему другу Ф. С. Симонову от сбежавшего соратника П. Голикова”… Но почему “от сбежавшего”? Что случилось?»…
Ответ на эти вопросы Тимур нашел в воспоминаниях Е. И. Тихоновой, как говорили раньше, «старого большевика», то есть члена партии, вступившей в нее еще до революции 1905 года.
«Февраль 1907 года был лютый. Глубокой ночью мы – трое местных подпольщиков и товарищ из Харькова по кличке Дмитрий – возвращались из села Нижние Груни, где провели собрание с крестьянами ближних сел. И уже собирались расходиться – товарищи на сахарный завод, я к себе во Льгов. Оставалось перейти речку Опоку. И тут я, не разглядев проруби, угодила по пояс в ледяную воду. До поселка сахарного завода было гораздо ближе.
– Бежим, хоть немного согреешься, – предложил один из товарищей и подхватил меня под руку.
Вскоре мы были возле школы. Петр Исидорович Голиков провел нас на кухню…
Сидя на лежанке, я пила душистый, с липовым настоем чай, приготовленный Натальей Аркадьевной. А когда она еще и растерла меня спиртом, я быстро уснула. Проспала часов одиннадцать, и, когда открыла глаза, в комнате была Наталья Аркадьевна, а с нею мальчик. Он с нескрываемым любопытством смотрел на меня».
…Вот это внезапное падение в прорубь и сыграло свою особую роль в российской истории.
Через месяц Евдокия Тихонова оставила часть нелегальной литературы у Голиковых. Потом они вновь давали ей приют и кров, скрывали от полиции. Как пишет Тимур, после революции 1905 года «усилились репрессии в охваченной крестьянскими волнениями Курской губернии. Арестованы члены Курского комитета РСДРП. Во Льгове тоже аресты. Казачья сотня разместилась в имении князя Барятинского (именно Барятинским принадлежал сахарный завод, где в школе при поселке и преподавал отец Аркадия Гайдара. – А. К., Б. М.)».
Из воспоминаний Тихоновой: «Июль и август пролетели в скитаниях по селам. Пришло осеннее ненастье, и я в полной мере поняла, почему “волчий билет” считают пострашнее ссылки. Месяцами не могла видеться с товарищами, опасаясь провалить их… Снова на помощь пришли Голиковы».
В середине 1980-х этот текст практически не требовал расшифровки. Сегодня, когда антибольшевистский дискурс окончательно утвердился в нашей книжной культуре и полутона, конкретные детали, объем фактов, попросту отменены – стоит к этому фрагменту вернуться.
Что такое «казачья сотня разместилась в имении»? Какой такой «волчий билет» проклинает Тихонова? Зачем ей надо было «отсиживаться» в чулане? Кого она могла «провалить»? А главное – при чем тут Голиковы?
Ответ будет неудобным для нынешних исторических стереотипов – мол, русская интеллигенция вляпалась в революцию по ошибке. Из-за своих прекраснодушных идей и фантастических воззрений.
Увы. Для огромной части интеллигенции ее «революционность» была лишь ответом на жесточайшее, грубое и беспредельное полицейское насилие. На тот уровень жестокости после беспорядков и волнений 1905 года, от которого давно отвыкло российское общество (а по сути-то – оно никогда и не знало такого уровня насилия).
Для тех, кто даже случайно (как Голиковы) попал в эту воронку, в эту «прорубь с ледяной водой», эти самые дни, месяцы, годы после неудачного восстания были тем водоразделом, за которым началась для них другая жизнь. Они навсегда попали в революционный поток.
Для примера приведем и пару других похожих судеб.
Первая московская обсерватория, как известно, находится на Пресне, в одном из ее тихих переулков. Основатель обсерватории и один из первых российских ученых-астрономов – русский немец Павел Карлович Штернберг. До событий декабря 1905 года он был самым обычным ученым.
А после событий – активнейшим членом большевистской партии. Он прятал в обсерватории оружие, он вступил в партию, он был одним из руководителей московского восстания уже в октябре 1917 года. Умер он (от внезапной болезни) военным комиссаром Московской области, в самый разгар гражданской войны.
Что же случилось с тихим кабинетным ученым? То же самое, что и с тихим учителем из Льговского уезда Петром Исидоровичем Голиковым.
Ужасающие картины полицейского насилия перевернули его сознание. Увидев однажды, как казаки рубят шашками людей, как солдаты стреляют по толпе, как преследуют и избивают демонстрантов, он уже ничего не смог с собой поделать.
Его дальнейшая жизнь и путь в революцию были предрешены.
То же самое случилось с другой участницей пресненских событий 1905 года – учительницей частной гимназии Копейкиных-Серебряковых Надеждой Николаевной Дробинской. В гимназии образовался стихийно возникший госпиталь для людей, раненных на улице. Попали в него частично и восставшие, а не только случайные прохожие. Когда войска выкатили пушки и ударили по гимназии и по рабочим общежития Прохорова из винтовок, пулеметов и пушек – возникло «революционное самосознание» и у этой, вполне скромной женщины, даже не помышлявшей до этого о своем участии в политике.
Конечно, невозможно сравнивать уровень полицейского насилия с тем, что творилось потом на гражданской войне. Но ведь невозможно и время повернуть в другую строну. Невозможно ли?
Для огромной части российской интеллигенции именно насилие и жестокость государства по отношению к инакомыслящим, к протестующим, к гражданским активистам, которые достигли своего пика после событий 1905 года, стали главным фактором их вовлеченности в революцию. И это было на уровне нормального нравственного инстинкта. Когда при тебе бьют, избивают, убивают невинного человека, ты не можешь не реагировать.
Для них, увидевших как это бывает, – вся их дальнейшая борьба (и вся история революции) стала лишь ответом на эти крайние меры. Они воевали, боролись и помогали новой советской власти лишь для того, чтобы не повторялись в будущем эти казни и расстрелы. Воевали, не зная, что с жутким скрежетом повернется колесо истории и еще через 20 лет их борьба и их нравственный порыв к разрушению старой репрессивной машины станут фундаментом к созданию машины новой, еще более страшной и жуткой.
Уволенный из армии по здоровью еще в начале двадцатых, Аркадий Гайдар всю жизнь оставался, как сказали бы сейчас, «милитаристом»: то есть не просто писал об армии и грядущей войне в своих книгах, он мечтал об армии, бредил ею, оставаясь в душе красным командиром, «краскомом», как тогда говорили. Даже трудно представить его в чем-то штатском – почти на всех фотографиях он в военном френче и в кавалерийской кубанке.
Очень шла флотская форма и Тимуру, его сыну. И в этом, конечно, тоже был отзвук отцовской легенды.
Тимур прожил свою жизнь как бы за двоих. Старший Гайдар почти никакого «быта» в привычном понимании не имел. Скитался по углам, жил у друзей, обживал дачу в Кунцеве, летними месяцами снимал с друзьями на паях сарайчик у Паустовского в Рязанской области, в Солотче. Московский его период жизни – это диван в квартире у друзей, то есть в прямом смысле слова «угол», комната, то одна, то другая, подмосковные дома, то есть целый сменный список адресов. И только в последние пару-тройку лет своя квартира возле Курского вокзала, в районе Казенных переулков. Ну а до этого – сплошные скитания по стране, от Средней Азии до Владивостока.
Тимур же, его сын, построил не просто дом, а настоящий домашний очаг, крепкий и фундаментальный. И хотя в его военно-журналистской жизни тоже были бесконечные командировки, в том числе и на настоящую войну (афганскую), но этих добровольных скитаний – не было. Он всегда возвращался к себе домой.
«Думаю, что дед всю жизнь, до своей гибели в 1941 году, продолжал верить в ту же коммунистическую идею, за которую ушел сражаться в четырнадцать лет, – писал Егор Гайдар в книге «В дни поражений и побед» (1996). – Но с течением времени ему все труднее было ассоциировать эту идею с картинами реального советского мира. Отец говорит, что для деда тяжелейшей трагедией был арест ведущих военачальников гражданской войны, у которых он служил: Тухачевского, Блюхера. Он не мог поверить в их измену и одновременно в то, что обвинение ложно. Придумывал для себя самые фантастические объяснения».
Каждое слово, каждая фраза, даже запятая в этом пассаже необыкновенно важны – здесь Егор Тимурович формулирует для себя, может быть, самую важную (с детства!) проблему: почему он, внук Аркадия и сын Тимура, отступил от догматов «коммунистической веры»?
Надо сказать, Егор в этом смысле был совершенно не одинок.
Именно дети и внуки революционеров, советских маршалов и «краскомов» становились диссидентами и бунтарями уже в брежневские и хрущевские годы. Примеров много.
Елена Боннэр, вдова академика Сахарова, – дочь одного из основателей компартии Армении, видного коминтерновца.
Известнейший диссидент Павел Литвинов – внук сталинского наркома иностранных дел.
Петр Якир, диссидент, – сын расстрелянного Сталиным красного маршала, героя Гражданской войны.
Лен Карпинский – ближайший друг Тимура Гайдара, известнейший диссидент-марксист, с треском исключенный из партии и чудом избежавший тюрьмы, – сын одного из первых большевиков-ленинцев, ближайшего, можно сказать, друга Ленина.
Примеры можно множить и множить, вплоть до сегодняшнего дня. И многие сегодняшние диссиденты, оппозиционеры – отнюдь не потомки купцов и дворян (те в большинстве своем уже не в первом поколении живут не в России). Нет, они корнями вросли в революционную Россию.
Колесо истории вновь повернулось со скрежетом, и смыслы ее тоже повернулись, вернее перевернулись. То, что было «революцией» в начале века – стало закостеневшей химерой, заржавевшей от времени тюремной решеткой для страны, для нескольких последующих поколений.
Поэтому любовь к деду или к отцу во всех этих следующих поколениях отнюдь не была равнозначна слепому подражанию, повторению их «символа веры». Скорее, оно вело к пониманию того, что их жертвы, по большому счету, были напрасны. И что смыслы истории изменились радикально. А вот ответственность за Родину, моральная позиция по отношению к истории – остались прежними.
Аркадий Голиков, впоследствии ставший Гайдаром, был мальчиком крупным, физически развитым. Читал он очень много и много времени проводил в играх: подвижных, спортивных, любых – причем среди них самыми любимыми были те, когда ты испытываешь страх, потом восторг, потом некоторую эйфорию. Именно эти рискованные игры и были его страстью.
«Если мяч попал на крышу – Аркадий туда первым… – записывал в Арзамасе Тимур Гайдар воспоминания соседки по улице. – Достанет, да еще с мячом по коньку крыши пройдет, рукой машет, улыбается. Иногда не слезет, а спрыгнет. Мы думали – ему нравится».
Да, все так думали поначалу. Но…
«Потом Наташа (сестра Аркадия. – А. К., Б. М.) сказала мне по секрету, что ее брат высоты не любит и себя “самоперевоспитывает”. Это его выражение».
Бесконечные игры, рождающие страх и восторг одновременно. Игры, преодолевающие страх и превращающие его в восторг. В его детстве – целая энциклопедия таких игр и таких занятий.
Гайдар с детства ловил ужей, лягушек, ящериц, прятал их по карманам, пугал девчонок. (Потом, уже взрослым знаменитым писателем, пришел однажды в Детгиз с ужом в кармане, зашел в бухгалтерию и получил аванс, хотя больше никому его в тот день не выплатили.) Он наряжался в привидение. Ходил ночью на кладбище. Бесконечно прятался, играя в индейцев.
И всем – опять-таки в основном девочкам, сестрам, матери – наставительно объяснял: нужно учиться преодолевать страх. Нужно!
«Меня отличать ужа от гадюки научил отец в том же Кунцеве: два белых пятнышка на полосатой головке – значит, бояться нечего, – пишет в своей книге об отце Тимур Гайдар. – Спряталось солнце. После встречи с ужом… мы возвращаемся домой по лесной тропинке. У отца в зубах трубка. Ремень полевой сумки переброшен через плечо. Я при оружии – деревянный кинжал в жестяных ножнах. Одет в черкеску. На груди газыри. Темнеет. Тропинка спустилась в овраг. Отец спрятал трубку, откашлялся, запел печально.
- Ни дорог, ни путей.
- Заблудилися мы.
Песня мне не нравится. Невольно прижимаюсь плечом к его ноге, беру за руку.
– Ты что, Тимур, испугался?
Знаю: сказать “испугался” – нельзя. Конец уважению, а значит, и дружбе.
– Нет, папка, не испугался.
Однако неправду нельзя. Тоже конец дружбе. Со вздохом добавляю:
– Ну разве совсем капельку.
Он великодушно не замечает моих слов, произнесенных шепотом.
– Вот и хорошо, что не испугался! Вот и славно!.. Понимаешь, такое дело, спички обронил. Ты подожди здесь, пожалуйста.
Его нет долго. Слишком долго. Стою, зажав рукоятку кинжала. Какие-то шорохи. Хруст сучьев. И вроде не в той стороне, где он скрылся… Вот-вот брызнут слезы обиды и страха.
– Извини, Тимур. Не сразу нашел. Темновато.
– Ничего, папка.
– Давай возьму тебя на руки. Как бы нам от мамки не попало».
Вот так воспитывал Аркадий Петрович своего маленького сына, учил преодолевать свой страх. Учил, как видите, без назидания. Легко.
Интересно, кстати, сравнить этот отрывок с текстом Егора Гайдара.
Автобиографическая книга «В дни поражений и побед», напомним, издана им в 1996 году. Вот один отрывок о пребывании семьи Гайдаров на Кубе.
«…С Брайаном Поллитом, английским экономистом, сыном одного из основателей Британской компартии, и его женой Пенни едем вместе в большое путешествие по Кубе на их “лендровере”. На севере Ориенте, в одном из самых диких мест, мощная машина намертво застревает в болоте. В этом районе неспокойно. Отец и Брайан берут пистолет, идут искать подмогу. Второй пистолет оставляют мне, доверяя охранять женщин: маму и Пенни. Все строго в семейных традициях, убежден, и дед не смог бы отказаться от такой возможности воспитания в сыне храбрости. Часа через два они возвращаются, нашли негритянскую деревушку. Жители пригнали волов, вытаскиваем машину, потом спим в хижине за плотным марлевым покрывалом, страшно много комаров, прекрасно это помню».
Ну и главное, для чего все это написано.
«…Вообще в нашей семье трусость, даже намек на нее считались самым страшным пороком. Отец прыгает с вышки бассейна, предлагает и мне сделать то же самое. Это приглашение не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Однако прыгаю, больно шлепаюсь животом о воду, но делаю вид, что получаю немыслимое наслаждение».
Вот оно, главное: «…Делаю вид, что получаю немыслимое наслаждение»…
Да, сила отцовского образа, мощь его влияния на ребенка, в общем-то, не совсем постижимы, не вполне открыты рациональному взгляду. Это в каждой семье так. Но особенно, конечно, в семье Гайдаров – просто в силу того, что для Аркадия Гайдара его отец Петр Исидорович Голиков, а для Тимура его отец Аркадий Петрович Гайдар – во многом остались лишь ярким воспоминанием. Сборником писем, легенд, нескольких важных эпизодов, крепко засевших в памяти, ярких, но отдельных воспоминаний.
Это скорее тень отца, потерянного в раннем возрасте, отца, которого уже нельзя воскресить, увидеть воочию.
Иногда отсутствие отца важнее его присутствия.
Так было и в этой семье.
Музей Аркадия Гайдара в Арзамасе состоит из двух частей. Современная экспозиция, большие красивые витрины, в которых личные вещи писателя, документы, фотографии… И крошечный мемориальный домик, сохранившийся в этом районе лишь благодаря имени Аркадия Гайдара. Сюда Тимур, а потом Егор (а сегодня уже его друзья, члены семьи) приезжают ежегодно. В этих двух крошечных комнатках с печкой и сенями жила большая семья. Отсюда ушел на Первую мировую Петр Исидорович Голиков. Отсюда убежал в армию его сын. Отсюда начался этот огромный и длинный путь в большую русскую историю.
Арзамас – город на самом деле удивительный. Очень церковный, богомольный и в то же время очень военный – недаром сюда во время Великой Отечественной войны собирались переводить Министерство обороны, а недалеко отсюда, в Сарове, делали ядерную и водородную бомбу. Город заводов и тихих яблоневых садов. Город купцов и революционеров. Город, можно так сказать, неразрешимых российских противоречий.
В архиве и коллекции музея, которым руководит Елена Владимировна Бундакова, есть удивительные вещи. Тот самый именной пистолет, подаренный Тимуру Гайдару Фиделем Кастро. Первые наброски книги об отце, сделанные Тимуром еще в 1940-е годы. Письма и дневники Аркадия Петровича.
Интересно, о чем думал Егор, когда приезжал сюда?
О том, как со скрипом поворачивается колесо русской истории? О том, почему его дед оказался внутри революционной лавы? О том, как меняется роль интеллигента в истории?
Он иногда просил оставить его одного в этом старом доме. И в доме другого своего деда, Павла Бажова, в Екатеринбурге, тоже просил оставить одного.
Сидел и думал.
«В бажовском доме в Свердловске все дышало уютом, видно было, что здесь жила большая дружная семья. Теперь семья разъехалась, остались лишь двое – бабушка и мой любимый старший брат Никита, которому контрабандой от родителей поставляю кубинские сигареты. В жизни мне пришлось сменить несчетное количество квартир, но, пожалуй, самое глубокое чувство дома навсегда осталось от маленького деревянного строения на улице Чапаева, окруженного садом, который посадил мой дед», – писал Егор Гайдар в своих воспоминаниях.
Маленький Егор, и это зафиксировано в семейной легенде, говорил о бажовском доме так: «Дом свой, деревья свои, даже воздух – и тот свой».
Дом этот – на углу Большакова и улицы Чапаева, бывшей Архиерейской – и поныне стоит в Екатеринбурге.
Трудно поверить, но купил этот дом Павел Петрович еще до революции, в 1914-м. Умер в нем в 1950-м.
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мать Егора, иногда всплескивала руками, глядя, как подходит маленький Егор к письменному столу, как, опираясь на одно колено, пишет, как поддерживает голову плечом – вылитый дед. Наследственные жесты, наследственная пластика – бажовские.
В 1969-м семья Бажовых переехала в новую городскую квартиру, а в доме открылся литературный музей. Музей писателя Бажова. Подлинные вещи – мебель, рабочий стол, подушки-думочки, фотографии в рамочках, книги, чернильница, но дело, конечно, не только в этом – каким-то волшебным образом дом этот сохраняет бажовскую ауру. Дух волшебства, спрятанный в самых простых вещах. Ощущаешь его и в саду. Здесь за каждым деревом Бажов ухаживал сам.
Что писал о деде его внук (родившийся уже после смерти уральского сказочника)?
«Павел Петрович Бажов – по судьбе, характеру – во многом полная противоположность Аркадию Петровичу. Если от Гайдара в семье осталась страсть к приключениям, то от Павла Петровича – спокойная рассудительность и основательность. Мальчишка из семьи уральских горнорабочих как-то подошел к учителю и попросил что-нибудь почитать. Тот дал ему первый том Пушкина и сказал: выучишь наизусть, придешь за вторым. Когда Павел Бажов выучил наизусть все тома собрания сочинений, учитель решил, что парень он толковый и заслуживает покровительства.
Потом была Духовная семинария, учительская работа и на многие годы – страстное увлечение собиранием уральского фольклора».
Да, книжный, кабинетный человек, весь мир строивший вокруг своего письменного стола. Как и его внук.
Кстати, когда мы вошли в последнюю квартиру Егора на Осенней улице, сын Петр показал нам кабинет с такими словами – «вот это единственное место в квартире, которое отец обустраивал лично, к которому приложил руку: сам заказывал и выбирал шкафы, говорил с плотниками, даже рисовал макеты сам».
То же самое было в доме Бажова – каждая деталь в кабинете продумана, все предметы лежат на своих постоянных местах, книжные шкафы, полки, всё сделано по его проекту. Для Бажова кабинет – это целая вселенная, вселенная мыслящего человека.
Была еще одна черта, роднившая их, – фантастическая, уникальная память, проявившая себя еще в детстве. И не случайно Гайдар с удовольствием излагает семейную легенду о том, как маленький Бажов выучил наизусть все тома Пушкина.
Егор дальше пишет о своей собственной юношеской «гиперпамяти»: как запоминал вначале все слова на географической карте, потом цифры и факты из географических атласов, энциклопедий и словарей, потом ходы в шахматных партиях, потом все учебники, книги – уже целыми страницами и главами. Его фантастическая память стала притчей во языцех с ранних лет.
Да, это тоже, «свое», наследственное, бажовское.
Но было бы, конечно, неправильно сводить всю личность Павла Петровича Бажова и весь итог его жизни только к работе за письменным столом или тем более к «изучению уральского фольклора».
Были там и совсем другие страницы.
Почему Бажов учился, кстати, именно в семинарии, в духовном училище? Нет, он не собирался становиться священником, как и многие его однокашники (даже поповские дети) – просто это образование было и дешевле, и доступнее, притом по качеству и содержанию оно мало отличалось от гимназического: те же древние языки, древние тексты, те же основы точных наук, та же литература. Плюс, конечно, Библия и ее толкование. Здесь, в семинариях и епархиальных училищах, формировалась народная интеллигенция, которой потом предстояло служить в уездных городах, не в столицах. Бажов тоже преподавал в епархиальном училище (кстати сказать, как и К. Э. Циолковский): здесь учили и девочек, и мальчиков – в уездном тогда Екатеринбурге.
А в 1915 году он вместе с молодой женой переехал в другой уездный город – Камышлов. А дом в Екатеринбурге на углу Архиерейской улицы сдал в аренду.
Бажову было уже далеко за тридцать, когда он после событий февраля 1917 года, добровольного отречения Николая II начал сотрудничать с местной камышловской газетой. Но статьи в этой газете – лишь одна сторона его жизни. Гораздо важнее участие учителя Бажова во всевозможных «выборных органах».
Этих самых выборов и выборных органов было в те месяцы немерено.
Выборы в Учредительное собрание. Выборы на уездный съезд народных (крестьянских и пр.) депутатов. Выборы на съезд крестьянского союза. Выборы в земские органы, в добровольные союзы, и так далее, и так далее.
Все началось раньше, с выборов в Государственную думу, но при царе предвыборный закон все время меняли, Думу распускали, и не один раз. А вот начиная с февраля 17-го, когда объявили будущие выборы в Учредительное собрание, все пошло-поехало.
Казалось тогда, в феврале, что новая демократическая Россия – вот она, уже есть, и никуда больше не денется (так казалось и в августе 1991-го). Вся огромная страна, притом страна воюющая, превратилась в один сплошной митинг и заседание-голосование: в каждой школе, на каждом заводе, в каждом селе собирались люди, они выбирали во всевозможные президиумы самых умных и толковых, они спорили о «путях развития», о понимании «народного блага», произносили речи, писали резолюции. Говорили о свободе, о первоочередных задачах, о гражданских правах.
Казалось, что теперь, когда жандармы больше не следят, не засылают провокаторов, не устраивают облав и арестов, все пойдет иначе. Само пойдет.
Не стал исключением и уездный Камышлов. Павел Петрович оказался выбран сразу в пять или шесть (кто их тогда считал?) уездных собраний, органов и советов. И вот тут-то, в разгар исторических событий, в начале новой светлой эры, он и написал свою первую книгу. А вернее, написал и напечатал одну брошюру.
Надо сказать, что несмотря на все последующие миллионные тиражи «сказов Бажова», несмотря на сотни статей и монографий о его творчестве, несмотря на неоднократное издание его многотомного собрания сочинений и даже несмотря на бюст на берегу городского пруда (а это было главное место отдыха и прогулок в Свердловске, который потом станет опять Екатеринбургом) – об этой самой первой книжке Бажова как-то совсем забыли. Она как будто напрочь исчезла. И сам Бажов о ней никогда больше не вспоминал.
И только в 2003 году, в сборнике «Неизвестный Бажов», эта брошюра 1917 года была переиздана. Называлась она замысловато: «Программа трудового крестьянства. К вопросу крестьянской организации (доклад П. Бажова)». В ней учитель Бажов излагает свое видение будущего России. Будущего – с точки зрения задач именно «трудового крестьянства», причем излагает удивительно подробно и развернуто для уездного деятеля. Ну так что ж, что уездного: ведь тогда каждый город, даже маленький, кипел политическими страстями и готовился к эпохальным изменениям, и в каждом городе рождались свои Робеспьеры и Дантоны, почему бы и нет?
Программа Бажова 1917 года касается буквально всех сторон политической, экономической, социальной жизни «трудового крестьянина», не только уральского; написана она, как следует из научного комментария 2003 года, «под влиянием программных документов всероссийского крестьянского союза». А союз этот довольно широко был представлен и в Государственной думе, и на первых съездах Советов. Но написана программа очень по-своему. Уже тогда – своим, особым бажовским языком.
«…Каждому, например, требуются дрова или каменный уголь для топлива… Но ведь потребность может быть разная: одному для двух печей, другому – для пятнадцати. Поэтому и необходимо установить в законе ограничения, что для личного пользования не всегда можно отпускать бесплатно».
«Особым законом должны быть установлены правила для периодических переделов земли, причем должна быть установлена, применительно к видам растений и системе хозяйства, необходимая длительность пользования участком».
«Каждый гражданин, желающий приложить свой труд к земле, имеет право обращаться в местные и областные самоуправления…»
Десятки страниц – война, мир, церковь, образование, хозяйство, деньги, органы власти, землеотвод, лес, рыба, дрова. Да, даже дровам посвящена не одна страница!.. А что же, на Урале без дров зимой никак.
Кажется, Бажов пишет не просто прикладную брошюру по заданию какого-то уездного съезда Советов, нет: он тут описывает целый мир, тот новый мир, который должен быть доступен в будущем сознательному «трудовому» крестьянину и в котором он просто должен быть счастливым.
Именно эта наивная вера проступает сквозь эти траницы. И в общем, от этого немного горько сейчас, когда читаешь. Утопический проект крестьянского мира, разбившийся о чудовищные реалии гражданской войны. О твердокаменную политику большевиков.
Да, в какой-то момент Бажов, конечно, понял, что его наивный план построения нового мира – не актуален. И постарался о нем забыть.
Но не забыли о нем другие.
Эсеровское прошлое Бажова, его связь с Всероссийским крестьянским союзом – припомнили ему позднее, в тридцатые годы, когда начали жестоко «вычищать» из партии оппортунистов и оппозиционеров. Исключали будущего «уральского сказочника» из ВКП(б) аж дважды. Первый раз – во время первой чистки в 1933 году. Тогда ему удалось доказать: что вы, да я не эсер! Я никогда не был эсером! А вот дальше было труднее.
Ох эти первые партийные чистки…
Первые, еще вполне себе гражданские и даже нестрашные внутрипартийные «суды» и «процессы», бесконечные собрания, проходившие на всех предприятиях страны: на заводах, в школах, институтах, райкомах, домах культуры, воинских частях, больницах, да практически везде…
Добровольные партийные «следователи», тоже еще вполне себе мирные, гражданские, добрые, хорошие люди, они стали поднимать старые газеты, в том числе ту самую, где Бажов печатал свои прекраснодушные заметки о крестьянстве, ворошить старую переписку, вызывать на эти партийные суды «свидетелей»… Еще казалось, что все это в рамках «мирной» внутрипартийной дискуссии, «внутрипартийной демократии», что оппозицию никто не сажает, что ей дают высказаться (даже в «Правде» одно время выходил вкладыш такой – «Орган оппозиции», так и назывался, пиши не хочу). Ну а что до партийного билета, что ж, любая партия имеет право очищаться, освобождаться, так сказать, от «сомнительных элементов».
Но вот уже повеяло холодком, но вот уже пошли первые инфаркты на почве этих чисток, но вот уже стальными нотками зазвучали голоса партийных прокуроров, и уже слабыми и жалкими стали голоса обороняющихся, и уже начались первые увольнения с работы…
И первые аресты.
И тогда Бажов пишет еще один документ, еще одно письмо, которое тоже потом не войдет, конечно, в собрание его сочинений:
«В протоколе партгруппы Истпарта, где имеется постановление о моем исключении из партии, записано, что в прошлом я был учителем духовного училища и имел чины. По этому разделу моих пятен прошлого объяснения считаю излишними, т. к. никогда этого не скрывал и на чистке подробно говорил, что я учился в духовной школе…», и так далее, и так далее, на десяти страницах убористым почерком – на все нужно оправдаться, на все нужно ответить.
И это при том, что в 1917 году Бажов действительно вступил в партию большевиков, был членом уездного комитета ВКП(б), выполнял самые что ни на есть ответственные поручения камышловских и пермских товарищей: например, история из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» как будто списана из биографии Бажова, это именно он транспортировал «золотой запас» целого уральского уезда в надежное место, с наганом за пазухой. Именно он потом агитировал казахов в Усть-Каменогорске за советскую власть, именно он в подполье писал листовки и потом собирал «излишки» хлеба в Северном Казахстане.
По случаю чего опять же получил именное оружие (о чем имеется документ в музее Бажова), потом снова сотрудничал с советскими газетами, работал в издательстве, получил важный чин редактора, а потом даже партийного цензора…
Но вот беда – ничего ему не помогает во время этой чистки.
На всех этих ступеньках партийной биографии Бажова тоже стоит остановиться подробнее: слава богу, хлеба в Северном Казахстане тогда, в 1920-м, было в достатке, и не отнимал Бажов хлеб у голодающих крестьян, это лишь через 15 лет страшный, насильственный, массовый вывоз властью зерна – в Казахстане, на Украине и в России – погубит миллионы крестьянских жизней. Ну а тогда хлеб вывозили из относительно сытых районов в совсем уж голодающие, вывозили, да, насильственно, да, без всякой компенсации… но хотя бы без жертв.
Без жертв? По крайней мере, так считал сам Бажов.
Цензором он тоже был, конечно, особым – указывал авторам на некоторую безграмотность или «ходульность» их пролетарских пьес или рассказов, на недостаток образования и таланта, на необходимость срочно учиться, то есть скорее был внутренним рецензентом, учителем (привычная роль), нежели цензором, но в строительстве системы советской культуры и печати – тоже поучаствовал.
И, конечно, принимал участие в фантастическом проекте Горького под названием «История фабрик и заводов».
Горький приехал в СССР в 1930 году из солнечной Италии вообще с массой проектов, желая в корне переделать всю систему литературного труда в Советской России. И одним из его утопических планов был такой: литераторы должны создать многотомный труд об истории фабрик и заводов, о том, как наживались эксплуататоры и страдали трудящиеся, считал, что литераторы должны бросить весь свой талант на этот стотомник или тысячетомник, и тогда… А что тогда?..
Наступит рай на земле?
Бажов был одним из участников этой горьковской инициативы, даже одной из жертв, по-другому не скажешь: на огромную книгу об истории бумагоделательного комбината он потратил больше года своей жизни. Он записывал воспоминания, редактировал, компоновал, проводил совещания, отправлялся в командировки, брал интервью… Потратил не только драгоценные силы и время, но и свои личные деньги – которые ему, кстати, никто не вернул – семь тысяч кровных рублей, которые он спустил на эти поездки, так и остались дырой в семейном бюджете. Но вот строительство бумагоделательного комбината застопорилось, и книгу отложили на неопределенный срок…
Однако настоящие неприятности (новая «чистка» и новое исключение из партии и потом вызов к следователю) начались вовсе не с этой истории, а с того, что Бажов – вновь по заказу, по заданию уральского издательства «Истпарт» – начал писать «историю партизанского движения на Урале».
Людей этих, кстати, он знал лично – и по тем самым революционным временам, и потом по подполью, когда скрывались от колчаковских контрразведчиков. Название книге он выбрал боевое, в духе времени, в духе Фадеева и Серафимовича, – «Формирование на ходу». Но вот беда, бывшие партизанские командиры оказались в числе главных фигурантов «троцкистско-зиновьевского заговора», и Бажова вновь вычистили из партии, и не просто «вычистили», а бумаги его затребовали уже не партийные, а самые что ни на есть настоящие следователи в НКВД.
Это случилось в 1935 году. Бажов оказался без работы и без денег. Где-то под кроватью лежал чемоданчик со сменой белья – ареста он ждал в любой момент. Своей младшей дочери Ариадне (ей было тогда девять лет) он сказал:
– Передай в школе, что твоего отца исключили из партии.
Хотел, чтобы в школе узнали о неприятностях не от кого-то, а от самих Бажовых.
Сестра его жены Валентины, слава богу, работала. Жена растила детей. Жили на зарплату сестры жены. На еду хватало с трудом. Наступила суровая зима.
Впрочем, семья и до всех этих событий жила не то чтобы очень легко.
«Поздний уральский вечер. Год, наверное, 1932, а может быть, 1933. На столе в столовой стоит кипящий самовар. Отец в кухне снимает тяжелые огородные сапоги, моется. Только что закончили сажать картошку. Семья огромная, а заработок невелик, работник всего один, поэтому “натуральное хозяйство” – серьезное подспорье, тем более что навык к нему был с детства. Своей картошки, моркови, капусты, лука хватало до весны. Поэтому весь наличный состав семьи работал в это горячее время на огороде. Отец в то время был политредактором Уралгиза и заведующим сектором сельскохозяйственной литературы. Возвращался поздно, усталый, но тут же переодевался и шел копать землю, подрезать деревья», – писала об отце Ариадна Павловна в своей книге «Дом на углу».
…На улице в темноте скрипел снег. Но Бажов на улицу почти не выходил. Он сидел и писал.
По семейной легенде, о которой говорит и сам Егор Гайдар в автобиографической книге, и его мама, Ариадна Павловна, в документальном фильме «Долгое время» – Павел Петрович Бажов спасся вообще-то случайно. Он пришел в НКВД (уже по повестке), прождал в коридоре два часа – и ушел, так и не дождавшись вызова к следователю. Следователь в этот день якобы сам был арестован.
Однако, справедливости ради, заметим, что историкам найти имя и фамилию этого следователя не удалось, даты не совсем сходятся, хотя, скорее всего, Бажов действительно попал в известный «пересменок» между Ежовым и Берией, когда некоторых следователей сажали (их были сотни), а некоторых заключенных выпускали (их были сотни тысяч), и в этой неразберихе, чекистской чехарде смог спокойно выйти со своим чемоданчиком на ярко освещенную улицу, сесть на трамвай и уехать куда глаза глядят. Такие чудеса тогда еще случались.
Бажов дважды был исключен из партии – и дважды в ней был восстановлен.
Но этот момент вынужденного безделья – сидения дома, чтения книг, мучительного ожидания вызова к следователю – даром для него не прошел. Именно тогда он дописывает, доделывает и потом выпускает в свет свои знаменитые «уральские сказы».
Их двенадцать, каждый занимает не так много страниц. В сущности, это тонкая книжечка. (Первые «сказы» он публикует еще до вызова в НКВД, причем не под своим авторством; в первой публикации написано – «собрал и записал П.Б.», в этой редакции автор, грубо говоря, – сам народ.) Но потом эта тонкая книжечка сделала Бажова оглушительно знаменитым. Странно, конечно, что это совпало с его огромными неприятностями. Странно, что лучшее из того, что он оставил после себя, – он сумел выразить, воплотить именно в те месяцы, когда стоял на пороге жизни и смерти.
И все-таки слава «уральского сказочника» – и первое книжное издание со всеми премиями и всесоюзной известностью – обрушилась на Бажова уже после того, как он пережил этот чемоданчик, смертельный страх и реабилитацию. Что тут скажешь? Совпадения случайны, но случайностей в мире нет.
Удивительное дело, как Павел Бажов и Аркадий Гайдар внешне похожи на героев своих произведений. Похожи обликом, стоит просто вглядеться в их фотографии.
Гайдар всегда удивлял несоответствием военной гимнастерки, сапог, папахи, перетягивающих ремней – и лица. Да, конечно, он не всегда так ходил, но его фотографии в модных трикотажных фуфайках, рубашках или косоворотках, даже в обычных брюках – почему-то редкость. Для фотографа он всегда одевался во все военное. И при этом – невероятно открытое, до растерянности детское, как бы солнечное лицо в вечной полуулыбке, круглое, наивное, светящееся от неосознанного счастья.
Всё как в его прозе. Непонятно, из чего соткан этот гайдаровский воздух – все формальные элементы взяты, что называется, «из советских газет»: враги, диверсанты, красные командиры, шпионы, правильные хорошие советские дети и неправильные нехорошие люди; однако говорят и живут они так, что события, которые с ними происходят, растворяют тебя в чтении – как вода растворяет соль. Невозможно оторваться от этого ритма, от этого языка, в нем есть волшебство таинственного вздоха – когда вдохнул, а не можешь выдохнуть, то ли от счастья, то ли от грусти, что сейчас это все кончится.
Бажов даже на ранних своих фотографиях выглядит как волшебник Гэндальф из фильма «Властелин колец».
Странные всклокоченные волосы, пронзающий взгляд, отрешенность колдуна и мага.
Долгое время он работал с местным фольклористом, ходил по деревням, составлял карточки, готовил к печати солидную академическую книгу, потом вдруг сказал своим коллегам: у нас же в сборнике в основном крестьянский фольклор, а как же наши горнозаводские сказки? Сказки рабочего класса?
И он записал – уже просто по памяти – те истории, которые слышал от отца и других людей из своего детства – почти 50 лет назад. Записал так, как их помнил.
То есть допридумывая и достраивая их до какого-то ему одному ведомого эстетического идеала.
Эти 12 коротких историй навсегда определили особое уральское мышление, уральскую мифологию, даже отношение к жизни. Они выявили те формулы, по которым здешний народ – трудно в это поверить, но это действительно так – живет, пишет, творит до сих пор.
Есть не просто «советский классик» Бажов, есть сегодня целая уральская литература (А. Иванов, И. Сахновский, А. Сальников, Е. Ройзман, А. Матвеева, О. Славникова и многие другие), и в каком-то смысле это прямые наследники Бажова, в прозе которых любые загадочные чудеса есть только часть обыденной жизни. Есть уральские фантасты – тоже прямые его наследники, есть и более странные наследники, тоже исповедующие его мифологию, например, целая «секта бажовцев», есть бажовский китч – все эти «хозяйки Медной горы», «полозы», говорящие ящерицы, жутковатые и в то же время вполне одушевленные существа, которых в других частях России нет даже и в помине – ни в фольклоре, ни уж тем более в учебнике по литературе.
Благодаря чему все это появилось? Конечно, Бажов тонко снял этот слой уральского фольклора, который в горно-заводских поселках совсем другой, чем в селах, он ближе к городскому готическому сказанию, ближе к Европе, ближе к Средним векам и Возрождению. Но самое главное – он создал свой, ни на что не похожий язык. Язык, способный передавать и ужас, и бездну страдания, и бездну счастья.
Оба они, и Гайдар, и Бажов – творцы своего оригинального языка. Русские интеллигенты, которые жили по своему собственному внутреннему нравственному закону.
Русский интеллигент, и это видимо, главное, что мы можем сказать, изучая их жизнь, – не может не быть участником революционных событий. Именно совесть, именно внутренний закон велят ему в них участвовать, стать частью этой кипящей стихии, разделить ответственность с русской историей.
…Да и в жизни они были очень разными. Бажов – многодетный отец семейства, причем двое детей умерли у супругов в раннем возрасте, от скарлатины, а взрослый сын погиб потом случайно во время студенческой практики. Умер именно тогда, когда Бажова начали вторично исключать из партии и чуть не арестовали, в тот же самый год. Это был самый плохой год в его жизни.
«Валянушка! С 10-го я в Краснокамске. Дождь без перерыва, мостки чуть не всплыли. Что-то вроде Венеции получается. Черт бы ее взял! Длительное ненастье действует, конечно, угнетающе, а сидеть придется, вероятно, дольше, чем предполагал… Приехала ли Лена и как она себя чувствует? Слушается ли маму Ридчена? (Ариадну Павловну в семье звали Ридой. – А. К., Б. М.)… Каковы твои школьные и хозяйственные дела? Постарайся вести себя спокойно. Знаешь, твое спокойствие – первое условие для моей работы» (письмо жене 1935 года).
Но три сестры выжили – и жили они, слава богу, очень долго.
Бажов человек домашний – все его письма переполнены любовью к своей семье, вниманием к деталям быта, он однолюб, преданный, нежный и заботливый. Он самоуглубленный, замкнутый – каждый «выход в люди» давался ему нелегко.
Аркадий Петрович Гайдар – совершенно другой характер, легко оставлявший позади города, дружбы, работы, семьи – странник и бродяга, великий поэт и невероятный выдумщик.
Егор Гайдар – внук двух этих великих людей. Он стал наследником и той и другой линии. Он одновременно – и Бажов и Гайдар.
Глава вторая. Партизаны 68-го
Тимур, как мы уже писали, вырос без отца. И именно это – тоска по отцу, не вернувшемуся с войны, – во многом определило его характер.
Аркадий Петрович Гайдар погиб в 1941 году, оставшись за линией фронта, после того как наши войска сдали Киев. Он был пулеметчиком в партизанском отряде. И это знали буквально все советские дети с первого или, может быть, с третьего класса.
Однако многое в гибели отца было Тимуру тогда непонятно.
Это была во многом неразгаданная тайна, и до конца она так и осталась неразгаданной.
Где он воевал? С кем был в отряде? Кто видел его смерть? Как именно он погиб? Что случилось в день его гибели?
Понадобились годы и десятилетия, чтобы все это хотя бы приблизительно установить. Понадобились сотни интервью, тысячи писем. Один из биографов Гайдара, Борис Камов, написал об этом несколько книг – и все-таки в любом случае это была лишь реконструкция. Хорошая, честная, но реконструкция.
В книге Тимура Гайдара есть такая фотография – «С сыном Егором на могиле отца и деда. Канев, 1987 год». Два человека, один как всегда в морской форме, другой с застенчивой улыбкой молодого парня, возлагают венок к памятнику. Черкасская область, Украинская ССР.
Эта могила Аркадия Гайдара появилась в Каневе в 1947 году, лишь через два года после войны, и до сих пор в интернете всплывают «разоблачительные» статьи о том, что прах, извлеченный из братской могилы партизанами, на самом деле – не его прах.
Партизаны, конечно же, помнили, где похоронили своего геройского пулеметчика. Однако могилы этой при советской власти действительно не могло не быть. Такая могила была советской власти насущно необходима.
С конца 1940-х годов начинается сакрализация Аркадия Гайдара. Из очень сложного, яркого, талантливого, трагического человека начинают лепить советскую икону. Икону благостную и, в общем, несколько фальшивую в этой благостности.
Писать свою книгу об отце Тимуру было трудно. Причины понятны. Написать полную правду – сыну об отце – это вообще не так-то просто.
У сына всегда есть своя, совершенно особая правда.
Понимая это, Тимур писал в предисловии: «Про Аркадия Гайдара написаны книги. Хорошие – и мне самому кое-что объяснили… Другие рождали желание оградить образ отца от упрощения, лакировки, от неловких домыслов, даже если авторы руководствовались самыми добрыми намерениями».
Но есть и другая задача у книги Тимура, может быть, даже не до конца понятая самим автором.
Тимур, когда писал книгу об Аркадии Петровиче, еще не знал, кем же станет его любимый сын Егор. Но, вероятно, подспудно чувствуя значительность и масштаб его характера – искал те родовые, фамильные линии, которые этот масштаб потом смогут объяснить.
После чистопольского интерната Тимур поступает в школу юнг. Служит на Северном флоте, где, по воспоминаниям Ариадны Павловны (то есть по его собственным рассказам), очищает море от немецких мин. Море кишмя кишело неразорвавшимся железом. Здесь только что ходили боевые корабли. Здесь шла морская война.
На тральщиках и других судах, рискуя, как и вся команда, жизнью среди серых холодных волн, Тимур вместе с другими младшими офицерами и матросами чистил воду, вынимал мины, делал море мирным и думал: а вот этот мир – он надолго ли?
Конечно, никто тогда этого не знал.
Уже в 1947-м начался конфликт вокруг Западного Берлина, грозивший перерасти в новую войну между бывшими союзниками.
В 1949-м и 1950-м китайцы и наши отправили военных советников, офицеров и технику в Северную Корею, чтобы напрямую воевать с американцами.
В 1949-м, благодаря разведке, вскрывшей «манхэттенский проект», и благодаря своим великим ученым (Гинзбургу, Курчатову, Тамму, Сахарову и другим), СССР провел первое ядерное испытание. И ядерная бомбардировка советской территории стала невозможной – есть или нет у Советов система быстрой доставки бомбы, никто не знал (а ее, кстати, еще не было), но ситуация «безответного удара», как с Японией, перестала быть актуальной. И тем не менее ядерные удары планировались, обсчитывались, отрабатывались, испытания проводились.
…В общем, гайку могло сорвать в любом месте.
Тимур Гайдар после первого, Ленинградского военно-морского училища окончил еще одно училище – военно-политическое, факультет журналистики, и начал новый этап своей службы – в военной прессе. Своя газета была в каждом военном округе, на каждом флоте. На Северном, где Тимур продолжал служить, это была газета «Советский флот».
В 1955 году (ему было около тридцати) вышла первая книжечка Тимура «Поход “Невы” вокруг Европы». Официально издательство называлось «Военное издательство Министерства обороны Союза ССР», в дальнейшем просто – Воениздат.
Сегодня эта тоненькая брошюрка стала библиографической редкостью. Крошечный формат, пожелтевшие листы газетной бумаги. Наивный рисунок на обложке – морские волны, подлодка, какой-то крейсер с пушками, рыбаки смотрят на военный корабль (наверное, с ужасом), в левом верхнем углу синенький логотип «Библиотечка журнала “Советский воин”». То есть издание подписное и в обязательном порядке поступало на стол командному составу.
В этой самой первой книжечке уже обозначился фирменный стиль Тимура – сквозь жесткую военную терминологию, устав и секретность, сквозь советский приподнятый (хотя и очень лаконичный, крепко сделанный) литературный язык – ярко проступает то, что ему ближе всего, – сильная человеческая эмоция, вольный дух открытия, а главное – восторг первопроходца.
Откуда он взялся, этот восторг первопроходца, понять несложно – на военном корабле военный журналист мог посетить страны, абсолютно недоступные простому советскому гражданину.
«Босфор узок. В древности римлянин Плиний Старший писал: “С одного берега на другой доносится пение птиц, лай собак и разговор людей. Здесь между двумя частями света можно поддерживать беседу, если только ветер не уносит слова”».
«Стамбул начинается длинным белым зданием, в архитектуре которого довольно причудливо и забавно переплелись и перепутались самые различные стили: и мавританский, и барокко… Это дворец Долма-Бахче – последняя резиденция султана. А за дворцом, на северной стороне бухты Золотой Рог, глубоко врезавшейся в сушу, расположились два района Стамбула: Пера и Галата».
Ах, как тяжело, как сладко ложатся на язык эти незнакомые слова, эти названия.
Турция, Греция, Средиземное море. Поход «учебного корабля» (а на самом деле, вполне боевого) вдруг оборачивается цветной кинопленкой, бездной деталей, вовсе не знакомых обычному советскому человеку, который, может быть, и в Москве-то бывал пару раз, да и то, если повезет.
Конкретной и прагматичной военной тематике, причем довольно суровой, Тимур сумел придать не то чтобы какой-то флер, а именно непонятно откуда взявшуюся радость, эмоциональную приподнятость.
Радость от узнавания другой, неведомой нам жизни. И это сыграло свою роль, возможно, когда редакция газеты выбирала, кого именно ей посылать на Кубу.
Между выходом первой книжки в Воениздате и первой длительной командировкой на Кубу – лежит дистанция в шесть лет. За эти шесть лет Тимур успел стать внештатным, а потом и собственным корреспондентом газеты «Правда».
Этот эпизод стал ключевым в его биографии, да и в целом в биографии всей семьи.
Официально его должность называлась так: «собственный корреспондент газеты “Правда” по странам Латинской Америки». Корпункт находился в Гаване: это был номер в недавно построенном прибрежном отеле (отнятом у американцев), с рабочим кабинетом.
Ариадна Павловна, жена Тимура и мама Егора, работала секретарем корпункта, то есть у нее были свои обязанности – она проверяла корреспонденцию, читала газеты, делала обзоры.
Были у секретаря корпункта и другие, не менее важные обязанности – Тимур имел широчайший круг общения, он должен был контактировать со множеством людей. Встречи, приемы, домашние ужины, «идем в гости, приглашаем гостей» – все это имело для «собственного корреспондента» и для его работы важное политическое значение.
Ариадна Павловна вспоминает в документальном фильме «Долгое время» забавный эпизод – друзья Тимура (а это были, на секундочку, Рауль Кастро и его жена Вильна Эспан) пришли к ним в гости. В кубинском магазине нельзя было купить ничего мясного: мясные и молочные изделия на Кубе если и были, то уже тогда по скуднейшим карточкам.
Зато в Гаване была рыба: морская, свежайшая и вкуснейшая, и ее было много. «Секретарь корпункта» принял важное решение: готовить рыбный стол – тунец в маринаде, рыбный пирог, плюс овощи и фрукты. В Москве бы позавидовали…
Однако красивая женщина, жена Рауля, есть рыбу наотрез отказалась. Аллергия на рыбу, бывает же такое.
Возникла легкая паника.
В гостинице жили и другие советские люди. Ариадна вихрем помчалась по соседям, у кого-то нашлось граммов триста московской колбасы, у кого-то московские конфеты, кто-то выдал несколько соленых огурцов.
Ну в общем, все как-то обошлось.
Прелести кубинского социализма людям, пережившим войну и послевоенные годы в СССР – с их карточной системой, хлебом из отрубей, постоянным недоеданием, – не казались чем-то из ряда вон выходящим.
Запомнились, конечно, Гайдарам вовсе не отсутствие тех или иных продуктов в магазинах, а яркое синее небо, океанский горизонт в окне, серый песок на пляже, бесконечной полосой уходящий куда-то вдаль; запомнились мраморные полы в номере отеля, где они жили (колониальная архитектура!), узкие незастекленные ниши в стене, поразившие Ариадну Павловну: слышать и чувствовать океан можно было постоянно, ведь это был отель, построенный для отпускников, в основном из Штатов; запомнились долетавшие во время шторма даже до отеля брызги пены; запомнились гигантские океанские рыбы на рынке, мелкие противные крокодилы в болотах, стадами окружавшие холмики и мостики, на которых стояли люди, хохочущие и визжащие от страха и восторга.
Кстати, есть домашнее видео, снятое на восьмимиллиметровую кинокамеру: фильм о путешествии двумя семьями на джипе английского друга – английского коммуниста Брайана Поллита. Ехали сквозь самые непроходимые кубинские места в далекую сельскую глубинку (хотелось поговорить с крестьянами, узнать их настроения насчет колхозов – ну и заодно пережить приключение). И на этой домашней пленке и мужчины, и женщины выглядят удивительно модно: бриджи, косынки, черные очки, соломенные корзинки в руках, белые ковбойки, ослепительные улыбки, всё изящно, легко, радостно, красиво, действительно как в кино; они смеются и полны счастья, молодого счастья, предчувствия чего-то хорошего, несмотря на тревожность ситуации, несмотря на грядущий Карибский кризис, на нехватку продовольствия на Кубе, даже несмотря на этих мелких противных крокодилов. Несмотря ни на что!
…Вообще казалось, что эта нехватка продовольствия – временное явление. Во-первых, поможет, чем может, великий Советский Союз. Во-вторых, на Кубе полно ресурсов – тростниковый сахар, мощное сельское хозяйство, тот же табак, стоит только развернуть молодые силы социализма. В-третьих, эти самые нехватки объяснялись торговой блокадой со стороны враждебных США.
Но прошли годы, и выяснилось, что «нехватки» объясняются совсем другим: самой природой социализма, неспособного к гибкому мобильному ответу на экономические проблемы, отсутствием частного интереса у мелких торговцев и крестьян, отсутствием инвестиций в инфраструктуру. Ну и блокадой, конечно, тоже.
Книга Тимура «Из Гаваны по телефону», выпущенная в издательстве «Молодая гвардия» в 1967 году, конечно, не дает ответа на вопрос: чем плох или чем хорош кубинский социализм? У нее, как сказали бы сейчас, другой контекст.
Это была документальная повесть, изданная большим тиражом. Повесть довольно популярная в те годы, когда всё кубинское было окружено в СССР особым ореолом. Она написана прекрасно, легко, в ней множество ярких, замечательных картинок, и в общем, совершенно понятно, чем кубинская революция очаровала Тимура – это была все та же романтика путешествия, помноженная на величие исторических событий. Ну и, наконец, впервые Тимур увидел здесь вместо советских бюрократов, вместо скучных тяжеловесных чиновников, карьерных циников – людей, которые совершенно свято и по-детски верили во все эти слова: мировая революция, рабочий класс, трудящиеся массы, решения съезда партии.
Даже сами эти слова, такие знакомые и уже приевшиеся, звучали на испанском как-то по-другому: весело, бодро и, главное, искренне. А уж фон, на котором они звучали, и вовсе завораживал:
«…Ночью я сидел в баре “Эль-Рокко” на набережной недалеко от дома, в котором поселился. В подвальчике было темно. Два официанта, светя карманными электрическими фонарями, носили к столикам ром, кока-колу и кастрюльки с искристыми кубиками льда. Иногда луч неосторожно выхватывал из темноты целующуюся парочку. Нет, в Гаване не было объявлено затемнение. Просто в полутьме удобней, интимнее. Здесь такие бары называют “куэвас” – пещеры…
Я зашел сюда с митинга.
Я чувствовал себя чертовски усталым. Теперь я знал, что такое кубинский митинг.
Люди сначала идут молча. Кто-то запевает, кто-то начинает скандировать и смолкает, заглушенный шарканьем ног, побежденный ритмом безмолвного движения.
Людей становится больше. Они сходят с тротуаров, заполняют узкие улицы. На перекрестках, если затормозилось движение, появляется оратор-доброволец. Он залезает на решетку, на каменный столбик, а то и на крышу машины и говорит, яростно жестикулируя, пока колонна не двинется дальше. Его слушают молча…
Мальчишки в форме, размахивая автоматами, заворачивают автобусы и машины. Такие же мальчишки, без формы и без автоматов, карабкаются на фонари. Трибуна на верхней площадке гранитной лестницы перед рядом гробов, покрытых кубинскими флагами. Ораторы, поднимающие флаги Бразилии, Чили, Перу, Мексики…»
Казалось, что мечта его отца, Аркадия Гайдара, о мировой революции каким-то чудом ожила. Что мир поверил в эту старую утопию, что мир проснулся и теперь, очищенный от сталинизма, от ужаса репрессий, шагнет в этот обновленный социализм весело, твердо, что это будет по-настоящему. У Тимура не было даже тени сомнений, кто тут на правильной стороне, – американцы, безусловно, были на неправильной. Советские – да, на правильной. Ну а как могло быть иначе?
«Улыбающийся парень в форме, отутюженной так, что она кажется скроенной из жести, протягивает бумажный фунтик (Тимур описывает свой первый визит в редакцию газеты кубинской народно-социалистической партии «Нотисиас де Ой». – А. К., Б. М.), наливает в него глоток густого, как ликер, кофе, и я еще не знаю, что мы станем друзьями, что буду плясать у него на свадьбе, а потом по кубинскому обычаю подарю его новорожденной дочке серьги – две золотые капельки. Не знаю, что с другим, вот тем худощавым, нахмуренным, мы будем лежать на обочине шоссе под бомбежкой, а одного из присутствующих убьют бандиты, когда он поедет с кинопередвижкой в матансасскую деревню. Что вот с теми ребятами мы не раз будем бродить по ночной Гаване и спорить о моральном факторе и материальной заинтересованности, о культе личности, о нэпе, о том, что такое социализм. Мы еще ничего не знаем друг о друге. Просто рады встрече, рады тому, что революция!»
Родовой, фамильный романтизм упал на благодатную почву – казалось, что он здесь со всех сторон окружен романтиками революции. И как ему было не влюбиться в эту страну?
Но, конечно, главный эпизод, описанный в книге, – это встреча с Фиделем. «Фидель был фантастическим оратором, – вспоминала Ариадна Павловна после. – Его можно было слушать часами». (Это при том, что испанский они знали очень приблизительно: и она, и Тимур.) «Только через полтора часа поймал себя на том, что слушаю с острым интересом, ничего не понимая» – это пишет Тимур в книге «Из Гаваны по телефону» о выступлении Фиделя.
А он говорил тогда много, часто, почти каждый день. И каждая речь длилась три, четыре, пять часов. Люди превращались в слух, люди плакали…
Во время атаки на революционную Кубу, когда начались события на Плайя-Хирон, и с помощью американцев там высадился десант «кубинских контрреволюционеров», Тимур по своей собственной воле оказался на передовой.
В книге «Из Гаваны по телефону» он описал все это довольно подробно. Как, услышав об атаке, ринулся на линию фронта. Как, не зная испанского языка, рискуя сойти за американского шпиона и быть расстрелянным, попал в самую гущу событий и, наконец, как, добравшись до штаба, попросил самого Фиделя отправить его на передовую.
«Фидель Кастро положил карандаш, поправил берет, и я решился.
Делаю шаг вперед.
– Товарищ премьер-министр! Скоро атака. Прошу вашего разрешения…
В комнате повисла пауза. Молчит Фидель, хмуро теребит бороду. Все молчат.
– Приготовьте письмо к капитану Фернандесу, – говорит, наконец, Фидель. – Пусть едет.
Через пять минут “джип” с погашенными фарами пробирается по шоссе».
Очень многое поместилось в этой паузе.
Через много лет, вспоминая этот эпизод, Тимур расскажет: ему показалось, что Фидель ожидал другого – что корреспондент «Правды» попросит разрешения остаться, сопровождать его, «команданте», великого вождя революции, везде и всюду, стать его тенью и его летописцем.
Но молодой Тимур попросил другое: с пистолетом и редакционным удостоверением поехать прямо на войну. Как когда-то его отец – в осажденном немцами Киеве.
С тех пор, считает Ариадна Павловна, между ними установилась некая прохладная атмосфера. Никакого интервью, газетного очерка о Фиделе Тимур Гайдар так никогда и не напишет.
А вот с его братом, Раулем Кастро, у Тимура были очень дружеские, близкие отношения. Дружили даже семьями, часто общались. И недаром, когда в начале двухтысячных к власти на Кубе пришел Рауль Кастро и запахло «кубинской перестройкой», Егор Гайдар сказал вдруг задумчиво кому-то из своих близких друзей: «Надо бы поразмыслить о реформировании кубинской экономики. О том, как из классического социализма сделать что-то приемлемое».
О том, что делал Тимур на Кубе, в узких московских писательских кругах ходило немало легенд и слухов. Отчасти в этом виноват сам Тимур, человек лихой, пылкий, душа любой компании, порой склонный и к широким жестам, и эффектным словам. На одной из дружеских посиделок он как-то обмолвился, что на самом деле не просто писал репортажи с Кубы, а выполнял важное задание. (Приводим это свидетельство со слов Андрея Максимова, сына поэта Марка Максимова, ну а то, что такие слухи и легенды имели место, могут подтвердить и другие люди, еще ныне живущие.) Таким образом, писатели, друзья Тимура, были абсолютно уверены, что их друг не просто военный журналист.
Что именно стояло за этой как бы случайно оброненной фразой, – со стопроцентной уверенностью сказать сегодня нельзя. Документы закрыты, семья Тимура о таких подвигах папы и деда никогда даже не слышала и абсолютно их отрицает, поэтому придется и нам поневоле оставаться в поле предположений. Но вот одна любопытная деталь.
В 1984 году в родном Воениздате, через двадцать с лишним лет после Карибского кризиса, Тимур переиздал свою книгу «Из Гаваны по телефону» – но с некоторыми добавлениями. Немного подсократив и отредактировав свои ежедневные корреспонденции в «Правду», он сделал из них как бы приложение к той документальной повести, изданной в конце 1960-х.
Бонус-трек, как сказали бы сейчас. Живые документы эпохи.
Так вот в этом приложении, среди официальной хроники («…Вчера вечером в международном аэропорту Гаваны приземлился самолет ИЛ-18, на борту которого прибыл первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, член Президиума ЦК КПСС А. И. Микоян…»), среди нехитрых репортерских зарисовок («…они еще раз крепко обнялись, широкоплечий сибиряк ефрейтор Николай Зайков и смуглый кубинец Армандо Сьерра»), встречается вдруг такая странная корреспонденция, сильно выпадающая из всего остального материала – и стилистически, и фактически.
Тимур в ней пишет о том, что предшествовало Карибскому кризису. США готовили атаку на Кубу уже не силами «повстанцев», то есть эмигрантов, бежавших от Кастро, а силами своих собственных военно-морских и сухопутных подразделений.
Это обвинение – войска США хотели высадиться на Кубу, то есть готовили настоящую войну – не раз звучало тогда в советской прессе. Звучало, да – но мало ли в чем обвиняли американцев советские пропагандисты.
Однако у Тимура в 1984 году идея эта вдруг обрастает удивительной конкретикой:
«…К вторжению на Кубу предполагалось привлечь 5 дивизий: воздушно-десантную из состава 18-го корпуса ВВС, одну танковую, одну пехотную и две дивизии морской пехоты. Военно-воздушные силы должны были нанести массированные удары по береговой обороне Кубы, по ее аэродромам и обеспечить прикрытие с воздуха десантируемых войск. Военно-морские силы – обеспечить транспортировку дивизий к побережью острова, осуществить огневую поддержку высадки. Кроме того, на них возлагалась задача установления морской блокады Кубы.
В штате Флорида, неподалеку от Майами, в военной базе США Хомстед созданы два передовых командных пункта. Один из них – “Атлант Авдон” – руководит высаживающимися на Кубе войсками. Его возглавляет генерал Герберт Пауэлл. Второй – “Атлант Форвард” – руководит соединениями авиации. Здесь находится генерал Уолтер Свейн.
Немаловажная роль отводилась Гуантанамо – военной базе США на территории Кубы. Гарнизон базы был значительно увеличен за счет контингентов морской пехоты. На базу переброшены танки – их стало здесь до 150, и самолеты – до 120. Семьи военнослужащих – 2700 человек – эвакуированы из Гуантанамо в США… Продолжительность операции – до 30 дней, предполагаемые потери в личном составе американских вооруженных сил – до 5 тысяч человек…»
Ничего подобного в дни кубинских событий советские СМИ, разумеется, не писали и не передавали – все эти сведения носили характер исключительно конкретных разведданных.
«Помню, что читал этот “сценарий” поздним вечером, жена и сын мирно спали, – продолжает в книге Тимур Гайдар, – а мне, конечно, не спалось. Загорелся красный огонек. Аппарат зажужжал, по бумажной ленте забарабанили молоточки (аппарат назывался «телетайп». – А. К., Б. М.). “Ке таль?” – откликнулся дежурный на узле связи. “Как дела?” – “Хорошо, – ответил я. – Передам материал в Москву”. – “Готовы!”
И в редакцию “Правды” пошла информация о том, что в Гаване скоро состоится премьера пьесы “Васса Железнова” в постановке аргентинского режиссера Нестора Раймонди…
Об остальном в Москве те, кому положено, знают и сами».
В этом кусочке Тимур делает массу оговорок и ссылок: «…кое-что просачивалось в американскую печать, кое-что стало известно позже, когда был рассекречен ряд документов, появились воспоминания американских генералов…», он ссылается на конкретную (с датой) публикацию в газете «US News & World Report», однако внимательному читателю совершенно очевидно: автор этих строк тогда, в 1961–1963 годах, имел полный доступ к совершенно секретной военной информации, и не скрывает этого.
Но кем бы ни был Тимур в те годы на Кубе, просто журналистом или журналистом, которому доверялись какие-то важные переговоры (и соответственно, секреты), нам сейчас интересно другое.
Что тогда было важно для его сына, Егора? Что он запомнил?
Да, конечно, он запомнил все это – своей детской памятью (а она у него оказалась, как потом станет понятно, совершенно особым инструментом): яркие краски, зелень камышей, запах моря. Запомнил удивительно веселых красивых людей, которых было много рядом с его отцом, – кубинцев, англичан, чехов. Атмосферу особого праздника, праздника великих событий, которую нельзя не почувствовать даже ребенку.
Великими переменами бредили все вокруг, и для шестилетнего человека это не могло не стать главным впечатлением, может быть, даже более ярким, чем крокодилы, море и прыжки в бассейне с вышки.
Остро ощутил он и сам Карибский кризис (который в Штатах называли «кубинским»), ощутил особую тревогу взрослых, которые с волнением и даже страхом говорили о близкой угрозе ядерной войны. Детская память у всех устроена по-разному, но для маленького Егора Гайдара тема «ядерной угрозы» никогда не была формальным штампом советской идеологии. Он эту угрозу ощущал остро, писал о ней всерьез, и даже много работал (в разные годы жизни по-разному), чтобы ее предотвратить.
Есть еще одна семейная легенда, которая родилась из рассказов Ариадны Павловны. Ее до сих пор с улыбкой пересказывают внуки. Город гудит. Военные самолеты барражируют над Гаваной. Военные американские корабли на рейде видны невооруженным глазом. Все говорят об угрозе ядерной войны. Тимура нет, он на работе. Ариадна, понимая, что ядерный удар, или даже просто артиллерийская бомбардировка Гаваны – вещь абсолютно реальная, лихорадочно думает, что ей делать с ребенком, куда в этом случае бежать. Ведь будет не просто взрыв, а взрыв мощный и, возможно, радиоактивный. Наконец она открывает холодильник и задумчиво смотрит внутрь его. Все-таки железный ящик. Настоящий железный ящик. Если Егорка согнется, он влезет…
В дальнейшем этот эпизод станет темой в семейной мифологии. Мол, Егор сам часто открывал холодильник и в условиях карибской жары доставал из морозилки снег, повторяя про себя: хочу снег, хочу в Москву. Мол, идея про «спрятаться в холодильнике» если и была высказана, то в шутку.
Но – так или иначе – хорошо, что тема ядерной угрозы превратилась в итоге в иронический семейный фольклор.
Куба – это еще и столкновение очень памятливого, очень глубокого и эмоционального мальчика с другим, не советским миром. С миром, который устроен иначе. Как вспоминала Ариадна Павловна, и здания, и дороги, построенные американцами, были еще во всей красе, новенькие, целые. И машины были новые, американские. И в целом – внешний вид западной страны, западного курорта. Как устроен «другой мир» – на материальном уровне, на уровне визуальном, цвета, запаха, рисунка – Егор Гайдар усвоил очень рано. Хотя Куба в те годы была уже далеко не «западной страной», Егору хватило и этого флера воспоминаний, разлитого в воздухе.
Ему было потом с чем сравнивать.
Ну и наконец, сам образ отца. Наверное, там, на Кубе, он проявился наиболее четко и объемно. Как никогда потом.
Отец много работал – причем, что важно, непосредственно на глазах семьи. Тимур Гайдар сочинял и диктовал статьи для «Правды» по телефону. Если телефонная связь была плохая и сдать статью в номер он физически не успевал – швырял со всего размаха телефонной трубкой об стену. Наверное, сначала Егор пугался, а потом смеялся. Вместе со всеми. Эти статьи, этот язык советского газетчика, который укладывал важнейшие мировые события (Карибский кризис, и все, ему предшествовавшее) в четкие сухие абзацы – все это тоже было необыкновенно важно. Это был яркий пример участия человека в истории.
После Карибского кризиса Тимура отозвали, но в Москве они прожили всего два года. Затем новая длительная командировка – в Белград, снова собственным корреспондентом «Правды».
В 1968 году Егору было уже двенадцать лет. К тому времени они с отцом и матерью находились в Белграде два года.
В своей биографии он, уже вполне взрослый, напишет: «Веду семейный бюджет с 11 лет».
Это правда. В одиннадцать лет он заметил, с каким трудом даются отцу финансовые отчеты о работе корпункта «Правды», которые он должен был высылать в редакцию ежемесячно. Туда входили и телефонные счета, и представительские расходы, и плата за аренду квартиры, и многое другое.
Родители – Тимур и Ариадна (Тимур всю жизнь звал ее Ридой, как и было заведено в семье Бажовых) – стали из-за этого даже слегка ссориться. Тимура Аркадьевича невероятно бесила вся эта «копеечная» бухгалтерия, вся эта казенная процедура. Да, он умел и зарабатывать, и тратить деньги, но составлять финансовые отчеты ему не нравилось, жена тоже была от этого не в восторге. И вдруг их одиннадцатилетний сын предложил: «Давайте я это буду делать».
Вслед за финансовыми отчетами наступил следующий этап: и Егор спокойно подсчитал, какие деньги и на что может тратить их семья ежемесячно, не залезая в долги. Он дал им бумажку с цифрами – все было как на ладони.
Родители были потрясены.
Вообще здесь, в Югославии, Егор многому научился. Сербские мальчишки были довольно задиристыми, спуску «чужим» не давали, и Егор научился себя защищать вместе с другими пацанами из «русской», то есть посольской, школы.
Он самостоятельно пошел на курсы английского и вскоре начал читать по-английски уже не только художественные, но и научные (в частности, экономические) книги.
Егор прочел многое из того, что в книжных магазинах в Белграде продавалось – а в Москве нет.
Он продвинулся в тренировке своей юношеской «гиперпамяти», запоминая все – от шахматных партий до страноведческой статистики и исторических фактов. Его голова почти лопалась от разнообразных сведений, которые он поглощал, как машина.
Было еще одно обстоятельство, о котором скромно и как бы между прочим упоминает Ариадна Павловна в фильме «Долгое время»: это быт. Белградский быт.
Этим коротким словом обозначалось в советском языке слишком многое, практически весь горизонт обычной жизни, доступный любому нормальному человеку: еда, питье, одежда, обувь, жилищное положение, мебель, автомобили, сигареты, медицинские услуги и лекарства, оправы очков, бытовая техника, радиоприборы, словом, все, что видел глаз, ощущала рука и нюхал нос.
Все это в СССР и в 1960-е оставалось довольно скудным, не предполагающим большого выбора, а то и просто «дефицитным».
Ариадна Павловна вспоминает, с каким чувством смотрела на платья, выставленные в белградских витринах, на женские туфли (которые подходили по цвету к сумке). Для многих советских женщин эти витрины были потрясением, да и на десятки сортов колбас, которые были доступны тут каждому, смотрела тоже – всего этого в СССР она никогда не видела вообще.
Каждый, кто пересекал границу СССР в те годы, не мог не задать себе этот вопрос: в чем же дело?
Почему в Югославии, в Польше, в ГДР, даже в Болгарии и Румынии этот самый «быт» и выглядит, и пахнет совсем по-другому? Что с нами не так, в конце-то концов?
Но в отличие от взрослых, которые вынуждены были оставлять вопросы без ответа или пользоваться какими-то расхожими стереотипами времен холодной войны, Егор мог задуматься об этих различиях уже более глубоко. Используя свой «углубленный английский», он прочел в Югославии первые классические труды по экономике. Прочел Адама Смита, например.
Ну и наконец, еще один важный опыт, вывезенный семьей из Белграда 1968 года: опыт резко изменившейся политической ситуации. Опыт кризиса. После августовского вторжения СССР в Чехословакию изменилось отношение к советским, изменилось отношение к стране.
Если до августа 1968 года советским людям улыбались, им были всюду рады, их всюду приглашали как братьев по социализму, как представителей народа-победителя, то после Праги эмоции стали совсем иными. Гайдары не могли не почувствовать это, даже на уровне обычных уличных продавцов, соседей, прохожих, друзей. Это было больно. И заставляло задуматься.
Тимур как человек глубокий, начитанный, склонный к анализу и интеллектуальному поиску, пытался разобраться в уроках «югославского социализма» с рыночным уклоном, «югославского самоуправления», бывшего тогда в моде. Он читал статьи и книги (оба, и отец и сын, неплохо говорили и читали на сербском), обсуждал все это – в каких-то пределах – со своим сыном.
Но после 1968-го весь этот чаемый поворот к «социализму с человеческим лицом» стал уже невозможен в СССР. И об этом они говорили тоже.
Стало понятно – пора возвращаться в Москву.
Глядя на Егора и думая о возвращении, и отец, и мать, скорее всего, вздыхали про себя с некоторым облегчением. Юный человек должен расти все-таки не в искусственной среде (какой была советская колония в любой стране), а в естественной. Просто ходить по улицам, приглашать в гости друзей, чувствовать вокруг себя родной город, учиться самостоятельным поступкам и решениям в самой что ни на есть гуще московской жизни.
Для Егора, книжного мальчика – это было вдвойне актуально.
Поразительную историю рассказывает мать Егора Ариадна Павловна в документальном фильме «Долгое время». Когда сыну должно было исполниться тринадцать лет, Тимур Гайдар спросил его: скажи, Егор, что же тебе подарить на день рождения?
Ответ мог быть любым: путешествие, велосипед, удочка, мяч, просто карманные деньги в каком-то приличном количестве, чтобы девушку сводить в кино – ну, о чем мечтает парень в этом возрасте?
Егор ответил: «Папа, я хочу, чтобы ты разрешил мне читать книги, которые стоят у тебя во втором ряду».
Как и многие другие реалии советской жизни, ответ этот сегодня нуждается в подробной расшифровке.
Да, конечно, вы правильно догадались: это были самиздат, тамиздат, запрещенная литература. Но как в принципе это было устроено?
Книжные шкафы, книжные полки были главным украшением любой советской квартиры, вокруг них порой создавалось все остальное, весь остальной бытовой уют.
Богатые наследственные библиотеки существовали не у многих, поэтому заполнить эти шкафы и полки было не простой задачей. Основу библиотеки всегда составляли собрания сочинений, так называемые «подписные издания» (Гоголь, Шекспир, Лев Толстой, Эрнест Хемингуэй, Сергей Есенин, Томас Манн). Работая в «Правде», Тимур мог на все это подписаться, не стоя в очереди с ночи до утра в книжном магазине и не утруждая себя обменом или денежными расчетами с книжными «жучками» – то есть книжными спекулянтами, которые тоже страстно любили книги, но имели с этого в той брежневской Москве неплохой профит.