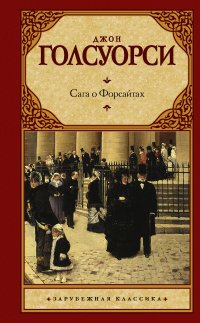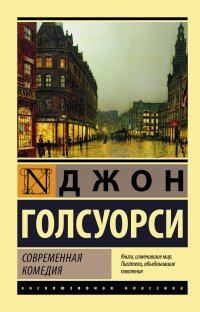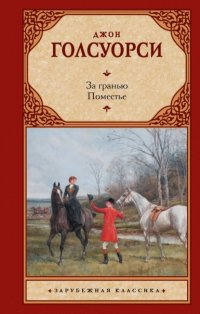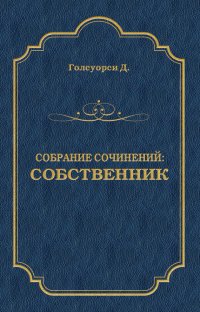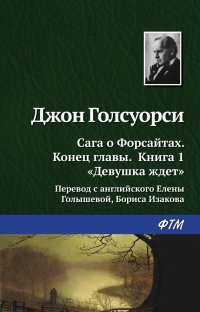Читать онлайн Собрание сочинений. Встречи: Интерлюдия. Лебединая песня бесплатно
- Все книги автора: Джон Голсуорси
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2009
«Современная комедия»
Встречи
Интерлюдия
I
В Вашингтоне светило осеннее солнце, и все, кроме камня и вечнозеленых деревьев на кладбище Рок-Крик, сверкало. Сомс Форсайт сидел перед статуей Сент-Годенса[1], подложив под себя пальто, и, прислонившись к мраморной спинке скамьи, наслаждался уединением и полоской солнечного света, игравшего между кипарисами.
С дочерью и зятем он уже был здесь накануне днем, и место ему понравилось. Помимо привлекательности всякого кладбища, статуя будила в нем чувство знатока. Купить ее было невозможно, но она, несомненно, была произведением искусства, из тех, что запоминаются. Он не помнил статуи, которая так сильно дала бы ему почувствовать себя дома. Эта большая зеленоватая бронзовая фигура сидящей женщины, в тяжелых складках широкой одежды, уводила его, казалось, в самую глубь собственной души. Вчера в присутствии Флер, Майкла и других, глазевших на нее вместе с ним, он воспринял не столько настроение ее, сколько техническое совершенство, но теперь, в одиночестве, можно было позволить себе роскошь предаться личным ощущениям. Ее называли «Нирваной» или «Надгробием Адамсов»[2], он не знал точно. Но, как бы там ни было, вот она перед ним, самое лучшее из виденного в Америке – то, что доставило ему наибольшее удовольствие, как ни много он видел воды в Ниагаре и небоскребов в Нью-Йорке. Три раза он пересаживался на полукруглой мраморной скамье, и каждый раз ощущение менялось. С того места, где он сидел теперь, казалось, что эта женщина уже перешла предел горя. Она сидела в застывшей позе смирения, которое глубже самой смерти. Замечательно! Есть же что-то в смерти! Он вспомнил своего отца Джемса, через четверть часа после смерти выглядевшего так, словно… словно ему наконец сказали!
Лист клена упал ему на рукав, другой на колено. Он не смахнул их. Легко сидеть неподвижно перед этой статуей! Заставить бы Америку посидеть здесь раз в неделю!
Он встал, подошел к памятнику и осторожно потрогал складку зеленой бронзы, словно сомневаясь в возможности вечного небытия.
– У меня сестра в Далласе – еще совсем молоденькая, вышла там за служащего железной дороги. Да, Техас – замечательный штат. Сестра только смеется, когда говорят, что там климат неважный.
Сомс отнял руку от бронзы и вернулся на свое место. В святилище входили двое – высокие, тонкие, немолодые. Дошли до середины и остановились. Потом один сказал: «Ну что ж», и они двинулись к другому выходу. Легкое дуновение ветерка пошевелило упавшие листья у подножия статуи. Сомс передвинулся на самый конец скамьи. Отсюда статуя снова была женщиной. Очень интересно! И он сидел неподвижно, в позе мыслителя, закрыв рукой нижнюю часть лица.
Сильно загорелый и по виду бесспорно здоровый, он привык считать себя измученным долгим путешествием, которое, опоясав земной шар, должно было закончиться послезавтра, с посадкой на «Адельфик». Трехдневное пребывание в Вашингтоне было последней каплей, и переносил его Сомс прекрасно. Город был приятный: в нем оказалось несколько красивых зданий и масса по-осеннему ярких деревьев, здесь не было нью-йоркской сутолоки, и во многих домах, по его мнению, даже можно было бы жить по-человечески. Конечно, город кишел американцами, но это уж было неизбежно. И Флер его радовала: она совсем успокоилась после этой неприятной истории с Феррар, была, по-видимому, в прекрасных отношениях с Майклом и с удовольствием ждала возвращения домой и встречи с ребенком. Сомс безмятежно предавался ощущению завершенности и покоя, чувству, что добродетель сама себе награда, и, главное, мысли, что скоро он снова услышит запах английской травы и снова увидит реку, протекающую мимо его коров. Аннет – и та, возможно, будет рада его видеть: он купил ей в Нью-Йорке превосходный браслет с изумрудами. И венцом этой общей удовлетворенности явилась статуя «Нирваны».
– Вот мы и пришли, Энн.
Английский голос, и двое молодых людей на дальнем конце, – наверно, будут болтать! Он готовился встать, когда услышал голос девушки – американский голос, но мягкий и странно интимный:
– Джон, она изумительная. У меня прямо замирает вот тут.
По движению ее руки Сомс увидел, что именно там замирало и у него, когда он смотрел на статую.
– Вечный покой. Грустно от нее, Джон.
В ту минуту, когда молодой человек взял ее под руку, стало видно его лицо. С быстротой молнии половина лица Сомса опять скрылась за его рукой. Джон! Да, вот оно что! Джон Форсайт – никакого сомнения! И эта девочка – его жена, сестра, как он слышал, того молодого американца, Фрэнсиса Уилмота. Что за несчастье! Он прекрасно помнил лицо молодого человека, хотя видел его только в галерее на Корк-стрит, да после в кондитерской, да раз в тот невеселый день, когда ездил в Робин-Хилл просить свою разведенную первую жену позволить ее сыну жениться на его дочери. Никогда он так не радовался отказу. Никогда меньше не сомневался, что так нужно, а между тем боль, испытанная им, когда он сообщил об этом отказе Флер, осталась у него в памяти, как тлеющий уголь, красный и жгучий под пеплом лет. Надвинув шляпу на лоб и заслонившись рукой, он стал наблюдать.
Молодой человек стоял с непокрытой головой, словно поклоняясь статуе. Что-то форсайтское в нем есть, хотя слишком уж большая шевелюра. Говорили – поэт! Неплохое лицо, что называется, обаятельное; глаза посажены глубоко, как у деда, старого Джолиона, и такого же цвета – темно-серые; более светлый тон волос, – очевидно, от матери; но подбородок Форсайта. Сомс взглянул на его спутницу: среднего роста, смугло-бледная, черные волосы, темные глаза; красивая посадка головы и хорошо держится – очень прямо. Что и говорить – мила! Но как мог этот мальчик увлечься ею после Флер? Все же у нее естественный вид для американки; чуть похожа на русалку, и что-то в ней есть интимное, домашнее.
Ничто в Америке не поразило Сомса так сильно, как отсутствие обособленности и чувства дома. Чтобы остаться в одиночестве, нужно выключить телефон и залезть в ванну – иначе непременно позвонят, как раз когда собираешься ложиться спать, и спросят, не вы ли мистер и миссис Ньюберг. И дома не отделены друг от друга и от улицы. В отелях все комнаты сообщаются, в вестибюле – неизбежная стая банкиров. А обеды – ничего в них домашнего; даже если обедаешь в гостях, всегда одно и то же: омары, индейка, спаржа, салат и сливочное мороженое; конечно, блюда все хорошие и в весе прибавляешь, но ничего домашнего.
Те двое разговаривали. Он вспомнил голос молодого человека.
– Это – величайшее создание рук человеческих во всей Америке, Энн. У нас в Англии не найдешь ничего подобного. Прямо аппетит разыгрывается – придется поехать в Египет.
– Твоя мама согласилась бы с радостью, Джон; и я тоже.
– Пойдем посмотрим ее с другой стороны.
Сомс поспешно встал и вышел из ниши. Его не узнали, но он был встревожен. Нелепая, даже опасная встреча! Он проездил шесть месяцев, чтобы вернуть Флер душевное равновесие, и теперь, когда она успокоилась, он ни за что на свете не допустит, чтобы она снова разволновалась от встречи со своей первой любовью. Он слишком хорошо помнил, как его самого волновал вид Ирэн. Да, а ведь очень возможно, что Ирэн тоже здесь! Ну что же, Вашингтон – большой город. Опасность невелика! После обеда – поездка в Маунт-Вернон, а завтра рано утром отъезд. У ворот кладбища его ждало такси. Один из автомобилей, стоявших тут же, принадлежал, очевидно, этим молодым людям; и он искоса оглядел машины. Не возникло ли у него опасение – или надежда – увидеть в одной из них ту, которую когда-то, в другой жизни, он видел день за днем, ночь за ночью, которая вечно, казалось, ждала того, что он не мог ей дать. Нет! Только шоферы переговариваются. И, садясь в такси, он сказал:
– Отель «Путомак».
– Отель «Потумак»?
– Если вам так больше нравится.
Шофер ухмыльнулся и захлопнул дверцу. Дом раненых воинов! Ветераны-то, говорят, почти все умерли. Впрочем, и с последней войны их вернулось немало. А что для Америки пространство и деньги? Здесь столько их – не знают куда девать! Что ж, неважно, раз ему скоро уезжать. Ничего не важно. Он даже пригласил целую кучу американцев заехать посмотреть его коллекцию, если они будут в Англии. Все они были очень радушны, очень гостеприимны; он перевидал множество прекрасных картин, среди них несколько китайских. И столько высоких зданий; и воздух очень бодрящий. Жить он здесь не хотел бы, но ненадолго – почему же! Во всем так много жизни – неплохое возбуждающее средство!
«Не могу себе представить, как она здесь живет, – подумалось ему вдруг. – В жизни не видал более „домашнего“ человека». Машины катились мимо или рядами выстраивались на стоянках. Машины и газеты – вот Америка! И внезапная мысль встревожила его. Они здесь все печатают. Что, если в списке прибывших есть его имя?
Вернувшись в отель, он сейчас же прошел к киоску, где продавались газеты, зубная паста, конфеты, о которые ломаются зубы, вероятно, и новые зубы взамен сломанных. Список прибывших? Вот он: «Отель „Потомак“: м-р и м-с Мак-Гунн; две мисс Эрик; м-р X. Йелам Рут; м-р Семмз Форсит; м-р и м-с Мунт». Ну конечно, тут как тут! Только, к счастью, совсем не похоже: Форсит! Мунт! Никогда не напишут верно. «Семмз»! Неузнаваемо, надо надеяться. И, подойдя к окошечку конторы, он взял книгу приезжающих. Да! Он написал имена совершенно четко. И слава богу, иначе они по ошибке напечатали бы их правильно. А потом, перевернув страницу, он прочел: «М-р и м-с Джолион Форсайт». Здесь! В этом отеле! За день до них; да, и на самом верху страницы, с пометкой на несколько дней раньше: «М-с Ирэн Форсайт». Мысль его заработала с неимоверной быстротой. Надо взяться за дело сейчас же. Где Флер и Майкл? Галерею Фриэра они осмотрели вместе вчера – прелестная, между прочим, галерея, лучшей в жизни не видел. И были у памятника Линкольну и у какой-то башни, на которую он отказался лезть. Сегодня утром они собирались в галерею Коркоран, на юбилейную выставку. Он знает, что это такое. Видел он в свое время юбилейные выставки в Англии! Модные художники всех эпох, а в результате – грусть и печаль. И он сказал клерку:
– Есть тут где-нибудь ресторан, где бы можно хорошо позавтракать?
– Конечно. У Филлера отлично готовят.
– Так вот, если придут моя дочь с мужем, будьте любезны передать им, что я буду ждать их у Филлера в час.
И, подойдя опять к киоску, он купил билеты в оперу, чтобы было куда уйти вечером, а через десять минут уже направлялся к галерее Коркоран. От Филлера они проедут прямо в Маунт-Вернон; пообедают перед спектаклем в каком-нибудь другом отеле и завтра первым поездом прочь отсюда – он не желает рисковать. Только бы поймать их в галерее!
Придя туда, он по привычке купил каталог и прошел наверх. Комнаты выходили в широкий коридор, и он начал с последней, где помещалась современная живопись. А вот и они перед картиной, изображающей заходящее солнце. Уверенный в них, но еще не уверенный в себе – Флер так проницательна, – Сомс взглянул на картины. Все современщина, подражание французским выдумкам, которые Думетриус еще полгода тому назад показывал ему в Лондоне. Как он и думал – все одно и то же; свободно могли бы все сойти за работу одного художника. Он увидел, как Флер дотронулась до руки Майкла и засмеялась. Какая она хорошенькая! Было бы слишком жаль опять ее расстроить. Он подошел к ним. Что? Это, оказывается, не заходящее солнце, а лицо мужчины? Да, в наше время никак не угадаешь. И он сказал:
– Я решил зайти за вами. Мы завтракаем у Филлера, говорят, там лучше, чем у нас в отеле, а оттуда можем прямо поехать в Маунт-Вернон. А на вечер я взял билеты в оперу.
И, чувствуя на себе пристальный взгляд Флер, он стал разглядывать картину. Ему было очень не по себе.
– Что, более старые картины – лучше? – спросил он.
– Знаете, сэр, Флер как раз только что говорила: как можно еще заниматься живописью в наши дни?
– То есть почему это?
– Если пройдете всю выставку, скажете то же самое. Здесь ведь собраны картины за сто лет.
– Лучшие произведения никогда не попадают на такие выставки, – сказал Сомс. – Берут что могут достать. Райдер[3], Инис[4], Уистлер[5], Сарджент[6] – у американцев есть великие мастера.
– Разумеется, – сказала Флер. – Но ты правда хочешь все осмотреть, папа? Я страшно проголодалась.
– Нет, – сказал Сомс. – После той статуи что-то не хочется. Пойдемте завтракать.
II
Маунт-Вернон! Расположен он был замечательно! Яркая раскраска листвы и поросший травою обрыв, а под ним широкий синий Потомак, даже по признанию Сомса более внушительный, чем Темза. А наверху низкий белый дом, спокойный и действительно уединенный, если не считать экскурсантов, почти английский и внушающий чувство, не испытанное им с самого отъезда из Англии. Понятно, почему этот Джордж Вашингтон любил его. Сомс и сам мог бы привязаться к такому месту. Старый дом лорда Джона Рассела на холме в Ричмонде немножко напоминал его, если бы, конечно, не ширина реки и не это чувство, которое у него по крайней мере всегда являлось в Америке и Канаде, будто стараются заполнить страну и не могут – такое огромное пространство и, по-видимому, полный недостаток времени. Флер была в восторге, а Майкл заметил, что все это, «честное слово, знаменито!». Солнце пригревало Сомсу щеку, когда он в последний раз огляделся с широкого крыльца, прежде чем войти в сам дом. Это он запомнит – не вся Америка создалась в один день! Он вошел в дом и стал тихо пробираться по комнатам нижнего этажа. Правда, устроено все было на редкость хорошо. Одни только подлинные вещи полуторавековой давности, напомнившие Сомсу минуты, проведенные в антикварных лавках старых английских городков. Слишком много, конечно, «Джорджа Вашингтона»: кружка Джорджа Вашингтона, ножная ванна Джорджа Вашингтона, и его письмо к такому-то, и кружево с его воротника, и его шпага, и его карабин, и все, что принадлежало ему. Но это, положим, было неизбежно. Отделившись от толпы, отделившись даже от своей дочери, Сомс двигался, укрывшись, как плащом, своей коллекционерской привычкой молчаливой оценки; он так не любил смешивать свои суждения с глупостями ничего не понимающих людей. Он добрался до спальни на втором этаже, где Джордж Вашингтон умер, и стал разглядывать ее через решетку, как вдруг уловил звуки, от которых кровь застыла у него в жилах. Те самые голоса, которые он слышал утром перед статуей Сент-Годенса, и вперемежку с ними голос Майкла! И Флер здесь? Беглый взгляд через плечо успокоил его. Нет! Они стояли втроем у парадной лестницы и обменивались замечаниями, обычными между чужими людьми, случайно интересующимися одним и тем же. Он слышал, как Майкл сказал: «Хороший вкус у них был в то время», а Джон Форсайт ответил: «Ведь все ручная работа».
Сомс бросился к задней лестнице, толкнул какую-то толстую даму, отпрянул, споткнулся и ринулся вниз. Если Флер не с Майклом, значит, она завладела хранителем музея. Увести ее, пока те трое не сошли вниз! Два молодых англичанина вряд ли представятся друг другу, а если и так, надо поскорее отвлечь Майкла. Но как увести Флер? Да, вот она – беседует с хранителем перед флейтой Джорджа Вашингтона, лежащей на клавикордах Джорджа Вашингтона в гостиной. И Сомсу стало тяжко. Возмутительно болеть, еще более возмутительно притворяться больным! А между тем – как же иначе? Не может он подойти к ней и сказать: «С меня довольно, едем домой». Судорожно глотая слюну, он приложил ко лбу руку и пошел к клавикордам.
– Флер… – начал он и сейчас же, чтобы не дать ей сбить себя, продолжал: – Мне что-то нездоровится. Придется пойти сесть в автомобиль.
Слова поразительные в устах такого сдержанного человека.
– Папа, что с тобой?
– Не знаю, – сказал Сомс, – голова кружится. Дай мне руку.
Право же, ужасно для него – вся эта история. Пока они шли к автомобилю, оставленному у ворот, ее заботливость так смущала его, что он готов был бросить свои уловки. Но он ухитрился проговорить:
– Слишком много двигался, должно быть; а может, еда виновата. Я посижу спокойно в автомобиле.
К его великой радости, она села рядом с ним, достала пузырек с нюхательными солями и послала шофера за Майклом. Сомс был тронут, хотя ему совсем не нравилось нюхать соли, которые оказались очень крепкими.
– Вот суматоха из-за пустяков, – проговорил он.
– Лучше поедем сейчас домой, милый, и ты ляжешь.
Через несколько минут прибежал Майкл. Он тоже, как показалось Сомсу, выразил непритворную тревогу, и машина тронулась. Сомс откинулся на спинку. Флер держала его руку; он плотно сжал губы, закрыл глаза и чувствовал себя, пожалуй, лучше чем когда-либо. Не доезжая Александрии, он раскрыл рот, чтобы сказать, что испортил им поездку: нужно ехать домой через Арлингтон, и он подождет в автомобиле, а они осмотрят музей. Флер не хотела сначала, но он настоял. Зато когда они остановились перед этим вторым белым домом, тоже удачно расположенным над рекой, с ним чуть не случился припадок, пока он ждал их. Что, если та же мысль придет в голову Джону Форсайту и он вдруг подкатит сюда? Он испытал острое чувство облегчения, когда они вышли из дома, говоря, что тут очень хорошо, но не сравнить с Маунт-Верноном: слишком массивные колонны у входа. Когда машина снова покатилась по багряному лесу, Сомс окончательно открыл глаза.
– Все прошло. Скорее всего, печень шалила.
– Тебе бы выпить рюмку коньяку, папа. Можно достать по рецепту врача.
– Врача? Глупости. Пообедаем у себя в номере, и я достану у официанта. У них, наверно, найдется.
Обедать в номере! Это была счастливая мысль.
Добравшись к себе, он лег на диван, растроганный и довольный, потому что Флер поправляла ему подушки, затемнила лампу и поглядывала на него поверх книги, чтобы удостовериться, лучше ли ему. Он не помнил, чтобы когда-нибудь чувствовал так определенно, что она его любит. Он даже думал: «Не мешало бы болеть вот так изредка!» А дома, чуть только он жаловался, что ему плохо, Аннет сейчас же жаловалась, что ей еще хуже.
Совсем близко, в маленькой гостиной через площадку, играли на рояле.
– Тебе не мешает музыка, милый?
У Сомса мелькнула мысль: «Ирэн!» А если так и Флер пойдет просить, чтобы перестали играть, – вот тогда действительно заварится каша.
– Нет, не надо, даже приятно, – поспешил он сказать.
– Очень хорошее туше.
Туше Ирэн! Он помнил, как Джун когда-то восторгалась ее туше; помнил, как застал однажды Босини, слушавшего ее в маленькой гостиной на Монпелье-сквер, и его лицо, вечно выражавшее какую-то тревогу; помнил, как она всегда бросала играть, когда появлялся он сам, – из боязни ли помешать или считая, что он все равно не оценит? Он никогда не понимал. Никогда ничего не понимал! Он закрыл глаза и сейчас же увидел Ирэн, в изумрудно-зеленом вечернем платье, в передней дома на Парк-Лейн, в день первого приема после их свадебного путешествия. Почему такие картины возникают, чуть закроешь глаза, – картины без всякого смысла? Ирэн расчесывает волосы – теперь, наверное, седые! Ему семьдесят лет, ей, значит, около шестидесяти двух. Как бежит время! Волосы цвета feuille morte – так называла их старая тетя Джули с некоторой гордостью, что нашла верное выражение, – и глаза такие бархатисто-темные! Ах, да разве во внешности дело? А впрочем, кто знает? Может быть, если бы он умел выражать свои чувства! Если б понимал музыку! Если б она не возбуждала его так! Может быть… о, к черту «может быть»! Разве угадаешь? И здесь, именно здесь. Путаная история. Неужели никогда не забыть?
Флер ушла укладывать вещи и одеваться. Принесли обед. Майкл рассказал, что встретил в Маунт-Вернон премилую молодую пару. «Англичанин. Сказал, что Маунт-Вернон вызывает у него тоску по родине».
– Как его фамилия, Майкл?
– Фамилия? Не спросил. А что?
– Так, не знаю. Думала, может, спросил.
У Сомса отлегло от сердца. Он видел, как она насторожилась. Малейший предлог, и ее чувство к сыну Ирэн вспыхнет снова. Это в крови!
– Брайт Марклэнд все болтает о будущем Америки, – сказал Майкл, – очень радужно настроен, потому что осталось так много фермеров и людей, работающих на земле. Впрочем, он болтает и о будущем Англии и тоже настроен очень радужно, хотя у нас на земле почти никто не работает.
– Кто это Брайт Марклэнд? – буркнул Сомс.
– Редактор одного нашего журнала, сэр. Непревзойденный пример оптимизма или умения поворачиваться куда ветер дует.
– Я надеялся, – сказал Сомс вяло, – что, посмотрев новые страны, вы почувствуете, что старая еще на что-то годится.
Майкл рассмеялся.
– В этом нет надобности меня убеждать, сэр. Но я, видите ли, принадлежу к так называемому привилегированному классу, и вы, сколько я знаю, тоже.
Сомс поднял глаза. Этот молодой человек иронизирует!
– Ну-с, – сказал он, – а я буду рад вернуться. Вещи уложены?
Да, вещи были уложены. И скоро он вызвал им по телефону такси. Чтобы они не замешкались в вестибюле, он сам сошел вниз усадить их в машину. Совершилось это гладко и без помех. И с глубоким вздохом облегчения он вошел в лифт и был доставлен назад в свой номер.
III
Он стоял у окна и смотрел на высокие дома, огни, автомобили, пробегающие далеко внизу, и чистое звездное небо. Теперь он и вправду устал: еще один такой день – и не нужно будет симулировать недомогание. Ведь на волоске висело, и не один раз, а несколько! Он жаждал дома и покоя. Быть под одной крышей с этой женщиной – как странно! Он не проводил ночи под одной крышей с нею с того страшного дня в ноябре 87-го года, когда он все бродил и бродил по Монпелье-сквер и вернулся к своей двери, чтобы столкнуться там с молодым Джолионом. Один любовник мертв, а другой уже на его пороге! В ту ночь она скрылась из его дома; и никогда с тех пор до самого этого дня они не ночевали под одной крышей. Опять эта музыка – тихая и дразнящая! Неужели играет она? Чтобы не слышать, он прошел в спальню и стал складывать вещи. Это заняло немного времени, так как у него был всего один чемодан. Что же, ложиться? Лечь и не спать? Он был выбит из колеи. Если это она сидит у рояля так близко от него… как-то она выглядит теперь? Семь раз – нет, восемь – видел он ее с того давно ушедшего ноябрьского вечера. Два раза в ее квартирке в Челси; потом у фонтана в Булонском лесу; в Робин-Хилле, когда явился с ультиматумом ей и молодому Джолиону; на похоронах королевы Виктории; на стадионе; снова в Робин-Хилле, когда ездил просить за Флер, и в галерее Гаупенор перед самым ее отъездом сюда. Каждую встречу он помнил во всех подробностях – вплоть до прощального движения затянутой в перчатку руки тогда, в последний раз, до чуть заметной улыбки губ.
И Сомс почувствовал озноб. Слишком жарко в этих американских комнатах! Он опять перешел в гостиную: со стола было убрано, ему принесли вечернюю газету; ни к чему это, здешние газеты не интересовали его. На таком расстоянии от прошлого – так далеко и так давно – чту чувствовал он теперь по отношению к ней? Ненависть? Слишком сильно! Нельзя ненавидеть тех, кто так далеко. Да ненависти, собственно, и не было! Даже когда он впервые узнал о ее измене. Презрение? Нет. Она сделала ему слишком больно. Он сам не знал, что чувствовал. И он стал ходить взад и вперед и раза два остановился у двери и прислушался, как узник в темнице. Недостойно! И, подойдя к дивану, он растянулся на нем. Надо подумать о путешествии. Доволен ли он им? Сплошной вихрь предметов, и лиц, и воды. А между тем все шло по программе, кроме Китая, куда они и не заглянули, такое там сейчас положение. Сфинкс и Тадж-Махал[7], порт Ванкувер и Скалистые горы – они точно в чехарду играли у него в памяти; а теперь эти звуки; неужели она? Странно! В жизни человека бывает, видно, только одно по-настоящему знойное лето. Все, что случается после, – чуть греет; и лучше, может быть, а то котел бы взорвался. Чувства первых лет, когда он знал ее, – хотел бы он пережить их снова? Ни за что на свете! А впрочем… Сомс встал. Музыка все продолжалась; но, когда она кончится, того, кто играет – будь то она или не она, – уже не увидишь. Почему не пройти мимо маленькой гостиной, просто пройти мимо и… заглянуть? Если она… ну что ж, красота ее, наверно, увяла – та красота, что так опустошила его. Он заметил, как стоял рояль: да, он сможет увидеть играющую в профиль. Он отворил дверь, музыка зазвучала громче; и он двинулся вперед.
Только комната Флер отделяла его теперь от маленькой открытой гостиной по ту сторону лестницы. В коридоре не было никого, даже мальчиков-рассыльных. В конце концов, наверное, какая-нибудь американка; возможно, эта девочка, жена Джона. Но нет – было что-то… что-то в самом звуке! И, держа перед собой развернутую вечернюю газету, он пошел дальше. Три колонны отделяли гостиную от коридора, заменяя собою то, чего так недоставало Сомсу в Америке, – четвертую стену. У первой колонны он остановился. Около рояля стояла высокая лампа под оранжевым абажуром, и свет ее падал на ноты, на клавиши, на щеку и волосы игравшей. Она! Хоть он и предполагал, что она поседела, но вид этих волос, в которых не осталось ни одной нити прежнего золота, странно подействовал на него. Волнистые, мягкие, блестящие, они покрывали ее голову, как серебряный шлем. На ней был вечерний туалет, и он увидел, что ее шея, плечи и руки все еще округлы и прекрасны. Все ее тело слегка покачивалось в такт музыке. Платье ее было зеленовато-серое. Сомс стоял за колонной и смотрел, прикрыв лицо рукой – на случай если она обернется. Он, собственно, ничего не чувствовал – лента памяти развернулась слишком быстро. От первой встречи с ней в борнмутской гостиной до последней встречи в галерее Гаупенор промелькнула вся жизнь, со своим жаром, и холодом, и болью; долгая борьба чувств, долгое унижение духа, долгая, трудная страсть и долгие усилия приучить себя к отупению и равнодушию. Ему сейчас меньше всего хотелось заговорить с ней, но взгляда оторвать он не мог. Вдруг она кончила играть; наклонилась вперед, закрыла ноты и потянулась к лампе, чтобы потушить ее. Лицо ее осветилось, и, отступив назад, Сомс увидел его – все еще прекрасное, может быть, более прекрасное, слегка похудевшее, так что глаза казались даже темнее, чем прежде, больше, мягче под все еще темными бровями. И опять явилась мысль: «Вот сидит женщина, которую я никогда не знал». И с какой-то досадой он отклонился назад, чтобы не видеть. Да, у нее было много недостатков, но самым большим всегда была и осталась ее проклятая таинственность. И, ступая бесшумно, как кошка, он вернулся к себе в номер.
Теперь он устал смертельно; он прошел в спальню и, поспешно раздевшись, лег в постель. Он всем сердцем желал быть на пароходе под английским флагом. «Я стар, – подумал он вдруг, – стар». Слишком молода для него эта Америка, полная энергии, спешащая к непонятным ему целям. Вот восточные страны – другое дело. А ведь ему, в конце концов, только семьдесят лет. Отец его дожил до девяноста, старый Джолион – до восьмидесяти пяти, Тимоти – до ста, и так все старые Форсайты. Они-то в семьдесят лет не играли в гольф; а между тем были моложе, уж конечно моложе, чем он чувствовал себя сегодня. Вид этой женщины… Стар!
«Не стареть же я еду домой, – подумал он. – Если опять почувствую себя так, посоветуюсь с кем-нибудь». Существует какая-то обезьянья штука, которую впрыскивают. Это не для него. Обезьяны, скажите пожалуйста! Почему не свиньи, не тигры? Как-нибудь продержаться еще лет десять, пятнадцать. К тому времени выяснится, куда идет Англия. Провалится пресловутая система подоходного налога. Он будет знать, сколько сможет оставить Флер; увидит, как ее малыш подрастет и поступит в школу… только в какую? Итон? Нет, там учился молодой Джолион. Уинчестер, школа Монтов? Туда тоже нет, если только его послушаются. Можно в Хэрроу. Или в Молборо, где он сам учился. Может, он еще увидит Кита участником состязания в крикет. Еще пятнадцать лет, пока Кит сможет играть в крикет. Что же, есть чего ждать, есть для чего держаться. Если нет этого, чувствуешь себя стариком, а уж если почувствуешь себя стариком, то и будешь стариком и скоро настанет конец. Как сохранилась эта женщина! Она!.. У него еще есть картины – приняться за них посерьезнее. Ах, эта галерея Фриэра! Завещать их государству, и имя твое будет жить – подумаешь, утешение! Она! Она не умрет никогда!
Полоска света на стене у самой двери.
– Спишь, папа?
Значит, Флер не забыла зайти к нему!
– Ну, как ты, дорогой?
– Ничего, устал. Как опера?
– Так себе.
– Я просил разбудить нас в семь. Позавтракаем в поезде.
Она коснулась губами его лба. Если бы… если бы эта женщина… но никогда – ни разу, – никогда по собственной воле…
– Спокойной ночи, – сказал он. – Спи спокойно.
Полоска света на стене сузилась и исчезла. Ну, теперь ему захотелось спать. Но в этом доме – лица, лица! Прошлое… настоящее… у рояля… у его постели… проходит мимо, мимо, а там, за ними, большая женщина в одежде из бронзы, с закрытыми глазами, погруженная в вечное, глубокое, глу… И с постели раздался легкий храп.
«Современная комедия»
Лебединая песня
Шекспир. Буря
- Из вещества того же, как и сон,
- Мы сотканы. И жизнь на сон похожа.
- И наша жизнь лишь сном окружена.
Часть первая
I
Зарождение столовой
В современном обществе быстрая смена лиц и сенсаций создает своего рода провалы в памяти, и к весне 1926 года стычка между Флер Монт и Марджори Феррар была почти забыта. Флер, впрочем, и не поощряла мнемонических способностей общества, так как после своего кругосветного путешествия она заинтересовалась империей, а это так устарело, что таило в себе аромат и волнение новизны и в какой-то мере гарантировало от подозрений в личной заинтересованности.
В «биметаллической гостиной» сталкивались теперь жители колоний, американцы, студенты из Индии – люди, в которых никто не усмотрел бы «львов» и которых Флер находила «очень интересными», особенно индийских студентов, таких гибких и загадочных, что она никак не могла разобрать, она ли «использует» их или они ее.
Поняв, что фоггартизму уготовлен весьма тернистый путь, она уже давно подыскивала Майклу новую тему для выступления в парламенте, и теперь, вооруженная своим знанием Индии, где провела шесть недель, она полагала, что нашла ее. Пусть Майкл ратует за свободный въезд индийцев в Кению. Из разговоров с индийскими студентами она усвоила, что невозможно следовать по какому-либо пути, не зная, куда он ведет. Эти молодые люди были, правда, непонятны и непрактичны, скрытны и склонны к созерцанию, но, во всяком случае, они, очевидно, считали, что отдельные молекулы организма значат меньше, чем весь организм, что они сами значат меньше, чем Индия. Флер, казалось, натолкнулась на истинную веру – переживание для нее новое и увлекательное. Она сообщила об этом Майклу.
– Все это очень хорошо, – ответил он, – но наши индийские друзья во имя своей веры не провели четырех лет в окопах или в постоянном страхе, как бы не попасть туда. Иначе у них не было бы чувства, что все это так уж важно. И захотели бы, может быть, почувствовать, да нервы бы притупились. В этом-то и есть смысл войны для всех нас, европейцев, кто побывал на фронте.
– Вера от этого не менее интересна, – сухо сказала Флер.
– Знаешь ли, дорогая, проповедники громят нас за отсутствие убеждений, но можно ли сохранить веру в высшую силу, если она до того, черт возьми, взбалмошна, что миллионами гонит людей в мясорубку? Поверь мне, времена Виктории породили у огромного количества людей очень дешевую и легкую веру, и сейчас в точно таком же положении находятся наши друзья индийцы – их Индия с места не сдвинулась со времени восстания[8], да и тогда возмущение было только на поверхности. Так что не стоит, пожалуй, принимать их всерьез.
– Я и не принимаю. Но мне нравится, как они верят в свое служение Индии.
И на его улыбку Флер нахмурилась, прочтя его мысль, что она только обогащает свою коллекцию.
Ее свекор, в свое время серьезно занимавшийся Востоком, удивленно вскинул брови, узнав об этих новых знакомствах.
– Мой самый старый друг – судья в Индии, – сказал он ей первого мая. – Он провел там сорок лет. Через два года после отъезда он писал мне, что начинает разбираться в характере индийцев. Через десять лет он писал, что совсем в нем разобрался. Вчера я получил от него письмо – пишет, что после сорока лет он ничего о них не знает. А они столько же знают о нас. Восток и Запад – разное кровообращение.
– И за сорок лет кровообращение вашего друга не изменилось?
– Ни на йоту, – ответил сэр Лоренс, – для этого нужно сорок поколений. Налейте мне, дорогая, еще чашечку вашего восхитительного турецкого кофе. Что говорит Майкл о генеральной стачке?[9]
– Что правительство шагу не ступит, пока Совет тред-юнионов не возьмет назад свои требования.
– Вот видите ли! Если б не английское кровообращение, заварилась бы хорошая каша, как сказал бы Старый Форсайт.
– Майкл держит сторону горняков.
– Я тоже, моя милая. Горняки – милейший народ, но, к сожалению, над ними проклятием тяготеют их вожди. То же можно сказать и о шахтовладельцах. Уж эти мне вожди! Чего они только не натворят, пока не сорвутся. С этим углем не оберешься забот: и грязь от него, и копоть, и до пожара недолго. Веселого мало. Ну, до свиданья! Поцелуйте Кита да передайте Майклу: пусть глядит в оба.
Именно это Майкл и старался делать. Когда вспыхнула «великая война», он, хотя по возрасту и мог уже пойти в армию, все же был слишком молод, чтобы уяснить себе, какой фатализм овладевает людьми с приближением критического момента. Теперь, перед «великой стачкой», он осознал это совершенно ясно, так же как и то огромное значение, которое человек придает «спасению лица». Он подметил, что обе стороны выразили готовность всячески пойти друг другу навстречу, но, разумеется, без взаимных уступок; что лозунги «Удлинить рабочий день, снизить заработную плату!» и «Ни минутой дольше, ни на шиллинг меньше!» любезно раскланивались и по мере приближения все больше отдалялись друг от друга. И теперь, едва скрывая нетерпение, свойственное его непоседливому характеру, Майкл следил, как осторожно нащупывали почву типичные трезвые британцы, которые одни только и могли уладить надвигающийся конфликт. Когда в тот памятный понедельник вдруг выяснилось, что спасать лицо приходится не только господам с лозунгами, но и самим типичным британцам, он понял, что все кончено; и, возвратившись в полночь из палаты общин, он взглянул на спящую жену.
Разбудить Флер и сказать ей, что правительство «доигралось», или не стоит? К чему тревожить ее сон? И так скоро узнает. Да она и не примет этого всерьез. Он прошел в ванную, постоял у окна, глядя вниз на темную площадь. Генеральная стачка чуть не экспромтом. Неплохое испытание для британского характера. Британский характер? Майкл уже давно подозревал, что внешние проявления его обманчивы; что члены парламента, театральные завсегдатаи, вертлявые дамочки в платьицах, туго обтягивающих вертлявые фигурки, апоплексические генералы, восседающие в креслах, капризные, избалованные поэты, пасторы-проповедники, плакаты и превыше всего печать – не такие уж типичные выразители настроения нации. Если не будут выходить газеты, представится наконец возможность увидеть и почувствовать британский характер; в течение всей войны газеты мешали этому, по крайней мере в Англии. В окопах, конечно, было не то: там сантименты и ненависть, реклама и лунный свет были табу; и с мрачным юмором британец «держался» – великолепный и без прикрас, в грязи и крови, вони и грохоте и нескончаемом кошмаре бессмысленной бойни. «Теперь, – думалось ему, – вызывающий юмор британца, которому тем веселее, чем печальнее окружающая картина, снова найдет себе богатую пищу». И, отвернувшись от окна, он разделся и пошел опять в спальню.
Флер не спала.
– Ну что, Майкл?
– Стачка объявлена.
– Какая тоска!
– Да, придется нам потрудиться.
– К чему же тогда было назначать комиссию и давать такую субсидию, если все равно не смогли этого избежать?
– Да ясно же, девочка, совершенно ни к чему.
– Почему они не могут прийти к соглашению?
– Потому что им нужно спасти лицо. Нет в мире побуждения сильнее.
– То есть как?
– Ну как же – из-за этого началась война; из-за этого теперь начинается стачка. Без этого уж наверно вся жизнь на земле прекратилась бы.
– Не говори глупостей.
Майкл поцеловал ее.
– Придется тебе чем-нибудь заняться, – сказала она сонно. – В палате не о чем будет говорить, пока это не кончится.
– Да, будем сидеть и глядеть друг на друга и время от времени изрекать слово «формула».
– Хорошо бы нам Муссолини.
– Ну нет. За таких потом расплачиваются. Вспомни Диаса[10] и Мексику, или Наполеона и Францию, и даже Кромвеля и Англию.
– А Карл Второй[11], по-моему, был славный, – пролепетала Флер в подушку.
Майкл не сразу уснул, растревоженный поцелуем, поспал немного, опять проснулся. Спасать лицо! Никто и шагу не ступит ради этого. Почти час он лежал, силясь найти путь всеобщего спасения, потом заснул. Он проснулся в семь часов с таким ощущением, точно потерял массу времени. Под маской тревоги за родину и шумных поисков «формулы» действовало столько личных чувств, мотивов и предрассудков! Как и перед войной, было налицо страстное желание унизить и опозорить противника; каждому хотелось спасти свое лицо за счет чужого.
Сейчас же после завтрака он вышел из дому. По Вестминстерскому мосту двигался поток машин и пешеходов: ни автобусов, ни трамваев не было, но катили грузовики, пустые и полные. Уже появились полисмены-добровольцы, и у всех был такой вид, точно они едут на пикник, все прятали свои чувства за каким-то вызывающим весельем. Майкл направился к Хайд-парку. За одну ночь успела возникнуть эта поразительная упорядоченная сутолока грузовиков, бидонов, палаток. Среди полной летаргии ума и воображения, которая и привела к национальному бедствию, какое яркое проявление административной энергии! «Говорят, мы плохие организаторы, – подумал Майкл. – Как бы не так! Только вот задним умом крепки».
Он пошел дальше, к одному из больших вокзалов. На площади были выставлены пикеты, но поезда уже ходили, обслуживаемые добровольцами. Он потолкался на вокзале, поговорил с ними. «Черт возьми, ведь их нужно будет кормить, – пришло ему в голову. – Столовую, что ли, устроить?» И он на всех парах пустился к дому. Флер еще не ушла.
– Хочешь помочь мне организовать на вокзале столовую для добровольцев? – Он прочел на ее лице вопрос: «А это выигрышный номер?» – и заторопился:
– Работать придется вовсю, и всех, кого можно, привлечь на помощь. Думаю, для начала можно бы мобилизовать Нору Кэрфью и ее «банду» из Бетнел-Грин. Но главное – твоя сметка и умение обращаться с мужчинами.
Флер улыбнулась.
– Хорошо, – сказала она.
Они сели в автомобиль – подарок Сомса к возвращению из кругосветного путешествия – и пустились в путь: заезжали по дороге за всякими людьми, снова завозили их куда-то. В Бетнел-Грин они завербовали Нору Кэрфью и ее «банду»; и когда Флер впервые встретилась с той, в ком она когда-то готова была заподозрить чуть не соперницу, Майкл заметил, как через пять минут она пришла к заключению, что Нора Кэрфью слишком «хорошая», а потому не опасна. Он оставил их на Саут-сквер за обсуждением кулинарных вопросов, а сам отправился подавлять неизбежное противодействие бюрократов-чиновников. Это было то же, что перерезать проволочные заграждения в темную ночь перед атакой. Он перерезал их немало и поехал в палату. Она гудела несформулированными «формулами» и являла собой самое невеселое место из всех, где он в тот день побывал. Все толковали о том, что «конституция в опасности». Унылое лицо правительства совсем вытянулось, и говорили, что ничего нельзя предпринять, пока оно не будет спасено. Фразы «свобода печати» и «перед дулом револьвера» повторялись назойливо до тошноты. В кулуарах он налетел на мистера Блайта, погруженного в мрачное раздумье по поводу временной кончины его нежно любимого еженедельника, и потащил его к себе перекусить. Флер оказалась дома, она тоже зашла поесть. По мнению мистера Блайта, чтобы выйти из положения, нужно было составить группу правильно мыслящих людей.
– Совершенно верно, Блайт, но кто мыслит правильно «на сегодняшний день»?
– Все упирается в фоггартизм, – сказал мистер Блайт.
– Ах, – сказала Флер, – когда только вы оба о нем забудете! Никому это не интересно. Все равно что навязывать нашим современникам образ жизни Франциска Ассизского[12].
– Дорогая миссис Монт, поверьте, что если бы Франциск Ассизский так относился к своему учению, никто теперь и не знал бы о его существовании.
– Ну а что, собственно, после него осталось? Все эти проповедники духовного совершенствования сохранили только музейную ценность. Возьмите Толстого или даже Христа.
– А Флер, пожалуй, права, Блайт.
– Богохульство, – сказал мистер Блайт.
– Я не уверен, Блайт. Последнее время я все смотрю на мостовые и пришел к заключению, что они-то и препятствуют успеху фоггартизма. Понаблюдайте за уличными ребятами, и вы поймете всю привлекательность мостовой. Пока у ребенка есть мостовая, он с нее никуда не уйдет. И не забудьте, мостовая – это великое культурное влияние. У нас больше мостовых, и на них воспитывается больше детей, чем в любой другой стране, и мы самая культурная нация в мире. Стачка докажет это. Будет так мало кровопролития и так много добродушия, как нигде в мире еще не было и не может быть. А все мостовые.
– Ренегат! – сказал мистер Блайт.
– Знаете, – сказал Майкл, – ведь фоггартизм, как и всякая религия, – это горькая истина, выраженная с предельной четкостью. Мы были слишком прямолинейны, Блайт. Кого мы обратили в свою веру?
– Никого, – сказал мистер Блайт. – Но если мы не можем убрать детей с мостовой, – значит, фоггартизму конец.
Майкла передернуло, а Флер поспешно сказала:
– Не может быть конца тому, у чего не было начала. Майкл, поедем со мной посмотреть кухню – она в отчаянном состоянии. Как поступают с черными тараканами, когда их много?
– Зовут морильщика – это такой волшебник, он играет на дудочке, а они дохнут.
В дверях помещения, отведенного под столовую, они встретили Рут Лафонтэн из «банды» Норы Кэрфью и вместе спустились в темную, с застоявшимися запахами кухню. Майкл чиркнул спичкой и нашел выключатель. О черт! Застигнутый ярким светом, черно-коричневый копошащийся рой покрывал пол, стены, столы. Охваченный отвращением, Майкл все же успел заметить три лица: гадливую гримаску Флер, раскрытый рот мистера Блайта, нервную улыбку черненькой Рут Лафонтэн. Флер вцепилась ему в рукав.
– Какая гадость!
Потревоженные тараканы скрылись в щелях и затихли; там и сям какой-нибудь таракан, большой, отставший от других, казалось, наблюдал за ними.
– Подумать только! – воскликнула Флер. – Все эти годы тут готовили пищу! Брр!
– А в общем, – сказала Рут Лафонтэн, дрожа и заикаясь, – к-клопы еще х-хуже.
Мистер Блайт усиленно сосал сигару. Флер прошептала:
– Что же делать, Майкл?
Она побледнела, вздрагивала, дышала часто и неровно; и Майкл уже думал: «Не годится, надо избавить ее от этого!» – а она вдруг схватила швабру и ринулась к стене, где сидел большущий таракан. Через минуту работа кипела: они орудовали щетками и тряпками, распахивали настежь окна и двери.
II
У телефона
Уинифрид Дарти не подали «Морнинг пост». Ей шел шестьдесят восьмой год, и она не слишком внимательно следила за ходом событий, которые привели к генеральной стачке: в газетах столько пишут, никогда не знаешь, чему верить; а теперь еще эти чиновники из тред-юнионов всюду суют свой нос – просто никакого терпения с ними нет. И в конце концов правительство всегда что-нибудь предпринимает. Тем не менее, следуя советам своего брата Сомса, она набила погреб углем, а шкафы – сухими продуктами и часов в десять утра на второй день забастовки спокойно сидела у телефона.
– Это ты, Имоджин? Вы с Джеком заедете за мной вечером?
– Нет, мама, Джек ведь записался в добровольцы. Ему с пяти часов дежурить. Да и театры, говорят, будут закрыты. Пойдем в другой раз. «Такую милашку» еще не скоро снимут.
– Ну хорошо, милая. Но какая канитель – эта стачка! Как мальчики?
– Совсем молодцом. Оба хотят быть полисменами. Я им сделала нашивки. Как ты думаешь, в детском отделе у Хэрриджа есть игрушечные дубинки?
– Будут, конечно, если так пойдет дальше. Я сегодня туда собираюсь, подам им эту мысль. Вот будет забавно, правда? Тебе хватает угля?
– О да! Джек говорит, не нужно делать запасов. Он так патриотично настроен.
– Ну, до свиданья, милая. Поцелуй от меня мальчиков.
Она только что начала обдумывать, с кем бы еще поговорить, как телефон зазвонил.
– Здесь живет мистер Вэл Дарти?
– Нет. А кто говорит?
– Моя фамилия Стэйнфорд. Я его старый приятель по университету. Не будете ли настолько любезны дать мне его адрес?
Стэйнфорд? Никаких ассоциаций.
– Говорит его мать. Моего сына нет в городе, но, вероятно, он скоро приедет. Передать ему что-нибудь?
– Да нет, благодарю вас. Мне нужно с ним повидаться. Я еще позвоню или попробую зайти. Благодарю вас.
Уинифрид положила трубку.
Стэйнфорд! Голос аристократический. Надо надеяться, что дело не в деньгах. Странно, как часто аристократизм связан с деньгами! Или, вернее, с отсутствием их. В прежние дни, еще на Парк-Лейн, она видела столько прелестных молодых людей, которые потом либо обанкротились, либо развелись. Эмили, ее мать, никогда не могла устоять перед аристократизмом. Так вошел в их дом Монти: у него были такие изумительные жилеты и всегда гардения в петлице, и он столько мог рассказать о светских скандалах – как же было не поддаться его обаянию? Ну да что там, теперь она об этом не жалеет. Без Монти не было бы у нее Вэла, и сыновей Имоджин, и Бенедикта (без пяти минут полковник!), хоть его она теперь никогда не видит, с тех пор как он поселился на Гернси и разводит огурцы, подальше от подоходного налога. Пусть говорят что угодно, но неверно, что наше время более передовое, чем девяностые годы и начало века, когда подоходный налог не превышал шиллинга, да и это считалось много! А теперь люди только и знают, что бегают и разговаривают, чтобы никто не заметил, что они не такие светские и передовые, как раньше.
Опять зазвонил телефон.
– Не отходите, вызывает Уонсдон.
– Алло! Это ты, мама?
– Ах, Вэл, вот приятно. Правда, нелепая забастовка?
– А, идиоты! Слушай, мы едем в Лондон.
– Да что ты, милый! А зачем? По-моему, вам будет гораздо спокойнее в деревне.
– Холли говорит, надо что-то делать. Знаешь, кто объявился вчера вечером? Ее братишка, Джон Форсайт. Жену и мать оставил в Париже; говорит, что пропустил войну, а это уж никак не может пропустить. Всю зиму путешествовал – Египет, Италия и все такое; по-видимому, с Америкой покончено. Говорит, что хочет на какую-нибудь грязную работу – будет кочегаром на паровозе. Сегодня к вечеру приедем в «Бристоль».
– О, но почему же не ко мне, милый, у меня всего много.
– Да видишь ли, тут Джон – думаю, что…
– Но он, кажется, симпатичный молодой человек?
– Дядя Сомс не у тебя сейчас?
– Нет, милый, он в Мейплдерхеме. Да, кстати, Вэл, тебе только что звонили, какой-то мистер Стэйнфорд.
– Стэйнфорд? Как, Обри Стэйнфорд? Я его с университета не видел.
– Сказал, что еще позвонит или зайдет, попробует застать тебя.
– А я с удовольствием повидаю Стэйнфорда. Так что же, мама, если ты можешь приютить нас… Только тогда уж и Джона. Они с Холли в большой дружбе после шести лет разлуки. Я думаю, его почти никогда не будет дома.
– Хорошо, милый, пожалуйста. Как Холли?
– Отлично.
– А лошади?
– Ничего. У меня есть шикарный двухлеток, только мало объезженный. Не хочу его пускать до Гудвудских скачек, тогда уж он должен взять.
– Вот чудесно-то будет! Ну, так я вас жду, мой мальчик. Но ты не будешь рисковать, с твоей-то ногой?
– Нет, может быть, возьмусь править автобусом. Да это ненадолго. Правительство во всеоружии. Дело, конечно, серьезное. Но теперь-то они попались!
– Как я рада! Хорошо будет, когда это кончится. Весь сезон испорчен. И дяде Сомсу новая забота.
Неясный звук, потом опять голос Вэла:
– Это Холли – говорит, что она тоже хочет что-нибудь делать. Ты, может, спросишь Монта? Он знает столько народу. Ну, до свидания, скоро увидимся!
Не успела Уинифрид положить трубку и встать с высокого стула красного дерева, как снова раздался звонок:
– Миссис Дарти? Уинифрид, ты? Это Сомс. Что я тебе говорил?
– Да, очень неприятно, милый. Но Вэл говорит, что это скоро кончится.
– А он откуда знает?
– Он всегда все знает.
– Все? Гм! Я еду к Флер.
– Но зачем, Сомс? Я бы думала…
– Я должен быть на месте, на случай осложнений. Да и автомобилю нечего стоять здесь без дела, пусть послужит. И Ригзу не мешает поработать добровольцем. Еще неизвестно, во что это выльется.
– О, ты думаешь…
– Думаю? Это не шутка. Вот что получается, когда начинают швыряться субсидиями.
– Но прошлым летом ты говорил мне…
– Ничего не могут предусмотреть. Ума как у кошки! Аннет хочет поехать к матери во Францию. Я ее не удерживаю. Нечего ей здесь делать в такое время. Сегодня отвезу ее в Дувр на автомобиле, а завтра приеду в город.
– Как думаешь, Сомс, стоит продавать что-нибудь?
– Ни в коем случае.
– У всех появилось столько дела. Вэл хочет править автобусом. Ах да, Сомс, знаешь, приехал Джон Форсайт. Мать и жену оставил в Париже, а сам будет кочегаром.
Глухое ворчание, потом:
– Зачем это ему нужно? Лучше бы не ездил в Англию.
– Д-да. Я думаю, Флер…
– Ты смотри, еще ей чего-нибудь не наговори.
– Да нет же, Сомс. Так я тебя увижу? До свидания.
Милый Сомс так всегда дрожит за Флер! Этот Джон Форсайт и она… да, конечно, но ведь когда это было! Детская любовь! И Уинифрид, улыбаясь, сидела неподвижно. А выходит, что стачка эта очень интересна, если только они не начнут бить стекла. С молоком, конечно, перебоев не будет, об этом правительство всегда заботится; а газеты – ну да ведь это роскошь! Хорошо, что приедет Вэл с Холли. Стачка – есть о чем поговорить. С самой войны не было ничего такого захватывающего. И, повинуясь смутной потребности тоже что-нибудь сделать, Уинифрид опять взялась за трубку.
– Дайте Вестминстер 0000… Это миссис Майкл Монт? Флер? Говорит тетя Уинифрид. Как поживаешь, милая?
Голос, раздавшийся в ответ, выговаривал слова быстро и четко, и это очень забавляло Уинифрид, которая сама в молодости особенно старалась растягивать слова, что помогало ей справляться и с ускоряющимся темпом жизни и с чувствами. Все молодые светские женщины говорили теперь, как Флер, словно считали прежний способ пользоваться английским языком слишком медлительным и скучным и пощипывали его, чтобы оживить.
– Очень хорошо, спасибо. Вы хотели меня о чем-нибудь попросить, тетя Уинифрид?
– Да, милая. Ко мне сегодня приедет Вэл с Холли, в связи с этой забастовкой. И Холли… я-то считаю, что это совершенно лишнее, но она хочет что-нибудь делать. Она думала, может быть, Майкл знает…
– О, работы, конечно, масса! Мы наладили столовую для железнодорожников; может, она захочет принять участие?
– Ах, милая, вот было бы славно!
– Ну, не слишком, тетя Уинифрид, это дело нелегкое.
– Но ведь это ненадолго. Парламент обязательно что-нибудь предпримет. Как тебе должно быть удобно – ты все новости узнаешь из первых рук. Так Холли можно направить к тебе?
– Ну разумеется! Она нам очень пригодится. Ей по возрасту, я думаю, больше подойдет делать закупки, чем бегать и подавать. Мы с ней прекрасно поладим. Главное – подобрать людей, которые могут сработаться и не будут зря суетиться. Вы что-нибудь знаете о папе?
– Да, он завтра приедет к тебе.
– Ой, зачем?
– Говорит, что должен быть на месте на случай…
– Как глупо. Ну, ничего. Будет вторая машина.
– И еще третья – у Холли. Вэл хочет править автобусом, и, знаешь, молодой… ну, вот и все, милая. Поцелуй Кита. Смизер говорит, в парке молока можно купить сколько угодно. Она сегодня утром была на Парк-Лейн, посмотреть, что там делается. А правда ведь все это увлекательно?
– В палате говорят, что подоходный налог повысят еще на шиллинг.
– Да что ты!
В эту минуту какой-то голос сказал: «Вам ответили?» И Уинифрид, положив трубку, опять осталась сидеть неподвижно. Парк-Лейн! Там из окон старого дома – дома ее молодости – все было бы прекрасно видно, прямо штаб-квартира! Но как это огорчило бы милого старого папу! Джемс! Она так ясно помнила его в накинутой на плечи шали, прилипшего носом к стеклу окна в надежде, что его старые серые глаза помогут ему в борьбе с несчастной привычкой окружающих ничего ему не рассказывать. У нее еще сохранилось его вино. А Уормсон, их старый дворецкий, и теперь еще содержит на Темзе, у Маулсбриджа, гостиницу «Зобастый голубь». К Рождеству он неизменно присылал ей головку сыра с напоминанием о точном количестве старого парклейнского портвейна, которое в него следует влить. Его последнее письмо кончалось так:
«Я часто вспоминаю хозяина и как он любил, бывало, сам спускаться в погреб. Что касается вин, мэм, то, боюсь, времена уже не те, что были. Передайте почтение мистеру Сомсу и всем. Эх, и много воды утекло с тех пор, как я поступил к Вам на Парк-Лейн.
Ваш покорный слуга Джордж Уормсон.
Р. S. Я выиграл несколько фунтов на том жеребенке, что вырастил мистер Вэл. Вы, будьте добры, передайте ему – они мне очень пригодились».
Вот они, старые слуги! А теперь у нее Смизер от Тимоти, а кухарка умерла – так загадочно, или, по выражению Смизер, «от меланхолии, мэм, не иначе: уж очень мы скучали по мистеру Тимоти». Смизер в роли балласта – так, кажется, это называется на пароходах? Правда, она еще очень подвижная, если принять во внимание, что ей уже стукнуло шестьдесят, и корсет у нее скрипит просто невыносимо. В конце концов, бедной старушке такая радость – опять быть в семье, думала Уинифрид, которая хоть и была на восемь лет ее старше, но, как истая представительница рода Форсайтов, смотрела на возраст других людей с пьедестала вечной молодости. А приятно, что есть в доме человек, который помнит Монти, каким он был в свои лучшие дни, – Монтегью Дарти, умершего так давно, что теперь его окружает сияние, желтое, как его лицо после бессонной ночи. Бедный, милый Монти! Неужто сорок семь лет, как она вышла за него замуж и переехала на Грин-стрит? Как хорошо служат эти стулья красного дерева с зеленой, затканной цветами обивкой. Вот делали мебель, когда и в помине еще не было семичасового рабочего дня и прочей ерунды! В то время люди думали о работе, а не о кино! И Уинифрид, которая никогда в жизни не думала о работе, потому что никогда не работала, вздохнула. Все очень хорошо, и, если только удастся поскорее покончить с этой канителью, от предстоящего сезона можно ждать много интересного. У нее уже есть билеты почти на все спектакли. Рука ее соскользнула на сиденье стула. Да, за сорок семь лет жизни на Грин-стрит эти стулья перебивали только два раза, и сейчас у них еще вполне приличный вид. Правда, теперь на них никто никогда не садится, потому что у них прямые спинки и нет ручек; а в наше время все сидят развалившись и так неспокойно, что никакой стул не выдержит. Она встала, чтобы убедиться, насколько прилично то, на чем она сидела, и наклонила стул вперед. Последний раз их обивали в год смерти Монти, 1913-й, перед самой войной. Право же, этот серо-зеленый шелк оказался на редкость прочным!
III
Возвращение
Ощущения Джона Форсайта, когда он после пяти с половиной лет отсутствия высадился в Ньюхэвене, куда прибыл с последним пароходом, были совсем особого порядка. Всю дорогу до Уонсдона, по холмам Сэссекса, он проехал на автомобиле в каком-то восторженном сне. Англия! Какие чудесные меловые холмы, какая чудесная зелень! Как будто и не уезжал отсюда. Деревни, неожиданно возникающие на поворотах, старые мосты, овцы, буковые рощи! И кукушка – в первый раз за шесть лет. В молодом человеке проснулся поэт, который последнее время что-то не подавал признаков жизни. Какая прелесть – родина! Энн влюбится в этот пейзаж! Во всем такая полная законченность. Когда прекратится генеральная стачка, она сможет приехать, и он ей все покажет. А пока пусть поживет в Париже с его матерью – и ей лучше, и он свободен взять любую работу, какая подвернется. Это место он помнит, и Чанктонбери-Ринг – там, на холме, – и свой путь пешком из Уординга. Очень хорошо помнит. Флер! Его шурин, Фрэнсис Уилмот, когда вернулся из Англии, много рассказывал о Флер: она стала очень современна и очаровательна, и у нее сын. Как сильно можно любить – и как бесследно это проходит! Если вспомнить, что он пережил в этих краях, даже странно, хотя и приятно, что ему всего-навсего хочется увидеть Холли и Вэла.
Он сообщил им о своем приезде только телеграммой из Дьеппа; но они, наверно, здесь из-за лошадей. Он с удовольствием посмотрит скаковые конюшни Вэла и, может быть, покатается верхом по холмам, прежде чем взяться за работу. Вот если бы с ним была Энн, они могли бы покататься вместе. И Джон вспомнил первую поездку верхом с Энн в лесах Южной Каролины, ту поездку, которая ни ей, ни ему не прошла даром. Вот и приехали. Милый старый дом! А вот в дверях и сама Холли. И при виде сестры, тоненькой и темноволосой, в лиловом платье, Джона как ножом резнуло воспоминание об отце, о том страшном дне, когда он мертвый лежал в старом кресле в Робин-Хилле. Папа – такой хороший, такой неизменно добрый!
– Джон! Как я рада тебя видеть!
Ее поцелуй и раньше всегда приходился ему в бровь, она ничуть не изменилась. В конце концов, сводная сестра лучше, чем настоящая. С настоящими сестрами нельзя не воевать, хоть немножко.
– Как жаль, что ты не смог привезти Энн и маму! Впрочем, может быть, оно и лучше, пока здесь все не обойдется. Ты все такой же, Джон, выглядишь совсем как англичанин, и рот у тебя как был – хороший и большой. Почему у американцев и у моряков такие маленькие рты?
– Наверно, из чувства долга. Как Вэл?
– О, Вэл молодцом! И улыбка у тебя не изменилась. Помнишь свою старую комнату?
– Еще бы. А ты как, Холли?
– Да ничего. Я стала писательницей, Джон.
– Это замечательно!
– Совсем нет. Тяжелая работа и никакого удовлетворения.
– Ну что ты!
– Первая книга вообще была мертворожденная. Вроде «Африканской фермы» – помнишь? – но без психологических финтифлюшек.
– Помню! Только я их всегда пропускал.
– Да, Джон, нелюбовь к финтифлюшкам у нас от папы. Он как-то сказал мне: «Мы скоро начнем называть всякую материю духом или всякий дух – материей, одно из двух».
– Ну, это вряд ли, – сказал Джон, – человек любит все разбивать на категории. О, да я помню всякую мелочь в этой комнате. Как лошади? Можно взглянуть на них сегодня, а завтра покататься?
– Завтра встанем пораньше, посмотрим, как их объезжают. У нас сейчас только три двухлетки, но одна подает большие надежды.
– Отлично! А потом я поеду в город и постараюсь получить какую-нибудь работку погрязнее. Хорошо бы кочегаром на паровоз. Меня всегда интересовало, какие мысли и чувства бывают у кочегаров.
– Поедем все вместе. Мы можем остановиться у матери Вэла. Как же я рада, что вижу тебя, Джон. Обед через полчаса.
Минут пять Джон постоял у окна. Фруктовый сад в полном цвету, насаженный не с такой математической точностью, как его только что проданные персиковые деревья в Северной Каролине, был так же прекрасен, как в тот давно минувший вечер, когда он гонялся по нему за Флер. Вот в чем прелесть Англии – здесь все естественно. Как они тосковали по родине, он и его мать! Теперь он больше не уедет. Какое дивное море яблоневого цвета! Опять кукушка! Из-за одного этого стоило вернуться на родину. Он подыщет участок и будет разводить фрукты, на Западе – в Вустершире или Сомерсете, а может быть, и здесь где-нибудь: в Уординге, помнится, разводят много маслин и еще чего-то. Он распаковал чемодан и стал одеваться. Вот тут, где он сидит сейчас, натягивая американские носки, сидел он в тот вечер, когда Флер показала ему свое платье с картины Гойи. Кто бы поверил тогда, что через шесть лет ему будет нужна Энн, а не Флер с ним рядом, на этой постели! Гонг к обеду! Он наскоро пригладил волосы, светлые и непокорные, поправил галстук и побежал вниз.
Взгляды Вэла на стачку, взгляды Вэла на все на свете – скептические и узкие, как его лицо лошадника! Теперь-то этим бездельникам-лейбористам достанется; придется им удирать, пока целы. Как понравились Джону янки? Видел он «Броненосец»? Нет? Боже правый! Самый интересный спектакль в Америке! Правда, что в Кентукки трава синяя? Только издали? А! Что они еще собираются там отменить? Правда, что где-то в южных штатах есть город, где сожительство разрешается только на глазах городской охраны? В Англии парламент хочет провести налог на игру на скачках; почему бы не ввести тотализатор и не покончить с этим вопросом? Ему-то, впрочем, все равно, он больше не играет. И он взглянул на Холли. Джон тоже взглянул на ее поднятые брови и полуоткрытые губы – прелестное лицо, такая в нем ирония и терпимость. Она ведет Вэла на шелковом поводу.
Вэл не унимался. Хорошо, что Джон разделался с Америкой; если ему обязательно нужно заниматься сельским хозяйством вне Англии, почему не поселиться в Южной Африке, под бедным старым английским флагом; хотя с голландцами еще не покончено! Ух и народ! Конечно, они живут там так давно, что стали настоящими поселенцами, не какие-нибудь авантюристы, неудачники, эмигранты на субсидии. Он их, негодяев, не любит, но народ крепкий, ничего не скажешь! Совсем остаться в Англии? И того лучше! Может, вместе будем разводить чистокровных скакунов?
Наступило неловкое молчание, потом Холли сказала лукаво:
– Джон находит, что это не очень-то почтенное занятие, Вэл.
– А почему?
– Излишняя роскошь.
– Чистокровные-то? А что без них станет с лошадьми?
– Очень соблазнительно, – сказал Джон, – я бы с удовольствием вошел в долю. Но в основном мне хочется заняться фруктами.
– Одобряю, сын мой. Можешь разводить яблоки, а мы будем лакомиться ими по воскресеньям.
– Видишь ли, Джон, – сказала Холли, – в Англии никто не верит в сельское хозяйство. Мы говорим о нем все больше, а делаем все меньше. Как по-твоему, Вэл, Джон изменился?
Кузены оглядели друг друга.
– Немножко возмужал; но ничего американского.
Холли проговорила задумчиво:
– Почему всегда сразу узнаешь американца?
– Почему всегда сразу узнаешь англичанина? – сказал Джон.
– В нем есть какая-то настороженность. А впрочем, нет ничего труднее, как определить национальный тип. Но американца ни с кем не спутаешь.
– Вряд ли ты приняла бы Энн за американку.
– Расскажи, какая она, Джон.
– Нет, подожди, сама увидишь.
После обеда, когда Вэл отправился в последний обход конюшен, Джон спросил:
– Ты видаешь Флер, Холли?
– Не видела года полтора, кажется. Мне очень нравится ее муж – золотой человек. Ты счастливо отделался, Джон: она не для тебя, хоть и очаровательна; уж очень всегда хочет быть в центре внимания. Да ты это, вероятно, знал.
Джон посмотрел на нее и не ответил.
– Впрочем, – тихо добавила Холли, – когда влюблен, мало что знаешь.
Вечером он сидел у себя в комнате; по дому бродили призраки. Точно собрались в нем все воспоминания: о Флер, о Робин-Хилле – любимые в детстве деревья, сигары отца, цветы и игра матери; детская с игрушками, где до него росла Холли, где позднее он мучился над рифмами; вид из окна на конюшни и башенку с часами.
В открытое окно его комнаты тянуло сладкими запахами – такими родными – с холмов, мерцающих в лунном полусвете. Первая ночь на родине за две с лишним тысячи ночей. С продажей Робин-Хилла у него не осталось в Англии дома, кроме этого. Но они с Энн устроят себе собственное гнездо. Родина! На английском пароходе он готов был расцеловать стюардов и горничных только за то, что они говорили с английским акцентом. Он слушал его как музыку. Для Энн теперь легче будет усвоить этот акцент, она очень восприимчива. Сам он американцев полюбил, но был рад, что Вэл не нашел в нем ничего американского. Прокричала сова. Какая тень падает от сарая, как знакомы ее мягкие очертания! Он лег в постель. Надо спать, если он намерен встать вовремя, чтобы посмотреть, как объезжают лошадей. Однажды ему уже случилось встать здесь очень рано, но с другой целью! Он скоро уснул и чей-то образ – не то Энн, не то Флер – проносился в его сновидениях.
IV
Сомс едет в Лондон
В среду, посадив жену на пароход в Дувре, Сомс Форсайт поехал на автомобиле в Лондон. По дороге он решил сделать порядочный крюк и въехать в город по Хэммерсмитскому мосту, самому западному из всех более или менее подходящих. Он всегда чувствовал, что в периоды рабочих волнений есть тесная связь между Ист-Эндом и всякими неприятностями. И, зная заранее, что, встреться ему грозная толпа пролетариев, никакие силы не заставят его отступить, он послушался другой стороны форсайтской натуры – решил предотвратить эту возможность. Таким-то образом случилось, что его автомобиль застрял на переезде у Хэммерсмитского вокзала – единственном месте, где в тот день произошли сколько-нибудь серьезные беспорядки. Собралось много людей, и они остановили движение, которого, по-видимому, не одобряли. Сомс наклонился вперед, чтобы сказать шоферу: «Лучше объехать, Ригз», потом откинулся на сиденье и стал ждать. День был погожий, машина «ландолет» открыта, он не мог не видеть, что «объехать» совершенно невозможно. И всегда этот Ригз где-нибудь застрянет! Сотни машин, набитых людьми, пытающимися выбраться из города; несколько почти пустых машин с людьми, пытающимися, как и он сам, пробраться мимо них в город; автобус, не то чтобы опрокинутый, но с выбитыми стеклами, загородивший половину дороги; и толпа людей с ничего не выражающими лицами, снующих взад и вперед перед горстью полисменов. Таковы были явления, с которыми, по мнению Сомса, власти могли бы справиться и получше.
До слуха его донеслись слова: «Вот буржуй проклятый!» И, оглянувшись, чтобы увидеть буржуя, о котором шла речь, он убедился, что это он сам. Несправедливые эпитеты! На нем скромное коричневое пальто и мягкая фетровая шляпа. У этого Ригза внешность как нельзя более пролетарская, а машина – самого обыкновенного синего цвета. Правда, он занимает ее один, а все другие полны народу; но как выйти из такого положения – неизвестно; разве что повезти с собой в Лондон людей, стремящихся уехать в обратном направлении. Поднять верх автомобиля было бы, конечно, слишком демонстративно, так что ничего не остается, как сидеть смирно и не обращать внимания. Сомс, от рождения усвоивший гримасу легкого презрения ко всей вселенной, был как нельзя более приспособлен для такого занятия. Он сидел, глядя на кончик собственного носа, а солнце светило ему в затылок, и толпа колыхалась взад-вперед вокруг полисменов. Насильственные действия, результатом которых явились выбитые окна автобуса, уже прекратились, и теперь люди вели себя вполне мирно, словно вышли поглазеть на принца Уэльского.
Всеми силами стараясь не раздражать толпу слишком явным вниманием, Сомс наблюдал. И пришел к заключению, что вид у людей равнодушный: ни в глазах, ни в жестах он не видел той напряженной деловитости, которая одна только и придает революционным выступлениям грозный характер. Почти все молодежь, чуть не у каждого к нижней губе приклеилась папироса, – так смотрит толпа на упавшую лошадь.
Люди теперь так и родятся, зеваками. И это неплохо. Кино, дешевые папиросы и футбольные матчи – пока они существуют, настоящей революции не будет. А всего этого, по-видимому, с каждым годом прибавляется. И он только было решил, что будущее не так уж мрачно, когда к нему в автомобиль просунулась голова какой-то молодой женщины.
– Не могли бы вы подвезти меня в город?
Сомс по привычке посмотрел на часы. Стрелки, показывавшие семь часов, мало чем помогли ему. Довольно нарядно одетая женщина, с чуть вульгарной манерой говорить и напудренным носом. И долго этот Ригз будет скалить зубы? А между тем в «Бритиш газет» он читал, что все так делают. Он ответил грубовато:
– Могу. Куда вам нужно попасть?
– О, хотя бы до Лестер-сквер добраться.
Этого еще недоставало!
Молодая женщина, казалось, почуяла его опасения.
– Видите ли, – сказала она, – мне надо еще поесть до спектакля.
Да она уже лезет в машину! Сомс чуть не вылез вон. Он сдержался, искоса оглядел ее; наверно, какая-нибудь актриса: молодая, лицо круглое и, конечно, накрашено, чуть курносая, глаза серые, слегка навыкате; рот… гм, красивый рот, немножко вульгарный. И, разумеется, стриженая.
– Вот спасибо вам!
– Не стоит, – сказал Сомс.
И машина тронулась.
– Вы думаете, это надолго – забастовка?
Сомс наклонился вперед.
– Поезжайте, Ригз, – сказал он, – этой даме нужно на… э-э… Ковентри-стрит, там остановитесь.
– Такая глупость вся эта история, – сказала дама. – Я бы ни за что не поспела вовремя. Вы видели наше обозрение «Такая милашка»?
– Нет.
– Очень, знаете ли, неплохо.
– Да?
– Впрочем, если это не кончится, придется закрывать лавочку.
– А…
Молодая женщина замолчала, сообразив, что ее спутник не отличается разговорчивостью.
Сомс переменил позу. Он так давно не разговаривал с посторонней молодой женщиной, что почти совсем забыл, как это делается. Поддерживать разговор ему не хотелось, а между тем он понимал, что она его гостья.
– Вам удобно? – неожиданно спросил он.
Она улыбнулась.
– Неужели нет? Машина чудесная!
– Мне она не нравится, – сказал Сомс.
Она раскрыла рот.
– Почему?
Сомс пожал плечами; он говорил, только чтобы сказать что-нибудь.
– По-моему, это даже интересно, правда? – сказала она. – «Держаться» вот так, как мы все сейчас.
Машина теперь шла полным ходом, и Сомс начал высчитывать, через сколько минут можно будет покончить с такими сопоставлениями.
Памятник Альберту, уже! Он почувствовал к нему своего рода нежность – такое счастливое неведение всего происходящего!
– Обязательно приходите посмотреть наше обозрение, – сказала дамочка.
Сомс собрался с духом и взглянул ей в лицо.
– Что вы там делаете? – спросил он.
– Пою и танцую.
– Вот как.
– У меня хорошая сцена в третьем акте, где мы все в ночных рубашонках.
Сомс чуть заметно улыбнулся.
– Таких, как Кэт Воген, теперь не увидишь, – сказал он.
– Кэт Воген? Кто она была?
– Кто была Кэт Воген? – повторил Сомс. – Самая блестящая балерина легкого жанра. В то время в танцах было изящество; это теперь вы только и знаете, что ногами дрыгать. Вы думаете, чем быстрее вы можете передвигать ноги, тем лучше танцуете. – И, сам смутившись своего выпада, который неминуемо должен был к чему-то привести, он отвел глаза.
– Вы не любите джаз? – осведомилась дамочка.
– Не люблю, – сказал Сомс.
– А знаете, я, пожалуй, тоже. Кроме того, он выходит из моды.
Угол Хайд-парка, уже! И скорость добрых двадцать миль!
– Ой-ой-ой! Посмотрите на грузовики: замечательно, правда?
Сомс проворчал что-то утвердительное. Дамочка стала без всякого стеснения пудрить нос и подмазывать губы. «Что, если меня кто-нибудь увидит?» – подумал Сомс. А может, кто и видит, он этого никогда не узнает. Поднимая высокий воротник пальто, он сказал:
– Сквозит в этих автомобилях! Подвезти вас к ресторану Скотта?
– Ой, нет, если можно – к Лайонсу: я еле-еле успею перекусить. В восемь надо быть на сцене. Большое вам спасибо. Теперь если бы кто еще отвез меня домой!
Она вдруг повела глазами и добавила:
– Не поймите превратно!
– Ну что вы, – сказал Сомс не без тонкости. – Вот вы и приехали. Стойте, Ригз!
Машина остановилась, и дамочка протянула Сомсу руку.
– Прощайте, и большое спасибо!
– Прощайте, – сказал Сомс.
Улыбаясь и кивая, она сошла на тротуар.
– Поезжайте, Ригз, да поживее. Саут-сквер.
Машина тронулась. Сомс не оглядывался; в сознании его, как пузырь на поверхности воды, возникла мысль: «В прежнее время всякая женщина, которая выглядит и говорит, как эта, дала бы мне свой адрес». А она не дала! Он не мог решить, знаменует это прогресс или нет.
Не застав дома ни Флер, ни Майкла, он не стал переодеваться к обеду, а прошел в детскую. Его внук, которому шел теперь третий год, еще не спал и сказал:
– Алло!
– Алло!
Сомс извлек игрушечную трещотку. Последовало пять минут сосредоточенного и упоенного молчания, по временам нарушаемого гортанным звуком трещотки. Потом внук улегся поудобнее, уставился синими глазами на Сомса и сказал:
– Алло!
– Алло! – ответил Сомс.
– Спать! – сказал внук.
– Спать! – сказал Сомс, пятясь к двери, и чуть не споткнулся о серебристую собачку.
На том разговор закончился, и Сомс пошел вниз. Флер предупредила по телефону, чтобы он не ждал их к обеду.
Он сел перед картиной Гойи. Трудно было бы утверждать, что Сомс помнил чартистское движение 1848 года, потому что он родился в 55-м; но он знал, что в то время его дядя Суизин состоял в добровольческой полиции. С тех пор не было более серьезных внутренних беспорядков, чем эта генеральная стачка; и за супом Сомс все глубже и глубже вдумывался в ее возможные последствия. Большевизм на пороге, вот в чем беда! И еще – недостаток гибкости английского мышления. Если уголь был когда-то прибыльной статьей – воображают, что он навсегда останется прибыльным. Политические лидеры, руководство тред-юнионов, печать не видят на два дюйма дальше своего носа! Им еще в августе надо было начать что-то делать, а что они сделали? Составили доклад, на который никто и смотреть не хочет.
– Белого вина, сэр, или бордо?
– Все равно, что есть начатого.
В восьмидесятых, даже в девяностых годах с его отцом от таких слов случился бы удар: пить бордо из начатой бутылки в его глазах почти равнялось безбожию. Очередной симптом вырождения идеалов!
– А вы, Кокер, что скажете о забастовке?
Лысый слуга наклонил бутылку сотерна.
– Неосновательно задумано, сэр, если уж вы меня спрашиваете.
– Почему вы так думаете?
– А было бы основательно, сэр, Хайд-парк был бы закрыт для публики.
Вилка Сомса с куском камбалы повисла в воздухе.
– Очень возможно, что вы правы, – сказал он одобрительно.
– Суетятся они много, но так – все впустую. Пособие – вот что умно придумали, сэр. Хлеба и цирков, как говорит мистер Монт.
– Ха! Вы видели эту столовую, которую они устроили?
– Нет, сэр. Кажется, нынче вечером туда придет морильщик. Говорят, тараканов там видимо-невидимо.
– Брр!
– Да, сэр, насекомое отвратительное.
Пообедав, Сомс закурил вторую из двух полагавшихся ему в день сигар и надел наушники радио. Он, пока мог, противился этому изобретению, но в такое время! «Говорит Лондон!» Да, а слушает вся Великобритания. Беспорядки в Глазго? Иначе и быть не может – там столько ирландцев! Требуются еще добровольцы в чрезвычайную полицию? Ну, их-то скоро будет достаточно. Нужно сказать этому Ригзу, чтобы записался. Вот и здесь без лакея вполне можно обойтись. Поезда! Поездов, по-видимому, пустили уже порядочно. Прослушав довольно внимательно речь министра внутренних дел, Сомс снял наушники и взял «Бритиш газет». Впервые за всю жизнь он уделил некоторое время чтению этого малопочтенного листка и надеялся, что первый раз будет и последним. Бумага и печать из рук вон плохи. Все же надо считать достижением, что ее вообще удалось выпустить. Подбираются к свободе печати! Не так-то это легко, как казалось этим людишкам. Попробовали – и вот результат: печать куда более решительно направленная против них, чем та, которую они прикрыли. Обожглись на этом деле! И без всякого толку, ведь влияние печати – устарелое понятие. Его убила война. Без доверия нет влияния. Что политические вожди, что печать, – если им нельзя верить, они вообще не идут в счет! Может быть, эту истину когда-нибудь откроют заново. А пока что газеты – те же коктейли, только возбуждают аппетит и нервы. Как хочется спать. Хоть бы Флер не слишком поздно вернулась домой. Безумная затея – эта стачка! Из-за нее все взялись за совершенно непривычные дела, да еще в такой момент, когда промышленность только-только начинает – или делает вид, что начинает, – оживать. Но что поделаешь! В наше время становится год от года труднее придерживаться плана. Всегда что-нибудь помешает. Весь мир как будто живет со дня на день, и притом такими темпами! Сомс откинулся на спинку испанского стула, заслонил глаза от света, и сон волной подступил к его сознанию. Стачка стачкой, а волны перекатывались через него мягко, неотвратимо.
Защекотало, и над его рукой, сухощавой и темной, закачалась бахрома шали. Что такое? Он с усилием выбрался из чащи снов. Около него стояла Флер. Красивая, яркая, глаза сияют, говорит быстро, как будто возбужденно:
– Так ты приехал, папа!
Губы ее горячо и мягко коснулись его лба, а глаза – что с ней? Она точно помолодела, точно… как бы это выразить?
– Ты дома? – сказал он. – Кит становится разговорчив. Поела чего-нибудь?
– Да, да!
– Эта столовая…
Флер сбросила шаль.
– Мне там ужасно нравится.
Сомс с удивлением заметил, как часто дышит ее грудь, словно она только что бежала. И щеки у нее были очень розовые.
– Ты, надеюсь, ничего там не подцепила?
Флер засмеялась – очаровательный звук, и совершенно необоснованный.
– Какой ты смешной, папа! Я молю Бога, чтобы забастовка тянулась подольше.
– Не говори глупостей, – сказал Сомс. – Где Майкл?
– Пошел спать. Он заезжал за мной из палаты. Говорит, ничего у них там не выходит.
– Который час?
– Первый час, милый. Ты, наверное, хорошо соснул.
– Просто дремал.
– Мы видели танк на набережной – шел на восток. Ужасно чудно они выглядят. Ты не слышал?
– Нет, – сказал Сомс.
– Ну, если услышишь – не тревожься. Майкл говорит, их направляют в порт.
– Очень рад. Значит, правительство серьезно взялось за дело. Но тебе пора спать. Ты переутомилась.
Она задумчиво смотрела на него, накинув на руку испанскую шаль, насвистывая какую-то мелодию.
– Спокойной ночи, – сказал он, – я тоже скоро пойду спать.
Она послала ему воздушный поцелуй, повернулась на каблучках и исчезла.
– Не нравится мне это, – пробормотал Сомс. – Сам не знаю почему, только не нравится.
Слишком молодо она выглядела. Или это стачка ударила ей в голову? Он встал, чтобы нацедить в стакан содовой, – после сна остался неприятный вкус во рту.
Ум-дум-бом-ум-дум-бом-ум-дум-бом! И скрежет! Еще танк? Хотел бы он взглянуть на эту махину. При мысли, что они идут в порт, он чуть ли не возликовал. Раз они налицо, страна вне опасности. Он надел дорожное пальто и шляпу, вышел из дому, пересек пустую площадь и остановился на улице, с которой видна была набережная. Вот он идет! Как огромное, допотопное чудище, в освещенной фонарями темноте рычит и хрюкает большущая сказочная черепаха – воплощение неотвратимой мощи. «Хороший им готовится сюрприз!» – подумал Сомс, когда танк прополз, скрежеща, и скрылся из виду. Он уже слышал, что идет следующий, но, вдруг решив, что хорошенького понемножку, повернул к дому. Роскошь, может быть, и излишняя, если вспомнить равнодушную толпу, окружавшую утром его автомобиль, – ни оружия, ни даже революционного задора в глазах!
«Неосновательно задумано»! А эти ползучие чудища! Может быть, правительству хочется сделать вид, что это неверно? Демонстрация мощи! Что-то возмутилось в душе Сомса. Это же Англия, черт возьми! Может, они и правы, но что-то не похоже. Чересчур… чересчур по-военному! Он отпер входную дверь. Ум-дум-дум-ум-дум-дум! Что же, мало кто их увидит или услышит в такое позднее время. Вероятно, они попали сюда откуда-нибудь из деревни – не хотел бы он повстречаться с ними в лесу или на полях. Танки – папа, мама и деточка, как… как семья мастодонтов, а? Никакого чувства пропорции в таких вещах. И никакого чувства юмора. Он постоял на лестнице, послушал. Хоть бы они только не разбудили малыша!
V
Опасность
Когда Флер, оглядывая лица сидящих за ужином, увидела Джона Форсайта, в ее сердце что-то произошло, словно она зимой набрела на цветущий куст жимолости. Оправившись от легкого опьянения, она отошла подальше и вгляделась в Джона. Он сидел, словно не обращая внимания на еду, и на его потном лице, измазанном угольной пылью, была улыбка, свойственная человеку, поднявшемуся на гору или пробежавшему большое расстояние, – усталая, милая и такая, будто он много и с толком поработал. Ресницы его – длинные и темные, какими она их помнила, – скрывали глаза и спорили с более светлыми волосами, взлохмаченными, несмотря на короткую стрижку.
Продолжая давать распоряжения Рут Лафонтэн, Флер лихорадочно думала. Джон! Как с неба свалился в ее столовую – окрепший, более подобранный; подбородок решительнее, глаза сидят глубже, но страшно похож на Джона! Что же теперь делать? Если б только можно было выключить свет, подкрасться к нему сзади, наклониться и поцеловать в пятно над левым глазом! Ну а дальше что? Глупо! А что, если он сейчас очнется от своей мечтательной улыбки и увидит ее? Скорее всего, он никогда больше не придет к ней в столовую. Она помнила, какая у него совесть. И она приняла мгновенное решение. Не сегодня! Холли будет знать, где он остановился. Время и место по ее выбору, если она по зрелом размышлении захочет играть с огнем. И, снабдив Рут Лафонтэн инструкцией относительно булочек, она оглянулась через плечо на лицо Джона, рассеянно чему-то улыбающееся, и пошла в свою маленькую контору.
И начались зрелые размышления. Майкл, Кит, отец; устоявшийся порядок добродетельной и богатой жизни; душевное равновесие, которого она в последнее время достигла. Все в опасности из-за одной улыбки и запаха жимолости! Нет! Этот счет закрыт. Открыть его – значило бы снова искушать судьбу. И если искушать судьбу вполне современное занятие – она, может быть, и не современная женщина. Впрочем, неизвестно еще, в ее ли силах открыть этот счет. И ею овладело любопытство – захотелось увидеть его жену, которая заменила ее, Флер. В Англии она? Брюнетка, как ее брат Фрэнсис? Флер взяла список покупок, намеченных на завтра. Такая гибель дел! Идиотство и думать о таких вещах! Телефон! Он звонил целый день, с девяти часов утра она плясала под его дудку.
– Да?… Говорит миссис Монт. Что? Но я ведь их заказала… О! Но должна же я давать им утром яичницу с ветчиной! Не могут они перед работой получать одно какао… Что? У компании нет средств?… Ну, знаете! Хотите вы, чтобы дороги работали прилично, или нет?… Зайти поговорить? Мне, право же, некогда… Да, да… пожалуйста, сделайте мне одолжение, скажите директору, что их просто необходимо кормить посытнее. У них такой усталый вид. Он поймет… Да… Спасибо большое! – Она повесила трубку. – Черт!
Кто-то засмеялся.
– Ой, это вы, Холли! Как всегда, экономят и тянут! Сегодня это уже четвертый раз. Ну, мне все равно – я держу свою линию. Вот взгляните: это завтрашний список для Хэрриджа. Колоссальный, но что поделаешь. Купите все: риск беру на себя, хоть бы мне пришлось ехать туда и рыдать у его ног.
И за сочувственной иронией на лице Холли ей виделась улыбка Джона. Надо кормить его посытнее – да не его одного! Не глядя на кузину, она сказала:
– Я видела здесь Джона. Откуда он взялся?
– Из Парижа. Пока живет с нами на Грин-стрит.
Флер с легким смешком выставила вперед подбородок.
– Забавно опять увидеть его, да еще такого чумазого! Его жена тоже здесь?
– Нет еще, – сказала Холли, – она осталась в Париже с его матерью.
– О, хорошо бы с ним как-нибудь повидаться!
– Он работает кочегаром на пригородных поездах – уходит в шесть, приходит после одиннадцати.
– Понятно! Я и думала – потом, если стачка когда-нибудь кончится.
Холли кивнула.
– Его жена хочет приехать помогать. Что вы скажете, не взять ли ее в столовую?
– Если она подойдет.
– Джон говорит, что очень.
– Не вижу, собственно, к чему американке утруждать себя. Они хотят совсем поселиться в Англии?
– Да.
– О! Впрочем, мы оба переболели корью.
– Если заболеть вторично, взрослой, Флер, – корь опасна.
Флер засмеялась.
– Никакого риска! – И глаза ее, карие, ясные, веселые, встретились с глазами кузины, глубокими, серьезными, серыми.
– Майкл ждет вас в машине, – сказала Холли.
– Отлично. Вы можете побыть здесь, пока они кончат есть? Завтра с пяти утра дежурит Нора Кэрфью. Я буду здесь в девять, до того, как вы уедете к Хэрриджу. Если надумаете еще что-нибудь, прибавьте к списку, я уж как-нибудь заставлю их натянуть. Спокойной ночи, Холли!
– Спокойной ночи, родная.
Не жалость ли мелькнула в этих серых глазах? Жалость, скажите на милость.
– Привет Джону. Интересно, как ему нравится быть кочегаром. Нужно достать еще тазов для умывания.
Сидя рядом с Майклом, который вел машину, она снова будто видела в стекле улыбку Джона, и в темноте ее губы тянулись вперед, словно хотели достать эту улыбку. Корь – от нее бывает сыпь и поднимается температура… Как пусты улицы, ведь шоферы такси тоже бастуют. Майкл оглянулся на нее.
– Ну, как дела?
– Какое страшилище этот морильщик, Майкл. У него рябое лицо клином, и волнистые черные волосы, и глаза падшего ангела. Но дело свое он знает.
– Посмотри-ка, вон танк, мне о них говорили. Они идут в порт. Похоже на провокацию. Хорошо еще, что нет газет, негде о них писать.
Флер рассмеялась.
– Папа, наверное, уже дома. Он приехал в город охранять меня. Если бы и вправду началась стрельба, интересно, что бы он сделал, – стал махать зонтиком?
– Инстинкт. Все равно что у тебя по отношению к Киту.
Флер не ответила. Позже, повидав отца, она поднялась наверх и остановилась у двери детской. Мелодия, так изумившая Сомса, прозвучала легкомысленно в пустом коридоре, «L’аmour est еnfant de Воhême; il n’а jamais, jamais соnnu de loi: si tu ne m’аimes раs, je t’аime, еt si je t’аime, рrends garde á toi»[13]. Испания, и тоска ее свадебной поездки! «Голос, в ночи звенящий!» Закрыть ставни, заткнуть уши – не впускать его. Она вошла в спальню и зажгла все лампы. Никогда еще комната ей так не нравилась – много зеркал, зеленые и лиловые тона, поблескивающее серебро. Она стояла и смотрела на свое лицо, на щеках появилось по красному пятну. Зачем она не Нора Кэрфью – добросовестная, несложная, самоотверженная, – которая завтра в половине шестого утра будет кормить Джона яичницей с ветчиной! Джон с умытым лицом! Она быстро разделась. Может ли сравниться с ней эта его жена? Кому из них присудил бы он золотое яблоко, если бы они с Энн вот так стояли рядом? И красные пятна на ее щеках гуще заалели. Переутомление – это ей знакомо! Заснуть не удастся! Но простыни были прохладные. Да, прежнее гладкое ирландское полотно куда приятнее, чем этот новый шершавый французский материал. А, вот и Майкл входит, идет к ней. Что ж! Зачем быть с ним суровой – бедный Майкл! И когда он обнимал ее, она видела улыбку Джона.
Этот первый день работы на паровозе мог хоть кого заставить улыбаться.
Машинист, почти столь же юный, как и он, но в нормальное время – совладелец машиностроительного завода, просветил Джона по сложному вопросу: как добиться равномерного сгорания. «Хитрая работа и очень утомительная!» Их пассажиры вели себя хорошо. Один даже подошел поблагодарить их. Машинист подмигнул Джону. Было и несколько тревожных моментов. Поедая за ужином гороховый суп, Джон думал о них с удовольствием. Было замечательно, но плечи и руки у него разломило. «Вы их смажьте на ночь», – посоветовал машинист.
Какая-то молоденькая женщина предложила ему печеной картошки. У нее были необычайно ясные, темно-карие глаза, немножко похожие на глаза Энн, только у Энн они русалочьи. Он взял картофелину, поблагодарил и опять погрузился в мечты кочегара. Удивительно приятно преодолевать трудности, быть снова в Англии, что-то делать для Англии! Нужно пожить вдали от родины, чтобы понять это. Энн телеграфировала, что хочет приехать и быть с ним. Если он ответит «нет», она все равно приедет. В этом он успел убедиться за два года совместной жизни. Что же, она увидит Англию в самом лучшем свете. В Америке не знают по-настоящему, что такое Англия. Ее брат побывал только в Лондоне; в его рассказах проскальзывала горечь – верно, женщина, хотя ни слова о ней не было сказано. В изложении Фрэнсиса Уилмота пропуски в истории Англии объясняли все остальное. Но все порочат Англию, потому что она не выставляет своих чувств напоказ и не трубит о себе на каждом перекрестке.
– Масла?
– Спасибо большущее. Удивительно вкусная картошка.
– Как приятно слышать.
– Кто устроил эту столовую?
– Главным образом мистер и миссис Майкл Монт; он член парламента.
Джон уронил картофелину.
– Миссис Монт? Не может быть! Она моя троюродная сестра. Она здесь?
– Была здесь. Кажется, только что ушла.
Дальнозоркие глаза Джона обежали большую темноватую комнату. Флер! Невероятно!
– Пудинга с патокой?
– Нет, спасибо. Я сыт.
– Завтра в пять сорок пять будет кофе, чай или какао и яичница с ветчиной.
– Великолепно! По-моему, это замечательно.
– Да, пожалуй, в такое-то время.
– Большое спасибо. До свидания.
Джон отыскал свое пальто. В машине его ждали Вэл и Холли.
– Алло, юноша! Ну и вид у тебя!
– А вам какая работа досталась, Вэл?
– Грузовик – завтра начинаю.
– Чудно.
– Скачкам пока что крышка.
– Но не Англии.
– Англии? Ну нет! С чего это ты?
– Так говорят за границей.
– За границей! – проворчал Вэл. – Они скажут!
И воцарилось молчание на третьей скорости.
С порога своей комнаты Джон сказал сестре:
– Я слышал, столовую устроила Флер. Неужели она так постарела?
– У Флер очень умная головка, милый. Она тебя видела. Смотри, Джон, не заболей корью во второй раз!
Джон засмеялся.
– Тетя Уинифрид ждет Энн в пятницу, просила передать тебе.
– Чудесно. Очень мило с ее стороны.
– Ну, спокойной ночи, отдыхай. В ванной еще есть горячая вода.
Джон с упоением растянулся в ванне. Пробыв шестьдесят часов вдали от молодой жены, он уже с нетерпением ждал ее приезда. Так столовую устроила Флер! Светская молодая женщина с умной и уж наверное стриженой головкой – ему было очень любопытно увидеться с ней, но ничего больше. Корь во второй раз? Как бы не так! Он слишком много выстрадал и в первый. Кроме того, он очень уж поглощен радостью возвращения – результат долгой, заглушенной тоски по родине. Мать его тосковала по Европе; но он не почувствовал облегчения в Италии и во Франции. Ему нужна была Англия. Что-то в говоре и походке людей, в запахе и внешнем виде всего окружающего; что-то добродушное, медлительное, насмешливое в самом воздухе после напряжения Америки, кричащей яркости Италии, прозрачности Парижа. Впервые за пять лет он не чувствовал, что нервы его обнажены. Даже то в его отечестве, что оскорбляло в нем эстета, действовало умиротворяюще. Пригороды Лондона, великое множество ужасающих домишек из кирпича и шифера, в постройке которых, как рассказывал ему отец, принимал участие его прадед, Гордый Доссет Форсайт; сотни новых домиков, правда получше тех, но все же весьма далеких от совершенства; полное отсутствие симметрии и плана, уродливые здания вокзалов; вульгарные голоса, недостаток яркости, вкуса и достоинства в одежде людей – все, казалось, успокаивало, было порукой, что Англия всегда останется Англией.
Так эту столовую устроила Флер! Он ее увидит! А хочется ее увидеть! Очень!
VI
Табакерка
В соседней комнате Вэл говорил Холли:
– Ко мне сегодня заходил один человек, мы с ним в Оксфорде учились. Просил денег взаймы. Я как-то давал ему, когда и сам был небогат, но так и не получил обратно. Он страшно импонировал мне тогда – этакий красивый, томный субъект. Я считал его идеалом аристократа. А посмотрела бы ты на него теперь!
– Я видела – встретилась с ним, когда он выходил отсюда; еще подумала, кто бы это мог быть. В жизни не видала такого горько-презрительного выражения лица. Ты дал ему денег?
– Только пять фунтов.
– Ну, больше не давай.
– Будь покойна. Знаешь, что он сделал? Захватил с собой мамину табакерку Louis Quinze, а она стоит сотни две. Больше в комнате никого не было.
– Боже милостивый!
– Да, смело. В университете он у нас считался самым распутным, водил компанию с картежниками. Я о нем не слышал с тех пор, как уехал на бурскую войну.
– Мама, верно, очень огорчена, Вэл?
– Хочет подавать в суд – табакерка принадлежала ее отцу. Но как можно – университетский товарищ! Да и все равно ведь не вернешь.
Холли перестала расчесывать волосы.
– А это, пожалуй, утешительно, – сказала она.
– Что именно?
– Да как же, все говорят, что уровень честности падает. Приятно обнаружить, что в нашем поколении есть люди, у которых ее и того меньше.
– Слабое утешение!
– Человеческая природа не меняется, Вэл. Я верю в молодое поколение. Мы их не понимаем, мы росли в такую спокойную пору.
– Возможно. Мой-то папаша был не слишком разборчив. Но что же мне теперь делать?
– Ты знаешь его адрес?
– Он сказал, что его можно найти через «Брюмель-клуб», – насколько мне помнится, учреждение не из почтенных. Дойти до такого откровенного воровства! Я не на шутку расстроен.
Он лежал на спине в постели, Холли смотрела на него. Поймав ее взгляд, он сказал:
– Если б не ты, старушка, я и сам бы, может, свихнулся.
– О нет, Вэл! Ты слишком любишь воздух и движение. Плохо кончают те, кто всю жизнь сидит в комнатах.
Вэл усмехнулся.
– А это не глупо. Если я и видел этого человека в движении, так только за карточным столом. На скачках играл, а сам лошади от ежа отличить не мог. Ну что же, придется маме с этим примириться, я ничего не могу сделать.
Холли подошла к его постели.
– Повернись, я тебя укрою получше.
Потом она легла сама; не спала – думала о человеке, который свихнулся, вспоминала презрение, написанное на его лице, изможденном, темном, правильном; преждевременно седеющие волосы, преждевременно поблекшие глаза и его костюм, словно чудом уцелевший, и изношенный, тщательно завязанный галстук бабочкой. Она чувствовала, что знает его: никаких нравственных устоев и глубоко внедрившееся презрение к тем, у кого они есть. Бедный Вэл! Его-то нравственные устои не так крепки, чтобы его можно было за них презирать. Хотя!.. При всех своих опасных мужских инстинктах Вэл был верным товарищем все эти годы. Если он не отличается философским складом ума и эстетическими вкусами, если в лошадях он смыслит больше, чем в поэзии, – что ж, хуже он от этого? Временами ей казалось, что даже лучше. Лошадь не меняет каждые пять лет своего вида и масти и не порочит своих предшественников. Лошадь – постоянная величина, держит вас на умеренных темпах, любит, чтобы ее гладили по носу, – о каком поэте можно сказать то же самое? Их роднит только одно – любовь к сахару. После выхода в свет своего романа Холли стала членом «Клуба 1930 года». Провела ее туда Флер: и теперь, наезжая в Лондон, она изучала в своем клубе современность. Современность – это быстрота, и больше ничего. Те, кто ругает ее, пусть бы лучше ругали телефон, радио, аэропланы и закусочные на каждом углу. Под этой внешней оболочкой скорости современность стара. Женщины не так много надевали на себя, когда выходили первые романы Джейн Остин[14]. Панталоны – так утверждают историки – изобретены только в XIX веке. А современная манера говорить! После Южной Африки просто дух захватывает, до того она стремительна; но мысли примерно те же, какие бывали у нее самой в юности, только разрезанные на кусочки автомобилями и телефонными звонками. А современные увлечения! Ведут к тому же, к чему вели и при Георге Втором[15], только тянутся дольше из-за мотоцикла и завтрака стоя. А современная философия! Люди мыслят не менее философски, чем Мартин Таппер[16] или Айзак Уолтон[17]; только, в отличие от этих прославленных старцев, им некогда сформулировать свои мысли. Что же касается будущей жизни – современность живет надеждой, и притом не слишком твердой, как жило человечество с незапамятных времен. И, как подобает писательнице, Холли поспешила сделать вывод. «Вот, – подумала она, – только поскреби лучших представителей современной молодежи – и найдешь Чарлза Джемса Фокса[18] и Пердиту[19] в костюмах для гольфа». Ровный звук вернул ее мысли в обычное русло. Вэл спит! Какие у него и теперь еще длинные, темные ресницы, но рот открыт!
– Вэл, – сказала она еле слышно, – Вэл, не храпи, милый!..
В табакерке можно ценить не столько эмаль, бриллиантики или эпоху, как то, что она принадлежала вашему отцу. Уинифрид, хотя и достаточно показала себя собственницей, в течение стольких лет сохраняя Монтегью Дарти со всеми присущими ему качествами, не обладала, как ее брат Сомс, ни инстинктом коллекционера, ни тем вкусом к вещам, в котором Джордж Форсайт первый усмотрел «смесь ханжества и добродетели». Но чем больше время отдаляло ее отца Джемса – а с его смерти протекло уже четверть века, – тем глубже она чтила его память.
Как древний полководец или мыслитель, огражденный временем от соперников, год от году стяжает все большую славу, так и Джемс! Его нелюбовь к переменам, его предельная семейственность, его умение сберечь деньги для детей и вечная боязнь, что ему чего-нибудь не скажут, – с каждым годом, который он проводил под землей, сияли в глазах Уинифрид все более ярким ореолом. По мере того как она полнела и ее светские стремления угасали, прошлое разгоралось в целое созвездие сияющих воспоминаний. Исчезновение табакерки, столь ощутимо напоминавшей Джемса и Эмили, поколебало ее завидное душевное равновесие больше, чем любое другое событие за много лет. От мысли, что она поддалась голосу, аристократически звучавшему по телефону, ей делалось положительно не по себе. А ей ли, казалось бы, не знать, с ее богатым опытом общения с аристократией! Однако она была из тех женщин, которые, установив неприятный факт, делают все, чтобы как можно скорее его устранить; и, ничего не добившись от Вэла, который только сказал: «Ужасно жаль, мама, но что же поделаешь – не повезло!» – она призвала на помощь Сомса.
Сомса новость сразила. Он помнил, как Джемс на его глазах купил эту табакерку у Джобсона, заплатив десятую долю той суммы, которую можно бы получить за нее теперь. Все теряло свой смысл, если возможно было вот так вдруг лишиться вещи, стоимость которой без всяких усилий с их стороны неуклонно возрастала в течение сорока лет. И взявший ее был из очень хорошей семьи – так по крайней мере утверждал племянник! Была ли честность старых Форсайтов, в атмосфере которой Сомс был воспитан и вступил в жизнь, врожденной или благоприобретенной, впитанной с молоком матери или с доходами от банков, – об этом он никогда не задумывался. Она составляла часть их системы, так же как поговорка «Честность – лучшая политика» входила в систему частных банкирских контор, которые тогда процветали. Праздные мысли на тему о банках были вполне естественны для человека, помнившего отклики на крах конторы «Эндерстарт и Дарнет» и постепенное исчезновение маленьких банков с легендарными именами. Эти громадные теперешние объединения хороши для кредита и плохи для романистов: разъяренные вкладчики – интереснее не было чтения в его время! Такие большущие концерны не могут «лопнуть», как бы ни вели себя их клиенты; но способствуют ли они честности отдельных лиц – в этом Сомс не был уверен. Как бы то ни было, табакерка пропала, и, если Уинифрид не примет мер, ее не вернуть. Какие именно меры она может принять, было ему еще не ясно; но он советует ей сейчас же поручить это дело кому-нибудь.
– Но кому, Сомс?
– На то есть Скотленд-Ярд, – ответил Сомс мрачно. – Толку от них вряд ли добьешься – суетятся, а больше ничего. Есть еще этот тип, которого я приглашал, когда мы судились с Феррар. Он очень дорого берет.
– Мне бы не так было жаль, – сказала Уинифрид, – если б она не принадлежала дорогому папе.
– Таких бандитов надо сажать в тюрьму, – проговорил Сомс.
– И подумать только, – сказала Уинифрид, – что Вэл и остановился-то у меня главным образом для того, чтобы увидеться с ним.
– Ах так? – сказал Сомс мрачно. – Ты вполне уверена, что табакерку взял этот субъект?
– Безусловно. Я достала ее всего за четверть часа до этого, хотела почистить. Когда он ушел, я сейчас же вернулась в комнату, чтобы убрать ее, а ее уже не было. Вэл не выходил из комнаты.
Сомс на минуту задумался, потом отбросил подозрение насчет племянника, потому что Вэл, хоть и кровно связанный со своим папашей Монтегью Дарти, да еще в придачу лошадник, все же был наполовину Форсайт.
– Ну, – сказал он, – так прислать к тебе этого человека? Зовут его Бекрофт; вид у него всегда такой, точно он слишком много бреется, но он не лишен здравого смысла. По-моему, ему надо связаться с клубом, в котором этот тип состоит членом.
– А вдруг он уже продал табакерку? – сказала Уинифрид.
– Вчера к концу дня? Сомневаюсь; но времени терять нельзя. Я сейчас же пройду к Бекрофту. Флер перестарается с этой своей столовой.
– Говорят, она отлично ее наладила. Такие молодцы все эти молоденькие женщины.
– Да уж быстры, что и говорить, – пробурчал Сомс, – но тише едешь – дальше будешь.
Услышав эту истину, которую в дни ее молодости готовы были без конца повторять старые Форсайты, Уинифрид заморгала своими очень уж светлыми ресницами.
– Это, знаешь ли, Сомс, всегда было скучновато. А теперь, если не действовать быстро, все так и ускользает.
Сомс взялся за шляпу.
– Вот табакерка твоя наверняка ускользнет, если мы будем зевать.
– Ну, спасибо, милый мальчик. Я все-таки надеюсь, что мы ее найдем. Милый папа так ею гордился, а когда он умер, она не стоила и половины против теперешней цены.
– И четверти не стоила, – сказал Сомс.
И эта мысль продолжала сверлить его, когда он вышел на улицу. Что толку в благоразумии, когда первый встречный может явиться и прикарманить его плоды? Теперь над собственностью издеваются; но ведь собственность – доказательство благоразумия, в половине случаев – вопрос собственного достоинства. И он подумал о чувстве собственного достоинства, которое украл у него Босини в те далекие горестные дни. Ведь даже в браке проявляешь благоразумие, противопоставляешь себя другим. У человека есть «нюх на победителя», как тогда говорили; правда, он иногда подводит. Ирэн не была «победителем», о нет! Ах, он забыл спросить Уинифрид об этом Джоне Форсайте, который неожиданно опять появился на горизонте. Но сейчас важнее табакерка. Он слышал, что «Брюмель-клуб» – это своего рода притон; там, верно, полно игроков и комиссионеров. Вот зло сегодняшнего дня – это да еще пособие по безработице. Работать? Нет, этого они не желают. Лучше продавать все, что придется, предпочтительно автомобили, и получать комиссионные. «Брюмель-клуб»! Да, вот он. Сомс помнил эти окна. Во всяком случае, делу не повредит, если он узнает, действительно ли этот субъект здесь числится. Он вошел и справился:
– Мистер Стэйнфорд член этого клуба?
– Да. Не знаю, здесь ли он. Эй, Боб, мистер Стэйнфорд не приходил?
– Только что пришел.
– О, – сказал Сомс слегка испуганно.
– К нему джентльмен, Боб.
Сомс почувствовал легкую тошноту.
– Пройдите сюда, сэр.
Сомс глубоко вздохнул, и ноги его двинулись вперед. В грязноватой и тесной нише у самого входа он увидел человека, который развалился в старом кресле и курил папиросу, вставленную в мундштук. В одной руке он держал маленькую красную книжку, в другой – карандашик, и держал он их так спокойно, словно собирался записать мнение, которое у него еще не сложилось. На нем был темный костюм в узкую полоску; он сидел положив ногу на ногу, и Сомс заметил, что одна нога в старом, сношенном коричневом башмаке, начищенном наперекор всеразрушающему времени до умилительного блеска, медленно описывает круги.
– К вам джентльмен, сэр.
Теперь Сомс увидел лицо: брови подняты, как стрелки, глаза почти совсем закрыты веками. Как и вся фигура, лицо это производило впечатление просто поразительной томности. Худое до предела, длинное, бледное, оно, казалось, все состояло из теней и легких горбинок. Нога застыла в воздухе, вся фигура застыла. У Сомса явилось курьезное ощущение, точно сидящий перед ним человек дразнит его своей безжизненностью. Не успев подумать, он начал:
– Мистер Стэйнфорд, не так ли? Не беспокойтесь, пожалуйста. Моя фамилия Форсайт. Вы вчера после обеда заходили в дом моей сестры на Грин-стрит.
Морщины вокруг маленького рта слегка дрогнули, затем послышались слова:
– Прошу садиться.
Теперь глаза открылись – когда-то, по-видимому, они были прекрасны. Они снова сузились, и Сомс невольно подумал, что их обладатель пережил все, кроме самого себя. Он поборол минутное сомнение и продолжал:
– Я хотел задать вам один вопрос. Во время вашего визита не заметили ли вы случайно на столе табакерку Louis Quinze? Она… э-э… пропала, и мы хотели бы установить время ее исчезновения.
Человек в кресле улыбнулся, как мог бы улыбнуться бесплотный дух.
– Что-то не помню.
С мыслью: «Она у него» – Сомс продолжал:
– Очень жаль, вещь ценили как память. Ее, без сомнения, украли. Я хотел выяснить это дело. Если б вы ее заметили, мы могли бы точно установить время пропажи… на столике, как раз где вы сидели, синяя эмаль.
Худые плечи слегка поежились, словно им не нравилась попытка возложить на них ответственность.
– К сожалению, не могу вам помочь. Я ничего не заметил, кроме очень хорошего инкрустированного столика.
«В жизни не видел такого хладнокровия, – подумал Сомс. – Интересно, сейчас она у него в кармане?»
– Вещь эта – уникум, – произнес он медленно. – Для полиции трудностей не представится. Ну что ж, большое спасибо. Простите за беспокойство. Вы, кажется, учились с моим племянником? Всего хорошего.
– Всего хорошего.
С порога Сомс незаметно оглянулся. Фигура была совершенно неподвижна, ноги все так же скрещены, бледный лоб под гладкими седеющими волосами склонялся над красной книжечкой. По виду ничего не скажешь! Но вещь у него, сомнений быть не может.
Он вышел на улицу и направился к Грин-парку, испытывая очень странное чувство. Тащить что плохо лежит! Чтобы аристократ дошел до такого! История с Элдерсоном была не из приятных, но не так печальна, как эта. Побелевшие швы прекрасного костюма, поперечные трещины на когда-то превосходных штиблетах, выцветший, идеально завязанный галстук – все это свидетельствовало о том, что внешний вид поддерживается со дня на день, впроголодь. Это угнетало Сомса. До чего же томная фигура! А что, в самом деле, предпринять человеку, когда у него нет денег, а работать он не может, даже если это вопрос жизни? Устыдиться своего поступка он не способен, это ясно. Нужно еще раз поговорить с Уинифрид. И, повернувшись на месте, Сомс пошел обратно в направлении Грин-стрит. При выходе из парка, на другой стороне Пикадилли, он увидел ту же томную фигуру. Она тоже направлялась в сторону Грин-стрит. Ого! Сомс пересек улицу и пошел следом. Ну и вид у этого человека! Шествует так, словно явился в этот мир из другой эпохи, из эпохи, когда выше всего ценился внешний вид. Он чувствовал, что «этот тип» скорее расстанется с жизнью, чем выкажет интерес к чему бы то ни было. Внешний вид! Возможно ли довести презрение к чувству до такого совершенства, чтобы забыть, что такое чувство? Возможно ли, что приподнятая бровь приобретает больше значения, чем все движения ума и сердца? Шагают поношенные павлиньи перья, а павлина-то внутри и нет. Показать свои чувства – вот, может быть, единственное, чего этот человек устыдился бы. И сам немного дивясь своему таланту диагноста, Сомс не отставал от него, пока не очутился на Грин-стрит. О черт! Тот и правда шел к дому Уинифрид! «Преподнесу же я ему сюрприз», – подумал Сомс. И, прибавив шагу, он сказал, слегка задыхаясь, на самом пороге дома:
– А, мистер Стэйнфорд! Пришли вернуть табакерку?
Со вздохом, чуть-чуть опершись тростью на тротуар, фигура обернулась. Сомсу вдруг стало стыдно, точно он в темноте испугал ребенка. Неподвижное лицо, с поднятыми бровями и опущенными веками, было бледно до зелени, как у человека с больным сердцем; на губах пробивалась слабая улыбка. Добрых полминуты длилось молчание, потом бледные губы заговорили:
– А это смотря по тому – сколько?
Теперь Сомс окончательно задохнулся. Какая наглость!
А губы опять зашевелились:
– Можете получить за десять фунтов.
– Могу получить даром, – сказал Сомс, – стоит только позвать полисмена.
Опять улыбка.
– Этого вы не сделаете.
– Почему бы нет?
– Не принято.
– Не принято, – повторил Сомс. – Это еще почему? В жизни не встречал ничего более бессовестного.
– Десять фунтов, – сказали губы. – Они мне очень нужны.
Сомс стоял раскрыв глаза. Бесподобно! Человек смущен не больше, чем если бы он просил прикурить; ни один мускул не дрогнул в лице, которое, кажется, вот-вот перестанет жить. Большое искусство! Он понимал, что произносить тирады о нравственности нет никакого смысла. Оставалось либо дать десять фунтов, либо позвать полисмена. Он посмотрел в оба конца улицы.
– Нет. Ни одного не видно. Табакерка при мне. Десять фунтов.
Сомс попытался что-то сказать. Этот человек точно гипнотизировал его. И вдруг ему стало весело. Ведь нарочно не придумаешь такого положения!
– Ну, знаете ли, – сказал он, доставая две пятифунтовые бумажки, – такой наглости…
Тонкая рука достала пакетик, чуть оттопыривавший боковой карман.
– Премного благодарен. Получите. Всего лучшего!
Он пошел прочь. В движениях его была все та же неподражаемая томность; он не оглядывался. Сомс стоял, зажав в руке табакерку, смотрел ему вслед.
– Да, – сказал он вслух, – теперь таких не делают. – И нажал на кнопку звонка.
VII
Майкл терзается
За те восемь дней, что длилась генеральная стачка, в несколько горячечном существовании Майкла отдыхом были только часы, проведенные в палате общин, столь поглощенной измышлениями, что бы такое предпринять, что она не предпринимала ничего. У него сложилось свое мнение, как уладить конфликт; но, поскольку оно сложилось только у него, результат этого никак не ощущался. Все же Майкл отмечал с глубоким удовлетворением, что день ото дня акции британского характера котируются все выше как в Англии, так и за границей, и с некоторой тревогой – что акции британских умственных способностей упали почти до нуля. Постоянная фраза мистера Блайта: «И о чем только эти… думают?» – неизменно встречала отклик у него в душе. О чем они, в самом деле, думают? Со своим тестем он имел на эту тему только один разговор.
Сомс взял яйцо и сказал:
– Ну, государственный бюджет провалился.
Майкл взял варенья и ответил:
– А когда вы были молоды, сэр, тогда тоже происходили такие вещи?
– Нет, – сказал Сомс, – тогда профсоюзного движения, собственно говоря, и не было.
– Многие говорят, что теперь ему конец. Что вы скажете о стачке как о средстве борьбы, сэр?
– Для самоубийства – идеально. Поразительно, как они раньше не додумались.
– Я, пожалуй, согласен, но что же тогда делать?
– Ну как же, – сказал Сомс, – ведь у них есть право голоса.
– Да, так всегда говорят. Но роль парламента, по-моему, все уменьшается: в стране сейчас есть какое-то направляющее чувство, которое и решает все вопросы раньше, чем мы успеваем добраться до них в парламенте. Возьмите хоть эту забастовку: мы здесь бессильны.
– Без правительства нельзя, – сказал Сомс.
– Без управления – безусловно. Но в парламенте мы только и делаем, что обсуждаем меры управления задним числом и без видимых результатов. Дело в том, что в наше время все слишком быстро меняется – не уследишь.
– Ну, вам виднее, – сказал Сомс. – Парламент всегда был говорильней.
И в полном неведении, что процитировал Карлейля[20] – слишком экспансивный писатель, который в его представлении почему-то всегда ассоциировался с революцией, – он взглянул на картину Гойи и добавил:
– Мне все-таки не хотелось бы увидеть Англию без парламента. Слышали вы что-нибудь об этой рыжей молодой женщине?
– Марджори Феррар? Очень странно, как раз вчера я встретил ее на Уайтхолл. Сказала мне, что водит правительственную машину.
– Она с вами говорила?
– О да. Мы друзья.
– Гм, – сказал Сомс, – не понимаю нынешнего поколения. Она замужем?
– Нет.
– Этот Мак-Гаун дешево отделался, хоть и зря – не заслужил. Флер не скучает без своих приемов?
Майкл не ответил. Он не знал. Они с Флер были в таких прекрасных отношениях, что мало были осведомлены о мыслях друг друга. И, чувствуя, как его сверлят серые глаза тестя, он поспешил сказать:
– Флер молодцом, сэр.
Сомс кивнул.
– Не давайте ей переутомляться с этой столовой.
– Она работает с большим удовольствием – есть случай приложить свои способности.
– Да, – сказал Сомс, – голова у нее хорошая, когда она ее не теряет. – Он словно опять посоветовался с картиной Гойи, потом добавил:
– Между прочим, этот молодой Джон Форсайт опять здесь, мне говорили – живет пока на Грин-стрит, работает кочегаром или что-то в этом роде. Детское увлечение… но я думал, вам не мешает знать.
– О, – сказал Майкл, – спасибо. Я не знал.
– Она, вероятно, тоже не знает, – осторожно сказал Сомс, – я просил не говорить ей. Вы помните, в Америке, в Маунт-Вернон, когда мне стало плохо?
– Да, сэр. Отлично помню.
– Ну, так я не был болен. Просто я увидел, что этот молодой человек и его жена беседуют с вами на лестнице. Решил, что Флер лучше с ними не встречаться. Все это очень глупо, но никогда нельзя знать…
– Да, – сказал Майкл сухо, – никогда нельзя знать. Я помню, он мне очень понравился.
– Гм, – пробормотал Сомс, – сын своего отца, я полагаю.
И по выражению его лица Майкл решил, что преимущество это сомнительное.
Больше ничего не было сказано, так как Сомс всю жизнь считал, что говорить нужно только самое необходимое, а Майкл предпочитал не разбирать поведения Флер всерьез даже с ее отцом. Последнее время она казалась ему вполне довольной. После пяти с половиной лет брака он был уверен, что как человек он нравится Флер, что как мужчина он ей не неприятен и что неразумен тот, кто надеется на большее. Правда, она упорно отказывалась от второго издания Кита, но только потому, что не хотела еще раз выйти из строя на несколько месяцев. Чем больше у нее дела, тем она довольнее – столовая, например, дала ей повод развернуться вовсю. Знай он, правда, что там кормится Джон Форсайт, Майкл встревожился бы; а так известие о приезде молодого человека в Англию не произвело на него большого впечатления. В те напряженные дни его внимание целиком поглощала Англия. Его бесконечно радовали все проявления патриотизма: студенты, работающие в порту, девушки за рулем автомобилей, продавцы и продавщицы, бодро шагающие пешком к месту работы, великое множество добровольческой полиции, общее стремление «продержаться». Даже бастующие были добродушны. Его заветные взгляды относительно Англии изо дня в день подтверждались в пику всем пессимистам. И он чувствовал, что нет сейчас столь неанглийского места, как палата общин, где людям ничего не оставалось, как строить грустные физиономии да обсуждать «создавшееся положение».
Известие о провале генеральной стачки застигло его, когда он только что отвез Флер в столовую и ехал домой. Шум и толкотня на улицах и слова «Стачка окончена», наскоро нацарапанные на всех углах, появились еще раньше, чем газетчики стали торопливо выкрикивать: «Конец стачки – официальные сообщения!» Майкл затормозил у тротуара и купил газету. Вот оно! С минуту он сидел не двигаясь, горло у него сдавило, как в тот день, когда узнали о перемирии. Исчез меч, занесенный над головой Англии! Иссяк источник радости для ее врагов! Люди шли и шли мимо него, у каждого была в руках газета, глаза глядели необычно. К этой новости относились почти так же трезво, как отнеслись к самой стачке. «Добрая старая Англия! Мы великий народ, когда есть с чем бороться», – думал он, медленно направляя машину к Трафальгар-сквер. Прислонившись к каменной ограде, стояла группа мужчин, без сомнения участвовавших в стачке. Он попытался прочесть что-нибудь у них на лицах. Радость, сожаление, стыд, обида, облегчение? Хоть убей, не разобрать. Они балагурили, перебрасывались шутками.
«Неудивительно, что мы – загадка для иностранцев, – подумал Майкл. – Самый непонятный народ в мире».
Держась края площади, он медленно проехал на Уайтхолл. Здесь можно было уловить легкие признаки волнения. Вокруг памятника неизвестному солдату и у поворота на Даунинг-стрит густо толпился народ; там и сям покрикивали «ура!». Доброволец-полисмен переводил через улицу хромого; когда он повернул обратно, Майкл увидел его лицо. Ба, да это дядя Хилери! Младший брат его матери, Хилери Черрел, викарий прихода Св. Августина в «Лугах».
– Алло, Майкл!
– Вы в полиции, дядя Хилери? А ваш сан?
– Голубчик, разве ты из тех, которые считают, что для служителей церкви не существует мирских радостей? Ты не становишься ли консервативен, Майкл?
Майкл широко улыбнулся. Его непритворная любовь к дяде Хилери складывалась из восхищения перед его худощавым и длинным лицом, морщинистым и насмешливым; из детских воспоминаний о весельчаке дядюшке; из догадки, что в Хилери Черреле пропадал полярный исследователь или еще какой-нибудь интереснейший искатель приключений.
– Кстати, Майкл, когда ты заглянешь к нам? У меня есть превосходный план, как прочистить «Луга».
– А, – сказал Майкл, – все упирается в перенаселение, даже стачка.
– Правильно, сын мой. Так вот, заходи поскорее. Вам, парламентским господам, нужно узнавать жизнь из первых рук. Вы там, в палате, страдаете от самоотравления. А теперь проезжайте, молодой человек, не задерживайте движение.
Майкл проехал, не переставая улыбаться. Милый дядя Хилери! Очеловечивание религии и жизнь, полная опасностей – лазил на самые трудные горные вершины Европы, – никакого самомнения и неподдельное чувство юмора. Лучший тип англичанина! Ему предлагали высокие посты, но он сумел от них отвертеться. Он был, что называется, непоседа и часто грешил отчаянной бестактностью; но все любили его, даже собственная жена. На минуту Майкл задумался о своей тете Мэй. Лет сорок, трое ребят и тысяча дел на каждый день; стриженая и веселая, как птица. Приятная женщина тетя Мэй!
Поставив машину в гараж, он вспомнил, что не завтракал. Было три часа. Он выпил стакан хереса, закусывая печеньем, и пошел в палату общин. Палата гудела в ожидании официального заявления. Он откинулся на спинку скамьи, вытянул вперед ноги и стал терзаться праздными мыслями. Какие тут вершились когда-то дела! Запрещение работорговли и детского труда, закон о собственности замужней женщины[21], отмена хлебных законов! Но возможно ли такое и теперь? А если нет, то что это за жизнь? Он сказал как-то Флер, что нельзя два раза переменить призвание и остаться в живых. Но хочется ли ему остаться в живых? Если отпадает фоггартизм – а фоггартизм отпал не только потому, что никогда не начинался, – чем он, по существу, интересуется?
Уходя, оставить мир лучшим, чем ты застал его? Сидя здесь, он без труда усматривал в этом замысле некоторый недостаток четкости, даже если ограничить его Англией. Это была мечта палаты общин; но, захлебываясь в смене партий, она что-то медленно приближалась к ее осуществлению. Лучше наметить себе какой-то участок административной работы, крепко держаться его и чего-то добиться. Флер хочет, чтобы он занялся Кенией и индийцами. Опять что-то отвлеченное и не связанное непосредственно с Англией. Какой определенный вид работы всего нужнее Англии? Просвещение? Опять неясность! Как знать, в какое русло лучше всего направить просвещение? Вот, например, когда было введено всеобщее обучение за счет государства, – казалось, что вопрос решен. Теперь говорят, что оно оказалось гибельным для самого государства. Эмиграция? Заманчиво, но не созидательно. Возрождение сельского хозяйства? Но сочетание того и другого сводилось к фоггартизму, а он успел усвоить, что только крайняя нужда убедит людей в закономерности его; можно говорить до хрипоты и все-таки не убедить никого, кроме самого себя.
Так что же?
«У меня есть превосходный план, как прочистить „Луга“… „Луга“ были одним из самых скверных трущобных приходов Лондона. „Заняться трущобами, – подумал Майкл, – это хоть конкретно“. Трущобы кричат о себе даже запахами. От них идет вонь, и дикость, и разложение. А между тем живущие там привязаны к ним; или, во всяком случае, предпочитают их другим, еще неизвестным трущобам. А трущобные жители такой славный народ! Жаль ими швыряться. Надо поговорить с дядей Хилери. В Англии еще столько энергии, такая уйма рыжих ребятишек! Но, подрастая, энергия покрывается копотью, как растения на заднем дворе. Перестройка трущоб, устранение дыма, мир в промышленности, эмиграция, сельское хозяйство и безопасность в воздухе. „Вот моя вера, – подумал Майкл. – И черт меня побери, если такая программа хоть для кого недостаточно обширна!“»
Он повернулся к министерской скамье и вспомнил слова Хилери об этой палате. Неужели все они действительно в состоянии самоотравления – медленного и непрерывного проникновения яда в ткани? Все эти окружающие его господа воображают, что заняты делом. И он оглядел «господ». С большинством из них он был знаком и ко многим относился с большим уважением, но все скопом – что и говорить, они выглядели несколько растерянно. У его соседа справа передние зубы обнажились в улыбке утопленника. «Право же, – подумал Майкл, – прямо геройство, как это мы все день за днем сидим здесь и не засыпаем!»
VIII
Тайна
У Флер не было оснований ликовать по поводу провала генеральной стачки. Не в ее характере было рассматривать такой вопрос с общенациональной точки зрения. Столовая окончательно утвердила ее веру в себя, которую так жестоко поколебала история с Марджори Феррар; и быть по горло занятой вполне ей подходило. Нора Кэрфью, она сама, Майкл и его тетка, леди Элисон Черрел, завербовали первоклассный штат помощников всех возрастов, и по большей части из высшего общества. Они работали, выражаясь общепринятым языком, как негры. Их ничто не смущало, даже тараканы. Они вставали и ложились спать в любое время. Никогда не сердились и были неизменно веселы. Одним словом, трудились вдохновенно. Компания железной дороги не могла надивиться, как они преобразили внешний вид столовой и кухни. Сама Флер не покидала капитанского мостика. Она взяла на себя смазку учрежденческих колес, бесчисленные телефонные схватки с бюрократизмом и открытые бои с представителями правления. Она даже забралась в карман к отцу, чтобы пополнять возникающие нехватки. Добровольцев кормили до отвала, и – по вдохновенному совету Майкла – она подрывала стойкость пикетчиков, потихоньку угощая их кофе с ромом в самые разнообразные часы их утомительных бдений. Ее снабженческий автомобиль, вверенный Холли, пробирался взад и вперед через блокаду, словно у него и в мыслях не было магазина Хэрриджа, где закупались продукты.
– Надо все сделать, чтобы бастующие вздремнули на оба глаза, – говорил Майкл.
Сомневаться в успехе столовой не приходилось. Флер больше не видела Джона, но жила в том своеобразном смешении страха и надежды, которое знаменует собою истинный интерес к жизни. В пятницу Холли сообщила ей, что приехала жена Джона: нельзя ли привести ее завтра утром?
– Конечно! – сказала Флер. – Какая она?
– Очень мила, глаза как у русалки; по крайней мере Джон так полагает. Но если русалка, то из самых симпатичных.
– Мм, – сказала Флер.
На следующий день она сверяла по телефону какой-то список, когда Холли привела Энн. Почти одного роста с Флер, прямая и тоненькая, волосы потемнее, цвет лица посмуглее и темные глаза (Флер стало ясно, что понимала Холли под словом «русалочьи»), носик чуть-чуть слишком смелый, острый подбородок и очень белые зубы – вот она, та, что заменила ее. Знает ли она, что они с Джоном…
И, протягивая ей свободную руку, Флер сказала:
– По-моему, вы как американка поступили очень благородно. Как поживает ваш брат Фрэнсис?
Рука, которую она пожала, была сухая, теплая, смуглая; в голосе, когда та заговорила, лишь чуточку слышалась Америка, словно Джон потрудился над ним:
– Вы были так добры к Фрэнсису. Он постоянно вас вспоминает. Если бы не вы…
– Это пустяки. Простите… Да-да?… Нет! Если принцесса приедет, передайте ей, не будет ли она так добра заехать, когда они обедают. Да, да, спасибо!.. Завтра? Конечно… Как доехали? Качало?
– Ужас! Хорошо, что Джона со мной не было. Отвратительно, когда мутит, правда?
– Меня никогда не мутит, – сказала Флер.
У этой девчонки есть Джон, и он заботится о ней, когда ее мутит! Красивая? Да. Загорелое лицо очень подвижно, похожа, пожалуй, на брата, но глаза такие манящие, куда более выразительные. Что-то есть в этих глазах, почему они такие странные и интересные. Ну да, самую малость косят! И держаться она умеет – какой-то особенный поворот шеи, прекрасная посадка головы. Одета, конечно, очаровательно. Взгляд Флер скользнул вниз, к икрам и щиколоткам. Не толстые, не кривые! Вот несчастье!
– Я так вам благодарна, что вы разрешили мне помочь.
– Ну что вы! Холли вас просветит. Вы возьмете ее в магазины, Холли?
Когда она ушла, опекаемая Холли, Флер прикусила губу. По бесхитростному взгляду жены Джона она догадалась, что Джон ей не сказал. До чего молода! Флер вдруг показалось, словно у нее самой и не было молодости. Ах, если бы у нее не отняли Джона! Прикушенная губа задрожала, и она поспешно склонилась над телефоном.
При всех новых встречах с Энн – три или четыре раза до того, как столовая закрылась, – Флер заставляла себя быть приветливой. Она инстинктом чувствовала, что сейчас не время отгораживаться от кого бы то ни было. Чем явилось для нее возвращение Джона, она еще не знала; но на этот раз, что бы она ни надумала, никто не посмеет вмешаться. Теперь она сама себе хозяйка – не то что тогда, когда они с Джоном были невинными младенцами. Ее охватила злая радость, когда Холли сказала: «Энн от вас в восторге, Флер!» Нет, Джон ничего не рассказал жене. Это на него и похоже, ведь тайна была не только его! Но долго ли эта девочка останется в неведении? В день закрытия столовой она сказала Холли:
– Жене Джона, вероятно, никто не говорил, что мы с ним были когда-то влюблены друг в друга?
Холли покачала головой.
– Тогда лучше и не нужно.
– Конечно, милая. Я позабочусь об этом. Славная, по-моему, девочка.
– Славная, – сказала Флер, – но неинтересная.
– Не забывайте, что она здесь в непривычной, чужой обстановке. В общем, американцы рано или поздно оказываются интересными.
– В собственных глазах, – сказала Флер и увидела, что Холли улыбнулась.
Поняв, что немного выдала себя, она тоже улыбнулась.
– Что же, лишь бы они ладили. Так и есть, наверное?
– Голубчик, я почти не видела Джона, но, судя по всему, они в прекрасных отношениях. Теперь они собираются к нам в Уонсдон погостить.
– Чудно! Ну, вот и конец нашей столовой. Попудрим носики и поедем домой: папа ждет меня в автомобиле. Может быть, подвезти вас?
– Нет, спасибо, пойду пешком.
– Как? По-прежнему избегаете? Забавно, как живучи такие антипатии!
– Да, у Форсайтов, – проговорила Холли. – Мы, знаете, скрываем свои чувства. Чувства гибнут, когда швыряешься ими на ветер.
– А, – сказала Флер. – Ну, да хранит вас бог, как говорится, и привет Джону. Я пригласила бы их к завтраку, но ведь вы уезжаете в Уонсдон?
– Послезавтра.
В круглом зеркальце Флер увидала, что маска на ее лице стала совсем проницаемой, и повернулась к двери.
– Возможно, что я забегу к тете Уинифрид, если улучу минутку. До свидания.
Спускаясь по лестнице, она думала: «Так это ветер убивает чувства!»
В машине Сомс разглядывал спину Ригза. Шофер был худ, как жердь.
– Ну, кончила? – спросил он ее.
– Да, дорогой.
– Давно пора. На кого стала похожа!
– Разве ты находишь, что я похудела, папа?
– Нет, – сказал Сомс, – нет. Ты пошла в мать. Но нельзя так переутомляться. Хочешь подышать воздухом? В парк, Ригз!
По дороге в это тихое пристанище он задумчиво сказал:
– Я помню время, когда твоя бабушка каталась здесь каждый день, с точностью часового механизма. Тогда знали, что такое привычка. Хочешь остановиться посмотреть на этот памятник, о котором столько кричат?
– Я его видела, папа.
– Я тоже, – сказал Сомс. – Бьет на дешевый эффект. Вот статуя Сент-Годенса в Вашингтоне – это другое дело! – И он искоса посмотрел на дочь.
Хорошо еще, что она не знает, как он уберег ее там от этого Джона Форсайта! Теперь-то она уж, наверно, узнала, что он в Лондоне, у ее тетки. А стачка кончилась, на железных дорогах восстанавливается нормальное движение, и он окажется без дела. Но, может быть, он уедет в Париж? Его мать, по-видимому, все еще там. У Сомса чуть не вырвался вопрос, но удержал инстинкт – всесильный, только когда дело касалось Флер. Если она и видела молодого человека, то не скажет ему об этом. Вид у нее немного таинственный, или это ему только чудится?
Нет! Он не мог разгадать ее мысли. Это, может, и лучше. Кто решится открыть свои мысли людям? Тайники, изгибы, излишества мыслей. Только в просеянном, профильтрованном виде можно выставить мысль напоказ. И Сомс опять искоса поглядел на дочь.
А она и правда была погружена в мысли, которые его сильно встревожили бы. Как повидать Джона с глазу на глаз до его отъезда в Уонсдон? Можно, конечно, просто зайти на Грин-стрит – и, вероятно, не увидеть его. Можно пригласить его к себе позавтракать, но тогда не обойтись без его жены и своего мужа. Увидеть его одного можно только случайно. И Флер стала строить планы. Когда она совсем было сообразила, что случайность в том и состоит, что ее невозможно спланировать, план вдруг возник. Она пойдет на Грин-стрит в девять часов утра – поговорить с Холли относительно счетов по столовой. После таких утомительных дней Холли и Энн, наверное, будут пить кофе в постели. Вэл уехал в Уонсдон. Тетя Уинифрид всегда встает поздно! Есть шанс застать Джона одного. И она повернулась к Сомсу.
– Какой ты милый, папа, что повез меня проветриться, – ужасно приятно.
– Хочешь, выйдем посмотреть на уток? У лебедей в Мейплдерхеме в этом году опять птенцы.
Лебеди! Как ясно она помнит шесть маленьких «миноносцев», плывших за старыми лебедями по зеленоватой воде, в лето ее любви шесть лет назад! Спускаясь по траве к Серпентайну, она ощутила сладостное волнение. Но никто, никто не узнает о том, что в ней творится. Что бы ни случилось – а скорее всего, вообще ничего не случится, – теперь-то она спасет свое лицо. Нет в мире сильнее побуждения, как говорит Майкл.
– Твой дедушка водил меня сюда, когда я был мальчишкой, – прозвучал около нее голос отца.
Он не добавил: «А я водил сюда ту мою жену в первое время после свадьбы». Ирэн! Она любила деревья и воду. Она любила все красивое. И она не любила его.
– Итонские курточки! Шестьдесят лет прошло, больше. Кто бы тогда подумал?
– Кто бы что подумал, папа? Что итонские курточки все еще будут носить?
– Этот, как его… Теннисон[22], кажется: «Старый порядок меняется, новому место дает». Не могу себе представить тебя в стоячих воротничках и юбках до полу, не говоря о турнюрах. В то время не жалели материи на платья, но знали мы о женщинах ровно столько же, сколько и теперь, то есть почти ничего.
– Ну, не знаю. По-твоему, человеческие страсти те же, что были, папа?
Сомс задумчиво потер подбородок. Почему она это спросила? Когда-то он сказал ей, что настоящая страсть бывала только в прошлом, а она ответила, что сама ее переживает. И в памяти у него мгновенно возникла картина, как в теплице Мейплдерхема, во влажной жаре, отдающей землей и геранью, он толкнул ногой трубу водяного отопления. Может, Флер и была права тогда: от человеческой природы не уйдешь.
– Страсти! – сказал он. – Что ж, и сейчас иногда читаешь, что люди травятся газом. В прежнее время они обычно топились. Пойдем выпьем чаю, вон там есть какой-то павильон.
Когда они уселись и голуби весело принялись клевать его пирожное, он окинул дочь долгим взглядом. Она сидела положив ногу на ногу – красивые ноги! И фигурой – от талии и выше – как-то отличалась от всех других молодых женщин, которых ему приходилось видеть. Она сидела не согнувшись, а чуть выгнув спину, отчего появлялась решительность в посадке головы. Она опять коротко остриглась – эта мода оказалась, против ожидания, живучей; но, надо признать, шея у нее на редкость белая и круглая. Лицо широкое, с твердым, округлым подбородком; очень мало пудры, и губы не подкрашены, белые веки с темными ресницами, ясные светло-карие глаза, небольшой прямой нос, и широкий низкий лоб, и каштановые завитки над ушами, и рот, напрашивающийся на поцелуи, – право же, ему есть чем гордиться!
– Я полагаю, – сказал он, – ты рада, что опять можешь уделять больше времени Киту? Он плутишка! Подумай, что он попросил у меня вчера – молоток!
– Да, он постоянно все крушит. Я стараюсь шлепать его как можно реже, но иногда без этого не обойтись – кроме меня, никому не разрешается. Мама приучила его к этому, пока нас не было, так что теперь он считает, что это в порядке вещей.
– Дети – чудные создания, – сказал Сомс. – В моем детстве с нами так не носились.
– Прости меня, папа, но, по-моему, больше всех с ним носишься ты.
– Что? – сказал Сомс. – Я?
– Ты исполняешь все его прихоти. Ты дал ему молоток?
– У меня его не было – к чему мне носить с собой молотки?
Флер рассмеялась.
– Нет, но ты относишься к нему совершенно серьезно. Майкл относится к нему иронически.
– Малыш не лишен чувства юмора.
– К счастью. А меня ты не баловал, папа?
Сомс уставился на голубя.
– Трудно сказать, – ответил он. – Ты чувствуешь себя избалованной?
– Когда я чего-нибудь хочу – кончено.
Это он знал; но если она не хочет невозможного…
– И если я этого не получаю, со мной не шути.
– Это кто говорит?
– Никто это не говорит, я сама знаю…
Хм! Чего же она сейчас хочет? Спросить? И, делая вид, что смахивает с пиджака крошки, он взглянул на нее исподлобья. Лицо ее, глаза, которые на мгновение остались незащищенными, заволокла какая-то глубокая… как бы это сказать? Тайна! Вот оно что!
IX
Случайная встреча
Зажав в руке счета по столовой, Флер на мгновение задержалась у подъезда, между двумя лавровыми деревьями в кадках. Большой Бэн показывает без четверти девять. Пешком через Грин-парк она пройдет минут двадцать. Кофе она выпила в постели, чтобы избежать вопросов, – а папа, конечно, тут как тут: приклеился носом к окну столовой. Флер помахала счетами, и он отшатнулся от окна, как будто она его стегнула. Папа бесконечно добр, но напрасно он все время стирает с нее пыль – она не фарфоровая безделушка!
Она шла быстрым шагом. Никаких ощущений, связанных с жимолостью, у нее сегодня не было, ум работал четко и живо. Если Джон вернулся в Англию окончательно, нужно добиться его. Чем скорее, тем лучше, без канители! На куртинах[23] перед Букингемским дворцом только что расцвела герань, ярко-пунцовая; Флер стало жарко. Не нужно спешить, а то придешь вся потная. Деревья одевались по-летнему; в Грин-парке тянуло ветерком, и на солнце пахло травой и листьями. Много лет так хорошо не пахло весной. Флер неудержимо потянуло за город. Трава, и вода, и деревья – среди них протекли ее встречи с Джоном, один час в этом самом парке, перед тем как он повез ее в Робин-Хилл! Робин-Хилл продали какому-то пэру. Ну и пусть наслаждается, она-то знает историю этого злосчастного дома – он точно корабль, над которым тяготеет проклятие! Дом сгубил ее отца, и отца Джона, и еще, кажется, его деда, не говоря уже о ней самой. Второй раз ее так легко не сломаешь! И, выйдя на Пикадилли, Флер мысленно посмеялась над своей детской наивностью. В окнах клуба, обязанного своим названием – «Айсиум» – Джорджу Форсайту, не было видно ни одного из его соратников, обычно созерцавших изменчивые настроения улицы, потягивая из стакана или чашки и обволакивая свои мнения клубами дыма. Флер очень смутно помнила его, своего старого родственника Джорджа Форсайта, который часто сиживал здесь, мясистый и язвительный, за выпуклыми стеклами окна. Джордж, бывший владелец «Белой обезьяны», что висит теперь наверху, у Майкла в кабинете. И дядя Монтегью Дарти, которого она видела всего один раз и хорошо запомнила, потому что он ущипнул ее за мягкое место и сказал: «Ну-ка, из чего делают маленьких девочек?» Узнав вскоре после этого, что он сломал себе шею, она захлопала в ладоши – препротивный был человек, толстолицый, темноусый, пахнувший духами и сигарами. На последнем повороте она запыхалась. На окнах дома тетки в ящиках цвела герань, фуксии еще не распустились. Не в ее ли бывшей комнате теперь поселили их? И, отняв руку от сердца, она позвонила.
– А, Смизер! Встал уже кто-нибудь?
– Пока только мистер Джон встал, мисс Флер.
И зачем так колотится сердце? Идиотство – когда не чувствуешь никакого волнения.
– Хватит и его, Смизер. Где он?
– Пьет кофе, мисс Флер.
– Хорошо, доложите. Я и сама не откажусь от второй чашки.
Она стала еле слышно склонять скрипящую фамилию, которая плыла впереди нее в столовую: «Смизер, Смизера, Смизеру, Смизером». Глупо!
– Миссис Майкл Монт, мистер Джон. Заварить вам свежего кофе, мисс Флер?
– Нет, спасибо, Смизер. – Скрипнул корсет, дверь закрылась.
Джон встал.
– Флер!
– Ну, Джон?
Ей удалось пожать ему руку и не покраснеть, хотя его щеки, теперь уже не измазанные, залил густой румянец.
– Хорошо я тебя кормила?
– Замечательно. Как поживаешь, Флер? Не слишком устала?
– Ничуть. Как тебе понравилось быть кочегаром?
– Хорошо! Машинист у меня был молодчина. Энн будет жалеть – она еще отлеживается.
– Она очень помогла нам. Почти шесть лет прошло, Джон. Ты мало изменился.
– Ты тоже.
– О, я-то? До ужаса.
– Ну, мне это не видно. Ты завтракала?
– Да. Садись и продолжай есть. Я зашла к Холли, надо поговорить о счетах. Она тоже не вставала?
– Кажется.
– Сейчас пройду к ней. Как тебе живется в Англии, Джон?
– Чудесно. Больше не уеду. Энн согласна.
– Где думаешь поселиться?
– Где-нибудь поближе к Вэлу и Холли, если найдем участок. Буду заниматься хозяйством.
– Все увлекаешься хозяйством?
– Больше чем когда-либо.
– Как поэзия?
– Что-то заглохла.
Флер напомнила:
– «Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд».
– Боже мой! Ты это помнишь?
– Да.
Взгляд у него был такой же прямой, как прежде, ресницы такие же темные.
– Хочешь познакомиться с Майклом, Джон, и посмотреть моего младенца?
– Очень.
– Когда вы уезжаете в Уонсдон?
– Завтра или послезавтра.
– Так, может быть, завтра вы оба придете к завтраку?
– С удовольствием.
– В половине второго. И Холли, и тетя Уинифрид. Твоя мама еще в Париже?
– Да. Она думает там и остаться.
– Видишь, Джон, все улаживается, правда?
– Правда.
– Налить тебе еще кофе? Тетя Уинифрид гордится своим кофе.
– Флер, у тебя прекрасный вид.
– Благодарю. Ты в Робин-Хилле побывал?
– Нет еще. Там теперь обосновался какой-то вельможа.
– Как твоей… как Энн, здесь интересно показалось?
– Впечатление колоссальное. Говорит, мы благородная нация. Ты когда-нибудь это находила?
– Абсолютно – нет; относительно – может быть.
– Тут так хорошо пахнет.
– Нюх поэта. Помнишь нашу прогулку в Уонсдоне?
– Я все помню, Флер.
– Вот это честно. Я тоже. Мне не так-то скоро удалось запомнить, чтобы я забыла. Ты сколько времени помнил?
– Наверное, еще дольше.
– Ну, Майкл – лучший из всех мужчин.
– Энн – лучшая из женщин.
– Как удачно, правда? Сколько ей лет?
– Двадцать один.
– Как раз тебе подходит. Даже если б нас не разлучили, я всегда была слишком стара для тебя. Ой, какие мы были глупые, правда?
– Не нахожу. Это было так естественно, так красиво.
– Ты по-прежнему идеалист. Хочешь варенья? Оксфордское.
– Да. Только в Оксфорде и умеют варить варенье.
– Джон, у тебя волосы лежат совсем как раньше. Ты мои заметил?
– Все старался.
– Тебе не нравится?
– Раньше, пожалуй, было лучше; хотя…
– Ты хочешь сказать, что мне не к лицу отставать от моды. Очень тонко! Что она стриженая, ты, по-видимому, одобряешь.
– Энн стрижка к лицу.
– Ее брат много тебе рассказывал обо мне?
– Он говорил, что у тебя прелестный дом, что ты ухаживала за ним, как ангел.
– Не как ангел, а как светская молодая женщина. Это пока еще не одно и то же.
– Энн была так благодарна. Она тебе говорила?
– Да. Но по секрету скажу тебе, что мы, кажется, отправили Фрэнсиса домой циником. Цинизм у нас в моде. Ты заметил его во мне?
– По-моему, ты его напускаешь на себя.
– Ну что ты! Я его отбрасываю, когда говорю с тобой. Ты всегда был невинным младенцем. Не улыбайся – был! Поэтому тебе и удалось от меня отделаться. Ну, не думала я, что мы еще увидимся.
– И я не думал. Жаль, что Энн еще не встала.
– Ты не говорил ей обо мне.
– Почему ты знаешь?
– По тому, как она смотрит на меня.
– К чему было говорить ей?
– Совершенно не к чему. Что прошло… А забавно все-таки с тобой встретиться. Ну, руку. Пойду к Холли.
Их руки встретились над его тарелкой с вареньем.
– Теперь мы не дети, Джон. Так до завтра. Мой дом тебе понравится. А rivederci![24]
Поднимаясь по лестнице, она упорно ни о чем не думала.
– Можно войти, Холли?
– Флер! Милая!
На фоне подушки смуглело тонкое лицо, такое милое и умное. Флер подумалось, что нет человека, от которого труднее скрыть свои мысли, чем от Холли.
– Вот счета, – сказала она. – В десять мне предстоит разговор с этим ослом чиновником. Это вы заказали столько окороков?
Тонкая смуглая рука взяла счета, и на лбу между большими серыми глазами появилась морщинка.
– Девять? Нет… да. Правильно. Вы видели Джона?
– Да. Единственная ранняя птица. Приходите все к нам завтра к завтраку.
– А вы думаете, что это будет разумно, Флер?
– Я думаю, что это будет приятно.
Она встретила пытливый взгляд серых глаз твердо и с тайной злостью. Никто не посмеет прочесть у нее в мыслях, никто не посмеет вмешаться!
– Ну отлично, значит, ждем вас всех в час тридцать. А теперь мне надо бежать.
И она побежала, но так как ни с каким «ослом чиновником» ей встретиться не предстояло, она вернулась в Грин-парк и села на скамейку.
Так вот какой Джон теперь! Ужасно похож на Джона – тогда! Глаза глубже, подбородок упрямее – вот, собственно, и вся разница. Он все еще сияет, он все еще верит во что-то. Он все еще восхищается ею. Да-а!
В листьях над ее головой зашумел ветерок. День выдался на редкость теплый – первый по-настоящему теплый день с самой Пасхи! Что им дать на завтрак? Как поступить с папой? Он не должен здесь оставаться! Одно дело в совершенстве владеть собой; в совершенстве владеть собственным отцом куда труднее. На ее короткую юбку лег узор из листьев, солнце грело ей колени; она положила ногу на ногу и откинулась на спинку скамьи. Первый наряд Евы – узор из листьев… «Разумно?» – сказала Холли. Как знать?… Омары? Нет, что-нибудь английское. Блинчики непременно. Чтобы отделаться от папы, нужно напроситься к нему в Мейплдерхем, вместе с Китом, на послезавтра; тогда он уедет, чтобы все для них приготовить. Мама еще не вернулась из Франции. Эти уедут в Уонсдон. Делать в городе нечего. Солнце пригревает затылок – хорошо! Пахнет травой… жимолостью! Ой-ой-ой!
Х
После завтрака
Что из всех человеческих отправлений самое многозначительное – это принятие пищи, подтвердит всякий, кто участвует в этих регулярных пытках. Невозможность выйти из-за стола превращает еду в самый страшный вид человеческой деятельности в обществе, члены которого настолько культурны, что способны проглатывать не только пищу, но и собственные чувства.
Такое представление, во всяком случае, сложилось у Флер во время этого завтрака. Испанский стиль ее комнаты напоминал ей, что не с Джоном она провела в Испании свой медовый месяц. Один курьез произошел еще до завтрака. Увидев Майкла, Джон воскликнул:
– Алло! Вот это интересно! Флер тоже была в тот день в Маунт-Верноне?
Это что такое? От нее что-то скрыли?
Тогда Майкл сказал:
– Помнишь, Флер? Молодой англичанин, которого я встретил в Маунт-Верноне?
– «Корабли, проходящие ночью», – сказала Флер.
Маунт-Вернон! Так это они там встретились! А она нет!
– Маунт-Вернон – прелестное место. Но вам нужно показать Ричмонд, Энн. Можно бы поехать после завтрака. Тетя Уинифрид, вы, наверно, целый век не были в Ричмонде. На обратном пути можно заглянуть в Робин-Хилл, Джон.
– Твой старый дом, Джон? О, поедемте!
В эту минуту она ненавидела оживленное лицо Энн, на которое смотрел Джон.
– А вельможа? – сказал он.
– О, он в Монте-Карло, – быстро вставила Флер. – Я только вчера прочла. А ты, Майкл, поедешь?
– Боюсь, что не смогу. У меня заседание комитета. Да и в автомобиле места только на пять человек.
– Ах, как было бы замечательно!
Уж эта американская восторженность!
Утешением прозвучал невозмутимый голос Уинифрид, изрекший, что это будет приятная поездка – в парке, вероятно, расцвели каштаны.
Правда, что у Майкла заседание? Флер часто знала, где он бывает, обычно знала более или менее, что он думает, но сейчас она была как-то не уверена. Накануне вечером, сообщая ему об этом приглашении к завтраку, она позаботилась сгладить впечатление более страстным, чем обычно, поцелуем – нечего ему забивать себе голову всякими глупостями относительно Джона. И еще, когда она сказала отцу: «Можно нам с Китом приехать к тебе послезавтра? Но ты, пожалуй, захочешь попасть туда днем раньше, раз мамы нет дома», как внимательно она вслушивалась в тон его ответа!
– Хм! Х-хорошо. Я поеду завтра утром.
Он что-нибудь почуял? Майкл что-нибудь почуял? Она повернулась к Джону.
– Ну, Джон, что ты скажешь про мой дом?
– Он очень похож на тебя.
– Это комплимент?
– Дому? Конечно.
– Значит, Фрэнсис не преувеличил?
– Нисколько.
– Ты еще не видел Кита. Сейчас позовем его. Кокер, попросите, пожалуйста, няню привести Кита, если он не спит… Ему в июле будет три года, уже ходит на большие прогулки. До чего мы постарели!
Появление Кита и его серебристой собаки вызвало звук вроде воркования, спешно, впрочем, заглушенного, так как три из женщин были Форсайты, а Форсайты не воркуют. Он стоял в синем костюмчике, чем-то напоминая маленького голландца, и, слегка хмурясь из-под светлых волос, оглядывал всю компанию.
– Подойди сюда, сын мой. Вот это – Джон, твой троюродный дядя.
Кит шагнул вперед.
– А рошадку привести?
– Лошадку, Кит. Нет, не надо. Дай ручку.
Ручонка потянулась кверху. Рука Джона потянулась вниз.
– У тебя ногти грязные.
Она увидела, что Джон вспыхнул, услышала слова Энн: «Ну не прелесть ли!» – и сказала:
– Кит, не дерзи. У тебя были бы такие же, если бы ты поработал кочегаром.
– Да, дружок, я их мою, мою, никак не отмою дочиста.
– Почему?
– Въелось в кожу.
– Покажи.
– Кит, поздоровайся с бабушкой Уинифрид.
– Нет.
– Милый мальчик! – сказала Уинифрид. – Ужасно скучно здороваться. Правда, Кит?
– Ну, теперь уходи. Станешь вежливым мальчиком, тогда возвращайся.
– Хорофо.
Когда он скрылся, сопровождаемый серебристой собакой, все рассмеялись. Флер сказала тихонько:
– Вот дрянцо – бедный Джон! – И сквозь ресницы поймала на себе благодарный взгляд Джона.
В этот погожий день середины мая с Ричмонд-Хилла во всей красе открывался широкий вид на море зелени, привлекавший сюда с незапамятных времен или, вернее, с времен Георга IV[25] столько Форсайтов в ландо и фаэтонах, в наемных каретах и автомобилях. Далеко внизу поблескивали излучины реки; только листва дубов отливала весенним золотом, остальная зелень уже потемнела, хоть и не было еще в ней июльской тяжести и синевы. До странности мало построек было видно среди полей и деревьев; в двенадцати милях от Лондона – и такие скудные признаки присутствия человека. Дух старой Англии, казалось, отгонял нетерпеливых застройщиков от этого места, освященного восторженными восклицаниями четырех поколений.
Из пяти человек, стоящих на высокой террасе, Уинифрид лучше других сумела выразить словами этот охраняющий дух. Она сказала:
– Какой красивый вид!
Вид, вид! А все-таки вид теперь понимали иначе, чем раньше, когда старый Джолион лазал по Альпам с квадратным ранцем коричневой кожи, который до сих пор служил его внуку; или когда Суизин, правя парой серых и важно поворачивая шею к сидящей рядом с ним даме, указывал хлыстом на реку и цедил: «Недурной видик!» Или когда Джемс, подобрав под подбородок длинные колени в какой-нибудь гондоле, недоверчиво поглядывал на Саnale Grando в Венеции и бормотал: «Никогда мне не говорили, что вода такого цвета». Или когда Николас, прогуливаясь для моциона в Мэтлоке, заявлял, что нет в Англии более красивого ущелья. Да, вид стал не тем, чем был. Все началось с Джорджа Форсайта и Монтегью Дарти, которые, поворачиваясь к виду спиной, с веселым любопытством разглядывали привезенных на пикник молоденьких хористок. А теперь молодежь и вовсе обходится без этого слова и просто восклицает: «Черт!» или что-нибудь в том же роде.