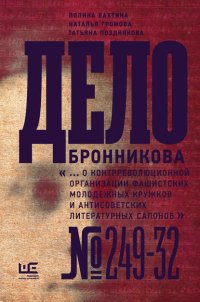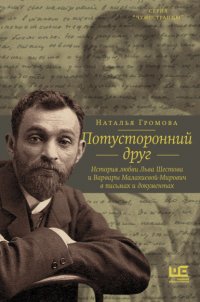Читать онлайн Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов бесплатно
- Все книги автора: Наталья Громова
© Н. Громова, 2006, 2016
© Н. Коржавин. Послесловие, 2006, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
Издательство CORPUS ®
* * *
Б. Пастернак.Безвременно умершему
- Но тут нас не оставят.
- Лет через пятьдесят,
- Как ветка пустит паветвь,
- Найдут и воскресят.
Все, что со мной было в годы 1918–1922, я давно предчувствовал и выразил, твердя без конца строки З. Гиппиус:
- Покой и тишь во мне.
- Я волей круг свой сузил.
- Но плачу я во сне,
- Когда слабеет узел…
«Покой и тишь» – от «узла». О, как тихо в узле! Но рано или поздно уют узла пропадает: нет такого узла, который когда-либо кем-либо не был бы развязан или разрублен, и тогда… тогда узел оказывается веревкой. Она может служить бичом, плетью подгоняющей, ею можно связать и нанести раны. Ее можно привязать к крюку, к отдушине… И ее можно выбросить – и жить без веревок и без узлов.
С. Н. ДурылинВ своем углу. 22.VIII.1926
Предисловие ко второму изданию
Со времени выхода первого издания этой книги прошло десять лет. За это время тема советской литературной жизни и литературного быта перешла из маргинальной в центральную тему истории литературы. Это сделало работу с подобным материалом более ответственной. Вышло очень много новых исследований, появились новые источники. Во втором издании мне удалось поправить те неточности и ошибки, которые с неизбежностью появлялись, так как этой темой почти не занимались специалисты; отлакированные книги о советской жизни, выходившие прежде, конечно, не в счет. Я благодарна всем критикам, которые заставили меня двигаться к улучшению моей работы.
Благодаря циклу лекций об истории литературного быта 20–50‑х годов, которые я прочитала по просьбе И. А. Ерисановой в музее Пастернака, удалось систематизировать и структурировать основные темы этой книги. Она дополнена новыми главами, и более точно прописаны отдельные сюжеты.
Огромную помощь мне оказала Елена Лурье, без которой не могло бы быть целого ряда моих книг и исследований.
Предисловие
О советской литературе 30‑х годов осталась мрачная память, оттого, наверное, целое поколение литераторов выпало из внимания историков. Собственно, и сами современники тех лет, чудом пережив ту эпоху, пытались вспоминать о ней как можно меньше.
Но «пропущенные» времена – своего рода роковая точка, куда то и дело возвращаешься, они снова и снова напоминают о себе.
Литература Серебряного века и 20‑х годов признана и оценена по достоинству. Поэты и писатели последующего поколения какое-то время продолжали думать и писать в традиции начала века. Прошлая эпоха, во всем своем многообразии, осенила и советских писателей тоже. Еще в конце 20‑х присутствие прежней традиции ощущалось у Багрицкого, Сельвинского, Тихонова, Луговского, Лавренева, Фадеева и даже у молодых комсомольских поэтов, хотя порой они и не подозревали об этом.
Но прошлое разрушалось последовательно и целенаправленно, и даже память о нем становилась опасна.
«Разгром», «Разлом», «Железный поток», «Котлован», «Голый год», «Шум времени» – названия знаменитых повестей и романов 20–30‑х годов. Главная тема этих книг – Время, которое потребовало от человека полного отречения от себя… Сначала во имя великой идеи, а затем во имя сильной власти.
Разлом прошел по человеческим душам. Что писать? Как остаться самим собой? Любить, иметь друзей? Ответа не было.
В этом повествовании мы попытаемся пройти вслед за литераторами, искавшими разные пути в советской действительности. И теми, кто приспосабливался, и теми, кто прятался за переводы и писал «в стол», и теми, кто сопротивлялся и погибал, и теми, кто сломался.
Многие драмы того поколения писателей не могли попасть на страницы книг. Пожалуй, одному лишь Булгакову в потаенном романе «Мастер и Маргарита» удалось рассказать историю писателя 30‑х годов, вынужденного выбирать между тюрьмой, сумасшествием и самоубийством.
Но реальность была еще трагичнее. Не было волшебных превращений, а до торжества справедливости оставались еще десятилетия…
«Искусство 20‑х годов возникло из дружбы, – писал в дневнике Г. Козинцев. – Оно было неотъемлемо от дружбы. ‹…› Компании. Кружки. Объединения (ФЭКС, ЛЕФ). Потом Дома кино, худсовет. Большой худсовет. От дружбы к службе. От спора к инстанциям»[1].
С конца 30‑х яркие личности, некогда объединенные творчеством и дружбой, стали превращаться в унылых литературных чиновников, желчных обитателей переделкинских дач, спивающихся завсегдатаев ресторанов, гонимых одиночек, связанных только случайными воспоминаниями.
Что соединяло поэтов и что их разъединяло? Почему в 20‑е годы слово «друг» звучит так же часто, как и в пушкинскую пору, и почему к концу 30‑х оно вытеснено безликими отношениями товарищей по литературным собраниям?
Герои тех лет много раз менялись ролями, то из гонимых они превращались в гонителей, а то, наоборот, гонители превращались в изгоев. Так было с И. Сельвинским, Вс. Ивановым, В. Шкловским, Ю. Олешей, М. Алигер и другими.
В едином пространстве сосуществовали – М. Булгаков и В. Маяковский, А. Ахматова и А. Фадеев, Б. Пастернак и Н. Тихонов; объем жизни был полон самого настоящего, подлинного драматизма. Каждый день приходилось делать выбор. Нельзя сбрасывать со счетов и того, что большинство художников поначалу не чувствовали разрыва между временем и собой – понимание приходило постепенно, и те, кто понимал, какова реальность, и те, кто старался ничего не замечать, и те, кто считал, что они приспособились, – сидели в одной клетке под названием Союз советских писателей. Отрывки из дневников и писем, воспоминания и рассказы – это гул голосов, позволяющих услышать многоголосие времени, почувствовать интонацию людей того поколения.
Жизнь «плохих» и «хороших» литераторов нуждается в своем исследовании. Увидеть эту жизнь в контексте времени на основании сохранившихся устных рассказов, домашних преданий – очень важно, так как еще можно застать свидетелей тех лет. Остались рукописи, письма и дневники – в них след уничтоженных произведений, сломанных судеб.
Борис Пастернак, занимающий в книге одно из центральных мест, сострадательно называл некоторых героев той эпохи «немыми индивидами». Не потому, что они молчали, а потому, что потеряли самих себя, слились с массой.
Советские писатели занимали в течение нескольких десятилетий «не свои» места. Отнимали воздух у других, изгнанных, непечатаемых, сосланных. Переиздавая свои тома и собрания сочинений, теснили тех, кто существовал в самиздатовских перепечатках. Для многих, даже хороших, литераторов – публикации стали в конечном счете их приговором. За последнее десятилетие произошла реакция замещения, исторически справедливая, но приведшая к очередному перекосу в понимании объема литературной жизни.
В начале 30‑х годов Сталин решает объединить писателей под общей крышей. И не только в творческой деятельности – в Союзе писателей, но и в быту. Критик К. Зелинский вспоминал, что на встрече у Горького в октябре 1932 года, после разгрома РАППа, Сталин говорит: «…писательский городок. Гостиницу, чтоб в ней жили писатели, столовую, библиотеку большую – все учреждения. Мы дадим на это средства». Главная мысль Сталина при этом была такой: «Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы же производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар – души людей» (Зелинский замечает: «Помню, меня очень поразило это слово – «товар».). – «Да, тоже важное производство, очень важное производство – души людей»[2], – еще раз подтвердил Сталин.
Поначалу писателей селили в комнаты в знаменитом Доме Герцена («Грибоедове») на Тверском бульваре, начинающие пролетарские литераторы жили в общежитии на Покровке, 3, – это была еще демократическая юность советской литературы. Вскоре члены творческого союза получат квартиры на улице Фурманова, а с 1937 (!) года начнется заселение огромного писательского дома в Лаврушинском переулке.
Круг литераторов все теснее – они толкутся в ресторане Клуба писателей, на дачах в Переделкине, коллективно путешествуют, все больше убивают время на общих собраниях и пленумах.
В конце 30‑х годов писательский улей жужжит почти единообразно – как большое и управляемое сообщество. Однако это лишь видимость. Официоз. Бытовая жизнь – с дружбой, любовью, разрывами – открывает подлинное лицо существования советской литературной среды. Отношения героев повествования были завязаны в сложный узел, в который вплетаются все новые и новые персонажи, отсюда и форма этой книги, где автор основных сюжетов – Время, по лабиринтам которого движутся судьбы литераторов.
На первый взгляд дружеская связь героев книги кажется произвольной: Б. Пастернак – Д. Петровский – Н. Тихонов – В. Луговской. У каждого из них были и иные друзья, и иные привязанности. Волны времени то прибивали их друг к другу, то разносили очень далеко. Была ли тут закономерность, и есть ли вообще закономерности в потерях? Воспоминания порой вытесняют имена бывших друзей; это естественно – ссора, разрыв или предательство (что для 30‑х годов особенно характерно) делали свое дело, люди отпадали, а память о них затягивалась рубцами.
Но каждый из них вместе со страной прошел и свой особый путь. Смог уцелеть, сохранить жизнь в страшных условиях сталинского террора. Как они прожили те трагические десятилетия – теряя или обретая себя? В этом – главный сюжет книги.
Пастернак, друживший с Тихоновым в 20–30‑е годы, не мог писать о нем в воспоминаниях 50‑х, ему было тяжко видеть изменившегося друга. А Луговской продолжал любить Тихонова; их роднила юношеская страсть к путешествиям и приключениям. «В эти страшные годы, что мы пережили, – говорил Б. Пастернак А. Тарасенкову в 1939‑м, – я никого не хотел видеть, даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал глаза»[3].
Эти слова Пастернака отразили наступление новых времен, в которых уже не было места свободному выражению чувств и привязанностей.
Эта книга не могла получиться без усилий большого количества людей, каждый из которых помогал рассказами, документами, советами. Я признательна за рассказы и воспоминания – ушедшим Л. Б. Либединской и М. И. Белкиной, Е. Б. Пастернаку, М. В. Седовой (Луговской), за помощь, замечания и сочувствие к моей работе – Е. В. Пастернак, А. М. Туркову, Л. В. Голубкиной, С. Е. Фроловой, Ю. А. Лурье, Е. Б. Лурье (Бирюковой), Б. Е. Белкину, В. А. Передерию, Г. Ф. Комарову, обществу «Мемориал» (О. Блинкиной). За предоставленные документы – А. С. Коваленковой.
Орфография и синтаксис публикуемых архивных документов приведены к современным нормам русского языка, за исключением тех случаев, когда они представляют собой особенности стиля автора документа.
Часть I
Двадцатые годы: «…что в личностях таилось как набросок»
Московский быт: 1921–1926 годы. Приметы времени
Сердце угрюмо стучит с утра,
Стучит, как лудильщик на черных дворах…
В. Луговской
Москву той поры отличал плотный, неповторимый быт, из которого и возникали многие незабываемые тексты того времени. Его приметы как фрагменты огромной мозаики рассеяны по стихотворным строкам, рассказам, повестям и романам.
Столица шумела по-особому: с улицы то и дело слышались крики: «Чайники, самовары лудить, примуса починять!»; им вторили из дворов старьевщики-татары, тянущие свое: «Старье берьем! Старье берьем!», и точильщики: «Точить ножи, ножницы!»
На кухне царил примус. Именно на нем все готовилось: варилось, жарилось и парилось. Лавки по починке примусов были на каждом углу. Горелки примуса постоянно забивались, и их надо было прочищать тонкой проволочкой, если же прочистить не удавалось, примус несли чинить в лавку. Образ булгаковского кота с примусом – карикатура на типичную фигуру тех лет. ««Не шалю, никого не трогаю, починяю примус», – недружелюбно насупившись, проговорил кот», – это почти идиллическая картина жизни для советского обывателя периода нэпа.
В лавках не только чинили примусы, но и торговали керосином, которым примусы заправлялись. Булгаков в черновиках к «Мастеру» именует керосиновые лавки на более старинный лад – нефтелавками. Одна из них, в Сивцевом вражке, 22, появляется на страницах романа, где описан полет Маргариты над арбатскими переулками.
Она пронеслась по переулку и вылетела в другой, пересекавший первый. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружечками продают керосин и жидкость от клопов во флаконе…[4]
Примусы и керосинки обычно выстраивались на кухне, на большой чугунной плите, которая в прежней жизни топилась дровами и углем, а в 20–30‑е годы использовалась как кухонный стол.
В квартире на Староконюшенном, рассказывала Мария Владимировна Седова (Луговская), дочь поэта, жил рыжий, потрепанный кот Яшка, который очень любил котлеты. Когда на сковородке в шипящем масле жарились котлеты, а хозяева были далеко, он вставал на задние лапы и аккуратно, поддев когтем, скидывал котлету на пол. Потом некоторое время он валял ее по каменному кухонному полу, чтобы она остыла, и, урча, съедал. Соседка, ее звали Сысоиха, была убеждена, что котлеты воруют Луговские, и кричала об этом каждый раз на всю квартиру до тех пор, пока однажды преступный кот не был пойман с поличным. Про Сысоиху знали еще, что она пишет доносы. Из квартиры напротив исчезла семья поляков, которых она посадила, обвинив в том, что они из окна подают лампой сигналы шпионам. В действительности у семьи была лишь одна настольная лампа, и каждый вечер на длинном шнуре ее переносили из одного угла комнаты в другой, отчего создавалось впечатление, что свет в окне мигает.
Переводчик Боккаччо и Пруста Н. Любимов так вспоминал Москву этих лет:
Еще существовали китайские прачечные. Китайцы торговали на Сухаревском толкучем рынке чаем, который в магазинах «выдавали» гомеопатическими дозами по карточкам. А на бульварах «ходи» торговали чертиками «уйди-уйди».
На углу Кузнецкого и Петровки играл слепой скрипач, в холода повязывавший голову платком. Его картуз лежал на тротуаре, и туда сердобольные прохожие бросали мелочь. В крытом проходе между Театральным проездом и Никольской, близ памятника Первопечатнику, просил милостыню бронзоволицый старик с седыми космами по плечам. На груди у него висела дощечка с надписью: «Герой Севастополя». По Кузнецкому мосту, по правой стороне, если идти от Тверской, важно шагал от Рождественки до Неглинки величественный еврей и убежденно картавил:
– Гарантированное срэдство от мозолей, бородавок и пота ног! Гарантированное срэдство от мозолей, бородавок и пота ног!
Его перекрикивала разбитная бабенка – как видно, гроза своих соседей по квартире:
– Капсюли, капсюли для примусей! Капсюли, капсюли для примусей![5]
- Чертики, пищавшие «уйди-уйди-у»,
- Пузырились, высунув красные жала;
- Цветными огнями их отражала
- Асфальтированная земля.
- Но по-над тучей Кремля,
- Шахматную повторяя ладью,
- С галкой, устало прикрывшей веко,
- Являла пейзаж X века.
Зима и осень в Москве – время галош и ботиков, которые надевались прямо на туфли с каблуками. Особенно модными были фетровые ботики.
Приход весны в город в стихотворении В. Луговского знаменует стук каблуков по асфальту:
- Все женщины сняли галоши и боты.
- Стучат каблуки. Продают тоску.
Самовар служил самым разным целям. Утром, растопив его щепочками и угольями (труба всегда выводилась в форточку), дожидались, пока он закипит, и опускали туда чистую наволочку с яйцами на две-три минуты. Так получались яйца всмятку.
Москва бурно разрасталась. После революции появилось множество новых учреждений. Прежняя Москва – низкая, с палисадниками и заборами, запущенными садами, возле которых в начале века выросли доходные дома, мало подходила на роль столицы огромного государства. В городе почти не было больших зданий и площадей, как в имперском Петрограде, где могли бы расселиться растущие день ото дня советские учреждения. Поэтому Москва трещала по швам. «Москва с размаху кувырнется наземь…» – писал в романе в стихах «Спекторский» Пастернак, и действительно, тот домашний город, который называли «большой деревней», уходил в прошлое.
Трехактное обозрение времени нэпа «Москва с точки зрения» на тему перенаселенности столицы открывало в 1924 году Московский театр сатиры. Авторами его были Н. Эрдман, В. Масс и В. Типот. Оно рассказывало о том, как в Москву приезжает семейство провинциалов, которое ищет квартиру, ходит на литературные диспуты, сдает экзамен по политграмоте. В комнате, которую они снимают, множество других жильцов, кто-то живет в умывальнике, кто-то в пианино, кто-то в шкафу, точнее, в каждом отделении шкафа: одежном, посудном и в нижнем ящике. Но гротескные сцены новой уплотненной Москвы выглядели абсолютно правдоподобно. Уплотненные квартиры, превращенные в многонаселенные коммуналки, стали на десятилетие одной из ведущих тем во всех областях искусства: от литературы до кинематографа.
Для того чтобы жители могли добираться от своих углов в коммуналках до места работы, по Москве протянули нити трамвайных путей. По городу задвигались переполненные трамваи, предупредительными звонками разгоняющие пешеходов. Трамвай надолго стал самым демократичным видом транспорта.
Семнадцатого ноября 1925 года в «Вечерней Москве» был опубликован очерк Веры Инбер «А.Б.В.» о трех трамвайных кольцах. В нем она делит москвичей на три части: одна – мечется по улицам, вторая – сидит дома, третья – стоит в трамваях (сидячих мест мало).
От Страстной площади «А», нагруженный как верблюд в пустыне, лезет к Трубе (Трубной площади), а оттуда медленно вползает к Сретенке. Его населяют портфели, кожаные кепи, куртки и иногда шубы. Население трамвая разное. Те, которые стоят в самом вагоне, и те, которые на площадке. Оба эти сословия ненавидят друг друга. Тем, кто стоит на площадке, кажется, что вагон пуст, и они настойчиво требуют «продвинуться вперед». Стоящие внутри доказывают, что вагон не резиновый… До Покровских ворот трамвай «А» безумно переполнен. У Остоженки снова насядет народ… Кольцо «Б» проходит по рынкам… Здесь садятся армяки и тулупы, в руках корзины и кульки[6].
- На службу вышли Ивановы
- В своих штанах и башмаках.
- Пустые гладкие трамваи
- Им подают свои скамейки.
- Герои входят, покупают
- Билетов хрупкие дощечки…
Трамвайными петлями разрисована Москва в стихах Пастернака той поры и в «Двадцати строфах с предисловием (зачаток романа «Спекторский»)»:
- И улица меняется в лице,
- И ветер машет вырванным рецептом,
- И пять бульваров мечутся в кольце,
- Зализывая рельсы за прицепом.
«В переполненном трамвае, – пишет в дневнике молодой писатель Григорий Гаузнер, – кондуктор, нагнувшись и уперевшись руками в спину, задницей отталкивает теснящихся пассажиров. Так висят они большой гроздью, ухватившись кто за что в невероятных позах»[7].
Несколько лет нэпа изменили Москву. Она избавлялась от следов военного коммунизма, город становился чище, начиналось бурное строительство. Из бывших комиссаров нарождался вид нового советского чиновника, что стало темой целого ряда литературных произведений.
В неопубликованном стихотворении «Коммунист» 1924 года В. Луговской писал:
- Та же темная, скучная вера,
- Речь тверда, как три года назад.
- Только словно два камешка серых
- Там, где раньше были глаза.
- Так же крепко давит окурки
- Рот не толще края ножа.
- Только вместо кожаной куртки
- Ловкий пóртфель и ладный пиджак,
- А лицо как лицо – простое,
- Не умно и не глупо: как все.
- Но на лбу – бычачьи устои
- И железных морщинок сеть.
- Все несложно, машинно и ясно,
- Жизнь – не спать, не мечтать и не петь.
- Мир в 2 цвета: белый и черный,
- Цель – холодный напор Р.К.П….
Интересно, что это стихотворение будущего советского поэта, а пока – просто молодого человека, который служит в Управлении делами Кремля.
Новый советский чиновник «разлагался так же быстро, как возникал». Об этом в 1925 году пишет в своем дневнике М. Булгаков:
– Чем все это кончится? – спросил меня сегодня один приятель.
Вопросы эти задаются машинально, и тупо, и безнадежно, и безразлично, и как угодно. В его квартире, как раз в этот момент, в комнате через коридор, пьянствуют коммунисты. В коридоре пахнет какой-то острой гадостью, а один из партийцев, по сообщению моего приятеля, спит пьяный как свинья. Его пригласили, и он не мог отказаться. С вежливой и заискивающей улыбкой ходит к ним в комнату. Они его постоянно вызывают. Он от них ходит ко мне и шепотом их ругает. Да, чем-нибудь все это да кончится. Верую![8]
Узлы и «узловцы»
В домашнем архиве Владимира Луговского хранится амбарная книга, в которой велись протоколы заседаний правления книгоиздательства «Узел». Там же находится и напечатанный на мягкой желтоватой бумаге устав, свидетельствующий о том, что в 1925 году и написание стихов, и изготовление гвоздей кустарями-артельщиками считались совершенно равнозначными производственными процессами. За основу «Устава Промыслового Кооперативного Товарищества поэтов под наименованием Книгоиздательство «Узел» был взят типовой «Устав Промысловой Трудовой Кооперативной Артели»». Внесенные в него изменения, сделанные от руки, коснулись лишь шапки этого документа. В результате в разделе «Общие положения», например, указывается, что «промысловая кооперативная артель поэтов… имеет целью содействовать материальному и духовному благосостоянию своих членов», а также что «заготовка необходимых для производства артели материалов и сбыт ее изделий не ограничивается вышеуказанным районом».
Секретарем правления стал В. Луговской – аккуратным гимназическим почерком велись протоколы заседаний правления артели, поражающие сегодня числом как известных, так и забытых поэтов, побывавших здесь.
Слово «узел» как нельзя более подходило для названия наскоро и ненадолго связанных литературных судеб. Странным образом здесь сошлись известные и даже знаменитые – Б. Пастернак, С. Парнок, С. Федорченко, М. Зенкевич, Б. Лившиц, П. Антокольский и молодые – И. Сельвинский, В. Луговской, А. Чичерин и другие. Объединила их не общность творческих интересов, а необходимость издавать свои поэтические книги в новую эпоху.
Литераторам в эти годы было трудно прожить, не состоя на какой-нибудь службе.
М. Булгаков так же, как и Ю. Олеша, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров, работал в газете «Гудок», Б. Пастернак – составлял библиографию трудов Ленина, часть «узловцев» жила переводами, многие члены литературных кружков и объединений служили в ГАХНе (Государственной академии художественных наук).
Творчеству посвящалось свободное от службы время.
Одним из учредителей «Узла» был Петр Никанорович Зайцев, который в 1922 году основал газету «Московский понедельник». Она, хоть и просуществовала всего несколько месяцев, была весьма популярна. В 20‑е годы – редактор ГИЗа, затем секретарь издательства «Недра», которое напечатало «Роковые яйца» М. А. Булгакова, Зайцев умел объединять писателей и поэтов между собой, собирая их то в редакции, то дома…
Мы неожиданно вновь оказались вместе в небольшом поэтическом кружке, – вспоминал Лев Горнунг, – который возглавил нескладный, нелепый, чудаковатый человек – поэт П. Н. Зайцев. Это был добрый человек, но малоталантливый поэт. Зайцев был до самозабвения предан Андрею Белому и в угоду ему считал себя тоже антропософом, хотя этой философии не знал и путался в ней… Его стихи были написаны довольно лево и очень далеки от всякой классики. Ему удалось напечатать небольшую книжечку своих стихов. Для нее он придумал название, весьма типичное для его мышления «Новое солнце». Мои стихи он считал слишком ясными и понятными для всех, слишком близкими к классической поэзии и рекомендовал мне при писании стихов «становиться на голову»[9].
Связи П. Зайцева помогали издательству выпускать поэтические книжки.
Теперь, работая в ВЦСПС и постоянно держа тесную связь с типографией, я смог обеспечить наш кружок полиграфической базой. «Узел» выпустил десять очень чистенько изданных больших книжек разных авторов в общем, картонном футляре[10].
Марку издательства поручили сделать художнику-граверу Владимиру Андреевичу Фаворскому.
Всего книжек было выпущено не десять, а четырнадцать; в начале 1926 года Петр Никанорович перестал заниматься делами издательства, он фактически становится литературным секретарем Андрея Белого.
Близость к известному поэту принесла Зайцеву серьезные неприятности. Хотя сложности начались и раньше. ОГПУ держало писательские сообщества под контролем. Именно поэтому Зайцев регулярно оказывается на Лубянке.
На Лубянку попал я впервые летом 1924 года (не знаю – по случайному поводу или преднамеренно), – вспоминал он. – Обращение со мной было мягкое, деликатное. Я был тогда в переписке с Ангарским, который находился в Берлине. Через пять дней меня отпустили[11].
С 1930 года начались гонения на антропософов, уничтожаются остатки московских религиозно-антропософских кружков. Зайцева арестовывают дважды – в мае 1931 года и в 1935‑м. Ему инкриминировалось чтение и распространение произведений А. Белого. Но в 1938 году ему посчастливилось выйти на свободу.
В конце 20‑х Зайцев жил в доме № 5 по Староконюшенному переулку, до революции принадлежавшем купцам Коровиным. По описаниям Л. Горнунга, это был подвальный этаж с окнами чуть выше тротуара, где у Зайцева было две комнаты, одна из которых – довольно большая и с высокими потолками. Во дворе дома стоял (и по сей день стоит) пятиэтажный дом № 15, где на первом этаже жила с 1922 года семья Луговских.
Близкое соседство домов Зайцева и Луговского делало возможным проведение некоторых заседаний в квартире последнего. Об этом свидетельствует небольшое письмо Софьи Яковлевны Парнок, с середины 1926 года руководившей артелью:
Напоминаю Вам, милый Владимир Александрович, – писала она 4 апреля 1927 года Луговскому, – что в среду 6‑го в 8 часов вечера у Вас будет заседание Правления «Узла», поэтому не забудьте, пожалуйста, вовремя быть дома. Прошу Вас, приготовьте рукописи стихов Зилова, Волошина и Липскерова и подумайте о дальнейших наших издательских планах: это будет обсуждение, и желательно было бы выслушать обдуманные предложения. Я приду в 8 часов, и со мной вместе придет к Вам Анна Ив. Ходасевич: у нее к Вам литературное дело.
С сердечным приветом С. Парнок[12].
Соседство домов и улиц позволяло поэтам и писателям, населяющим в эти годы арбатские переулки, переходить из дома в дом, общаться накоротке. Неудивительно, что Петр Зайцев чувствовал сопряженность города и его сообществ, накладывая на карту московской местности карты литературной жизни:
Как будто ее кварталы, улицы, тупики, Поварские, Ордынки, Пречистенки, Козихинские переулки и все эти Собачьи Площадки породили бесчисленное множество направлений, течений, групп, и группировочек, и кружочков, от которых эти поэты выступают…
И несколькими абзацами ниже:
Традиций в Москве не ищите… Но неожиданно атавистически может возникнуть в ней идейный изгиб, соединяющий тайными нитями новое с дальним, прошедшим[13].
Софья Парнок. Вполголоса
«Кажется, совсем забыта теперь Софья Яковлевна Парнок, – вспоминал А. Чичерин, известный филолог, а тогда один из членов артели, – тонкая, вдохновенная поэтесса со строгим обликом, всегда напоминавшая мне Гёте. Тихим голосом, со склоненною головою, отчетливо выделяя мелодию, читала она свои стихи:
- И ныряют уточки в голубой воде,
- А на тихом озере – тихо, как нигде»[14].
Софья Яковлевна Парнок относилась к «Узлу» очень серьезно и прагматично; два с лишним года она вела дела издательства. Собрания часто проходили у нее в комнате, в доме в 1‑м Неопалимовском переулке, где она жила со своей подругой математиком Ольгой Николаевной Цубербиллер. «Мой утешный, мой последний, / Мой благословенный друг», – так Софья Яковлевна называла ее в стихах. Через несколько лет именно Ольга Николаевна и похоронила поэтессу на Введенском кладбище.
Первый Неопалимовский переулок находится недалеко от арбатского Староконюшенного переулка, надо только пересечь Садовое кольцо. По воспоминаниям дружившего с ней в эти годы Льва Горнунга, Парнок жила в красном кирпичном доме на четвертом этаже. Из окна открывался «зимний пейзаж – снежные крыши и купол Неопалимой Купины»[15], – писала сама С. Парнок.
- Коленями – в жесткий подоконник,
- И в форточку – раскрытый рыбий рот!
- Вздохнуть… вздохнуть…
- Так тянет кислород,
- Из серого мешка, еще живой покойник…
- Светает. В сумраки оголены
- И так задумчивы дома. И скупо
- Над крышами поблескивает купол
- И крест Неопалимой Купины…
Эти годы ее тяжко мучила базедова болезнь. Она недавно вернулась из Крыма, где в Судаке у сестер Е. и А. Герцык спасалась то от красных, то от белых. Ее стихи этого времени говорят о готовности к смерти, но при этом она очень деятельна. Вот картинка одного из заседаний «Узла» в ее стихотворении, посвященном Вере Звягинцевой:
- Папироса за папиросой.
- Заседаем, решаем, судим.
- Целый вечер рыжеволосая,
- Вся в дыму я мерещусь людям.
Восемь открыток и писем, сохранившихся в архиве Луговского, свидетельствуют о постоянных, упорных попытках Софьи Яковлевны выстроить издательство. Только однажды она напишет, что устала, что у нее больше нет сил бороться.
Она всегда была верна дружбе. Несмотря на свое предрасположение к женщинам, по отношению к друзьям-мужчинам сохраняла верность и преданность. После голодных крымских лет в Судаке в Москве делала все возможное, чтобы помочь другу – М. Волошину, которого в то время почти не печатали. Заочно включила его в члены артели. Пыталась выпустить его сборник, который никак не мог пройти цензуру; он должен был называться «Семь поэм».
Девятого февраля 1927 года Парнок пишет Луговскому: «Ходят слухи, что Волошин приезжает 9‑го, т. е. сегодня. Надо устроить, чтобы он читал в «Узле» в будущую среду. Он остановится у Шервинского…»[16] А Луговской помечает в своем ежедневнике: «8 марта, вторник – Волошинский вечер. 9 марта, среда – доклад Шервинского».
Когда умерла ее любимая подруга А. Герцык, Парнок хотела поместить в альманахе «Узла» некролог и подборку ее стихов, но не смогла этого сделать: устав запрещал публиковать стихи не членов артели. А кроме того, стихи ушедшей поэтессы не прошли бы цензуру, в них слишком часто звучало слово «Бог».
В «Узле» Софья Парнок подружилась с Софьей Федорченко, детской поэтессой, автором документального эпоса «Народ на войне», который беззастенчиво использовали многие, писавшие о Гражданской войне, в том числе и Алексей Толстой.
Главные неприятности артели были связаны с цензурой: не допущен к печати сборник М. Кузмина, сокращена в два раза книга Б. Лившица, рассыпают набор сборника «Вереск» Е. Васильевой (Черубины де Габриак) – в 1926 году была запрещена деятельность антропософского кружка, куда она входила, а затем последовала ссылка в Ташкент и скорая смерть – в 1928‑м.
Безнадежность звучит в стихотворении С. Парнок, интонационно и содержательно близком к мандельштамовскому «Жил Александр Герцович»:
- Налей, мне, друг, искристого
- Морозного вина,
- Смотри, как гнется истово
- Лакейская спина.
- Пред той ли, этой сволочью, –
- Не все ли ей равно?..
- Играй, пускай иголочки,
- Морозное вино!
- …………………..
- Но что ж, богатство отняли,
- Сослали в Соловки,
- А все на той же отмели
- Сидим мы у реки.
- Не смоешь едкой щелочью
- Родимое пятно…
- Играй, пускай иголочки,
- Морозное вино!
«…Перевожу я такие ужасы, – писала Софья Парнок Вере Звягинцевой 22 февраля 1928 года, – что даже ночью они мне снятся: пытки, расстрелы, еврейские погромы, крушение поездов (рассказы Барбюса). Вероятно, и это нужно в общем плане моей судьбы…»[17]
Перспектива жизни отдельного человека была столь же туманна, как и направление движения государства и общества в целом. После смерти Ленина каждый спрашивал себя: «Что же теперь будет?» Писатели тоже старались угадать будущее.
Но иногда смерть это будущее опережала. С последней фотографии, которую сделал ее друг Лев Горнунг, смотрит нездоровая женщина с горькой улыбкой, в то время ей было всего сорок семь лет.
Софья Парнок умерла 26 августа 1933 года в селе Каринском под Москвой. Везли ее в город на телеге в деревянном ящике. На панихиде было довольно много людей – среди прочих Б. Л. Пастернак, Л. Я. Гуревич, Г. Г. Шпет, похоронили ее на немецком кладбище в Лефортове.
Александр Ромм: из рассыпанного поколения
Ал. Ил. Ромм, старший брат Михаила Ильича, кинорежиссера, был чудесным тонким поэтом. А между тем его книга «Ночной смотр», вышедшая в красивой черной обложке, затерялась среди множества других книг…»[18] – отметим, что переводчик и лингвист Александр Ильич Ромм, о котором так тепло отзывался А. Чичерин, издал в «Узле» свой единственный поэтический сборник и вскоре полностью скупил его тираж. 12 июля 1927 года Софья Парнок рассказала об этом факте Софье Федорченко:
…Сообщаю Вам интересную новость: Ромм, увидев свой сборник напечатанным, загрустил, всполошился, отчаялся и, как я его ни уговаривала, решил скупить у «Узла» все издание, чтобы забрать его к себе и не пускать в продажу. По этому поводу он долго терзался и мучил также и меня. Я бранила его Подколесиным, а теперь думаю, что он правильно поступил. Благодаря «Узлу» у меня накопился любопытный опыт: вспомните одержимого Чичерина, который, рассудку вопреки, наперекор стихиям все-таки издал свой слабый сборник и пребывает в самодовольстве, а теперь другая крайность – Ромм, который до того опечалился и разочаровался своим первым сборником, что от горя скупил весь тираж «Узла». Это очень любопытно[19].
- Я стою в лесу и расту сосной,
- И ветер лесной
- Играет со мной.
- Я шишки роняю наземь свои,
- И глухо в хвою ложатся они,
- Пока смерть далека, пока лень ей.
- Я семенем тонким в шишке лежал,
- Я всех соседей по имени знал,
- Мы жили в своем колене.
- Та шишка сгнила сто лет назад,
- Кругом соседи мои стоят,
- И кто мне чужой? И кто мне брат?
- Рассыпалось поколенье.
Такой своеобразной эпитафией Ромм уже в 20‑е годы определил отсутствие места для своего культурного слоя в новой литературной и исторической реальности.
Александр Ромм родился в Петербурге в семье врача. В Москве он окончил гимназию в 1916 году и поступил сначала в медицинский МГУ, а оттуда перевелся на историко-филологический факультет. Поэт, переводчик, участник Московского лингвистического кружка. В тридцать лет он назначил себе переломить свою судьбу. В биографическом очерке, посвященном поэту, М. Л. Гаспаров приводит его «письмо о судьбе», в котором накануне 1928 года Ромм пишет:
«Интеллигент вспоминает о судьбе, только когда большое горе пригибает его к земле… Земля, из которой мы растем, есть народ… Если в системе есть тяжелое и злое, оно неизбежно выпадет на чью-то долю: почему же не на твою? От сумы и тюрьмы не отказывайся».
Он оставляет филологию, перестает писать такие стихи, как здесь публикуемые, пишет о Ленине и Сталине, о стройках, об армии и флоте, газетные агитки и большие поэмы, пишет не за страх, а за совесть, в дневнике корит себя за интеллигентскую мягкотелость, но в печать пробивается нечасто: у системы было чуткое ухо, и она слышала, что голос его недостаточно чист. Сума и тюрьма его миновали, он умер иначе: в октябре 1943 г. застрелился на фронте[20].
Но тут следует добавить еще, что в начале войны А. И. Ромм был мобилизован в Дунайскую военную флотилию в качестве писателя в звании интенданта II ранга. Служил на Черноморском флоте, писал пьесы, очерки, стихи. Причины его самоубийства по сей день неясны. Судя по открыткам его брата М. И. Ромма, он просил сестру не искать правды и смириться с этой смертью. По воспоминаниям современников, М. И. никогда публично не вспоминал о брате, хотя достоверно известно, что очень любил его и считал его влияние на себя огромным.
Из одного «Узла». Пастернак
Сборник «Избранные стихи» Б. Пастернака вышел в «Узле» в 1926 году. На книге, подаренной Луговскому, оставлен автограф загадочного содержания: «Хаотическому человеку в хаотической комнате в знак нежной моей любви к нему Луговскому. Б. Пастернак». Может быть, эта надпись была сделана в Староконюшенном на одном из собраний «Узла», проходившем в захламленной комнате молодого поэта.
Разница в возрасте между ними для того времени была огромна – одиннадцать лет. Они принадлежали не просто к разным поколениям – в то время годы рождения – 1890‑й и 1901‑й – часто указывали на исторический разрыв; Борис Пастернак родился в 1890 году и прожил часть жизни до революции, а Владимир Луговской родился 1901‑м и на момент революции был шестнадцатилетним юношей, не успевшим еще сформироваться.
Но их жизненные маршруты пересекались постоянно, начиная с имения Оболенского, где семья Пастернаков снимала в 1903 году дачу, где по соседству с ними жил А. Н. Скрябин, а юный Пастернак «сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн»[21].
Об этом имении Татьяна Луговская вспоминала: «…В Оболенское мы приезжали как к себе домой. Все нас здесь знали. Раиса Михайловна Оболенская (владелица имения) высылала за нами линейку и подводу для багажа»[22].
Семья Пастернака в 10‑х годах поселилась на Волхонке в доме Художественного общества, а в соседнем Знаменском переулке располагалась Первая мужская гимназия, где преподавателем литературы и инспектором старших классов служил А. Ф. Луговской, отец В. Луговского. В гимназии учились Н. Бухарин, И. Эренбург, будущий лингвист А. Яковлев, затем В. Ардов, Д. Благой.
Позже, когда Пастернак ушел из родительского дома, он снимал комнаты то в Нащокинском, то в Лебяжьем, то в Сивцевом Вражке, петляя переулками возле родительской Волхонки.
После отъезда родителей в 1921 году в Берлин Борис Леонидович вместе с молодой женой Евгенией Владимировной вернулся на Волхонку, где в соседней комнате жил его брат Александр со своей женой Ириной Вильям.
Письмо Пастернака родным за границу в 1924 году почти полностью посвящено городу, в котором он родился, который всегда любил, а теперь говорил о нем с нескрываемым раздражением:
Странно попадать в Москву после Петербурга. Дикий, бесцветный, бестолковый, роковой город. Чудовищные цены. ‹…› Чудовищные неудобства. ‹…› Чудовищные мостовые. ‹…› Я сидел, взлетал на воздух, падал и взлетал при перескоках через круглые канализационные покрышки и, глядя на эту топчущуюся в сухой известке толпу, понял, что Москва навязана мне рожденьем, что это мое пассивное приданое, что это город моих воспоминаний о вас и вашей жизни…[23]
В этом же письме он рассказывает родителям, как искал в Оружейном переулке дом, где родился, о котором они вспоминали. Как плутал по переулкам и наконец обнаружил дом, где отец начинал свою карьеру, из которого «повел свой корабль через Мясницкую, Волхонку, за границу, семью, жизнь в шести душах».
Пастернак ищет их следы в родном городе и остро чувствует свою бесприютность, поэтому ему так важно заселить Москву близкими людьми.
Тем более что в это время круг общения поэта стал сжиматься, дружба с Маяковским и Асеевым переживала трудности. Зато возникла напряженная глубинная связь через письма и стихи с Мариной Цветаевой.
В те дни, когда Пастернак еще был связан с «Узлом», Цветаева написала ему двусмысленное письмо-просьбу о помощи своей подруге – С. Парнок. Цветаева к письму приложила стихотворение «Подруга» и не скрывала, что в 1915 году их связывали близкие отношения. Хотя Цветаева, которой издалека мерещились жуткие картины российской жизни, не в первый раз просила за знакомых, письмо вызвало ревность Пастернака. Он отвечал очень резко:
…не отзываюсь на письмо о Парнок. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда каши мы с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла», отчасти из‑за нее[24].
Весной 1926 года отношения между Пастернаком и Цветаевой переживали высшую степень напряжения, он послал ей сборник «Узла» с надписью: «Марине, в день, с которого все принадлежит ей. Вместо открытки. В день наводнения в Москве. 1926 г.»[25].
Потом Цветаева объяснит их с Пастернаком так и не случившуюся жизнь – ведь грезилась именно жизнь – в письме их общей знакомой Р. Ломоносовой, уже в 1931 году, когда женой Пастернака будет не Евгения, а Зинаида:
– С Борисом у нас вот уже (1923 г. – 1931 г.) – восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга. Но Катастрофа встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка – перекаты грома, и опять ничего – живешь.
Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла – то только к нему. Вот мое отношение. Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья – он, его семья, моя жалость, его совесть)[26].
В 1925–1930 годах Пастернак писал роман в стихах «Спекторский». Как замечено в книге В. Альфонсова о поэтике Пастернака, в этом романе сразу же заявлен принцип случайности. Связи, потери, обретения. Автор говорит, что и роман задуман им случайно.
Сергей Спекторский – герой, близкий автору, потерял любимую женщину. Она внезапно исчезла, ускользнула из жизни героя после революции.
В начале романа автор, собирающий библиографию трудов Ленина, находит ее стихи на страницах западных журналов. И похоже, что та беглянка писалась с Марины Цветаевой, с неслучившейся их любви в начале 20‑х годов. Любви на фоне хаоса, ломки быта. Спекторский – не уверенный в себе интеллигент, вечно выбирающий между двумя женщинами, зажатый между прошлым и настоящим, не определившийся по отношению к власти. И в то же время горько оплакивающий свое поколение, разорванное на тех, кто здесь – в России и кто – вне ее. Любовь героя к Марии Ильиной – еще и метафора любви ко всем, кого нет рядом.
В поэме оживает Москва – черных лестниц, разрушенных домов и квартир, брошенного и национализируемого имущества.
- Кругом фураж, не дожранный морозом.
- Застряв в бурана бледных челюстях,
- Чернеют крупы палых паровозов
- И лошадей, шарахнутых врастяг.
Пастернак спустя три года объяснял в письме своему издателю П. Н. Медведеву, что когда он писал свой роман в стихах, надеялся на изменение действительности, думал, что разрыв между миром тем и миром этим сотрется.
Для него состояние вечной разлученности с близкими – невыносимо тяжело: «…точно разлука не является названьем того, что переживается в наше время большим, слишком большим количеством людей». И через несколько слов горестно прерывает себя:
Скажу только, что в моих словах нет ничего противозаконного, и если здоровейшей пятилетке служит человек со сломанной ногой, нельзя во имя ее здоровья требовать от него, чтобы он скрывал, что нога его укорочена и что ему бывает больно в ненастье[27].
В этих словах, сказанных в 1929 году, печально отзовутся былые надежды на так и не преодоленную разлуку с Цветаевой.
В московский ближний круг, который в письме к жене Пастернак определяет как «наша семья», в середине 20‑х годов входит и поэт Дмитрий Петровский.
Петровские (Дмитрий с женой Марикой Гонтой) приехали в Москву с Украины и некоторое время жили у Пастернака на Волхонке в комнате Александра, пока он в 1925 году ездил к родителям в Германию.
Марика Гонта вспоминала о тех днях:
Некоторое время мы жили в комнате брата Бориса, Александра Леонидовича, пока не получили ордер на жилье, и каждый день то явно, то прислонясь к косяку больших дверей в гостиной, которую занимал Борис, я не отрываясь слушала его игру. Я ждала этих концертов каждый вечер, то наяву в упор, то исподволь, получая на них неожиданный абонемент.
Думаю, что в этот месяц я научилась слушать Бориса и эта привычка осталась у меня на всю жизнь. Я никого так не слушала: в разговоре, в стихах, в языке, в молчании концерта или оркестра[28].
За месяц до выхода из «Узла», о котором Пастернак писал Цветаевой, а именно в апреле 1926‑го он отправил П. Н. Зайцеву письмо со словами заступничества за Дмитрия Петровского:
19 марта 1926, Москва
Дорогой Петр Никанорович! Горячее мое желание и, соответственно этому, просьба к Вам, чтобы книжка Петровского была издана в весенней серии. ‹…›
С Петровским надо было обойтись как с ребенком в этом вопросе, как мы с Вами об этом условились. Простите, Вам, верно, это все надоело, Вы вправе мне сказать, что я от всех трудностей отстранился и не мне бы приступать с советами. Но это именно не совет, а горячая настойчивая просьба с моей стороны, и меня огорчит, если Вы обойдете ее вниманьем…[29]
Трогательная строчка из письма Бориса Леонидовича: «С Петровским надо было обойтись как с ребенком…» – многое объясняет в самом Пастернаке и отсылает к началу их дружбы в 1914 году.
Дмитрий Васильевич Петровский – фигура эксцентричная и одиозная. Поэт, анархист, партизан, воевавший вместе со Щорсом (у кого еще, кроме земляка Петровского – Нарбута, была столь экзотическая биография!). Его воспоминания о Хлебникове специалисты считают не вполне точными (они не переиздавались с 1926 года). Стихи Петровского почти забыты, и только в воспоминаниях о Пастернаке его имя нет-нет да и мелькнет.
Встреча с письмами Петровского была тоже странной. Из вороха бумаг Луговского вдруг стали возникать огромные бумажные простыни, исписанные синим или простым карандашом и испещренные восклицательными знаками, междометиями и даже, как показалось, выкриками…
Петровский. «Наследник традиции поэтического безумия»
После революции были еще прочными прежние поэтические знакомства. Принадлежность к тому или иному поэтическому объединению превращала жизнь его членов в служение некоему рыцарскому братству. Не случайно Петровский в своих воспоминаниях о Хлебникове приводит документ, сочиненный ими в послереволюционные дни и отправленный наркому А. Луначарскому:
Все творцы: поэты, художники, изобретатели должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов. Им, на основании особо выданных документов, должно быть предоставлено право беспрепятственного и бесплатного переезда по железным дорогам, выезд за пределы Республики во все государства всего мира. Поэты должны бродить и петь.
При всей причудливости замысла он отражал вполне понятное желание закрепить особый общественный статус свободного художника, исторически сложившийся. Существовали, разумеется, и неписаные правила поведения художников, их взаимоотношений с миром и друг с другом. Для многих важно было не только искусство, но и поведение в быту, поэзия поступка. Согласно этим правилам Петровский и творил свою биографию. Вот два сюжета. О первом – чрезвычайно показательном – в письме Пастернака С. Боброву:
Заявился ко мне в Москве Дм. Петровский. С сияющим лицом оповестил меня о том, что ЦФГа (Центрифуга. – Н. Г.) ему ненавистна, что тебе он будет мстить за Петникова (или Божидара), а Вермелю за Хлебникова. Если в немедленном спуске его с лестницы произошла задержка, то только потому, что на мои слова, что я его просто-напросто знать не желаю, чудак этот ответил: «Но ведь как к человеку вы можете ко мне иначе отнестись»[30].
И Бобров, и Вермель – это издатели, которым Петровский считал необходимым мстить за унижение поэтов, которых не издали. И с Пастернаком он говорит сначала театрально – как собрат поэтов, а затем как обыкновенный человек. На демонстрации такого поведения он будет десятилетиями строить свою судьбу. Это отчасти и обеспечивало ему расположение Маяковского, Тынянова, Шкловского, Тихонова и других известных современников.
Вторая история почти гротескная, ее описывает Елизавета Черняк (жена Я. Черняка) в своих воспоминаниях о Пастернаке:
Помню забавный случай. Я лежала дома, болела. Вдруг утром является Петровский и объясняет: «Я на минутку – оставить галоши. Мне надо тут поблизости пойти бить одного человека. Так неудобно бить в галошах». Оставил галоши и ушел. Через 15 минут вернулся: того человека не оказалось дома. Петровский разделся, подставил? голову под кран в кухне (рядом с которой была наша комната), отфыркался, зашел в комнату и попросил бумагу и перо. Наверное, час сидел за столом, писал и перечеркивал стихи.
Потом встал, сказал: «Уф! Теперь мне легче», – скомкал все написанное, бросил в корзину и ушел[31].
Дружба Пастернака и Петровского началась при странных обстоятельствах. Об этом пишет сам Пастернак в альбоме А. Крученых:
Ловец на слове А. Крученых заставляет записать случайные воспоминания. В 1915 году летом одному моему другу, тогда меня не знавшему и замышлявшему самоубийство поэту, встретив его в покойницкой у тела худ. Макса и разгадав в нем кандидата в самоубийцы, сестры Синяковы сказали: «Бросьте эти штучки! Принимайте ежедневно по пять капель Пастернака». Так П<етровский> познакомился со мной и с Синяковыми. 27.3.1926[32].
Однако сам Петровский датировал знакомство не 1915‑м, а 1914 годом. На форзаце книги, подаренной им в апреле 1919 года Пастернаку, он пишет: «Дорогому Борису в память 14‑го года (весна), когда он читал мне на моем чердаке в Зачатьевском переулке Бодлера и Верлена. Дм. Петровский»[33].
Правильность сведений Петровского подтверждает А. Парнис. Он сообщил Е. Б. Пастернаку, что 27 апреля 1914 года в «Вечерней газете» было напечатано объявление о том, что 23 апреля 1914 года земляк и знакомый Петровского полтавский художник Макс (В. Н. Максимович) покончил с собой в Москве после неудачной выставки его картин.
В биографии поэта Е. Б. Пастернак пишет:
Из сопоставления разных воспоминаний и обмолвок следует, что Петровского увидела в покойницкой старшая из Синяковых, певица Зинаида Мамонова, и привела его в Замоскворечье, где на Малой Полянке, в квартире, снятой пианисткой Надеждой Михайловной (по мужу Пичета), жила Мария Уречина и две младшие незамужние сестры Ксения (Оксана) и Вера[34].
Это место как колдовское оживет в стихотворении Пастернака «Метель»:
- В посаде, куда ни одна нога
- Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
- Ступала нога, в бесноватой округе,
- Где и то, как убитые, спят снега, –
- ………………………
- Ни зги не видать, а ведь этот посад
- Может быть в городе, Замоскворечьи,
- В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
- Гость от меня отшатнулся назад).
Синяковых пять сестер, – писала Лиля Брик. – Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец, а мать человек передовой, безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю – Пастернак, в Марию – Бурлюк, на Оксане женился Асеев[35].
Ей же он посвятил свой лучший цикл лирических стихотворений – «Оксана».
Асеев как-то рассказал Марии Белкиной странную историю о сестрах. Когда он женился на Оксане, спустя некоторое время умерла их мать, которую сестры очень любили. В гробу они ее раскрасили под молодую женщину, а сами с распущенными длинными волосами стояли вокруг, играли на музыкальных инструментах, пели и читали стихи. Асеев был обескуражен.
Оксана Асеева (она же Синякова) утверждала, что именно сестры положили начало обществу «Долой стыд!».
М. Булгаков 12 сентября 1924 года записал в дневнике:
Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась[36].
Петровский всегда был внимателен к датам и юбилеям дружбы: в своей речи на Первом съезде писателей в 1934 году он счел необходимым открыть делегатам съезда поворотное событие в своей биографии – знакомство с Борисом Пастернаком:
В день самоубийства одного художника – в странной, хоть и нелепой связи с этой смертью, никак прямо меня не задевавшей, – я встретил человека, невольно ставшего вестником моего будущего, Бориса Пастернака… Это было моим первым рождением[37].
И через двадцать лет, в 1937 году, Петровский не забыл обстоятельств знакомства с Б. Пастернаком, но высказался о них уже несколько иначе…
Хлебников и Петровский
Вскоре после своего «первого рождения» Петровский познакомился и с В. Хлебниковым, это случилось в январе 1916 года.
Встретился я с Велимиром Хлебниковым неожиданно, хотя знал и любил его уже года два до этого… ‹…› Это случилось у Вермеля, издателя «Московских Мастеров»…[38]
Прямо перед их встречей, вскоре после Нового года, в петроградской квартире Бриков Хлебников был провозглашен «королем поэтов». Петровский привязался к Хлебникову сразу же и на следующий день приехал к нему в гости во флигель Петровского парка, где тот жил со своим братом.
Петровский рассказывал об их совместных занятиях с некими языковыми шумами, о разработке планов государства Пространства и государства Времени, о совместных поездках к духовно близким Хлебникову людям – Павлу Флоренскому и Вячеславу Иванову.
Немаловажно и то, что Петровский брал у Хлебникова своеобразные уроки мистического жизнетворчества, не столько подражая ему поэтически, сколько перенимая присущие тому особенности в поведении и восприятии жизни.
Когда обокрали магазин издателя Вермеля, Хлебников, возмущенный тем, что тот не выплатил в тяжелые для поэта дни полагающийся ему гонорар, видел в этом случае проявление закона фатальности («сердцебиение случая»). Петровский писал, что «судьба мстила за него, помнила о нем».
Хлебникова неожиданно призвали в армию и определили в Царицынский полк, Петровский приехал его навестить. На улице он случайно встретил Татлина, с которым был знаком по Харькову. Они решили совместно провести вечер футуристов, чтобы заработать Петровскому на обратный проезд. Нарисовали плакат, выступили с докладом, который из‑за занавеса нашептывал Хлебников. Ему выступать было нельзя – он был солдатом.
Петровский около года ощущал себя апостолом Хлебникова: собирал разбросанные бумажки со стихами и вычислениями, записывал необычные высказывания.
Все, что в Хлебникове находили уродливым (некоторые его знакомые), проистекало от невнимательности их самих к чрезвычайно сосредоточенному в своем мире и потому рассеянному в своем мире и по отношению ко всему остальному Хлебникову, – писал Петровский впоследствии в своей автобиографии[39]. Всем известен апокриф о том, что «степь отпоет», пересказанный Ю. Олешей в книге «Ни дня без строчки»:
Однажды, когда Дмитрий Петровский заболел в каком-то странствии, которое они совершали вдвоем, Хлебников вдруг встал, чтобы продолжить путь.
– Постой, а я? – спросил Петровский. – Я ведь могу тут умереть.
– Ну что ж, степь отпоет, – ответил Хлебников.
А вот версия самого Д. Петровского:
Мы слезли на Черепахе, пересекли несколько калмыцких поселков, рыбацких промыслов и вышли в степь. У нас фляга с водой и немного хлеба. Шли верст 70. Здесь же в степи Велимир сочинил своего «Льва», на одной из стоянок он записал его на лоскуточке. В степи же была изобретена «Труба марсиан», взлетевшая через месяц в Харькове в издательстве «Лирень». Степь, солончаки. Даже воды не стало. Я заболел. Начался жар. Была ли это малярия или меня укусило какое-либо насекомое, не знаю. Я лег на траву с распухшим горлом и потерял сознание. Когда я очнулся, ночь была на исходе. Было свежо. Я помнил смутно прошлое утро и фигуру склонившегося надо мной Хлебникова. Голое пустое место. Мне стало жутко. Я собрался с силами, огромным напряжением воли встал и пошел на запад. На пароходе добрался до Астрахани и до Демидовской.
Хлебников сидел и писал, когда я вошел к нему.
– А, вы не умерли? – обрадованно-удивленно сказал он.
– Нет.
В моем голосе и виде не было и тени упрека, я догадался, в чем дело.
– Сострадание, по-вашему, да и по-моему, ненужная вещь. Я думал, что вы умерли, – сказал Велимир, несколько, впрочем, смущенный. – Я нашел, что степь отпоет лучше, чем люди.
Я не спорил. Наши добрые отношения не поколебались[40].
Сложно сказать, насколько правдив и точен в своих воспоминаниях Петровский, но даже если это вымысел, то он талантлив.
Интересно, что и Хлебников тоже выступает своеобразным мемуаристом, представляя довольно-таки зловещий образ Петровского в очерке «Малиновая шашка» о Гражданской войне на Украине:
Как П<етровский>?! Неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папахе, белый как смерть и нюхал по ночам в чайных кокаин? Три раза вешался, глотал яд, бесприютный, бездомный бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили писать его голого. А теперь воин в жупане цвета крови – молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкеской. Его все знали и, пожалуй, боялись – опасный человек. Его зовут «кузнечик» – за большие, голодные, выпуклые глаза, живую речь, вдавленный нос. В свитке, перешитой из бурки, черной папахе… он был сомнительным человеком большого города и с законом не был в ладу.
Некогда подражал пророкам (вот мысль – занести пророка в большой город с метелями, что будет делать?).
Он худой, белый как свеча, питался только черным хлебом и золотистым медом, да английский табак, большой чудак, в ссоре с обществом, искавший правды. Женщины-художницы писали много раз его голого в те годы, когда он был красив.
Хромой друг, который звался чертом, три раза снимал его с петли. Это было вроде небесного закона: П<етровский> удавливается, Ч*. снимает.
Известно, что он трижды обежал золоченый, с тучами каменных духов храм Спасителя, прыгая громадными скачками по ступеням, преследуемый городовым за то, что выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи.
Любил таинственное и страшное. Врал безбожно и по всякому поводу[41].
Читая этот отрывок Хлебникова, нельзя отделаться от ощущения, будто сквозь текст проглядывают фантасмагорические фигуры героев «Страшной мести» Гоголя.
История с вырванными оттисками имела для Петровского продолжение. 30 марта 1916 года в окружном суде состоялся процесс по обвинению его в краже гравюр.
На суде Петровский заявил, что он – бывший футурист. Питая искренний интерес к истории живописи, но не имея возможности ввиду отсутствия средств поехать за границу, он решил пополнить свое художественное образование «домашним», так сказать, способом. Способ заключается в вырезывании гравюр из художественных изданий в различных библиотеках Москвы.
– Теперь, – заявил Петровский, – я от футуризма отказался и хочу стать честным человеком.
– Кроме того, – добавил он, – я готовлю к печати ценный труд, который должен произвести переворот в литературе по вопросам искусства.
Присяжные заседатели Петровского оправдали[42].
Правдой в словах Петровского было только то, что он не мог учиться дальше живописи. В автобиографии он писал:
За год до войны я был исключен из Школы Живописи, где я только что начал учиться после предварительно двухгодичных занятий в студии Юона (в Москве). Выехать за границу (в Париж), куда вели меня мои живописные склонности, не удалось из‑за неполучения паспорта: – (я был «политически неблагонадежным») и из‑за отсутствия денег[43].
Петровский и шагнул в Гражданскую войну с ее вольницей, анархизмом, жестокостью. Сам же он писал в автобиографии, что на Гражданской войне был организатором красных партизан (большевиков), красноармейцев: (Богунцев, Таранцев, червонных казаков), и как командир своего собственного отряда («Братьев Петровских»), провел все годы Гражданской войны, создавая первые красные отряды на Украине (на Черниговщине) с самого Октябрьского переворота, точнее со дня разрыва Центральной Радой отношений с РСФСР – т. е. с 3 декабря 1917 года.
С сентября по декабрь 1918 года просидел в гетманской тюрьме в городе Чернигове, ожидая расстрела.
Только после замирения с Польшей – и разгрома Врангеля, – т. е. после окончательной нашей победы на фронтах, вернулся в Москву и занялся оборванной с 1916 года поэтической деятельностью.
Пастернак и Петровский
Дружба с Пастернаком выявила совершенно другой образ Петровского. В 1920 и 1921 годах Пастернак пишет ему письма. В этих письмах отражено все – голодные московские зимы (поэтому просьба выслать с Украины какие-нибудь продукты), уплотнение, воспоминание о детстве, беспокойство о брате Петровского, с которым он приходил к Пастернаку на квартиру в Сивцев Вражек. Письма полны нежной родственной расположенности, которую умел создавать Пастернак в отношениях с людьми. Из этой теплоты соучастия складывался и мир его поэзии:
…Отчего Вы не напишете ничего о себе? Как брат Ваш? – Опять событья развертываются совсем под боком у Вас, и очень за Вас боюсь и тревожусь. Той зимой, Дмитрий, что я Вас узнал, стало близко Ваше дело мне, и Ваша жизнь[44].
6 апреля 1920‑го:
…А ужасная зима была здесь в Москве, Вы слыхали, наверное. Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный отдел вон; нас, в уваженье к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились.
Очень, очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч. К., по соседству. Так постепенно с сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. – Видите, вот и я – советский стал.
Я к таким ужасам готовился, что год мне, против ожиданий, показался сносным и даже счастливым.
‹…› Чем живу? ‹…›
Обычно, когда жилось хорошо, все настоящее было сплошь будущим, и помните, по временам все волненье наше проистекало от такого затеканья, засасыванья времени[45].
1 мая 1921 года:
…«Самый дорогой друг», – так назвали Вы меня, Дмитрий; спасибо; Вы не ошиблись, – но на что я Вам, если в самый существенный момент Ваших страданий или незадач Вы ограничились кратким извещением, иероглифически темным, и не спросили меня – (Вам смешно это?) – но ведь этого не случилось – я крепко-крепко целую Вас и жду ответа немедленного и полного. Слышите, Дмитрий!
Ваш Б. Пастернак[46].
В 1924 году (19 октября) Пастернак, только что вернувшись из Ленинграда, где виделся с Осипом Мандельштамом, обратится к нему с взволнованным письмом:
…Что-то тут сделалось в мое отсутствие с Дмитрием Петровским. Он пишет что-то громадное, мало с кем встречается и при первом же моем звонке объявил мне, что не желает меня видеть. Надо знать Дмитрия так, как знаю его я, а также степень, давность и глубину нашей дружбы. Я понял, что причины этой перемены лежат где-то глубоко, и не только не обиделся, но даже и не огорчился, а как-то порадовался за его болезненным усилием воли проводимое одиночество. Я не обиделся. Он виделся с женой, его объясненья ее удовлетворили и показались достаточными и благородными. ‹…› Но этот крупный духовный подъем у Петровского, заставляющий его сторониться меня, совпадает с внешней стороны, объективно по смыслу и по времени с некоторой атмосферой холода и отчужденья, которые я тут застал. Говоря безотносительно, – она заслужена мной, я давно уже ничего не писал и притязать на ровное и постоянное внимание не вправе[47].
Странное поведение Петровского, грубо избегающего встреч с другом, рассматривается Пастернаком как знак общего охлаждения к нему жизненного пространства, которое не прощает поэту расчета, халтуры, отсутствия подлинного вдохновения. В грубости друга он ищет высокий метафизический смысл.
То горестное время описано Пастернаком в самом начале «Спекторского»:
- Я бедствовал. У нас родился сын.
- Ребячества пришлось на время бросить.
- Свой возраст взглядом смеривши косым,
- Я первую на нем заметил проседь.
- Но я не засиделся на мели.
- Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
- Меня без отлагательств привлекли
- К подбору иностранной лениньяны…
«Друг отзывчивый и рьяный» – это Я. З. Черняк, работавший в журнале «Печать и революция», большевик, обожающий его поэзию.
Пастернак с некоторым восхищением смотрит на Петровского, который, видимо, был увлечен в тот момент своей героической прозой – «Повстанья», где описывал опасные приключения в петлюровском плену.
В феврале 1926 года умерла от брюшного тифа Лариса Рейснер, Пастернак написал на ее смерть стихи. В них звучало преклонение перед гармоничностью ее судьбы и женской красотой.
Лариса Рейснер перед смертью, как писала Марика Гонта, устроила Пастернаку, Мандельштаму, Тихонову встречу с легендарным капитаном Кукелем, который прославился тем, что в 1918 году по приказу Ленина затопил Новороссийскую эскадру, чтобы она не досталась немцам.
В этот вечер она не могла прийти. Она страдала приступами афганской малярии, которая погубила ее, косвенно, как змея Олега, выползшая из скелета коня.
Накануне смерти мы видели ее, веселую и возбужденную, необычайно остроумную и ласковую: держа большую грелку у солнечного сплетения, она жаловалась на боли, это был брюшной тиф. И на другой день, попирая ногами свою мертвую копию – портрет, висевший над ее гробом, неправдоподобно живая и красивая, как никогда, она лежала в Доме журналиста, улыбаясь, – преодолевая и за гранью жизни самое понятие «смерть»! ‹…›
Капитан Кукель, подписавший приказ о потоплении флота согласно постановлению революционного комитета матросов, жил тогда в Москве, в Замоскворечье. Зимой 1925 года у Петровских в Мертвом переулке он делился своими воспоминаниями с несколькими собравшимися для этого поэтами. На этом вечере присутствовали Пастернак, Асеев, Шкловский, Тихонов, Мандельштам. Рассказ Кукеля был скромным и сдержанным. Он повторял канву революционных событий 1905 года, закончившуюся гибелью лейтенанта Шмидта[48].
В сборнике «Черноморская тетрадь», вышедшем в 1928 году, Петровский напишет своего «лейтенанта» – стихотворение «Лейтенант Кукель» с явной отсылкой к пастернаковскому «Лейтенанту Шмидту»:
- Закройте бухту на замок!..
- На палубу, как на молитву,
- Двух взрывов вывалил дымок:
- Идет с машинами разбитыми
- На зубоскалящее дно
- Судов потопленных венок…
Капитан Кукель будет расстрелян в 1937 году.
Марика Гонта. Мертвый переулок
Андрей Белый
- Все спит в молчаньи гулком.
- За фонарем фонарь
- Над Мертвым переулком
- Колеблет свой янтарь.
Даниил Андреев. Янтари
- Я любил эти детские губы,
- Яркость речи и мягкость лица…
Елена Владимировна Пастернак, расшифровавшая мемуары Марии Гонты, рассказывала, что перепечатывала их с разрозненных листов, где они были записаны широкими строчками, очень импульсивно и не всегда связно. Но в них жили атмосфера конца 20–30‑х годов, дух собраний и встреч той поры.
Свою жену Марию Павловну Гонту Петровский привез в Москву, видимо, в 1924 году. Их двойной портрет той поры сохранился в воспоминаниях Елизаветы Черняк:
…я очень ясно помню наш первый визит к Б.Л. ранним летом 1922 года. Б.Л. ‹…› жил тогда на Волхонке, 14, на втором этаже, в бывшей квартире своих родителей.
‹…›
Мы с Яшей (Черняком. – Н. Г.) пришли вместе с поэтом Дмитрием Петровским и его женой Марийкой (Мария Гонта). Они жили недалеко от нас в Мертвом переулке. Странная это была пара. Петровский – неистовый поэт и человек. В Гражданскую войну он примыкал к анархистам. Говорили – убил помещика, кажется, своего же дядю. Был долговяз, и создавалось такое впечатление, будто ноги и руки у него некрепко прикреплены к туловищу, как у деревянного паяца, которого дергают за веревочку. Стихи у него были иногда хорошие, но в некотором отношении он был графоман ‹…›.
Марийка была актриса (она снималась в эпизодической роли в «Путевке в жизнь»). Я редко видела такое изменчивое, всегда разное, очень привлекательное, хотя не сказать что красивое, лицо. Одевались они с Петровским очень забавно в самодельные вещи (тогда еще трудно было что-нибудь достать), сшитые из портьер, скатертей и т. п., всегда неожиданные по фасону и цвету. Жили они очень дружно и были влюблены в друг друга, что не помешало Петровскому бросить Марийку. В те годы Петровский дружил с Б.Л., но спустя несколько лет резко с ним поссорился, как, впрочем, рано или поздно почти со всеми своими друзьями[49].
Мария Гонта дружила с Пастернаком и считала его близким человеком до конца своих дней. Ее чрезвычайно эмоциональные воспоминания опубликованы лишь фрагментарно. В этом смысле судьба ее как мемуаристки сходна с судьбой бывшего мужа. По описаниям Марии Седовой (Луговской), она была небольшого роста, очень изящная, с тонкой талией, крутыми бедрами и высокой грудью. Разговаривая, она ходила взад и вперед, заглядывая в большое зеркало, висевшее на стене, и поглаживая себя то по груди, то по бедру.
Начало ее дружбе с Пастернаком положили его замечательная отзывчивость и гостеприимство:
Мы с Дмитрием вернулись в Москву, ограбленные по дороге. Усталые, грязные, мы появились у Бориса на Волхонке в тот момент, когда к Борису Пастернаку пришли Асеевы. Нарядная, кудрявая Оксана с ниткой искусственного жемчуга на шее и суетливый, рисующийся Николай Николаевич. Я чувствовала себя очень неловко. Дмитрий сразу попал в среду друзей и чувствовал себя как ни в чем не бывало. Я же сидела на стуле и готова была провалиться сквозь землю, так как я была не в тон общему разговору, и мне казалось, что своим видом я порчу общий праздник. Это не ускользнуло от внимательного взгляда Бориса, который казался всецело занятым гостями.
Он тихо спросил меня, не хочу ли я принять с дороги ванну.
– А это возможно? – Я не смела мечтать о таком счастье.
Он проводил меня в конец коридора, выдал мыло и мочалку.
Через некоторое время я вернулась в комнату другим человеком, отдохнувшей и забывшей скованность, так мучившую меня только что. Каким образом Борис мог понять то, что мне так было нужно, с каким тактом он догадался предложить мне это? Каким-то чудом, среди случайно уцелевших после ограбления вещей у меня нашлось золотое платье, сшитое мною из куска парчи.
По возвращении я сошла за новоприбывшую.
Борис встал мне навстречу.
– Вот Марина, – представил он меня вновь, – посмотрите, какая стала красивая, – притом самыми простыми средствами. Возникла из пены морской.
Для ободрения он произвел мое имя от слова «mare» – «море», «марево» – Мария Моревна. Но для этого надо было быть достойной ободрения.
Раз и навсегда между нами установилось ровное открытое доверие, как будто ни к чему не обязывающее, кроме этой ровности и непрерывности.
Великолепное настроение Бориса в этот вечер коснулось и меня.
Борис любил Асеева. Он слушал его стихи, отраженные сладким высоким фальцетом, как пение Лемешева, с нежной внимательностью и напряженностью в горячем взлете. Он любовался их красотой и счастьем.
Мне стихи не понравились своей претенциозностью и тем, что, расхваливая их, Борис вкладывал в них что-то свое, чего в них, собственно, не было[50].
Через некоторое время Петровские поселились в Мертвом переулке на Арбате, который сейчас называется Пречистенским, а после смерти Николая Островского долго носил его имя: писатель жил там в начале 30‑х годов.
Но в конце 20‑х он еще назывался Мертвым переулком и входил в число арбатских – Староконюшенный, Чистый, Сивцев Вражек и близкая к ним Волхонка, где жили герои этого повествования; пройти от дома одного до дома другого можно было за 10–15 минут. Местность, находящаяся рядом с переулком, называлась Могильцы, а Успенская церковь – на Могильцах. По одному из преданий, после очередной эпидемии чумы здесь было чумное кладбище с церковью, а все соседние переулки стали называться Могильцевскими. По другой версии, название переулка произошло от фамилии владельцев самого крупного участка – дворян Мертваго. Любопытно в этой связи, как пестрота звучания имен московских переулков и фамилий их владельцев отзывается в имени любимого московского героя Пастернака – Живаго.
Комната Петровских, длинная, с двумя большими окнами, находилась в большом доходном доме.
Был июль. Было жарко, – писала Марика в воспоминаниях. – Даже вечером. Окна высокой комнаты в Мертвом переулке, обращенные во двор, раскрыты настежь, и в них врывается воскресный шум: где-то играют Шумана, внизу поют частушки, и дети гоняют мяч, в дворницкой голосит гортанная гармошка.
Мы ждем гостя, грузинского поэта Робакидзе. Представлялось: с тонкой талией, в черкеске с газырями – огненный Шамиль, – а пришел блестящий парижанин, изысканный европеец с безукоризненными манерами, в костюме от Ворта. Его встречали: Николай Тихонов, синеглазый и пастушеский, как Лель, еще «Серапионов брат», надевший первую толстовку – коричневую вельветовую в рубчик; Дмитрий Петровский в матросской робе, певец червонного казачества, соратник Щорса, о чем свидетельствовала дареная серебряная шашка, висевшая на стене; Борис Пастернак, уже тогда широко известный автор «Поверх барьеров» и «Сестры моей жизни», стремительный, сосредоточенный и живой, как живая собака, единственный по-европейски одетый, непринужденный и элегантный в своем старом сером пиджачке и галстуке «в морошинку». Были еще Черняки, Яков Захарович и Лиза, прелестные люди, друзья Бориса Пастернака. Кажется, был Яхонтов.
Гость предложил читать стихи по-русски и по-французски. Борис Пастернак просил гостя читать по-грузински.
Гость попросил разрешения у хозяйки.
– Читаю первый раз. Тимур мчит через горы на коне пленницу. Гроза. Погоня. Пропасть над рекой.
И тут разверзлось жерло грома. Из горла Григория Робакидзе вырывались одни согласные, громокипящие, клокочущие, короткие, но звучали они как гласные, не слыханные ни на одном языке, ни даже в рычании тигра.
Тимур гнал коня через горы, и тонко плакала пленница, лица слушателей напряжены, руки невольно перебирают поводья.
Мы все скакали в ритме дикого коня, пренебрегая безднами. Скакал конь, гремела гроза. Хозяйка дрожала поперек седла не только от страха (вот почему – разрешение!).
В переулке, полном праздничного гама, гармошки, песен, криков детворы, – все стихло, – захлопали ставни, заметушились люди: что случилось?
Сквозь топот Тимурова коня хозяйке чудился топот милицейских лошаков.
Сыпались камни. Обваливалась дорога, скакал конь. Гроза гремела. Настигала погоня. Тимур летел через пропасть, роняя пленницу в грозный Дарьял.
Все долго молчали, как после бури или кораблекрушения…[51]
Мария Седова (Луговская) рассказывала, что уже в тридцатые годы она из квартиры в Староконюшенном заходила к Марике почти каждый день; мама посылала ее по самым разным хозяйственным нуждам. В центре комнаты стояло большое массивное кресло, оно было из дома на Волхонке.
Мария Владимировна написала маленькую историю этого кресла:
С раннего возраста, бывая в доме подруги моих родителей – Марии Гонта, – я помню большое дубовое кресло с резной спинкой. Об этом кресле Мария Павловна рассказывала, что его принес в дар ей и ее мужу – поэту Дмитрию Васильевичу Петровскому – Борис Леонидович Пастернак.
Они переехали в пустую комнату в Мертвом переулке (пер. Островского), и какое-то время кресло было их единственной мебелью. По словам М. П. Гонта, кресло принадлежало еще отцу Б. Л. Пастернака – художнику Л. Пастернаку. М. П. Гонта умерла в 1995 году. Она хотела, чтобы кресло вернулось в дом Пастернака.
Прямо напротив их дома стоял особняк М. Морозовой, известной меценатки, которая создала знаменитое философское общество памяти Вл. Соловьева. После революции этот великолепный дом стал обычной уплотненной коммуналкой.
В дом по соседству родители маленького Жени Пастернака водили его к учительнице иностранного языка. «Длинный коридор был уставлен шкапами, двери в комнаты при этом становились темными нишами»[52], – вспоминал Е. Б. Пастернак. Потом дом купило Датское посольство. Из окон квартиры Марики можно было увидеть посольскую гостиную. Сама обладательница многих московских особняков, Маргарита Морозова, жила с сестрой в подвальном этаже с окнами на уровне тротуара. Ее сыном был Мика Морозов, портрет которого написал Валентин Серов. В будущем один из лучших знатоков Шекспира, профессор Михаил Михайлович Морозов в конце 20‑х годов приятельствовал с Булгаковым.
Марика была близкой подругою и Татьяны Луговской, хотя их разделяла разница в возрасте в десять лет; ее опекали, что видно из писем Петровского, Владимир Луговской и первая жена его Тамара Груберт.
Татьяна Луговская, рассказывала, как в середине 20‑х годов, когда ей было около шестнадцати лет, она несколько раз просила Марику познакомить ее с Пастернаком, но случай никак не представлялся. Однажды зимним февральским днем они шли по Волхонке, мела метель, ни зги не видно. Татьяна привычно заканючила: «Ну, где, где твой Пастернак?» – и вдруг из белой мглы послышался голос: «Я здесь!» Так состоялось их знакомство.
Марику Гонту Пастернак опекал, когда впоследствии ее бросил Дмитрий Петровский, он очень нежно относился к оставленным, брошенным мужьями женам. Его терзало чувство вины. Говорили, что у него была мысль на все свои деньги поставить дом оставленным женщинам или несчастным вдовам. Ее воспоминания написаны с огромной любовью. «Его отношение к женщине было нежным, даже женственным, – писала Марика, – основанным не столько на том, чтобы завоевать любимую женщину, сколько на том, что он не мог отказать женщине»[53]. Но Марика не была одинокой.
На съемках фильма «Путевка в жизнь», в котором Марика исполняла сразу две роли, воровки и нэпманши (беспризорники вырезали клок шубы у нее со спины), у нее случился роман с режиссером Н. Экком.
В ее доме на торшере всегда висело янтарное ожерелье. В память о романе с Даниилом Андреевым. В 1937 году они жили вместе в Крыму, в Судаке. Он посвятил ей цикл стихов «Янтари». Вывел ее в исчезнувшем на Лубянке романе «Странники ночи» в образе татарки Имар, в которую влюблен главный герой Олег Горбов. Он отказывается от духовного брака ради земного чувства. В оставшемся наброске романа есть портрет Имар, написанный с Марики: «…горячий полумрак сглаживал единым тоном ее смуглую кожу, яркие губы, косы, заложенные вокруг головы, и янтарное ожерелье…»
Исай Лежнев. Похождения главного редактора журнала «Россия»
В черновой рукописи «Театрального романа» Булгаков пишет:
…В Москве в доисторические времена (годы 1921–1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо, и руки), и отличался большим умом. Профессия у него была такая: он редактор был чистой крови и Божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922–1925!!) частный толстый журнал! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была неописуемая воля, и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной и грязной квартире, он издавал[54].
Итак, я отнес свою повесть туда, – словно продолжая «Театральный роман», вспоминал годы спустя его друг Сергей Ермолинский. – Редактор-издатель принимал авторов у себя дома, на Большой Полянке. Меня встретил рыжеватый человек с красными веснушками на лице. Он взял рукопись и предложил зайти к нему через две недели. Я пришел в назначенный срок и позвонил с замирающим сердцем. Дверь отворила дама. Она смотрела на меня испуганно. Она сказала: «Редактора нет, он уехал и неизвестно когда вернется».
Он не вернулся совсем, он исчез. Журнал перестал выходить. Моя рукопись пропала. Ходили слухи, что редактор «независимого» журнала «Россия» арестован, потом говорили, что он административно выслан за границу[55].
«Я к Вам с двумя просьбами. Выслан за границу Лежнев, редактор незадолго перед тем закрытого журнала «Новая Россия»»[56], – пишет Пастернак Корнелию Зелинскому 1 июня 1926 года в Париж, где тот работает корреспондентом «Известий» под началом Х. Раковского.
Так кто же такой этот таинственный «замечательный человек» Исай Лежнев? Талантливый издатель, авантюрист или темная личность? Примечательно его появление на страницах «Театрального романа» Булгакова в образе рыжего Рудольфи – тот возникает на пороге комнаты уже совсем отчаявшегося писателя Максудова и предлагает контракт на печатание его романа.
В 1918 году Лежнев был членом делегации бюро печати на Украине. На юге России несколько лет он организовывал различные советские газеты, а затем стал спецкорром в советском постпредстве в Берлине.
В начале 20‑х он становится главным редактором и издателем журнала «Россия». Журнал был сначала двухнедельником, выходившим на 32 страницах обычного формата, а затем стал толстым ежемесячником. В его подзаголовке значилось: «общественно-литературный журнал группы литераторов и ученых». В списке сотрудников были имена как молодых писателей – М. Зощенко, Вс. Иванова, Н. Никитина, Н. Тихонова, К. Федина, Б. Пильняка, так и уже известных – М. Пришвина, М. Шагинян, В. Лидина, О. Форш и ряда видных московских и петроградских ученых и публицистов.