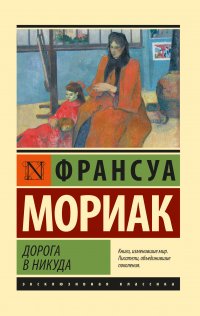
Читать онлайн Дорога в никуда бесплатно
- Все книги автора: Франсуа Мориак
François Mauriac
LES CHEMINS DE LA MER
© Editions Grasset & Fasquelle, 1939
© Перевод. Н. Немчинова, наследники, 2022
© Перевод стихов. Н. Сидемон-Эристави, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
* * *
Жизнь большинства людей – мертвая дорога и никуда не ведет. Но иные с самого детства знают, что идут они к неведомому морю. И они чувствуют веяние ветра, удивляясь его горечи, и вкус соли на своих губах, но еще не видят цели, пока не преодолеют последнюю дюну, а тогда перед ними раскинется беспредельная, клокочущая ширь и ударит им в лицо песок и пена морская. И что ж остается им? Ринуться в пучину или возвратиться вспять…
Глава первая
Дени Револю притворялся, будто он зубрит, готовит урок, а на самом деле прислушивался к шагам матери; ее длинный шлейф скользил по ковру с мягким и торжественным шелестом. Лицо ее приняло сугубо строгое выражение – благодаря прическе, которую ей всегда сооружал для балов мсье Тарди, парикмахер с бульвара Фоссе; точно такую же величавость она напускала на себя, позируя перед аппаратом фотографа. Седые с желтизной волосы, завитые щипцами парикмахера, были уложены в виде хрупкой башни, перевитой вуалеткой и увенчанной изумрудным полумесяцем. Роза, сестра Дени, тоже была уже причесана, но все еще расхаживала в пеньюаре: из мастерской Габриа не успели принести платье, в котором понадобилось кое-что подправить.
– Если через пять минут платья не доставят, я не знаю, что и делать, – сказала мадам Револю.
Дени не успел подавить смешок.
– Почему ты до сих пор не в постели, Дени?
– Жду платья, – ответил он.
Лампа на высокой подставке ярко освещала его волосы, причесанные на косой пробор. Большая рука лежала на учебнике психологии. Крупная голова резко выделялась на фоне выцветшего шелка гардины, падавшей длинными складками из-под плюшевого ламбрекена. Дени хотелось поглядеть на новое платье сестры, за которым послали в мастерскую мальчишку-лакея. «Наверно, такое же бесстыдное платье, как и все эти бальные наряды», – думал он, хмуро вглядываясь в детское личико сестры и не отвечая на ее улыбку. Не пройдет и часа, как она появится на пороге ярко освещенного салона, предоставляя всем и каждому любоваться ее шейкой, ее плечами, оголенной спиной и даже молодой, слишком высокой грудью. И ей не стыдно будет, что ее, такую вот полуодетую, обнимает в танце первый подскочивший кавалер. Да нет, почему же «первый подскочивший»? Там ведь будет Робер Костадо… Скоро у них обручение, а потом они поженятся и будут жить вместе. Что ж, ее могли бы выдать и за кого-нибудь нелюбимого. В романах женщины почти никогда не любят своих мужей. Свадьба, конечно, еще неизвестно когда будет. Мамаша Робера ставит палки в колеса и распускает какие-то темные слухи о папиных делах, хотя у него лучшая в городе нотариальная контора. Ценнее и надежнее миллионного состояния. Но уж это такая женщина… такие вот, как она, всегда создают тяжелую атмосферу. А ведь если б имелись какие-нибудь основания тревожиться, разве могла бы мама так горячо обсуждать вопрос о прыщике, вскочившем на носу у Розетты, с левой стороны.
– Он еще больше стал! – ужасалась мадам Револю. – Это тебе урок! Сама виновата! Поменьше объедайся шоколадом и ешь лучше сырые овощи. (Мадам Револю всегда нужно было установить, кто и в чем виноват.) При такой коже, как у тебя, надо избегать всего, что может ее раздражать. И в кого, спрашивается, у тебя такая кожа? – задумчиво добавила она.
«Уж не в тебя, разумеется!» – думал Дени. Его возмущало, что мать, у которой кожа была шершавая, с широкими порами, осмеливается критиковать прозрачное личико Розетты, вспыхивающее от малейшего волнения.
Мадам Револю постоянно ополчалась на дочь и с безотчетным злорадством «резала ей правду прямо в глаза». Раздражение ее быстро переходило в негодование, а затем в неистовую ярость. Не жалея сил, она с беспощадной жестокостью терзала дочь.
– Ах, Роза! До чего ж ты нынче дурна! Бедняжка! Просидишь весь вечер у стенки, никто тебя и не пригласит. Скажи спасибо, что у тебя родители – люди известные, а то бы… Ну вот, теперь ревет в три ручья! Еще этого не хватало! Ведь у тебя глаза распухнут и нос будет как картошка. Перестань сейчас же! Поди умойся холодной водой.
Роза, рыдая, вышла из комнаты, а Дени крикнул ей вслед:
– Не расстраивайся, все равно будешь на балу самая хорошенькая.
Мадам Револю возмущенно заявила, что все говорилось ею для пользы «девочки».
«Странное дело, – думал Дени, – почему она Жюльена и меня любит больше, чем Розу? Жюльен – просто дубина, а я…»
– Бедняга ты, Дени, – прошептал он, потирая щеку, покрытую нежным пушком.
* * *
Лакей Луи Ларп доложил, что пришел старший клерк мсье Ланден и желает видеть мадам Револю. Лицо ее приняло удивленное и негодующее выражение. Это в десятом-то часу вечера? С ума он сошел, что ли? И разве Ланден не знает, что она никогда не вмешивается в дела мужниной конторы? Завтра к вечеру муж вернется из Леоньяна. А если Ландену надо что-нибудь срочно сообщить ему, пусть съездит в Леоньян (имение находилось километрах в десяти от города).
Дени настороженно следил за матерью. Неужели позднее появление Ландена не заронило в ее душу ни малейшего беспокойства? Бросив на стол учебник психологии, он поспешил вслед за лакеем в переднюю. Словно тощая собачонка, проскользнул он в приоткрытую дверь, почуяв «ветер судьбы», как говорил лучший его друг Пьер Костадо, младший брат Робера, жениха Розы.
Ланден стоял в передней, расставив ноги и держа в руке мокрый от дождя котелок. Пальто он уже снял. На нем были кургузый, слишком облегающий фигуру пиджачок и старые брюки в серую и черную полоску. Густая черная борода начиналась чуть ли не от самых глаз, но все же не скрывала дряблости обвислых щек. Оскар Револю, смеясь, уверял, что покатой линией плеч их клерк поспорит с самой императрицей Евгенией; младшее же поколение семейства Револю высмеивало его брюшко, а еще больше его блестящий и шишковатый лысый череп, похожий на старую начищенную кастрюльку, всю во вмятинах и буграх. В глазах этих юнцов Ланден был самым противным на свете созданием; недаром их отец, всегда очень вежливый с подчиненными, в обращении с Ланденом позволял себе ужасные и ничем не оправданные грубости, словно хотел посмотреть, сколько оскорблений тот способен вытерпеть, или как будто мстил ему за что-то. Но если кто-либо говорил: «В конторе все держится на Ландене», – никто из семейства Револю и не думал возражать, да никто и не поверил бы их возражениям. Все в городе знали, что самая важная работа лежала на плечах Ландена. Сколько раз дети нотариуса слышали, как отец скучающим тоном говорил: «Спросите у Ландена… Обратитесь к Ландену… Ланден должен знать, где лежит папка с этим делом…» О Ландене им было известно лишь то, что он – сын университетского швейцара, служившего при литературном факультете, однокашник их отца – вместе с ним учился в лицее; живет одиноко – при нем только сестра, старая дева, которую он не познакомил с семейством своего патрона, считая ее недостойной такой чести. Никто из Револю ни разу не бывал в доме старшего клерка. Сам нотариус говорил: «У Ландена нет личной жизни», – и считал это вполне естественным.
Самые необыкновенные чувства перестают удивлять, когда становятся привычными. Перед глазами домочадцев нотариуса свершалось чудо любви, но что это за чудо, если оно длится всю жизнь? Может быть, и резкость Оскара Револю с Ланденом объяснялась тем раздражением, какое испытывает каждый человек, чувствуя, что на него обращена какая-то необычайная, чрезмерная и необъяснимая страстная привязанность, к тому же очень выгодная для него. Откровенное презрение нотариуса к своему старшему клерку, презрение, причины которого оставались для всего семейства Револю тайной, началось, должно быть, еще много лет назад, в лицее, когда сын швейцара был смиренным рабом богатого господина.
– Если дело очень срочное, можно завтра утром на трамвае съездить, – сказал лакей насмешливым тоном, каким даже слуги разговаривали с Ланденом. – А только господин не очень-то любит, чтоб его беспокоили в Леоньяне. – И, не удержавшись, лакей добавил: – Ох, и нагорит вам, мсье Ланден! Жалко мне вас.
– А мадам Револю никак нельзя увидеть? Хоть на минутку. Нет? Ну, раз нельзя, что ж делать!..
Видимо, Ланден почувствовал облегчение при мысли, что встреча с хозяйкой дома не состоится, и притом не по его вине. Лакей не заметил того, что сразу бросилось в глаза Дени: шишковатая лысина, отражавшая свет лампы, и венчик жиденьких шелковистых волос, которые Оскар Револю всегда сравнивал со шкуркой дохлой мыши, взмокли от пота. Волосы Ланден красил, пот стекал с них темными каплями и, скатываясь по одутловатым щекам, оставлял коричневые подтеки. Ланден бормотал, словно разговаривая сам с собой:
– Надо поскорее найти извозчика или такси… А где их разыщешь в такой час?.. Тем более что всех разобрали из-за этого бала у Фреди-Дюпонов… Если я зачем-либо понадоблюсь, скажите, что я поехал в Леоньян…
Только тут он заметил Дени и пристально посмотрел на него. Взгляд Ландена, казалось, обладал материальной, физической тяжестью: устремив глаза на собеседника, он с трудом отводил их в сторону. В тот вечер он дерзнул положить на голову Дени свою жирную влажную руку, служившую пугалом в семействе Револю, – когда дети грызли ногти, их пугали: «Перестань сейчас же, а не то будут такие руки, как у Ландена!» Дени брезгливо отшатнулся.
– Не надо, мсье Ланден!
Но и взгляд, и рука по-прежнему свинцовой тяжестью давили на его голову: грузная рука как будто окаменела, а взгляд бледно-голубых глаз, вечно подернутых слезой, выражал какое-то непередаваемое чувство. Не жалость ли была в нем? И вдруг Ланден сказал:
– Ступайте к маме, Дени… Будьте с ней ласковы… Скажите ей… Нет, нет… ничего не говорите…
Он круто повернулся и бросился вон. Ошеломленный мальчик слышал, как Ланден стремглав сбежал по лестнице. Дени присел на резной сундук. Шипел газ, горевший в старинном фонаре. Вокруг были такие знакомые, такие привычные вещи: испанские зеркала, полинезийское оружие, привезенное «с островов» еще двоюродным дедом Оскара Револю, картины на шелку, старинные гравюры и прочие украшения, висевшие тут на стенах «испокон веков», по мнению Дени. Через переднюю пробежал в комнату мадам Револю запыхавшийся мальчик-лакей с большой картонкой под мышкой. Он подмигнул Дени:
– Платье привез.
Дени направился вслед за ним и торопливым шепотом сказал матери, искоса глядя, как Роза развязывает картонку.
– Ланден побежал искать извозчика или такси. Едет в Леоньян.
– Скатертью дорога!
Дени знал, что такие слова отнюдь не соответствуют тревоге, томившей его мать в эту минуту. Она смотрела на Розу, уже успевшую надеть платье.
– Повернись, дай поглядеть. Ну вот, теперь складки ровно лежат… Повернись еще… Хорошо. Ты растрепалась. Поправь волосы.
– Звонок. Кто-то пришел, – сказал вдруг Дени. Слух у него был тонкий, и только он один услышал из комнаты матери звонок у входной двери.
Мадам Револю удивленно воскликнула:
– Да кто это может прийти в такой час?
* * *
Позднее и брат и сестра, верно, вспоминали, что уже в ту минуту голос матери дрогнул, изменился до неузнаваемости. Дени выбежал в прихожую, и как раз в это время лакей Луи Ларп отпер дверь. Вошла Леони Костадо. В каракулевом жакете она казалась особенно толстой, огромной. Дыхание со свистом вырывалось у нее из груди. Хотя она была очень близка с семьей Револю, но впервые заглянула к ним так поздно. Леони Костадо, мать Робера и Пьера… У Дени мелькнула мысль, что она приехала для официального сватовства.
«Леони привередничает, – говорил Оскар Револю, – а решится – подавай ей свадьбу через две недели, не позднее. Я ее знаю».
Леони Костадо спросила у Дени:
– Мама у себя? – и, пройдя через коридор, не постучавшись, отворила дверь.
Мадам Револю уже была в меховой пелерине, накинутой на бальное платье, и в последний раз проводила пуховкой по носику Розетты.
– Ты едешь на бал, душечка?
Роза, улыбаясь, подставила щечку матери Робера. Она тоже подумала: «Приехала говорить о свадьбе». Однако Дени заметил, что на щеке у матери показалось темно-желтое пятно, всегда выступавшее, когда она бледнела от сильного волнения, – словно предвестник несчастья. Она залепетала:
– Ах, какой сюрприз! Какими судьбами?..
– Мне надо поговорить с тобой… Только наедине. Можно?
Дени заметил, как заблестели у Розы глаза, но он-то уже знал, что разговор пойдет не о свадьбе. Бедняжка Розетта! Теперь уж никогда не зайдет речь о свадьбе, – по крайней мере, о свадьбе с Робером Костадо… Роза увела брата в свою комнату, сообщавшуюся со спальней матери.
Роза села на кровать. Дени стоял спиной к ней, но видел ее в зеркале, висевшем над камином. Хрупкие, худенькие плечи выступали из глубокого выреза, окаймленного широкой тюлевой оборкой с мелкими блестками. Она сидела нагнувшись, и вырез корсажа приоткрывал ее маленькие девичьи груди. Надежда зажгла ее щеки ярким румянцем. И в том же зеркале Дени увидел, как сразу переменилась она в лице, когда послышались первые раскаты зычного контральто Леони Костадо, которая всегда кричала, как будто разговаривала с глухими, вынуждая и собеседника повышать голос. Но именно оттого, что она кричала слишком громко, Дени и Роза разбирали не все, что она говорила, однако улавливали достаточно, чтобы понять причину ее появления.
– Послушай, Люсьенна, оставим всякие любезности, сейчас не до них. Момент слишком серьезный. Тебе известно, где сейчас Оскар?
Дени и Роза с трудом узнали раздавшийся в ответ голос матери – таким он стал детским, робким, искательным. Конечно, ей известно, где Оскар, – в Леоньяне.
– Ну, если он все еще там, то можешь быть уверена – не по своей воле.
Послышалось невнятное, тихое бормотанье. Леони Костадо прервала его:
– Да что ты притворяешься! Ты прекрасно понимаешь меня.
Ведь это уже стало басней всего города. Три дня люди только об этом и говорят. Уж кому-кому, а жене следовало бы знать, что происходит.
И Леони Костадо продолжала свои обличения, лишь немного понизив голос. Дети слышали, как мать простонала: «По какому праву?..» И тут мадам Костадо заговорила о деньгах. Четыреста тысяч франков, принадлежащих семейству Костадо, отданы Оскару Револю, пообещавшему «пустить их в оборот».
– Что он говорил, помнишь? Они у нас раз сто обернутся! Еще неизвестно, как пойдут дела у домовладельцев. И самое, мол, лучшее помещение капитала – давать деньги в ссуду под залог земли. Пусть у вас эти денежки будут про черный день. Чей, спрашивается, черный день? Чей?..
Но тут Дени отвлекли рыдания сестры; ее тоненькая фигурка как подкошенная упала на постель. Дени видел ее в зеркале, но не посмел обернуться. Он все пятился, пятился от зеркала и, наткнувшись на кровать, сел около Розы. Не решаясь обнять ее за обнаженные плечи, он только ласково бормотал:
– Не плачь. Ничего еще не потеряно. Я уверен, что Робер никогда от тебя не откажется. Мне Пьер в прошлый четверг так сказал… А ведь Пьер ему родной брат, он знает. – И Дени все говорил утешительные слова, которым сам не верил.
Характер Леони Костадо был всем известен: она командовала своими сыновьями, особенно Робером. За своим любимцем, старшим сыном, носившим прозвище «красавчик Гастон», она еще признавала некоторые права, подобающие главе семьи: ей льстила его красота, его любовницы, его успехи на скачках… Но ведь любил-то Розетту не Гастон, а слабовольный Робер, которым мать вертит как хочет. В час нежданного крушения, когда рушилось богатство, положение семейства Револю и, быть может, даже их честное имя, у Дени была только одна мысль: теперь Роза не выйдет за Робера Костадо. Лишь эта мысль, ясная и четкая, упрямо вставала из груды обломков. Дени не осмеливался смотреть в лицо очевидности и постарался отогнать эту мысль, схоронить поглубже, решив вернуться к ней позднее. И тогда снова стало возможно прислушаться к тому, что кричали за дверью.
– Где доказательства? У тебя нет доказательств, Леони. Все это сплетни, а ты им веришь. Чуть дело коснется твоих сыновей, ты сразу теряешь голову… Ну что? Что ты молчишь? Видишь, тебе самой неловко. Ты не знаешь, что сказать…
– Да просто мне жаль тебя, – спокойно прервала свою жертву Леони Костадо.
Она решила без лишних церемоний высказать все, чтобы спасти наследство сыновей. И тут она разошлась. Розе и Дени чудилось, что на чье-то бесчувственное тело сыплются градом глухие удары. Их мать молчала, как мертвая. Роза стиснула брату руку. Она уже не плакала, только шептала: «Бедная мама… бедная мама… Надо пойти туда». Но оба не в силах были двинуться с места.
– Мне очень тяжело причинять тебе боль, но я должна подумать о своих мальчиках… Да и все равно придется же тебе узнать… Часом позже, часом раньше, но все равно ты узнаешь… Регина Лорати все выболтала моему сыну Гастону… Да, да, Лорати, та самая танцовщица из оперного театра. Ну что ты так смотришь на меня? Как будто удивляешься – при чем тут Регина Лорати. Люсьенна, душенька моя, бедная ты моя, неужели ты будешь меня уверять, что ничего не знала?.. Ну не надо разыгрывать комедию. Я, конечно, тебя понимаю и готова извинить, бедный дружок мой… Но ты ведь прекрасно знаешь, что Оскар содержал ее… Да еще в какой роскоши она жила. Ведь решительно всем известно, что у нее был великолепный выезд, и ливрейные лакеи, и вилла за городом, а в городе, на улице Пессак, собственный дом, и вся мебель в нем старинная… Ты этого не знала, нет? Дорогая, бедненькая моя, только ради бога не падай в обморок, не такая сейчас минута, нельзя терять голову. Что? Что ты говоришь? Нет доказательств? Вот заладила! Несчастная ты женщина, разве я тебе зла желаю? Лорати давала Гастону читать письма твоего мужа… Если хочешь знать, Оскар предлагал ей бежать в Южную Америку! Тебе, конечно, тяжело это слушать, но, уверяю тебя, мне еще тяжелее открывать тебе глаза. Но что поделаешь – приходится! Да, вот до чего докатился Оскар. Разумеется, Гастон – любовник этой Регины Лорати… Некрасиво? Почему, спрашивается, некрасиво? Что тут такого? Мой сын не святой, не ангел небесный…
* * *
Дени и Роза слушали, прижавшись к створке двери. Вдруг раздался какой-то незнакомый дрожащий голос:
– Уйди, Леони, уйди! Зачем ты меня мучаешь?
Леони смягчилась, как палач, нанесший удар без гнева и ненависти, лишь во исполнение долга. Теперь она говорила ровным голосом – терпеливо, упорно, упрямо настаивая на своем:
– Я не уйду, пока не получу своих денег – четыреста тысяч франков. Это деньги моих сыновей… Да, да, ты можешь, можешь… Я говорила с юристом. Ведь по брачному контракту ты сама распоряжаешься своим приданым. Твой отец умно составил контракт. Даже если приобретенное в браке имущество находится в общем владении, ты все равно имеешь право: твое личное состояние не тронуто. Подпиши дарственную в пользу моих сыновей. Я принесла акт. Нотариус Лакост сам его составил… Тебе нужно только подписаться – вот здесь и вот здесь… А на полях поставь свои инициалы. – Ты, верно, считаешь меня черствой, Люсьенна… Но ведь я ради сыновей. Если б речь обо мне шла, тогда другое дело. А ведь это их деньги, сыновей моих… Подпиши, у тебя будет спокойнее на душе…
– Ты о своих сыновьях думаешь, а мои как же? Да ведь это и незаконно, я уверена, что незаконно…
– Об этом не беспокойся. Лакост – сведущий человек, он все предусмотрел. Если надо будет судиться, я пойду в суд… Главное, чтоб ты подписала. Ну, решайся же! Неужели ты хочешь, чтобы я позвала сюда твоих детей и сделала их свидетелями нашего объяснения… Они-то поймут меня. Что ты говоришь? Ах так! Ты надеешься, что слухи окажутся ложными? Что ж, возможно. В таком случае твой муж просто вернет нам деньги, и больше о них и речи не будет. Но ведь Гастон собственными своими глазами читал письма. И в городе уже несколько дней только и разговоров, что о вас. Сядь, сядь скорее. Крепись, нельзя, не время сейчас падать в обмороки. Сядь за письменный стол.
– Я должна посоветоваться.
– С кем? С мужем? Он в Леоньяне, ждет там свою Регину, а она не приедет: она удрала с Гастоном в Монте-Карло. Можешь ехать к Оскару – тебе не грозит неприятная встреча с его содержанкой.
– Постой, дай подумать. Я посоветуюсь со старшим сыном, с Жюльеном. Его сейчас нет дома. Он уже уехал на бал к Фреди-Дюпонам…
– Ждать его возвращения я не стану. Ты должна подписать… Да и о чем тут советоваться? Чего ты боишься? Ведь Оскар все равно ухитрился бы вытянуть у тебя эти деньги, я его знаю… И они пойдут прахом, в чужие карманы попадут. Так уж лучше их отдать моим детям… Послушай, ведь в конце концов ты все равно подпишешь… Так зачем тянуть, зря время терять?
Леони умолкла, переводя дыхание. Она колебалась, пустить ли в ход самое грозное оружие? Да, да, надо это сделать, может быть, она даже спасет жизнь Оскару Револю.
– Послушай, зачем ты медлишь! Тебе же надо мчаться в Леоньян. О чем ты думаешь, несчастная! Человек дошел до крайности, он на все способен…
– Что ты хочешь сказать, Леони? Боже мой! Я тут спорю с тобой, а ведь дорога каждая минута…
Теперь за дверью раздавались только всхлипывания да журчал ласковый, настойчивый, умоляющий, вкрадчивый голос:
– Ну, подпиши… Подпиши, Люсьенна… Бедненькая моя… Подпиши. И больше уж тебе не надо будет думать об этом. Руки себе развяжешь, и поезжай тогда в Леоньян. Может быть, еще не поздно спасти его… Но сперва надо подписать… Вот тут и вот тут. А здесь только инициалы поставь.
Всхлипывания стали реже. Послышался глухой шум: передвинули стул, щелкнул ключ, очевидно, отперли ящик письменного стола, зашелестела бумага… Потом в наступившей тишине раздался громкий голос Леони Костадо:
– Ну вот и готово! Это, разумеется, еще не все, но самое важное сделано. Как знать, Люсьенна, может быть, я и ошиблась, душечка, может быть, Оскар просто решил сыграть шутку с Региной Лорати или она все налгала Гастону – хотела его раззадорить и потащить за собой… Эти мерзавки любой фортель могут выкинуть. Но все равно твоя подпись ни к чему тебя не обязывает…
Леони Костадо успокоилась, смягчилась. Она спрятала в сумочку документ, который впоследствии несколько лет тщетно оспаривали в суде кредиторы Оскара Револю. Крепко обнимая совершенно подавленную Люсьенну, она сказала:
– Бедняжечка моя! Не могу ли я чем-нибудь помочь тебе?
Глава вторая
Выйдя из особняка Револю, Леони Костадо, забыв о своей одышке, быстрым шагом двинулась по пустынной улице. Она упивалась своей победой и нисколько ее не стыдилась; она шла в пелене тумана, с наслаждением вдыхая сырой холодный воздух, и крепко прижимала к груди сумочку, в которой лежал драгоценный документ. Подумать только – она отвоевала часть наследственного достояния своих сыновей! Честь ей и слава! Вот он, документ! Составлен и подписан по всем правилам! Нотариус Лакост говорил, что при наличии такого акта она выиграет все баталии. Но достался он дорогой ценой!.. Тяжелая обязанность!.. Бедняжка Люсьенна! Какие страшные часы ей предстоит пережить.
Но Леони Костадо никак не могла заставить себя растрогаться и скорбеть о несчастье, которое ее ничуть не касалось. Вспомнив, что в девушках она проливала горькие слезы из-за того, что ее не выдали замуж за Оскара Револю, она даже вздрогнула от испуга: ведь нынче вечером она могла бы оказаться на месте Люсьенны… Правда, будь я его женой, я бы держала его в руках и не давала бы ему делать глупости. При мне он не пошел бы ко дну. А в делах Оскар человек просто гениальный. Не зря же я доверила ему эти деньги. Уж он сумел бы пустить их в оборот, они бы «раз сто обернулись», как он говорил. Все его несчастья из-за того, что он неудачно женился. Люсьенна Револю, урожденная Вилли-Дюпон, чванливая дура, воображающая, что она сама богиня Минерва, дочь громовержца Юпитера… Всех она восстановила против себя, а сама, бедняжка, до того скучна, что Оскар чуть не с первого же дня стал ей изменять… Ах, Оскар!.. Мадам Костадо представила себе, как он сидит сейчас в Леоньяне, ждет Регину Лорати, вместо нее является Люсьенна, а в это время Регина с Гастоном катят в Монте-Карло…
Леони отогнала эти мысли, устыдившись своего злорадства. Она презирала себя за то, что гордится любовницами сына, и все же не могла побороть такие недостойные чувства. Гастон!.. Вот кто похвалил бы сейчас свою маму… Какую отвагу она проявила нынче вечером… К несчастью, Гастон уехал, и дома ее встретят двое младших – Робер и Пьер.
Запыхавшись, она замедлила шаг, теперь уж ей не хотелось возвращаться домой и беспокоила мысль – как все рассказать сыновьям. И она возмущалась: право, это уж слишком! Вот она выдержала ужасное, душераздирающее объяснение и сумела спасти состояние детей, и ей же еще придется просить у них за это прощение, словно она какая-то преступница. Да, да… Она своих сыночков знает!.. Нет, как раз наоборот, – совсем их не знает.
Отношения с двумя младшими сыновьями не ладились вовсе не из-за разницы во взглядах. Казалось бы, она и с Гастоном ровно ни в чем не согласна, и все же у них как-то находится общий язык. Гастон – кутила и вообще ведет такую жизнь, которая противоречит всем принципам, провозглашаемым его матерью, но он понимает ее, да и ей все в нем понятно. Оба младших очень трудолюбивые, очень скромные юноши, но никогда не угадаешь, что они могут выкинуть…
Например, свое поведение в тот вечер Леони Костадо считала безупречным: деньги, которые она несет сейчас домой, – это наследство ее сыновей, доставшееся им от отца, священный клад, доверенный ей как хранительнице; и она испытывала чувство законной гордости оттого, что сумела отвоевать их в упорной борьбе. А Люсьенна?.. Что ж, эти деньги все равно были бы для нее потеряны, попали бы в руки других кредиторов. «Так уж пусть лучше мои дети попользуются. А нынешний мой разговор с ней в такой неурочный час и в таких обстоятельствах… Я, конечно, понимаю, чувствую, как все это ужасно, но надо же смотреть на вещи здраво, и я скажу своим мальчикам истинную правду, да, да, я им скажу, что, может быть, я спасла жизнь Оскару Револю: благодаря мне Люсьенна помчалась в Леоньян. Будем надеяться, что она не опоздает…»
Но чем больше Леони обо всем этом думала, тем труднее было представить себе, что ответят ей сыновья. Лучше всего изобразить глубокое изумление: «Как! Вы даже не находите нужным поблагодарить меня!» Она нисколько не сомневалась, что сыновья будут возмущены. Ведь были два обстоятельства, о которых она умышленно старалась не думать: во-первых, любовь, связывавшая Робера и Розетту, а во-вторых, дружба между Пьером и Дени, – обстоятельство менее важное… Это еще неизвестно! Робер – такой нерешительный, безвольный… А Пьер сейчас в переходном возрасте и стал просто сумасшедший какой-то… иной раз даже страшно делается: пишет совершенно идиотские стихи, голова набита всякими нелепыми бреднями… Робер, надеюсь, поймет, что женитьба на Розетте для него теперь невозможна – со всех точек зрения невозможна. Даже если пренебречь позором, который, верно, обрушится на семейство Револю, и несомненным их разорением, то возникнет другое препятствие: сколько еще лет Роберу придется изучать медицину, прежде чем он начнет зарабатывать себе на хлеб? Надо кончить курс, потом отбывать стаж в больнице, потом сдать конкурсный экзамен… Только к тридцати годам он наконец встанет на ноги… Даже в интересах Розетты (надо именно на это напирать) он обязан вернуть ей свободу и не компрометировать девушку.
* * *
Наконец Леони Костадо дошла до своего дома, где она с сыновьями занимала два этажа – первый и второй… Поднимаясь по лестнице, она вспомнила, что Робер тоже собирался сегодня быть на балу у Фреди-Дюпонов. «Когда он заметит, что Розы нет, то, конечно, уедет. Его и так уж беспокоили слухи, распространившиеся нынче днем… Наверно, он уже дома…»
Нет, оказывается, Робер не вернулся.
Еще не сняв шляпу и каракулевый жакет, Леони Костадо отперла свой секретер, достала ключ от сейфа, привинченного к полу у изголовья ее кровати. Шкаф был «замаскирован под ночной столик», как говорил Пьер. Фальшивые ящики маскировали тяжелую стальную дверцу. Леони набрала шифр и, отворив шкаф, положила на полочку документ, подписанный Люсьенной Револю. Потом, захватив лампу, прошла по длинному коридору «на детскую половину».
В комнате младшего сына горел свет, и, по своему обыкновению, мать вошла, не постучавшись. Пьер читал в постели и, засыпая, не погасил лампу. Книга выскользнула из рук на одеяло. Пьер уснул в неудобной позе – полусидя и сильно запрокинув голову, как будто подставлял горло под нож. У изголовья на ночном столике лежали листочки бумаги, карандаш и раскрытая толстая тетрадь в красивом кожаном переплете. Свет от низенькой лампы падал на исписанную страницу, и каждая буква в ровных, аккуратных строчках была старательно выведена изящным почерком: Пьер всегда тщательно переписывал свои стихи. Вооружившись лорнетом, Леони Костадо с досадой разбирала написанные слова – все они как будто были ясными, а смысла она не могла уловить.
Кибела смотрит на спящего Атиса и думает:
- Спит Атис. Боги, прочь, – вас смолкнуть заклинаю.
- Исчезни, целый мир, – будить его не смей.
- Пусть руки стройные, как пара спящих змей,
- Раскинутся в тиши, земную плоть лаская, –
- Подобен смерти сон, но жизнь в себе таит.
- Страсть землю сотрясла. Спит юноша несмело, –
- И сон его хранит счастливая Кибела[1].
«Это еще что за чепуха? Что все это значит?» – сердито вопрошала себя Леони Костадо. Но почему эти стихи вызывали в ней такое раздражение?
- Пускай жужжанье мух баюкает тебя,
- Пусть петушиный крик разбудит на рассвете.
- Ты спишь, – не ведая, как стражду я, любя,
- Как тяжко небо мне, как гнет деревья эти
- Жестокой страсти вихрь, как слезы льют дожди,
- Ты спишь, о Атис мой, и бед моих не знаешь.
- Прекрасной Сангарис во сне ты обладаешь, –
- Песок ее постель, и волны льнут к груди.
- Мне не сравниться с ней. Мне чужда плоть земная.
- Секут меня моря, приливами терзая.
- Царица горькая, я не имею рук.
- Хочу – и не могу обнять тебя, мой друг.
- Я слишком велика. Мой облик дик и страшен,
- Венец из трав морских медузами украшен.
Почему у Леони Костадо поднималась в груди глухая, бешеная злоба и постыдное желание схватить и разорвать на мелкие клочки красивую тетрадь, купленную поэтом в «Английском магазине»? Она сама не понимала причину этого. Не знала она и того, что точно такие же с трудом сдерживаемые порывы ярости овладевали порою и Пьером и что в ту минуту, когда она почти ненавидела своего сына, между ними было глубокое сходство – не сходство ума и сердца, а той темной жажды разрушения, которой Леони Костадо сама боялась в себе. Она отошла от столика и постояла у окна, прижавшись лбом к стеклу. Пьер вскрикнул испуганно: «Кто тут?»
– Это я… Робер еще не вернулся?
– Нет еще. Но он скоро придет. Он хотел только на минутку заглянуть туда. Может, уже известно что-нибудь… – И Пьер широко зевнул, обнажив редкие зубы. – А ты что-нибудь узнала, мама?
– Да, я сейчас была у них.
– Что?! Ты ходила на Биржевую площадь?
Пьер окончательно проснулся и посмотрел на мать суровым и недоверчивым взглядом.
– Это был мой долг, – сказала она.
Пьер подумал: «Какое лицемерие!» Однако Леони Костадо действительно была глубоко убеждена, что она выполнила свой долг перед сыновьями, первейший свой долг. Да еще ей, может быть, удалось вовремя предупредить Люсьенну.
– И я очень хорошо сделала, что пошла к ним. Вообрази, ведь эта несчастная женщина ни о чем и не подозревала… Конечно, она за последнее время сильно тревожилась, но никак уж не думала, что близится катастрофа.
– Ну? И что же ты ей сказала?
Леони Костадо возмутилась: по какому праву он допрашивает мать, да еще таким тоном? Уж не подозревает ли он ее в неблаговидном поступке?
– Да нет, мама… Я просто хотел узнать…
– А я не обязана отдавать какому-то сопляку отчет в своих действиях. Я поговорю с Робером, когда он вернется. Спи! Чтоб я тебя больше не слышала!
И Леони Костадо вышла из комнаты, захватив с собой лампу. Но сейчас ею руководило не чувство гнева, она поняла, что лучше всего поговорить с Робером наедине, без этого бесноватого мальчишки. Едва она успела переодеться и накинуть на себя халат, как услышала неуверенный шорох у входной двери – Робер нащупывал ключом замочную скважину. Леони кашлянула, желая показать, что она не спит и поджидает сына. Он вошел, перебросив через руку пальто. И как всегда, Леони подумала о том, что фрак очень ему к лицу. Право, в высоком стройном Робере куда больше изящества, чем в коренастом Гастоне. И хотя Леони скорее нравились мужчины такого типа, как ее старший сын, она из чувства справедливости признавала, что в Робере больше тонкости и породистости…
– Разумеется, ее не было на балу, – сказал Робер с какими-то нерешительными, робкими интонациями, всегда раздражавшими его мать. – Видел там Жюльена, но издали, и не мог к нему пробраться. Кое-кто из приятелей уже дал ему почувствовать, что его присутствие неуместно… Я сейчас же помчался на Биржевую площадь и не застал их – они уехали.
В эту минуту вошел Пьер, босой, в пижаме, с всклокоченной шевелюрой.
Мадам Костадо раздраженно воскликнула:
– Я тебе что сказала? Я ведь велела тебе спать!
– А сон твоего веления не слушается. Взял да и не пришел.
Робер вяло запротестовал:
– Пьер, как тебе не стыдно! Зачем ты дерзишь?
Пьер крикнул в ответ:
– Уверен, что она не решилась признаться тебе, откуда она сейчас явилась, куда она ходила вечером…
– Как ты смеешь называть меня «она», когда говоришь обо мне, да еще в моем присутствии!..
Но Пьер, не обращая на мать внимания, продолжал:
– Она была на Биржевой площади, тайком от нас… Весь вечер там провела.
Робер посмотрел на мать. Красивое лицо его помрачнело.
– Ведь это неправда, мама?
Мать ответила вызывающим тоном:
– Почему же неправда? Правда.
– Ты видела мсье Револю?
– Нет, он в Леоньяне. Я это знала и знала также, зачем он туда отправился, а Люсьенна ничего не знала… Понятно вам? Я решила ее предостеречь, и благодаря мне она поехала в Леоньян… А то вдруг, не ровен час, Оскар наложит на себя руки… Я, может быть, спасла ему жизнь. Да, да, очень просто…
Робер тяжело вздохнул.
– Ну, раз его самого не было дома, ты, конечно, не стала говорить о наших деньгах…
Леони Костадо промолчала. А Пьер пробормотал:
– Как бы не так! Станет она стесняться.
– Повтори, Пьер! Повтори громко то, что ты сейчас сказал…
– Я сказал, что наверняка ты не постеснялась и говорила о деньгах. Ты только для этого и ходила туда.
Все шло именно так, как Леони Костадо и ожидала. Младшие сыновья выступали в роли ее судей, тогда как Гастон был бы восхищен и поблагодарил бы мать… А с этими мальчишками не избежать борьбы. Хотя она совершенно права.
И Леони Костадо бросилась в атаку:
– Я защищала не свои, а ваши деньги, доставшиеся вам от отца. И великодушничать я могла бы лишь в том случае, если б это был мой собственный капитал.
Робер прервал ее: раз этот капитал принадлежал им, сыновьям, значит, они вольны не требовать его…
– А ты о Гастоне подумал? Он ведь не связан такими соображениями, как вы. И потом не забывай, что Пьеру только восемнадцать лет… До его совершеннолетия я, как мать и опекунша, обязана защищать его интересы, сколько бы он там ни капризничал…
– Погоди, – остановил ее Робер. – Раз мсье Револю уехал, зачем же ты понапрасну мучила их?
Мать посмотрела на него жалостливым взглядом. Вот глупец! До чего беспомощны в житейских делах эти мальчишки, а воображают себя орлами!
– Успокойся, – сказала она, – у нас с Люсьенной был вполне дружеский разговор.
Робер осведомился, присутствовала ли при этом разговоре Розетта. Мадам Костадо отрицательно покачала головой.
– А Дени был? – спросил Пьер.
Нет, нет, оба вышли из комнаты, – Мадам Костадо ломала себе голову, как сказать сыновьям о своей победе. Нет, это просто невероятно! Мать должна чуть ли не на колени стать перед этими дурачками, для того чтобы сообщить им: «Наш нотариус обанкротился, но благодаря мне вы ни гроша не потеряли».
– Люсьенна, надо это признать, повела себя прекрасно, с большим благородством. Она сразу же поняла, что у ее мужа есть священные обязанности в отношении вас, сирот.
– Каких еще сирот? Мы вовсе не сироты! – возмутился Пьер. Он с детских лет ненавидел слова: «сирота», «сиротка», «сиротский».
– Люсьенна сама мне сказала, что она располагает как раз такой суммой, какую они нам должны – четыреста тысяч франков.
Пьер воскликнул:
– Удивительное совпадение!
Однако мать пропустила эту дерзость мимо ушей. Ее томила мысль, что пришлось унизиться до лжи, совсем не свойственной ее характеру. Но ведь на это ее толкнули «два дурачка», как называл своих братьев Гастон.
– Четыреста тысяч франков? – переспросил Робер дрогнувшим голосом. – Где же они их взяли? Таких денег при себе не держат.
Что за наивность! Леони Костадо пожала плечами.
– Разумеется, в кошельке у нее не имелось четырехсот тысяч. Но мне вполне было достаточно ее подписи…
– Это, думается мне, незаконно.
– Не беспокойся… Может быть, придется судиться с другими кредиторами… даже весьма вероятно, что придется… Но я имею гарантии и уверена, что выиграю процесс.
Робер ничего не ответил, и мать решила, что «все сошло благополучно».
– Понятно, я прежде всего посоветовалась со сведущим человеком – все обсудила с Лакостом, и мы с ним приняли необходимые меры предосторожности…
Ни Робер, ни Пьер не промолвили ни слова. Молчание их начало смущать Леони Костадо. Между нею и сыновьями лежала пропасть. Не к чему и пытаться заводить разговоры. Братья сидели рядышком в шезлонге, стоявшем у кровати. Оба понурили головы, и свет лампы бросал золотистые блики на их волосы, белокурые с рыжеватым отливом: из растрепавшейся во сне густой шевелюры Пьера выбивались крупные завитки, у Робера тщательно приглаженные щеткой волосы, разделенные ниточкой пробора, слегка вились на затылке.
– Как только я получу эти деньги, – сказал Робер, – я их передам им в полное распоряжение…




