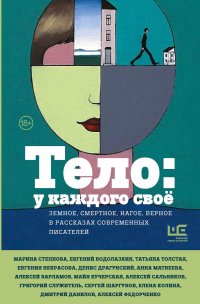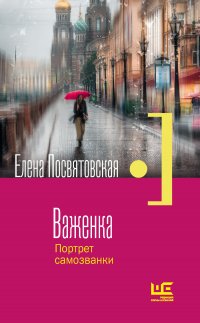Читать онлайн Жила Лиса в избушке бесплатно
- Все книги автора: Елена Посвятовская
Художник – Ирина Сальникова
В оформлении переплета использован фрагмент картины Аньоло Бронзино «Портрет Биа Медичи» (1542)
Серия «Женский почерк»
© Посвятовская Е. Н.
© Толстая Т. Н., предисловие
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Эта книга обречена на успех у читателя тонкого, чувствительного к оттенкам, ищущего в текстах мелкие, драгоценные детали.
Никто тут вас не завернет в сладкие одеяла так называемой доброты. Никто не разложит предсказуемый пасьянс: вот хорошая такая наша дама бубен, и вот как нехорошо с ней поступили злые дамы пик или валеты треф, ай-яй-яй.
Наоборот, скорее.
Нет тут хороших или плохих, есть разные люди с понятными и почти простительными слабостями, вот просто обстоятельства так складываются, что надо приврать и немного наподличать, и сверху еще немного приврать, но что же делать-то? – ведь мне нужнее, и я возьму. А вы – в следующий раз. Так как-то получается, что я себе дороже, чем вы, извините. И вы бы так сделали, если бы были немножко расторопнее, но вы раззява. Поплачем же вместе.
Это жизнь, это вот она так идет, бежит цветным потоком, закручивается воронками; и каждый-то со своим ведерком прыгает по камушкам, старается зачерпнуть себе удачи и везения. А на всех не хватает.
Прелесть этих новелл еще и в том, что в них центр повествования не привинчен намертво крепким сюжетным шурупом, но как бы сдвинут, растушеван, растекается, как акварель на мокрой бумаге. От этого и смыслы сдвигаются и двоятся, прокрашивая текст цветными пятнами.
Елена Посвятовская в этой, первой своей, книге выходит к читателю с прозой сразу высшего сорта; это шелк без добавки синтетики. Это настоящее.
Татьяна Толстая
Моим драгоценным родителям
Так и жили
Станция Харик
Свисток кондуктора, тревожно и торжественно загудел паровоз, мощный звук отсечки – пффффф. Всё, тронулись. Мимо медленно плывет дымная станция, засыпанная ночным белейшим снегом, обшитый тесом одноэтажный вокзал, нарядный от этого снега, сдвоенные окна под резными сандриками. Саша любуется ускользающими карнизами в пропильной резьбе, хотя два года назад, когда сошел здесь на перрон по месту распределения, был убит видом здания: барак, да и только. Такие же кружевные деревянные вокзалы и в Мариинске, и в Ачинске, в Канске, в Зиме один в один, говорят. На сотни транссибирских километров. Еще при царе строились, по типовому проекту. Новосибирск и Томск с таких начинались.
Чудесно пахнет гарью, и солнце пронизывает плацкарт через мутные стекла, от которых сквозит.
– Не пересядете на боковое? Нам бы позавтракать.
Саша не против: какая теперь разница, станция осталась позади. Мимо протопал кондуктор, отдуваясь, задел его краем тулупа. Свисток у него на цепи из гибкого шомпола. Немецкого. Эта мода у них сразу после войны пошла, двенадцать лет уже.
Такое необычное воскресенье. Конечно, Саша предпочел бы сейчас с женой Варенькой долго пить чай с оладьями, потом, пока подходит тесто на шанежки, гулять под тихими хлопьями по городу среди деревянных и каменных особнячков, построенных по радостной купеческой прихоти, за нарядными тисовыми воротами, с филенчатыми резными ставнями. Он помог бы беременной Вареньке отскрести половицы песком до желтизны. И сетку железную с буровой для этого привез, фильтр с дизеля. Но ничего, ничего, путь его недолгий – полтора часа до Харика, полтора обратно, дом нужный отыскать, поговорить там, чаю выпить. Засветло думал в Тулун вернуться.
Все равно уютно в мороз в жарком вагоне, текут за окном синие снега, провода чертят в небе, тайга подбегает к окнам, крутит белыми шапками перед носом. Одна из соседок лупит куриное яйцо, держа его в горстке, говорит негромко:
– …Умерла от пьянства, другие сожительницы не лучше. Он их отмоет, отчистит, к хозяйству приставит, хоть на женщин становятся похожи. Но если в праздник пригубят – всё. Не удержишь. Потом все заново: отмоет, отчистит, приставит…
Вернулся из туалета сосед в полосатой пижаме. Бросив мыльницу и полотенце на столик, убежал курить. «Шипр» прибил запах вареных яиц. В солнечном луче пляшут ворсинки от постелей. Стучат колеса, позвякивает ложечка, дрожит черный чай в серебряных ветках подстаканника.
Подстаканник этот снова напомнил Саше, куда мчит его поезд.
* * *
Тогда, два года назад, не в силах усидеть на месте, он сгреб стаканы со столика, сам понес к проводнице. Поезд подходил к столице. В вагоне суетились, сдавали белье, тянули чемоданы с высоких полок. Соседка кудряшками в зеркальце – то вправо, то влево, складывала губки.
– Москва, Москва, – дрожал вагонный воздух.
Из местных динамиков: «Утро красит нежным светом…»
В окнах мелькали подмосковные сосны, пригороды в тополиной метели, платформы Апрелевка, Катуар-Белавенец, Переделкино, Очаково, от названий кружилась голова, фруктовые сады, заборы, цистерны «С горки не спускать». Поезд замедлился – забилось сердце. Уже больше суток Саша ехал из Львова в Москву, чтобы там пересесть на поезд по месту своего распределения в Сибири. День в Москве – это непременно: Кремль, ВДНХ, Мавзолей, Университет на Ленинских. Он должен все посмотреть.
У титана тощий парень в круглых очках улыбался в откинутую форточку, взволнованно подергивая кадыком. Завидев проводницу, кинулся к ней наперерез:
– Скажите, нельзя у вас в Москве остановиться? На две ночи всего.
– Отчего ж нельзя, – проводница неторопливо прошла в тамбур.
Саша растерянно шагнул за ними, изумленный таким простым решением: ему ведь тоже негде ночевать. И ему всего на две ночи.
– А я? Мне можно? Тоже, – робея, влез между ними.
Проводница рассмеялась, качая головой: где же ты раньше был.
– Вам негде остановиться в Москве? – высокий мужчина в светлом однобортном костюме курил в тамбуре.
Саша видел его в первый раз. Видимо, из соседнего купейного.
– Андрей Андреевич, – мужчина широким взмахом протянул ладонь. – Будем знакомы.
На перроне, пока хлопотали с багажом, Саша восхищенно рассматривал полукруглую стеклянную крышу в тонких стальных арках. Грандиозный металлический купол словно парил в воздухе. Похожий дебаркадер и во Львове, но он другой, другой…
– Вы впервые в Москве? – улыбалась Наташа, белокурая жена Андрея Андреевича, модная, нежная.
Саша стеснялся ее полупрозрачной блузки с рукавами-фонариками, брошь под воротничком, отвечал в сторону. Он вообще не знал, куда ему смотреть. Звон трамваев, автомобили гудят резко, часто, все бегут. Из высоких, широких дверей вокзала выплескивается толпа: военные, школьники, молодежь, сельские жители, навьюченные тюками, мешками, корзинами, спешат на рынки, торговать молоком, цветами, зеленью. Продавцы с лотками-тележками «Воды», «Мороженое», запах мокрого асфальта после поливалки.
Саша задохнулся от вида высотки напротив: улетела тонким шпилем в синее небо – университет, должно быть.
- Никем непобедимая…
Усаживаясь в такси, успел увидеть черных каменных орлов, что собирались взлететь с башни вокзала по всем сторонам света. Не стереть улыбку с губ – Москва во все окна, – кружатся высотки, набережные, раскинулись широкие проспекты, солнечные пятна, у девушек белые носочки. Во Львове тоже эта мода, но здесь… Ахнул на семиместный черный «ЗИС»-кабриолет с шашечками по борту:
– Такси?
– Нет у вас таких? – радуется Наташа.
Ветер в окно – растрепал чуб. Запах у Москвы другой – холоднее, свежее. Непонятно, что так пахнет: сам воздух, или цветут здесь какие-то невиданные в их краях деревья, нарядные, с блестящей темной кроной, или это духи ее.
– А знаете, почему этот трамвай называется «Аннушкой»?
Он не смотрел на нее – взглядывал, краем глаза следил за ее тихой грацией: необыкновенная. Шляпка на затылке и летние перчатки. Смешно: он украдкой изучает их, они все время поглядывают на него, проверяя впечатление от города, делятся с ним этим городом, щедрые души.
- Страна моя, Москва моя,
- ты – самая любимая!
На заднем сиденье «Победы» поет Сашина душа.
Он немного огорчился, когда центр вдруг кончился и за окнами автомобиля снова замелькали окраины, дачные поселки, станции.
– …считай, Москва. Тридцать минут на электричке, и ты на вокзале в центре, – затылок у Андрея Андреевича безукоризненно подбрит. – Максимум тридцать пять.
– А вот наша школа. Андрей Андреевич – директор, я – завуч, – Наташа протягивает руку к его окну.
Саша не дышит – кремовая перчатка у его лица.
Домик у Никитиных свой. Вокруг небольшой сад, грядки, цветы. Крохотная усадьба уютно огорожена штакетником. Крыша над дубовым колодцем с дверцами.
Навстречу на крыльцо выбежали две девочки-близняшки лет шести. Тонкие, легкие бабочки. Визжали, смеялись, повиснув на родителях, тянули в дом за чемоданы. Саша любовался, завидовал.
* * *
Он проснулся утром от громких криков старьевщика за окном:
– Старыйвещ, старыйвещ. Киньте в меня чем-нибудь за то, что разбудил вас в такую ран.
Не открывая глаз, Саша улыбался в подушку, вспоминая, как вчера, когда их отправили в лавку за вином и хлебом, девочки тараторили ему про этого старика на телеге, запряженной старой клячей.
– Он меняет старое на глиняные свистульки или колечки с красным камушком. Колечки латунные, но бабушка их не разрешает, а свистулек у нас уже пять. Папочка в прошлом году дал нам дырявые валенки, чтобы на колечко, только тшшшш… А Лика, Лика сразу потеряла его во дворе у сарая, мы ищем уже второе лето.
Продавщица длинным литровым черпаком берет керосин из фляги, льет его через воронку в пустую бутылку из-под шампанского, вытирает руку о тряпку на прилавке. Подает им еще буханку, пахнущую керосином и мылом. Саша с девочками выходят из лавки на темную от зелени улочку.
А днем была Москва, и об этом помнят ноги, гудят об этом. Длинная очередь в Мавзолей, Ленин, Сталин, а в метро так дивно пахнет. Наташа смеется его рассказам об одеколоне из автомата на ВДНХ. Бросил 15 копеек, а он – пшшшик.
– В галантерейном на Революции такой же.
Накануне отъезда Саша сунулся в чемодан за фотографией: Андрей Андреевич предложил обменяться. Вскрикнул над ровненькими выглаженными стопками своих вещей: ах, Наташа. И неловко, и радостно. Выпрямился, стоял посредине комнаты, качая головой. Он так любил их теперь: и Наташу, и девочек, и Андрея Андреевича. Каждого по отдельности и всех вместе. Три дня, всего-то три дня, какие изумительные люди!
Долго сидели на веранде под оранжевым светом абажура: винегрет, мелкий частик в томате в банке с отогнутой крышкой, «Московская особая», вся жизнь впереди. Девочки крутили ручку патефона.
Уложив их, курили папиросы на крыльце. Наташа нежно выводила в темный вечер:
- – Ночь коротка, спят облака…
* * *
Харик – деревня деревней против Тулуна. Нет и в помине узорочья особнячков когда-то богатого и вольного Тулуна, мрачноватых усадеб с глухими заборами, высокими воротами под двускатной крышей. Так строили от каторжников беглых, воров, лихих людей – Сибирь, такое дело. Харик же разбежался от полустанка, лет шестьдесят всего. Дома все поновее, попроще, штакетник, иногда сквозные заборы из жердей.
Столбики дымов над избами, ни ветерка, тишина воскресного полудня. Саша спросил у бабы в телогрейке, где такой-то дом. Звякнули дужки ведер, поставленных на снег, показала рукавицей, куда ему. Потом долго смотрела Саше вслед.
Месяц назад он получил письмо от Андрея Андреевича. Улыбался, разрывая конверт, думал, благодарность за омуля байкальского, которого недавно передал ему с оказией. В июле они гостили с Варенькой у Никитиных, и выпивший Андрей Андреевич сильно пенял Саше, что тот явился к нему без омуля.
– Исправлюсь, – обещал Саша.
Андрей Андреевич писал, что в конце лета Наташа трагически погибла – попала под электричку на их же станции. Он остался с девочками один, мечется, затравлен горем и хлопотами и вынужден открыть Саше давнюю тайну, которую скрывал и намерен скрывать дальше от своих близких.
«С 42-го по 44-й, – писал он, – железнодорожные войска, в которых я служил, вели работы на станции Харик, это 80 км от Тулуна. Я сошелся с женщиной, дети родились. Сыну сейчас должно быть четырнадцать, девочке – тринадцать».
Андрей Андреевич покинул семью и перевелся в другую часть, когда жена начала пить. Офицер, капитан, как жить с пьянчужкой. Ничего не поделаешь: боролся как мог – нет, не вышло. Сейчас просил Сашу об одолжении: съездить к бывшей жене, посмотреть, как там они, все ли хорошо, оставить денег сколько найдется – все вернет, конечно, все вернет. Рассказать семье, что с ним произошло, прощупать осторожно почву, готовы ли они переехать в Москву. Адрес дать.
«Если же увидишь, что пьет нещадно или вовсе спилась, – ничего не рассказывай, ни адреса, ни денег не надо, уезжай оттуда поскорее».
У нужного дома развесистая береза в инее, поленница у палисадника тихо укутана снегом, скрип снега под валенками. Хлопнула синяя калитка. Оттуда выбежала вдруг девчонка, замерла перед Сашей как вкопанная, зажмурилась на солнце: вы к кому?
– А мама вон. Расколотку делает, – махнула девчонка на крыльцо.
Саша шел к дому и думал, что девчонка морщит носик точь-в-точь как близняшки. Он раньше и не думал, что замечает, знает, как они это делают, а вот знает. Женщина на крыльце, занятая расколоткой, даже не повернула головы в его сторону. Пиджак на цветастое платье, белый платок тугим узлом на затылке. Стоя на нижней ступеньке, ударила обухом топора замороженную рыбину прямо на досках крыльца, собрала в миску расколовшиеся кусочки. Обычно здесь заворачивали ледяную селедку или омуля в тряпицу, чтобы не разлетались от топора, но женщина ударила так, что рыба, расколовшись, осталась на месте.
– Здравствуйте, Валентина Егоровна, – ясным голосом.
Распрямившись, окинула его тяжелым взглядом и молча пошла в избу.
Дом был обычный пятистенок, хороший дом. Внутри натоплено, прибрано, уютно пахнет шаньгами, самогон на столе. На окне швейная машинка, герань, занавесочки, пол до белизны отскоблили вчера. За столом сидела молодуха, примерно хозяйкиных лет, светлые косы над чистым лбом, вздернутый носик, сережки рубиновые. Вытаращила глаза на Сашу.
– Вот, Манча, парня к нам какого браинького прибило, – насмешливо произнесла Валентина, проходя к столу. – С самой Москвы будет. От мужа моего Андрея Андреевича, видать.
Саша ахнул внутри, но виду не подал: ведь ни слова еще не произнес. Маня крутила головой в восхищении, причитала визгливо:
– Как угадали к столу-то. Только сели мы.
Вскочила, обтерев табурет подолом, пододвинула его к Саше. Валентина ловко чистила расколотку от кожи и костей – они легко отходили от чуть подтаявшей рыбы.
– Милое дело под водочку, – Маня сыпанула соли с перцем прямо на стол, не отпуская глазами его запонки, потом все время трогала светлую корону кос. – Сюда макайте и сразу в рот. Быстро будем есть, пока не растаяла. Что же сидите, как на свадьбе, – наливайте.
Что-то победное мелькнуло в глазах хозяйки, когда Саша признался, что он здесь по поручению Андрея Андреевича, – лицо ее расправилось, помолодело. Разговор шел трудный, спотыкался, стоял, тогда тараторила Маня, сбивая с главного.
– …Золой стирали, губой еще березовой. Иной раз до сих пор так… А что же чибрики не едите?
Чибриками тут называли картофельные оладьи, это он уже знал.
После третьей закурили. Когда он произнес, что Андрей Андреевич остался один с близняшками, женщины переглянулись. Потом добавил, что он там в Москве будет рад их видеть, а вот адрес давать Саше вдруг расхотелось. Он замолчал, тоже курил и еще отчего-то избегал говорить о Наташе, как будто этим мог ее предать, память о ней. Но Валентина сама переменила тему, словно хотела получать эти дальние новости понемногу, не вот так – все сразу. Хорохорилась, рассказывая, что у нее и детей все хорошо, дети кружки в школе посещают, Сонька учится так вообще без троек. Она сама зарабатывает неплохо – на нефтебазе складами заведует, но деньги, которые Саша положил на край стола, возьмет, отчего же не взять-то. Разрумянилась от водки и долгожданного внимания.
– Ну а сам-то откуда будешь? – постукивала огурцом о край миски, стряхивала рассол.
Делала вид, что неинтересно ей больше об Андрее Андреевиче, да и вообще, что он там о себе возомнил в своей Москве. Встала в печь подбросить, качнулась. Когда задергивала занавески рядом с этажеркой, то незаметно опрокинула в кружево салфетки чей-то портрет. Стукнула второй бутылкой об стол – плесканул в ней переливчатый самогон.
– Пусть не думает, что мы тут без него загибаемся, а, Мань?! Мы загибаемся?
Глазки строили по-разному: Валентина – в открытую, Маня – украдкой, как будто за хозяйкиной спиной: побаивалась, видимо, сильную подругу. Валентина, не отрывая от Саши хмельного взгляда, подпирала подбородок кулаком, чуть покачивалась на этом кулаке:
– Нету сегодня уже никаких поездов на Тулун. Здесь тебе ночевать. Без ни-ка-ких…
Слушали уже невнимательно, вскоре заголосили:
- – По диким степям Забайкалья…
- где золото моют в горах…
Пели нехорошо, пьяно. В избе накурено, черный кот пронзительным желтым взглядом смотрит с пестрого половика. Саша вдруг затосковал по дому, по Вареньке, придумывал, как уйти без скандала.
Маня, набросив шубейку, кинулась к себе за патефоном.
– Не нужен мне он, – мотала головой Валентина. – А вот деньги пусть шлет. Пригодятся нам.
Хрипло захохотала.
Саша, отодвинув табурет, поднялся со словами благодарности: пора и честь знать. Решительно шагнул к дверям. Он боялся, что она кинется вслед за ним, станет тащить его назад, уговаривать, некрасивой сцены боялся. Но Валентина оборвала смех, еще немного посидела за столом, пока он одевался. Молча подошла, уже не качалась, стояла рядом, смотрела задумчиво. Он еще раз благодарил, все еще опасаясь, бедром толкнул дверь в сени.
– Стало быть, адрес ты мне не дашь? – произнесла медленно.
– Не дам, – твердо ответил Саша. – Андрей Андреевич сам вам напишет.
По пути на станцию заплутал немного в темных улочках Харика. Брехали собаки, играла далекая гармошка.
- А ветер ему отвечает:
- напрасно, бродяга, бежишь…
Дома его ждала телеграмма от Андрея Андреевича: «Адрес не давай».
* * *
С бьющимся сердцем Саша завернул за угол и сразу понял, что в доме гуляют. Окна-двери нараспашку, солнечный ветер треплет легкие занавески так, что кажется, старый темный дом взлетит на их тонких крылышках. На крылечке, где когда-то сидели с Наташей, курят, галдят нещадно. Ах, как жаль, он-то надеялся посидеть с Андреем Андреевичем, выпить спокойно, проездом ведь – всего ночь у него.
Андрей Андреевич, отшвырнув папиросу к крыльцу, уже спешил ему навстречу, раскинув руки.
– Са-а-аша, ну ты как всегда, как снег на голову! Какими судьбами, дорогой? Вот кстати ты, вот кстати! Как чувствовал, чертяка, – Андрей Андреевич в белой нейлоновой рубашке, высокий, сухой, с силой обнимал Сашу, смеялся белозубо. – Родился я сегодня. Да, да, прямо сегодня!
В ближнем окне мелькнули светлые головы близняшек, вскрик, визг, ссыпались с крыльца навстречу, голенастые, повисли по бокам. Волосы у них выгорели в хрусткую соломку. Тянул носом солнце из макушек, справа, слева.
– Вчера был ливень, Саша, и у соседей в бочке утонул котенок. Он прыгнул с подоконника или соскользнул, никто не знает, а бочка рядом с окном, как эта… деревянная. Дождь хлестал, мы так плакали, так плакали. Ты надолго к нам? Его похоронили в обувной коробке, но где – нам не говорят. Через неделю нам одиннадцать. А Варенька с малышкой?
– Девчонки, да вы ему костюм помнете! Саша, ну ты польский пан настоящий! С Украины проездом? Шляпа, ботиночки. Впрочем, ты всегда… – Андрей Андреевич тянул его в дом, на ходу знакомя с гостями.
У бывшей ученицы Андрея Андреевича кареглазой Али ямочки на персиковых щеках. Они поженились почти сразу после несчастья – никто и словом не обмолвился: как одному с двумя девочками? Пока мыли посуду после гостей, она расспрашивала Сашу о Вареньке и дочке, хорошо ли с продовольствием на новом месте, не скучно ли в поселке большими зимами. Андрей Андреевич помогал, таскал все с веранды, перебивая их, звал Сашу пойти еще выпить на уже убранном столе.
– Я оставил там шпроты и сырку подрезал.
Пока носил со стола, разбил две розетки, и Аля в сердцах махнула на него полотенцем: идите садитесь уже.
– Многовато выпили, – вздохнула у Сашиного плеча.
Он покосился на нее: нормальная эта Аля, кстати, пухленькая, незлая, к девочкам хорошо. Вот только передник Наташин опять на ней – отвел глаза.
* * *
А на веранде Андрей Андреевич вдруг заговорил о том, что случилось тогда, три года назад. Саша запротестовал было, но хозяина не остановить: права Аля, перебрали с водкой. Он рассказывал о том, что с трудом удержался на директорском месте. Крупные неприятности пошли после того, как Наташа бросилась под электричку, покончила жизнь. Ни о девочках, ни о ком не подумала.
– Ну куда ты вскочил? Сядь. Что так тебя поразило? Все бабы – одно и то же, все. Приехал к родителям тем летом забирать ее и девочек, а она… – Андрей Андреевич, ослабив галстук, постукивал папиросой по пачке «Казбека». – Главное, с другом моим, в одном классе все десять лет. Саша, хватит бегать вокруг, иди еще бутылку неси. В сарае сразу слева в ведре.
Саша еле нашел эту бутылку – в сарае темень хоть глаза коли. Поскользнулся два раза на мокрой траве, пока брел обратно к дому на белеющую в темноте рубашку Андрея Андреевича.
Он шел так долго, целую вечность, что забыл, где он, запутался в пьяных рваных мыслях, в мглистой ночи, ошеломленный вдруг открывшимся ему другим мироустройством. Жизнь до этой ночи была простой и понятной: мама, отец, от вишен и слив ветви до земли, война, оккупация, политех после школы, Варенька, у дочки – его глаза, пробуренные метры, забой. Теперь он подозревал всех не то чтобы в вероломстве – нет-нет, только не думать о Наташе, – но в какой-то двойной жизни, в существовании непременной тени за спиной, и есть ли у него, Саши, эта вторая темная жизнь, которая, может статься, и есть истинная, и почему в свои двадцать семь он впервые думает об этом? А может быть, это Андрей Андреевич выкрикнул ей, что лучше умереть? Штанины потемнели внизу от росы.
Пить решили на крыльце, чтобы всех не перебудить. За стопками не пошли.
– Так дунем, – Андрей Андреевич, хохотнув, жадно припал к горлышку, как воду пил. Ткнувшись в нейлоновый локоть, тянул воздух. – Как меня Алечка поддержала, когда рвали меня тут на части из-за Наташи, все вынесла, дом, дети на ней… Не могу я ее подвести, понимаешь? Она не должна ничего узнать, и никто не должен.
Саша вяло отмахнулся:
– Да, Андрей Андреевич, о чем вы? – покачал головой, отказываясь от водки.
Андрей Андреевич снова, запрокинув голову, ушел назад с бутылкой, потом закурил:
– Скажет, врал столько лет… Я ведь опять как бы в гору, что ли. Мне сейчас никак нельзя… В Москву вот обещали перевести.
Он повернул белое лицо к Саше, придвинулся ближе по ступеньке. Обняв его за плечи, сказал вдруг с сердечной мукой:
– Ох, Александр, лучше бы тебе в этом доме не появляться. Устал я бояться. Так-то вот.
На рассвете Саша лежал на раскладушке и думал, что дома хозяйка тетя Дора, у которой они снимали комнату, уже спохватилась с утра:
– Ой, батюшки, нако я чаю сегодня еще не пила! Думаю, чё так голова разболелась.
И сейчас они садятся с Варенькой за стол. Варенька тянет из блюдца сладкий чай, косится глазом на дочку, которая играет рядом на желтых половицах.
Пели петухи, загремела бидонами соседка, одна из близняшек вдруг вскрикнула во сне: «Мама». Но Саша уже не слышал этого. С чемоданом в руке он быстро шагал к станции в молочном свете подмосковного утра.
Жила лиса в избушке
В канун ноябрьских мама забрала Лису из садика пораньше. В синих сумерках так весело было хрустеть снегом, давить валенками алмазный блеск под фонарями. У Лисы валенки, а вот у мамы, ах, у мамы – оленьи унты настоящие, отделанные сверху разноцветным бисером: на черном фоне летят по кругу серебристые олени между зелеными елочками, на бархатистом небе там выпуклые звезды золотом, а земля волнистая, как море, – так, наверное, сугробы показаны. Особенно хороши елочки – плотные, стеклянные. «Вот вырастешь…» – говорит мама. Лиса вздыхает: сколько же еще расти, чтобы унты, красные клипсы, сделать завивку, как у Антоновой из пятой квартиры. Между фонарями Лиса ускоряется, тянет маму за руку: скорее под свет – скрипеть снежными звездами. Серый забор в толстенном инее кренится к дорожке. Лиса успевает проехать варежкой по нежной игольчатой замше.
Одно счастье набегает на другое: дома сейчас сладкую колбасу делать, шоколадную, мама обещала, три дня потом в садик не надо, в воскресенье на демонстрацию с папиной экспедицией, шары, флаги потрескивают, мимо трибун по площади, ура, товарищи, ур-р-р-р-ра-а-а-а-а, сладко замирает сердце, вечером гости-гостинцы, шум-гам, звон вилок, пахнет едой и белой сиренью, курят на кухне, Лиса в туфельках, а по ним форточный холод, крутятся катушки магнитофона: «Как единственной на свете королеве красоты».
– На прогулке они плюнули Вадику прямо на пальто. Плевки сразу замерзли. Я ему палочкой их потом отковыривала.
Мама качает песцовой головой.
– Не разговаривай на морозе, – говорит мама.
Ну какой же это мороз? Весь мороз впереди, Лиса помнит с прошлого года. Каждое утро в семь часов папа бросается к радио, крутит ручку, машет рукой: тише, ребята, погода. Ребята таращат глаза – понимаем, мол, – пружинят на тихих цыпочках, пока прогноз по районам. О погоде в городе в самом конце, мама замирает совсем, минус семнадцать сегодня.
Дом деревянный на восемь квартир. Долго стучат ногами у порога, отряхивая снег. Мама расстраивается: кто-то расплескал воду, пока нес с колонки, – крыльцо обледенело, скользит. Бабка Клиросова, не иначе. Бабка старенькая, дверная пружина трудная, что поделаешь.
– Хорошо не помои, – бормочет мама.
Пока ждут папу с работы и Олю с музыки, принимаются за колбасу. Лиса радуется, что начали без Оли, – так ей и надо, музыканша выискалась.
– Мамочка, я открываю печенье? – поет Лиса, уже стянув скользкую желто-красную обертку с «Юбилейного».
Знак качества похож на безголового человечка, руки-ноги в стороны, как в садике на зарядке. Ровненькие ряды печенья туманно просвечивают за вторым матовым слоем.
– Без меня? – кричит Оля, пробежав в валенках на середину кухни.
Мама топит в кастрюле желтые бруски масла с какао, молча распахивает глаза на эти валенки в кухне, Лиса неодобрительно качает головой: совсем уже эта Оля.
Та в сердцах швыряет на стол серую нотную папку с разлохматившимися завязками, убегает в прихожую. Оттуда уже возмущается, кричит, кричит. Лиса трогает папку: морозная какая, запотела даже, тисненый переплет пахнет клеем.
- – У ле-са на о-пу-шке,
– Лиса ломает печенье в эмалированную миску.
Бьет в такт пятками в колготках по ящику, на котором сидит, он повыше табуреток и сделан папой специально для Лисы. В ящике много чего: банки со сгущенкой, вареньем, печенье, чай, сухое молоко, свечи, скатерти с полотенцами.
- – Жи-ла зи-ма в из-буш-ке,
– подхватывает тоненько задавала Оля.
Она рядом на досочке мельчит грецкие орехи, красные пальцы еще не отошли с мороза. Сестры приглядывают друг за другом, советы дают. Мама улыбается от плиты, но ко второй строчке уже с ними:
- – Она снеж-ки со-ли-ла в бе-ре-зо-вой
- ка-душ-ке…
Что за чудо-песня, что за вечер!
Прибежала Антонова из пятой, нашумела, накричала: мясо в город завезли к празднику, сидите тут, завтра во всех магазинах давать будут, много мяса, на всех должно. На Антоновой розовый стеганый халат с круглым воротничком, невесомый как будто – глаз не оторвать, – счастливая эта Антонова, хоть и крикуша.
Мама кивает: знаем-знаем, завтра решили в шесть утра идти, но не на Пятак, там весь город будет, к себе пойдем, в семнадцатый магазин – поближе греться бегать.
Антонова возмущенно перебивает маму, хватает у Лисы из миски ломаное печенье:
– Какое? Мой вон сейчас уже пошел, в семнадцатый и пошел, беги к нему вставай, там народ решил с ночи занимать.
– Мишу дождусь, – волнуется мама.
Мясо Лиса любит, уважает очень: и в пельменях, и с картошкой, и жареное, вот только вареное – беее. Мясо – страшный дефицит, почти не бывает в магазинах, а когда бывает, надо несколько часов в очереди торчать. Даже ей, маленькой. Мама толкает ее к прилавку: я с ребенком. Тогда и на Лису дают товары. Но ночью в магазин! Лиса заглядывает маме в глаза: а я, я пойду?
– Все пойдут, – решает папа. – Только утром. Я займу на вас, предупрежу очередь, а вы утром подходите к открытию.
Папу провожали всей семьей. Он утеплился как мог: несколько свитеров, унты летчицкие, из черной овчины на ремнях. Мама грустно смеется и проводит ладонью по пуговицам тулупа. Лиса кружится с его меховой шапкой в руках, что-то говорит ей, поет.
– Па, ты чё прямо всю ночь на улице? – не верит Оля.
– А что делать, дочь? Мясо хочешь? – глаза папы смеются.
– Да, но мне тебя жалко, – Оля морщит нос.
Папа притягивает за шею долговязую Олю и маму: девочки мои. Красная от ревности Лиса проталкивается к его ногам, обхватывает их, не выпуская из рук шапки.
* * *
Шоколадное месиво с орехами и печеньем остыло, и мама лепит из него колбасу. Тихонечко мурлычет под нос, а сонная Лиса за столом склоняет рыжие кудри то вправо, то влево, любуясь ею. Русые волнистые волосы, прихвачены невидимками за ушами, легкий ситцевый халат – как подошел бы ей тот стеганый, антоновский, – а руки, ее белые руки взлетают, повисают, волнуются. Ногти запилены остренько, а когда мама разрезает полиэтиленовые пакеты, чтобы заворачивать в них колбасу, ее рот движется в такт ножницам, помогает им. Лиса щелкает маленькой челюстью, повторяет.
За маминой спиной в черном окне висит луна.
Пришла Оля с книгой в руках, зевнула: скоро? Мама выкладывает остатки шоколадной массы на полиэтиленовые дорожки, и вот он, сладкий миг: протягивает кастрюлю девочкам – доскрести, долизать коричневую прелесть по стенкам. Там специально много, ах, мама.
Оля уже давно мирно посапывала, а Лиса все вертелась, рыжие кудри по подушке, вздыхала и раздумывала, что вот не было человека, ее, например, Лисы, а теперь она есть, сотворилась, живая и теплая, из черноты какой-то, та сомкнулась за ее спиной и колышется немного студнем, потом затихает, точно круги после камня на ржавом торфяном болотце у бабушки. Лиса помнит себя с двух лет. Ее первое воспоминание: кто-то идет по заснеженной дорожке от подъезда к сараям, может, даже папа, может быть, мама отправила его туда за замороженными булочками с брусникой. Она смотрит на эту дорожку со стороны и немного сверху, как будто она фонарь, и отчаянно пытается понять, откуда она взялась, что было до нее, раньше, что там в этой бездне за спиной, почему она ничего не помнит и куда летит эта ослепительная жизнь – но спросить невозможно, она не умеет говорить. Когда научилась, то мама не понимала, о чем она, и Оля закатывала глаза и обидно крутила у виска. Несколько раз с разных сторон заводила Лиса разговор, но ответа не добилась. Даже папа развел руками: не может человек помнить себя в два года.
– Ой, выдумает же, – смеется мама.
Вот и остался вопрос на ее подушке. Выходит, она умнее Оли, умнее мамы с папой? В школе скоро должны объяснить, решает Лиса, и о черных безднах, между которыми живут они, люди, и о том, почему так сверкает под фонарями снег.
Дальше она думала о том, что все-таки слабый человек этот Вадик Вьюн и прилип к ней, как банный лист, не оторвать, и вовсе она не нанималась от него плевки отколупывать, из жалости просто, у нее своя личная жизнь, ей вообще завтра за мясом.
Ночью Лиса проснулась от тихих разговоров на кухне. Прошлепала посмотреть, но до кухни не дошла, остановилась, когда слова стали разборчивыми. Слушала с закрытыми глазами, маленькое привидение в длинной белой рубахе.
– Мяса, сказали, много, должно, должно хватить. В центре костры у магазинов жгут, греются. Ну, мужики услышали, собрали вокруг ящики, деревяшек каких-то, и тоже запалили. Только сгорает влет, за поленьями вот по очереди ходим. Народ подружился, легко друг друга отпускает чаю попить. Завтра все же пораньше давайте, чтобы пустили в очередь. Может, еще под утро приду.
– Думала завтра готовить весь день, праздник все-таки.
– Не получится, милая, народу много, весь день простоим. Это точно. А готовить – что готовить, придем – мяска поджарим.
Мама смеется тихо и счастливо. Лиса поворачивается и, не открывая глаз, идет в кровать.
* * *
Утром были дружные. Закутались, как будто январь на дворе. Лиса послушно натянула на колготки две пары рейтуз, перехватила их на поясе обычной резинкой, чтобы не спадали, загнула края вниз, жирный валик вокруг талии.
– Ничего-ничего, свитерочек сверху, – подбадривает мама.
Вдобавок ко всему поверх шубы мама завязала пуховый платок крест-накрест: просто дойти, доченька, в магазине снимем сразу. На улице нежный мороз – только по глазам ударил легонько. И платок, и горячий сладкий чай на завтрак, хлеб с маслом превратили его в ненастоящий. Полгода назад Лиса обожгла ладонь до пузырей, в первый миг было также непонятно – жарко-холодно, все вместе. Печальная луна над пухлой теплотрассой заливала безмолвный синий снег.
У магазина ускорили шаг: что там? как там? Почти бежали уже. Перед крыльцом догорали угли костра. Вокруг валялись деревянные ящики, на которых, видимо, сидели ночные дежурные. Ровно в восемь запустили. В гастрономе тепло – позорный платок долой. Где начало очереди, где конец, ничего не понятно, не видно, толпятся, качаются люди-деревья, гул магазинный.
– Граждане, все знают свою очередь, становитесь, как стояли.
– По два кэгэ в руки. В лотке сколько? Ну, человека на четыре, на пять.
– В кассу вроде не гоняют. Прямо там платить.
– Не обрезаю, нет. Ну, если совсем уж желтый. А так с жирком и через мясорубку.
– Самое главное, взбить фарш. Вот тогда воздушные. Это самое главное. Как чем? Ручками. Месить, месить.
– Иди вон туда к батарее. К девочке. Постой там, – мама волнуется из-за давки, прижимает Лису к себе. – Хочешь, шапку снимем?
– Это моя дочка, – женщина впереди обернулась. – Иди-иди, познакомитесь с ней.
Всю жизнь мечтала, думает Лиса, проталкиваясь к батарее. Девчонка Лисе вообще не понравилась. Пухлая какая-то, смотрит ехидненько. Под меховой шапкой у нее еще белая пуховая, Лиса мечтает о такой, у нее самой платок простой под шапкой – воображала, а не девочка. На Маринку Мацышину похожа. Та в прошлых гостях съела с торта все шляпки от грибков, торт заказывали, не государственный, перемазалась желтым кремом и пошла играть на пианино, ну, как играть – елозила масляными пальцами по чистым клавишам, Лису затошнило даже. Дома заявила маме, что больше в гости не пойдет, по крайней мере туда, где Мацышина.
Два раза бегали с Олей домой: в туалет и перекусить.
– Оля, а ты хотела бы быть… – Лиса пинает валенком мерзлый комок.
Он полетел неожиданно далеко по утоптанной снежной дорожке. Лиса с интересом следила, где он остановится, уворачиваясь глазами от желтых собачьих меток.
Дома быстро открыли форточку, и Оля залезла поварешкой далеко вдоль подоконника нагрести снега, чтобы чистый. Лиса уже налила сгущенки в две пиалки, облизав банку, ждала снег сверху. Ели медленно, молча, только ложек перестук.
– Докажь, как мороженое.
– Угу, – подтверждает Оля.
* * *
– Мам, ну, когда, – ноет девчонка впереди, раскачивает двумя руками материн локоть.
– Десять человек осталось, Аллочка, – приглушая голос, уговаривает женщина.
Лиса тоже устала, шесть вечера уже, но держится с достоинством, презрительно смотрит на толстушку: позорница так ныть. Прислоняет лоб к витрине холодильника, тот гудит тихонечко, внутри скучные пирамидки из маргариновых пачек, кости в лотках. Но интересное уже просматривается за его мутноватыми стеклами – рядом с продавщицей в засаленном фартуке огромный пень, на котором иногда рубят мясо прямо при людях. Но сейчас мясо выносят откуда-то на легких железных лотках, уже разрубленное и разложенное по порциям, и пень пустует, весь в костяных кровавых крошках. Лисе жутко, но глаз не оторвать. И все сильнее тянет этими лотками с мясом, еще так пахнут железные поддоны в молочном, мокрые от молока, такой странный теплый запах.
– Я в туалет хочу, – вдруг решает Аллочка.
Женщина всплеснула руками, склонилась к ее лицу, горячим шепотом что-то быстро-быстро. У Аллочки полились слезы. Лисе ее уже жалко: бедняжка девочка. Между прочим, никакого туалета рядом нет – все под сваи соседнего дома бегают.
– Да успеете, – вмешалась мама. – Десять человек еще… восемь.
– Нас не пустят обратно, – женщина в растерянности смотрит на угрюмую толпу, покачивающуюся сзади. – Как пробираться…
– Да бегите уже, – папа в сердцах мотнул головой в сторону двери.
Девчонка зарыдала в голос. Мать, схватив ее за руку, с прощальным отчаянием взглянула на родителей, и они врезались в живую стену.
У продавщицы шапка ондатровая, а в горле халата кофта мохеровая, лимонная. Неожиданно она начинает работать быстрее: замелькали серые нарукавники, щелкают счеты, над их костяшками Лисе уже видны мокрые распухшие пальцы с широким золотым кольцом, звякает мелочь в блюдце. Родители проснулись, ожили. Папа подготовился: достал деньги, зажал их в кулаке. Мама все время поглядывает на него, строит жалобные рожицы, на девочку похожа. Лиса понимает: нервничает. Папа прикрывает глаза в знак поддержки: скоро-скоро, милая. Так он всегда.
Впереди три человека. Продавщица вдруг как заорет:
– Мясо всё на прилавке. Один лоток. Больше мяса не будет!
Что тут началось.
– Старшего продавца-а-а-а! – Лиса пружинила ладошками, зажимала и разжимала уши. – Заведующегооо!
Откуда-то скакнула тетка в цигейковой шубе вперед всех, визжала морковным ртом, что это безобразие, где народный контроль, где всё мясо, руки она раскинула над последним лотком, как птица, охраняла его от всех. Кто-то расстроенно сказал сзади: «Сволочи. Себе всё забрали. Ворюги». Лиса ощутила, что вся толпа заметно подалась вперед, такое движение – одно на всех.
– Валера, – зычно и спокойно крикнула продавщица. – Милицию вызывай.
В дверях за ее спиной Валера в синем халате усмехался золотыми зубами, сложив руки на груди.
Мама совсем разволновалась, побледнела. Оля держала ее под руку, вытянув шею, пересчитывала людей, мясо. Глаза ее горели. Папа прижимал Лису спиной к коленям, иногда немного продвигаясь вперед. Делал такой маленький шажок.
– Нам не хватит, – мама одними губами.
Папа молчал, не отрывая глаз от прилавка. Там на перекошенном алюминиевом лотке оставалось несколько малиновых кусков. Лиса тоже завороженно наблюдала, как продавщица подкладывала на полочку весов лист коричневой бумаги, сверху еще один, чтобы в серединке перекрылись: так потолще – потом ведь мясо в них заворачивать. Сверху к большому хорошему мясу всегда кидали заветренный грязный кусочек жира или жил, кость иногда. Никто не спорил – много хорошего нельзя, чтобы всем по справедливости.
– Всё, мяса три килограмма, – продавщица вытирает руки о грязный фартук поверх халата.
Старичок впереди пытается засунуть мясо, кое-как обернутое бумагой, в авоську, но та крутится, не желая открыться, пальцы его дрожат. Мама с Олей первые по очереди. Мама теснит старичка, сердится:
– Вы отойдете уже?
Сзади гудят, напирают, плачет ребенок. Откуда-то снизу вынырнула вдруг взмыленная женщина с девчонкой, платок съехал у нее с головы, глаза безумные. Ах, они и забыли о них совсем.
– Господи, – причитает женщина, не глядя на маму. – Господи, успели.
Теперь не видать им даже этих трех килограммов разнесчастных. Лиса с ненавистью смотрит на пуховую шапку под меховой.
– Неееет, – мама, вцепившись двумя руками в прилавок, вдруг сильно пихает женщину задом, выталкивая в сторону. – Не пущу, сказала.
– Чья очередь? – орет продавщица.
– Они не стояли, – молит ее мама, не обращая внимания на вой за спиной, на папины много рук, отдирающих ее от прилавка.
Она изо всех сил держится за него и кричит, кричит.
* * *
Возвращаться было холодно. Папа отправил их вперед, и Лиса с Олей, взявшись за руки, почти бежали, чтобы согреться. Белый шар луны больше утреннего, круглее. Никого вокруг – громко скрипит снег. Сначала Лиса еще оглядывалась на родителей: мама шла совсем больными шажками, папа вел ее, обнимая за плечи, – но за поворотом они пропали, и Лиса сказала:
– Так маму жалко.
– Дыши в шарф, – не сразу откликнулась сестра.
Сама Оля прикрывала рот варежкой.
– Оля, я тебе нравлюсь? – Лиса картинно поводит огромными снежными ресницами, край шарфа тоже в инее и пуховый платок у щек.
Завидев у колонки черную гладь скользанки, Лиса разогналась как следует и с удовольствием проехалась почти до конца ледяной полоски. Да что там мясо, главное, чтобы мама не расстраивалась, вот придут сейчас домой, будут ужинать, разговаривать, и все забудется, черт с ним, с мясом.
– Мамочка, я есть хочу, – выбежала Лиса навстречу родителям.
Ей хотелось отвлечь их – ведь так всегда радуются, когда она хорошо ест. Но мама сморщилась в меховой воротник, снова закрутилась к папе на плечо, зашлась там в рыданиях:
– Ничего нет. Я же ничего… Господи, почему… не война же.
Папа гладил ее, смотрел на задранное вверх лицо Лисы, по которому волнами все эти рыдания. Оля застыла в дверях кухни, тихо облокотившись о косяк.
– Так, ждите меня, – вдруг завопил папа, сдергивая с гвоздя ключи от сарая. – Никуда не девайтесь и не плачьте, хорошо?
Он осторожно отстранил маму и выбежал на лестницу. В раскрытую дверь уже снизу донеслось его:
– Ждите чуда-а-а-а!
Чудо было восхитительным. Папа притащил из сарая сотню пельменей и, не слушая маму, что праздник только завтра, варил их, напевая. Потом, покружившись в фартуке с большой дымящейся тарелкой, сделал шаг с подскоком к столу, где смеялись Лиса с Олей:
- – По-то-лок ле-дя-ной, дверь скри-пу-чая…
- – За шер-ша-вой сте-ной тьма ко-лю-чая,
– стучали вилками девочки.
Мама, милая мама, с припухшими от слез глазами, махнула рукой и достала из холодильника шоколадную колбасу: пока едим, подтает. Лиса, вжав голову в плечи, мелко тряслась от счастья, тянулась своим компотом к взрослым рюмкам.
Соединили кружки, рюмки, стукнулись, папа сказал:
– Завтра великий день, девочки! Почти сегодня уже. Большой праздник – красный день календаря. 55 лет тому назад…
У всех горели щеки: у взрослых, у Оли, у самой Лисы. Она подняла на своих взгляд, затуманенный едой и теплом. Счастье компотом, пельменями разливалось, расходилось внутри.
Как же хорошо, как повезло, что я родилась в этой семье, в этой стране, думала Лиса.
Тебе и ежу погожу
На углу Восстания и Митавского давали мандарины. Варя ускорила шаг, стараясь опередить тетку в каракуле, спешившую через дорогу к концу очереди. Это ей удалось. Запыхавшаяся Варя спросила: «Кто последний?», контролируя твердым локтем набежавшую сзади тетку. Стоя в очереди, чтобы не замерзнуть, она сжимала и разжимала пальцы в импортных сапогах на «манке», постукивала нога об ногу, зарыв подбородок в английскую резинку шарфа, концы которого по моде доходили почти до колен. Валил снег, студеным холодом от земли, продавщица в халате поверх тулупа еле шевелилась.
– Я не буду стоять, – бросила Варя через плечо каракулевой тетке.
Та не удержалась и фыркнула ей вслед: «А так бежала!»
В Митавском переулке домов раз-два и обчелся. Маленький, уютный, он кажется тупиковым, но нет: у дома № 3, похожего на кусок шоколадной вафли, переулок резко бросается направо, вырисовывая букву «Г». В падающих снежных хлопьях он почти сказочный, ганс-христиановский. Над окнами в четвертом этаже смеются каменные модерновые жабы. Ничего этого Варя не замечала. Задумчиво свернула под арку в глубину дворов, еще арка, не доходя до нужной парадной, спряталась за гаражик покурить. Продуктовые сетки опустила прямо на снег, достала пачку «Стюардессы».
Она выкурила две сигареты подряд, уставившись в одну точку. Тяжело вздохнула, подняла сумки и направилась к дверям подъезда. Там на пороге, выпуская черного дога, топталась бабка в высоком меховом кепи, Варина мама сказала бы: «Хорошая такая шапочка, богатая». Подозрительно оглядев Варю, хотела что-то спросить – а вы к кому, например, – но, запутавшись в поводке, передумала.
– Привет, – просипела Ника Светлова, с трудом толкая тяжелую входную дверь, цеплявшую дерматином за пол.
Коммуналка у Светловой – жуть: захламленные коридоры с нецелыми великами и санками по стенам, жирная пыль электросчетчиков, в туалете в шахматном порядке стульчаки на ржавых гвоздях. В кухне, мрачной от соседнего брандмауэра и водосточных труб, утлые тумбы почти вросли в пол, между рамами на закопченной вате – сухие гроздья рябины. Стекла окон уже навсегда в бурых разводах – не добраться до них и до рябины, не вымыть, не навести порядок: огромные рамы рассохлись, шпингалеты в краске по уши застряли в пазах.
– Квартира уникальная – нельзя нам ремонт, – смеялась Ника. – Здесь, куда ни плюнь, дворянские тайны начала века.
Ее муж, Владик, пожимая плечами, говорил, что в доходных домах, как у них, жили не только дворяне.
– Этот доходный респектабельный был, модный, к тому же мы на фасаде, – упорствовала Ника. – Бабушка говорила, что наш этаж полностью одна семья снимала. Очень даже высокородные ребята. Ремонтом всю ауру снесем нафиг.
Владик отвечал, что в семнадцатом году уже обо всем позаботились другие ребята, промежуточные.
Накануне он улетел в командировку куда-то в Липецк, а утром Ника проснулась с температурой под сорок. Дети были немедленно отправлены к бабушке, а Варя по телефону строго-настрого велела подруге не вставать, ждать ее к вечеру для куриного бульона и поддержки.
– Нету, что ли, никого? – усмехнулась Варя на фланелевую ночнушку, в которой Ника вышла ей открывать.
– Да пошли они, – отмахнулась та. – Лев Борисович на днях около моего борща себя резинкой от трусов хлопнул, а я им буду больная одеваться, чтобы в коридор выйти?
– Ты как? – Варя подпрыгнула, чтобы закинуть на полку шапку и шарф.
Похоже, что бывший плотник и вельможи «уникальной» квартирки были дылдами.
Снимая пальто, нашла глазами надпись на обоях у телефонного аппарата: «Сука Акулина 272-29-97». Рядом за стенкой у Петровых скулила Дамка – хозяева запирали ее в комнате, когда уходили на работу.
– Все время сплю из-за температуры. Когда просыпаюсь, ползу на кухню чай заваривать. Там жалею себя, вою тихонечко. Вон как Дамка.
– Бедная, – Варя пыталась подобрать два одинаковых тапка из войлочной кучи у дверей.
– Плакать на самом деле сладко. Еще по правилам должен молчать телефон. Такое светлое чувство заброшенности. Но он разрывался все время, и тогда я не брала трубку.
– Поздравляю, – ответила Варя мрачно. – Твоя свекровь висит из-за этого на потолке, три раза мне на работу звонила. Причитает так, как будто твои дети уже осиротели.
– Да? – Ника ненадолго испугалась.
Потом она отмахнулась от невидимой Ксении Андреевны и продолжила, шаркая за Варей на кухню:
– Ты обещаешь быть мне родной матерью?
– Да, дорогой Карлсон! – откликнулась Варя, вытаскивая из сетки курицу.
– О, беленькая. По два шестьдесят? Где ты ее взяла?
– В обед в гастрономе и те и те были. Но по рубль семьдесят пять… глаза бы мои не смотрели.
Варя подумала, что тоже не стала бы снимать трубку Ксении Андреевны. Особенно с температурой. Однажды она видела, как Никина дочь Аня выкрикивала бабушке, почему ей необходимо пойти в кружок без шапки: «Апрель, бабушка, на градусник посмотри, Соня без берета, я в окно видела, мне что, одной в шапке позориться». Ксения Андреевна кровожадно вытирала руки о фартук, от которого пахло чем-то перетопленным, прогоркшим, подкачивала подбородком в скрипучем смешке: «Пой, ласточка, пой!»
Что до светлого чувства заброшенности – туфта все это. Варя понимала, что Ника не всерьез, но в этих словах слышались ей отголоски их с Владиком разговоров об особой питерской неприкаянности:
– Знаете, Варенька, ведь у нас даже у самых уравновешенных, самых везунков, мучится тонкий дух, скребется о чем-то несбывшемся в своей внутренней монголии. Нет нам покоя. Как будто в нас какой-то изъян, не вдохнуть жизнь полной грудью. Тащим вот на своих плечах груз Федора Михайловича.
Только не надорвитесь. Варя стукнула курицей об огромный стол, старинный, конечно же. Ника любила рассказывать, что когда-то на нем уже с шести утра кухарки рубили битки, заправляли лампы, часами чистили подолы господ, пылища такая – даже на зубах песок, именно на него однажды положили недельную Нику, когда принесли из роддома на Петра Лаврова.
Ну, Ника еще ладно, но откуда у Владика тонкий дух с такой мамашей – вот вопрос.
Гору посуды в раковине венчал эмалированный ковш в засохших золотистых подтеках. Донышком вверх. Видимо, от Ники убежало молоко с маслом. Почему-то обидно было начинать именно с него.
– 38 и 9. А сейчас, думаю, больше, – донеслось в ответ.
Варя надела передник, чтобы не испачкать атласный черный батник, отжала кухонную тряпку, холодную, скользкую от жира, и принялась за дело. За спиной звякали какие-то склянки: детский запах анисовых капель, тревожный, муторный, запах то ли липкой болезни, то ли радостного выздоровления. Дымчатый кот терся о ее ноги.
– Пойду полежу, а то ты так грохочешь, – капризничала Ника. – Слушай, а почему ты такая надутая? Эй, ты чего?
Варя провела пальцем по полустертому ободку чашки.
– Вообще-то смешно.
Ника встрепенулась, в ее больных прикрытых глазах мелькнуло любопытство здорового человека.
Варя хмыкнула и выключила воду.
* * *
– Стою у ларька овощного на углу у тебя. Ну, Восстания с Митавским. Думаю, может, мандаринов еще. Вроде очередь небольшая. Тут бабка с палкой ковыляет на меня. Я ее не увидела, вся в этих мандаринах. Стою еще не в очереди, вплотную почти к ларьку, там места вообще нет. А ей меня обходить неохота, силы тратить. Она тогда между мной и ларьком протискивается и клюкой меня в грудь, в такой мерзкой кепке – знаешь, бабки иногда ходят? Больно ткнула и так спокойненько, на одной ноте: «Сука, проститутка». И дальше похромала, даже не посмотрела на меня. Ну чё, я заревела.
Ника не выдержала и захрюкала от смеха. Варя улыбалась.
– Отличная ленинградская бабка. Не убитая еще. А ты, мой хороший… – Варя видела, что Ника выбирает слова.
– Стоп, – перебила она. – Хочешь сказать, что если у меня глаза на мокром месте от слов какой-то сумасшедшей, то дело не в ней, а в моем личном нервном срыве.
Легкие ягоды клюквы носились по кругу в Никиной чашке, сбегая, уворачиваясь от ложечки, которой она пыталась их давить. Ника утвердительно замотала подбородком.
– Светлова, но я же сейчас смеюсь вместе с тобой потому, что это знаю. Я же не простираю к тебе руки «за что мир так ополчился на меня». Мне все ясно… со мной все ясно.
Вот теперь в глазах ее блеснули слезы, отвернулась к раковине.
– Варь, – голос Ники дрогнул от жалости.
– Не надо, ладно. Иди ляг, пожалуйста.
Ника вздохнула тяжело, встала и, придерживая на груди плед, поплелась в комнату, стараясь не расплескать горячий чай. Скулила Дамка.
Поставив бульон вариться, Варя задумчиво курила в форточку. Скорчила рожу зябкому голубю на карнизе – откуда взялся, вроде спать должны, – он улетел, а она еще какое-то время гримасничала в темное стекло. Потом, обнаружив четыре сморщенных яблока на Никиной тумбе, замесила тесто для шарлотки: не съест – дети доедят, яблоки спасу.
Через час она внесла в комнату дымящийся кусок пирога и целительную бурду, приготовленную под хриплыми командами Ники. Укутанная в клетчатый плед, та сидела с ногами на вытертом кожаном диване в компании гобеленовых пастушек и амуров. Глаза ее блестели от температуры.
– Книги убирай, – Варя осторожно приземлила поднос на низкий стол перед диваном. – Ты вот реально сразу три читаешь?
– Лимон целый выжала?
– Половинка тут.
– Ну говорю тебе, целый надо было. А водки сколько? Пятьдесят?
– В стакане только мед и лимон.
– Как там в конторе?
– Соскучилась, что ли? – скривилась Варя. – На, водку сама плесни на глаз. Мне надоело твое ворчание.
– Какой же все-таки придурок у нас Кротов, – тянула по словам Ника. – Всех теток переимел, ну всех, все, что не приколочено, перессорил бедненьких на хрен.
– Курицу ешь потом. Вот на тарелочке ножка из бульона.
Ника неторопливо размешивала свое снадобье, не отрывая взгляда от гэдээровского лилового шара на елке, обсыпанного серебристой крошкой. Он вращался сам по себе то в одну, то в другую сторону. Непонятно, что было причиной этого тихого кружения: серый кот, злые сквозняки старой квартиры или шутливый умысел невидимой руки, унизанной перстнями.
– Чё он опять за Катей Метелицей весь день посылал? Как мне страшно, о господи, что он вот так на ровном месте возьмет и руководителем группы ее сделает. От половых щедрот. Вместо…
– Все в порядке, – высоко перебила Варя. – Не сделает. Меня приказом назначили. Сегодня. Так что вот. Эта собака когда-нибудь заткнется? Я сейчас с ума сойду.
Она потащила ложечку из розетки, застыла с тягучим медовым хвостом, потрясла эту ложечку за самый кончик, воткнула обратно.
– Так что вот, – повторила, теребя на груди часы-кулон на длинной цепочке.
Подвинула к Нике розетку и еще тарелку с курицей. Ника не отрываясь следила за руками подруги, за ложечкой, медом, за позолоченными лучами кулона, мерцавшего под елочными лампочками. Подняла на нее глаза.
– Как это? Мне же обещали.
– Кротов, что ли? – Варя цокнула языком и махнула рукой. – Ой, перестань. Смешно даже. Кому он только не обещал.
– Никому, – Ника сильно замотала головой. – Он вызывал меня, ты знаешь. Мы два часа говорили, как дальше с проектом, кому что отдать, все обсудили тогда. Сказал: только вы, Вероника Анатольевна, достойны…
– А я, значит, недостойна? – усмехнулась Варя.
Ника молчала, по ее щекам быстро-быстро катились слезы. Сначала она не вытирала их, но слез становилось все больше, прозрачные, крупные, летели вниз ко всем чертям. Подбородок, такой мокрый подбородок – почему-то там она ловила их, смахивала.
– Варя, – сквозь эти слезы и ладони выдохнула вдруг Ника. – Ты с ним… с этим уродом, да?
Закружился, завертелся лиловый шар с серебряной посыпкой. Варя горестно качнула головой, и в глазах ее тоже качнулись слезы, слезы – это же заразно.
– Ты совсем, что ли? Шарики за ролики… или это 38 и 9 твои?
Так и плакали потом в разные стороны. В огромных чернильных окнах валил снег.
Варя незаметно взглянула на часы-кулон, произнесла медленно:
– Представляешь, я, когда сейчас к тебе ехала, думала, отмечать будем. Так бежала, дура…
Ника зарыдала в голос: «Варя, прости», – сорвалась с дивана, полетели на пол похотливые пастушки и лососевые амуры. Варя с готовностью потянулась навстречу.
Потом всхлипывали друг другу сокровенное: думала, свобода, сама решения принимать, от кретинов не зависеть, плюс двадцатка к окладу, на дороге не валяется – у тебя хоть дети, муж вон в Липецке, девятый год на квартирах живу, а сначала вообще по общагам, даже с температурой в гости, пригласил бы кто, да твой, твой проект, только мне теперь за него по шее получать, на вот салфетку.
Запивали все горячим чаем. Ника, подняв с пола подушку, устроилась у Вари на коленях. Молча содрогалась всем телом, уже успокаиваясь. Странный сквозной ужас под ложечкой, мятный, от которого задохнулась полчаса назад, напомнил, как уходила от нее пятилетней мама в Боткинской. Вокруг все говорили: «Нельзя плакать, стыдно» – почему нельзя-то? – а мама все уходит и уходит по коридору. Запах хлорки и запеканки творожной, «укольчики, укольчики, готовимся», шлепок отгоняет боль, «сейчас поспишь», последний раз ресницы тяжелые приоткрыть – кто-то утенка положил у лица: не плачь, девочка. Пластмассового.
Варя, качая головой, гладила Нику по теплым волосам, проверила мимолетно, нет ли грязи под ногтями от кухонной возни; урчал кот, бликовал кулон на груди.
– Мама после сорока вдруг обнаружила, что меняется, ну, внутри, – заговорила, поднимаясь, Ника. – С каждым годом все терпимее и добрее. Спокойнее. Что-то такое я начала чувствовать в себе год назад. Какие-то зачатки этих превращений. Варь, да я не про сегодня. Просто думаю: если все так, что же тогда с нами будет к шестидесяти?
Варя оживленно плеснула себе в кружку остатки водки и подцепила на вилку кусок вареной курицы, который не доела Ника. Аккуратно сняла с него студенистую кожицу.
– А это кому? – Ника ткнула в кожицу на блюдце.
– Поделитесь, – хихикнула Варя в сторону кота, затараторила потом: – Я понимаю, о чем ты. У всех так. Это называется мудрость… ну, или растущее безразличие к миру. Одно и то же. В шестьдесят мы станем идеальными, снисходительными к придуркам, будем всех прощать, голубые волосы, твидовые юбки с запа́хом… благородно.
Водка в поднятой руке бодрила.
– С нетерпением жду лучших лет нашей жизни! Твое здоровье, Светлый!
Кот прыгнул Нике на колени, замер, приноравливаясь, и через мгновение свернулся там большим серым калачом. Ника задумчиво смотрела на Варю:
– Тогда откуда на улицах так много злых старух?
Они смеялись и смеялись, кружился лиловый шар, и, конечно, уже могли бы и остановиться, кот-калач недовольно приоткрыл желтый глаз, – но останавливаться не хотелось: после всех этих пролитых слез так хорошо было смеяться вместе.
А на груди кармашек прозрачный
На большой чугунной сковороде потрескивали золотистые кусочки муксуна. Перевернув рыбу, Рогова следила из окна кухни, как отходит от причала белая «Ракета» в город. Дом стоял на высоком берегу Лены у самого подножия величественной сопки – тайга да вода на десятки километров вокруг. «Надо бы поторапливаться с рыбой: еще огород поливать, допоздна провожусь», – Вера Рогова гордилась огромным хозяйством и своим положением королевы угольного поселка.
С первым мужем она развелась в 74-м, пять лет уже. «Пьянь оголтелая», – сморщилась Вера. Осталась одна с дочкой, работала в нефтегазоразведочной экспедиции бухгалтером, пока не приметил ее там председатель поселкового совета Виктор Колмогоров. В поселке судачили, что ухаживать он начал еще при живой жене – та лежала парализованная уже три года и все никак не умирала. Даже двое ее сыновей вздохнули с облегчением, когда наконец-то вынесли из дома пухлый серый тюк с материными вещами и ее кровать с вислой панцирной сеткой, на железных спинках которой покачивались пыльные занавесочки в ришелье. Они расписались с Колмогоровым через пять месяцев после похорон, ничего не отмечали, так, дома выпили на пару. Вера сделалась хозяйкой в светлом доме на берегу у самой горы, шесть комнат – закаты, восходы во всех окнах. С работы она уволилась – иначе как за всем поспеть?
В дверь позвонили. Вера чертыхнулась, сдвинула сковороду с горелки, тоскливо взглянула на таз с сырой рыбой (мужу рыбаки мешками носят!) и пошла открывать. Соседка Нина уже сходила с крыльца – передумала, что ли? На звук двери обернулась, шагнула назад. Высокая, загорелая, белый сатиновый сарафан в цветах: ну как хорошо, здоровенные яркие маки, а колокольчики еле-еле. Как обычно, глаза летели впереди нее. Огромные, тревожные. Где она такой сарафан взяла – их точно не было ни в универмаге, ни на складе. Японский, поди… Рогова оперлась о косяк плечом, отрезая бывшей подруге путь в дом, неторопливо вытирала руки о фартук. Усмехалась молча, только брови чуть вверх: чего надо-то?
Зеленый цвет больших Нининых глаз был обычным: ни сочной зелени майской опушки, ни холодочка огурцов малосольных. Какой-то горошек венгерский из заказов, болотинка со ржавыми крапушками. И форма глупая, чуть навыкате. Ресниц кот наплакал. Короткая стрижка под мальчика, так не идущая к ее уже поплывшим линиям, делала глаза еще больше.
«Во обкорналась-то, гусик щипаный», – хмыкнула про себя Вера. Все поселковые у Светки в бане стригутся и завивку делают, дома хной сами, раз в месяц, щеткой зубной – нормально получается, а эта все с журналами к пионервожатой бегает: «сассон», «гарсон».
– Вер, вчера девочки наши в огороде у Майки Калугиной играли, – Нина то смотрела вдаль на реку слезящимися глазами – плачет, что ли, – то взглядывала коротко Вере в глаза. – Одеколон потом у них пропал. У теплицы стоял, от мошкары.
Вера молча разглядывала незваную гостью: надо же, халат линялый переодела, ко мне шла, а то я не знаю, в чем она в огороде ходит, и босоножки, батюшки. Поправилась Нинка, хорошо ей, ключицы больше не торчат, а куда от пельменей и пирогов с рыбой денешься, от булочек с брусникой. Север… нет здесь худышек после сорока, если только не больная. А вот ноги так и остались… длиннющие, стройные. Из-под сарафана торчали блестящие узкие икры. Рогова увидела, как Нинина рука задумалась над торчащей из шва ниточкой, теребила ее: оторвать – не оторвать. Чего же она так дергается-то?
– Я вчера вечером их к стене приперла. Твоя Рая на мою показывает, мол, она взяла, – Нина ладонью вытерла пот со лба, незаметно дунула в вырез сарафана. – Я за ремень, сроду в нашей семье никто ничего чужого…
– И чё? – не выдержала Рогова.
– А сегодня, – Нина схватилась двумя руками за горло. – Щас, погоди.
Она опустила голову, помотала ею, пытаясь справиться со слезами.
– Сегодня мой ребенок сказал утром, что не брала она ничего.
– А кто брал? Райка, что ли, моя?
– Ты понимаешь, молчит Женя про твою. Просто сказала, что она не брала. Она не врет у меня никогда. Вообще никогда. А я руку подняла вчера.
– А моя… значит… врет? – Рогова ударила по каждому слову.
– Вера, ты же помнишь, как Женя однажды своих артистов в альбоме у Раи твоей увидела: и «Летят журавли», и Рыбникова, и Шурика с Мордюковой. Штук двадцать фотографий. И никак не могла это объяснить. Ты же помнишь.
– Пошла вон отсюда, – ровно произнесла Рогова и захлопнула дверь перед носом когда-то подруги. – Сссссука, – скрежетала зубами, нервно обваливая куски рыбы в муке. – Моя, значит, врет, а ее – святая… кто определит-то. А это жлобье калугинское – одеколон копеечный девкам пожалели.
На реке гудели суда. Рогова повернула голову в окно, ждала, пока рыба поджарится с одной стороны. Смотрела невидящим взглядом, как расходятся в опаловых сумерках длинные черные баржи. Выключив плиту, толкнула сковороду в сторону. В зале у стеллажей с книгами шарила глазами по толстым темным корешкам альбомов: какой из них. «Убью, если не вернула этих артистов сраных. Просто удушу», – Рогова дернула на себя нужный альбом. Целый серебристый ворох фотографий высыпался оттуда. Вера охнула и наклонилась. С самой верхней карточки на нее снова летели светлые огромные глаза подруги. На этот раз – дерзкие и смеющиеся. Рогова опустилась на пол. В клубе это они на новогоднем вечере, еле сдерживаются, чтобы не расхохотаться. Нина крикнула перед этим Леньке-фотографу: «Чтобы без подбородков тройных», – чуть не лопнули от смеха, после вспышки сразу и прыснули. Нина в костюме Красной Шапочки обнимает ее сверху, почти висит на маленькой Роговой. Когда в тот вечер она вошла в клуб, все просто упали: Красная Шапочка – дылда. А ей хоть бы хны. Вместо шапочки на светлом каре красная тюбетейка. В черно-белом не видно, но как это забудешь.
На фото Вера горбится в изгибе ее острого локтя, как под коромыслом, даже ободок из мишуры сполз немного на лоб. Сзади плакат по стене «С Новым 1973 годом!». С Ниной все время хотелось быть рядом. Точно она огонь или озеро.
А как Нинка потом эти глаза свои вскинула, вытаращила, когда она замуж за Колмогорова собралась: «Ты же не любишь его». Сука какая.
Вечером на огороде запалили костер, мясо пожарить. Поплыл дымок над темнеющими грядками с луком, над картошкой, к серебряной молчаливой реке поплыл. Первые капли жира, упавшие на угли, выманили из дома детей: так, глянуть просто, скоро ли, понятно, что ужинать все равно в доме на веранде, – на улице мошкара сожрет.
– Райка, – спохватилась Рогова. – Ты одеколон у Калугиных украла?
– Мам, ты чего? – дочь ловко отпрыгнула в темноту. Возмущенно фыркала оттуда.
– Точно? – заорала Рогова. – Смотри у меня… Быстро принесла ковш из дома – угли горят!
* * *
Ночью Вера проснулась от злости. То есть сначала, конечно, от духоты – чертова марля на окне плохо пропускала воздух. Прошлепала на кухню, выпила квасу из холодильника, ворочалась потом, но так и не смогла уснуть. Хорошо еще, что Колмогоров уехал по делам в город. Можно без опаски крутиться, вздыхать в полумраке бессонной страдалицей. Вера содрала сорочку, спихнула на пол простыню, которой укрывалась, – намочить ее, что ли, – лежала на спине с закрытыми глазами.
Ведь она нормальная была, Нинка, веселая, дружили как. Всех завидки брали. Откуда вдруг святости нанесло? То не так, это не очень, замуж не по любви, тьфу. Окончательный разлад случился, когда муж Нины влюбился в приезжую инженершу и затосковал навек. Честный мужик оказался, порядочный – как понял, что дело табак, стал дома просиживать, боялся даже в гастроном выйти, чтобы не столкнуться там со смешливой инженершей. Только на колонку за водой и ходил, да на буровую к себе. Почернел, высох за три месяца. Нина рассудила, что арифметика здесь простая: или всем пропасть, или двое из трех будут счастливы. Собрала его пожитки в чемодан, рюкзак еще, плакала, конечно. Через год у него с инженершей двойня родилась, жить молодым было негде, вот тогда Нина и решила продать просторный дом своей матери, в котором осталась с дочкой. Деньги поделила – им побольше, себе поменьше. От людей отбивалась: «Так нарочно я. Им же полов больше скоблить». Смеялась, что, если мужичок какой подвернется, все обратно заберет. Веру тошнило от красивости поступка, от того, что подруга так представляется, смеется делано.
Поселок тогда замолчал – ни шепотка вокруг. Вера села на кровати, задышала. Людей жалко: как не понимают, что притворство одно. В рай намылилась, не иначе.
Снова потянула с пола простынь. Хоть как-то от комара закрыться – звенит и звенит у лица, одинокий, ненавистный.
Третьи петухи запели. За штапельной занавеской распускался потихонечку белый свет. Носом схватила далекий запах дыма. Ну все, тайга горит. В такую жару грозы поджигают ее, а скорым дождям не потушить, да и рыбаки еще со своими костерками.
* * *
В полдень позвонила Люська Кривонос, сказала, что в «Тканях» куртки детские выбросили, японские, с кармашком. Вера ахнула, занервничала. Директор магазина в отпуске, все сейчас в отпуске, вот тебе и пожалуйста. Товаровед совсем мышей не ловит: могли бы предупредить Веру, уважение проявить. И Колмогорова нет – на склад позвонить, а ей самой вроде и неловко. Может, они догадаются оставить ей куртки, но как же с размерами быть, не знают они размеров. Чудесная куртка с кармашком Райке нужна позарез, да и Сереже младшему колмогоровскому – давай сюда.
Японские товары в поселке не невидаль – они в обмен на южноякутский уголь. Колмогоров рассказывал, что пять лет назад японцы – не у них, конечно, а в Нерюнгри, – узнав мощность местного пласта, упали прямо там на колени и заплакали: черное золото, неслыханная роскошь. Потом так договорились: мы им уголь, они нам технику на разрез и товары свои для республики. Что это были за товары! Падай на колени и плачь, вот где богатство! Зонтики «Три слона», свитерки шерстяные, мягонькие-мягонькие, на прошлой неделе – джинсовые костюмы с вышивкой, а по курткам с прозрачным кармашком весь поселок умирал. Легкие, блестящие, нейлон 100 %, сияющие кнопочки в цвет, молния не на год-два – вечная! Куртка-мечта, стирать можно. Но главное в ней – это карман на груди с окошечком, любую картинку туда или фото. Райка хотела Джо Дассена.
Рогова быстро листала справочник, стараясь отыскать телефон «Тканей». Топнула ногой на короткие гудки – все время занято. А в номере, как назло, одни нули и девятки, долго тащить палец в колечке до отбойника. Полный круг, нервы сплошные.
– Побегу туда, – решила Вера, – расхватают иначе.
На крыльце обдало жаром. Рогова чуть склонила лоб, как в парной, поцедила горячий воздух сквозь зубы. Потом несла себя с горочки в этом плотном зное быстро, но экономно, чтобы силы не потратились. Щурилась от солнца, смешанного с таежными дымами, которые бочком-бочком вползали в поселок. Этот едкий союз уже стер границы горизонта, растушевал изломанную линию далеких крыш, щипал глаза, не давая оглядеться: смотри себе под ноги, щурься до самого центра. Хотя что там разглядывать – пустые обочины в это время: кто не на работе, тот в отпуске, растянулся где-нибудь на песочке в Гагре, море шурх-шурх рядом. На бежевых босоножках сразу пыль, и шага не ступила, скрип бутылочных осколков под ними, курица сиганула наперерез, прямиком в крапиву, рвущуюся из кучки битого шифера. У дощатой помойки-развалюхи Рогова задержала дыхание. Запах гари мешался с запахом рыбьей требухи и кислятины. Две собаки в тени у колонки даже ухо не приподняли на Верин шаг, заразы меховые, ну ничего-ничего, недолго вам дохлыми притворяться, вот-вот дымное солнышко к вам приползет, через полканавы ждите.
При виде этой колонки у Веры всегда теперь сжималось сердце. В начале лета Сережка колмогоровский, убегая от ребят – чего-то там не поделилось, тайменями, видать, мерились, – в пылу погони врезался в нее со всей дури, даже не помнит как. Нос сломал, рухнул рядом без сознания. Когда она прибежала, еще не очнулся: лежал в луже крови – так ей запомнилось, – бледный, растерзанный.
Завидев издалека хвост галдящей очереди, Рогова сразу позабыла и о Сереже, и о жаре. Дернулась зайти со двора, но без директора лучше идти напролом – так отдадут. При ее приближении очередь замолчала, хмуро здоровались; может, и скривился кто, да ей дела нет.
– Сказали не занимать, – робко запустили между лопаток.
Выжидательно и спокойно смотрела на громкую Аню Иващенко, сдерживающую очередь в дверях – один вышел, один зашел, только так будет, штук тридцать, говорят, осталось. Иващенко посторонилась неохотно, матюгнулась за Вериной спиной, негромко, но Вера слышала.
В узеньких «Тканях» не протолкнуться. И хотя Роговой, пробираясь к прилавку, пришлось пару раз поработать локтями, все расступались, узнав ее, замолкали, глотая брань, шипели вслед, здесь уже никто не поздоровался. Зубной врач Рубина, обхватив накрепко куртку-мечту, пыталась вытолкнуться задом из толпы, счастливо огрызалась напоследок. Следующей в очереди была Нина. Качалась над прилавком – сзади напирали, – потная, веселая, дула себе на челку, зажав в кулаке сложенные вдвое купюры. Она удивилась внезапной Роговой. Молча посмотрела на нее, чуть отвалилась от прилавка, пропуская.
– Встаньте там кто-нибудь. Не пускайте без очереди, – тоскливо завывали от дверей.
Три добровольца-контролера сомкнулись полукругом за Верой и Ниной.
Пока продавщица искала нужный Роговой размер, а потом меняла цвет на «немаркий», все сдержанно помалкивали. Только где-то сзади гудели, конечно. Она старалась не слышать, сосредоточившись на атаке. Старая Савелиха, однако, не выдержала, вывалилась из-за Нининой спины к прилавку, чуть ли не легла на потемневший деревянный метр:
– Каким ветром-то, Вер? Тебе же домой всё приносят. По людям стосковалась, что ль?
Рогова не шелохнулась. Глядя продавщице прямо в переносицу, твердо произнесла:
– Мне еще 38-й.
Ах, как они рассвирепели! Передавали по цепочке ее слова тем, кто не слышал. Со всех сторон полетели мат и угрозы. Три контролера в кружок орали, солидарные со всеми, но к прилавку, слава господи, никого не подпускали.
Савелиха, стараясь прорвать оборону и добраться до оборзевшей Роговой, тяжело зависала на их сцепленных руках:
– Хер тебе, а не 38-й.
– Вера, по одной в руки, – на что-то надеясь, бормотала у виска Нина.
Но Рогова была готова к взрыву, потому и не тратилась силами ни на старую Савелиху, ни на благодарность Нине.
– Ты чё? Оглохла? – спокойно спросила у молоденькой продавщицы.
Та, пометавшись косенькими глазами по сторонам, толкнула к ней второй шуршащий пакет, пыталась побыстрее рассчитаться.
– Люди добрые, так оно вон в чем дело, – завопила вдруг отчаянно Савелиха. – Вы чё, забыли? Она же у нас не как мы, она же начальство!
Савелиха забыла качаться на руках контролеров и со значением задрала вверх кривой темный палец.
Вера мотнула головой, не понимая, отчего так грянуло хохотом со всех сторон. Как будто они догадались, что две японские прекрасные куртки у нее навсегда, уже точно никому не достанутся, и решили искупать, утопить ее напоследок в этом диком радостном вопле, где все они были заодно, веселые, дружные, команда, а она, она совсем одна… только горны и барабаны в темной вожатской.
«О чем это они?» – судорожно думала Вера, запихивая сдачу в кошелек.
– Надо же такое написать. Я вам не кто-нибудь там, а начальство, – всхлипывала Савелиха. – Не рабочий и колхозница… начальство!
Вере сделалось нехорошо. В выматывающей духоте как будто еще кипятком в лицо. Случай, на который намекала бабка, был позорный. Счетчик Михаил в январе, заполняя переписной лист, спросил, к какой общественной группе она относится. Пункт такой был в бланках. Вера искренне не поняла, о чем он, не знала, как отвечать. Он перечислял, правда, бубнил: «Рабочий, служащий, кустарь…» Не дослушав, ввернула свое: начальство. Всерьез сказала, без шуток.
Колмогоров тогда покраснел, одернул ее, а счетчик, казалось, и бровью не повел, отмечал что-то в своих бланках, прихлебывая чай, и вот же. Она так радовалась тогда, что мимо чужих прошло, а среди своих забудется, скоро забудется.
Рогова и представить не могла, что о том ляпе знает весь поселок, потешаются над ней. Темный пар стыда мешал ей видеть обидчиков. Нет, нет, она не заплачет, а вот в обморок рухнуть боялась.
– Да вы с ума сошли, – закричала вдруг Нина. – Человеку плохо, неужели не видите. Пропустите ее на воздух.
Толпа снова нехотя расступилась. Пропускали ее, нет, не толкали вдогонку, но случайное теперь было намеренным – двинуть локтем, задеть порезче, попонятнее.
Вера слышала за спиной, как накинулись теперь на Нину, зачем пустила председательшу, по старой дружбе, поди, как та отбивалась: хотите, свою куртку отдам, выйду из очереди, а что, и отдам, деньги целее будут.
– Да пошла ты, – шептала Рогова не то вслух, не то про себя. – Да пошли вы все.
Она быстро шла по горячей Коммунальной в верхних скобках пухлой теплотрассы, вечная мерзлота – все трубы поверху. На сарафане, там, где Рогова тесно прижимала к себе куртки, растеклось по ситцу мокрое пятно.
Вера представляла, как распакует дома куртки, раскинет их на тахте, красную для Райки, синюю с полосками на рукаве – Сереже. В зеркале трельяжа открыток полно, надо вытащить одну, согнуть по размеру и в карманчик попробовать, а зачем сгибать, отрезать, да и все, открытки старые, с первого мая там торчат.
Снова запакует, чтобы все солидно, пусть дети сами шуршат, достают из прозрачных мешков с иероглифами. Представляла, как завизжат они от радости, Райка дырку на полу протрет у трельяжа, сдвигая крылья зеркала, чтобы со всех сторон. Сережа подойдет с важностью – отрежьте этикетки, пожалуйста. Вера сдвинет брови притворно: всё, раздевайтесь, и живо за стол. А на столе пюре с котлетами дымятся в белых тарелках, клеенка в крупных васильках, хорошая клеенка, импортная.
Колмогорова вообще в город зовут, переедут, может, скоро. Навсегда из этих мест.
Вожатый Володя
Воспиталку звали Анна Федоровна, и оказалось, что мама хорошо ее знает.
– Из архива нашего, – тихо пояснила она папе, когда Катя провожала их до лагерных ворот. – С Германом живет Кротовым.
Папа закатил глаза: знать не знаю никакого Кротова. Ну, правильно: лагерь-то – от маминой работы, при чем тут папа?
– Кротов тоже здесь. Плавруком вроде, – шипит довольная мама. – Наши просто умрут.
Пионерлагерь в здании поселковой школы – для детей геологов, на долгие шестьдесят дней. Смена такая длинная, чтобы северные дети геологов успели привыкнуть к абхазскому климату, да и лететь сюда ради трех обычных недель долго и дорого.
Катя с родителями весь май торчала в пансионате в Адлере, откуда и привез их автобус час назад. Все ушли обедать, а Катя стояла и смотрела в палате, как мама заправляет ей постель, ныла, что дети, наверное, сто раз передружились за длинный перелет – а ей-то теперь как? – и кровать у нее около двери.
– А ты сразу девочкам конфеты. Угощайтесь мол, девочки, – бормочет мама, высыпая на покрывало грильяж.
У ворот Катя машет нетерпеливо: идите уже, я буду писать. Мама строит грустную мордочку: первое лето Катя не плачет им вслед, в сентябре ей четырнадцать, видимо, кончились слезы. Папа нежно сгреб маму, уводит.
– Такая речка ледяная – как ты будешь стирать? – мама выворачивается из папиных рук. – Хозяйственное мыло справа в чемодане в пакетике полиэтиленовом. Носочки-трусики если застираются, не тащи обратно, брось здесь, доченька.
– Ну, мам. – Катя таращит глаза: какие еще носочки-трусики!
Дежурные на воротах усмехаются.
Потом она шагает к главному корпусу мимо холодной речки в развалах белых камней, мимо двух кустов чайных роз, настольного тенниса в тени волосатых пальм, мимо армейской палатки, где на сколоченных щепистых стеллажах хранятся все пионерские чемоданы. Шагает навстречу своей летней жизни.
* * *
Море надоело на второй день. До него топать два с половиной километра, потом обратно среди скучных свечек тополей; коровы разгуливают свободно, хвостами машут. Колонна из шести отрядов вяло загребала белую пыль под палящим небом, высматривая тень и коровьи лепехи, чтобы не наступить. После тихого часа снова на море, не ходить нельзя. Директриса на утренней линейке разорялась, что не ходить на море можно только по уважительной причине: болезнь, отравление, вы приехали на море – будьте любезны. Десять километров в день! Легко подсчитать и возненавидеть.
– Максимова, намажь мне спину, пожалуйста, – воображала Коваль протягивает Кате какую-то пахучую склянку.
Коваль – дочь начальника маминой экспедиции, оттого и задается. Катя догадывается, почему ей оказана эта честь и почему вообще Коваль ее замечает: Катя выше всех девочек, уже загорелая дочерна, предмет зависти шести бледных отрядов, к тому же у нее фирменные джинсы, тетка прислала из Канады. Катя со склянкой закатывает глаза и двигает челюстью, передразнивая Коваль за ее красной спиной. Вожатый Володя тихо смеется на Катин театр, качает головой. Может быть, она и старается только из-за его смеха.
Володя только что из армии, в мае вернулся. Он местный, живет где-то в Лазаревском. Говорит, что институт в этом году для него уже накрылся, а на работу вот так сразу не хочется – отдохнуть надо. Вот и отдыхает с пионерами. Он с Катей одного роста, и ей это даже нравится. Волосы у Володи золотистыми завитками по шее. Сам веселый, а голубые глаза грустят, и не только Катя это заметила. Все девочки без ума от него, еще от Гусева.
Гусев – наглый, но красивый, по лагерю ходит расслабленной походкой человека, изнуренного женским вниманием. У него влажные белые зубы, и он разрешает девочкам покупать ему на пляже кукурузу и вату, петушков на палочке. Галка Черникина даже подарила ему сомбреро. Взял.
– Пятый отряд – в воду, – свистит плаврук Герман. – Десять минут.
Катя научилась прилично плавать в пансионате, но кто это увидит в маленьком загоне, огороженном поплавками, – ни Гусев, ни Володя. Пятый, обжигаясь галькой, с визгом бежит в воду.
Во время тихого часа девочки уединились в армейской палатке репетировать танец на военно-патриотический смотр. Володя только просил, чтобы их никто не видел, – вот и выбрали камеру хранения: там ни души и между стеллажами полно места.
– А музыка? – спрашивает въедливая Коваль, дожевывая горбушку с солью, вынесенную из столовой.
– Будем помогать себе песней, – подбадривает всех крошка Черника.
Она показывает движения и самозабвенно поет:
- – Куба чеканит шаг,
- Остров зари багровой…
У курносой Черникиной все коленки в ссадинах, тоненькая шейка, голубая жилка на лбу, дистрофик, а не девочка, но так красиво взлетает она в воздух, отдает там салют и приземляется на одно колено под «родина или смерть». А как гордо вскидывает острый подбородок на словах «это идут барбудос» – что за умница эта Черника!
– Нам бы винтовки или автоматы, хоть деревянные… – вздыхает Галя. – Береты.
Танцевать сразу захотели все. Черника не против, только истязала их два часа, добиваясь слаженности.
– Галка, да хорошо уже, – ноет Катя.
Зверюга Черникина качает головой: нет! Раз сорок повторили это «Куба чеканит шаг».
Неожиданно в палатку вошла Анна Федоровна, глаза вытаращила. Девочки ей наперебой: нам Володя разрешил, вечером костер, смотр военно-патриотический, а-а-а-а-а-а.
Анна Федоровна дернула плечом, бочком скользнула за занавеску, где раскладушка Германа. Девочки замерли от ужаса.
– Ты поспал, котенок? – нежное оттуда. – Ну почему-у-у-у-у?
– Милая, Куба чеканит шаг, – сонный Герман ударяет по каждому слову.
Вечером Катя ничуть не хуже легкой Черники взлетала в воздух, салютовала, грациозно падала на одно колено – «родина или смерть». Исполняли два раза на бис. Гусев потом не сводил с нее взгляда через дрожащий над костром воздух, когда летело над огнем вместе с искрами:
- – Не смотри ты так неосторожно,
- я могу подумать что-нибудь не то…
Вот на этих словах и не сводил.
* * *
Если дежурить, то на воротах или в столовой, вот только не по корпусу и территории, где вечно на побегушках у вожатых и мусор нужно убирать, обертки от конфет и печенья, подметать все веничком из веток. Самая красота – на воротах, но туда обычно ставили мальчиков. В столовой тоже хорошо: во-первых, нетрудно все разносить – тарелки с кашей, с кубиками масла по счету, сколько человек за столом, вареные яйца, – разливать какао и чай из огромных алюминиевых чайников; во-вторых, если повезет, поставят на хлеборезку, вернее, это во-первых! Компота до отвала, если в столовой. Но главный приз дежурства на кухне – это сковородища картошки или яичницы, которую повариха Егоровна разрешала поджаривать дежурным после полдника, даже помогала. Все несчастные топают на море, а ты убрался быстренько и жарь себе. Егоровна – молодец: научила Катю чистить картошку, а однажды вынесла к вечернему кинофильму поднос с целой горой пюре, обложенной черными котлетами. Она же проговорилась, что в последний день смены на полдник будут бананы. Никто не верил, конечно.
А чай со сметаной? Катя сначала смеялась: как это можно пить? Бее. На завтрак часто давали сметану, а потом наливали чай прямо в те же стаканы, не ополоснув. Катя поднималась, пыталась раздобыть чистый, но это было долго и хлопотно. «Попробуй, вкусно», – уговаривала ее Черника, с аппетитом поглощая бурду. Потом ничего, пила.
Сегодня Катя с Черникой до обеда на воротах, потом по территории. Володя сказал, что в столовой они дежурили в прошлый раз, да и на воротах тоже, а все должно быть по справедливости. Ну прав он, вздыхает Черника, катаясь на воротах. Это категорически запрещено, ну а что тут еще делать? Из плюсов поста № 1 – раскидистый тутовник сразу за дорогой. Девочки по очереди бегают туда, объедаются темными блестящими ягодами. Спелые плоды почти не держатся на ветках, слетают, едва дотронешься – вся земля под деревом заляпана раздавленной шелковицей. «Жалко, скажи», – Галя отталкивается ногой от земли и летит к дороге на серебристой створке со звездой.
Пришли дожди, а с ними тоска зеленая. Река разлилась и подмыла берег – неслась мимо грозная, мутная. Казалось, что стены школы раздулись, набухли от воды, внутри стоял тяжелый запах влажной одежды, сырой штукатурки; громкий дождь барабанил по карнизам. В палатах резались в карты на шершавых одеялах, грызли зеленые яблоки, которые принесла река. Взрослые яблоки запрещали, говорили, что пронесет от них, но все ели – скучно. Кто-то вспомнил опасную забаву – давить на сонную артерию, пережать ее ненадолго, чтобы галлюцинации, кайф словить, – и все загорелись, увлеклись этим. Удушали всех у запасного заколоченного выхода, прячась за горой панцирных сеток от кроватей. К Кате очередь на удушение: она высокая, и рука у нее легкая, без следов и боли выходило.
Даже Коваль доверилась Кате. Послушно присела двадцать раз, задержала дыхание, прислонившись к стене. Но только Катя скрутила вафельное полотенце у нее на шее, крик сзади: «Атас, Герман!» Разжала осторожно, да и пора уже было – та рухнула оземь: кайф, не кайф? Герман сначала бросился к Коваль, но она уже открыла глаза, улыбалась с пола отмороженно. Потом гнал Катю к директрисе, матерясь и грубо толкая между лопаток. Перекинула косу на спину: она у нее со столовый батон, хоть не так больно будет.
Анна Федоровна визжала, Герман угрожал, директриса спокойно высказалась, помешивая чай в высокой кружке:
– Дак а чё, домой завтра полетит. Родители еще одни билеты оплатят, вот там пусть с ней и разбираются. В школу сообщим дополнительно.
Домой Катя не хотела. Ну, вернее, не таким образом. Вошел Володя, тихо сидел у дверей, потом попросил Катю выйти.
Под дождем она перебежала в туалет на пригорке, вонючий, засыпанный хлоркой. Приходилось зажимать себе нос, пока там находишься. Запах резал глаза. За деревянной стенкой с мужской стороны беседовали двое.
– Не только же она одна, все душили. Молодец, что не сдала никого.
– Может быть, сдала. Откуда ты знаешь?
– Их вожатый за нее вступился. Сказали, она ему нравится.
– Вожатому? Не, она Гусю нравится, мужики говорили.
Катя выскользнула из туалета и увидела, что вдалеке у корпуса в дождливой мгле мается Гусев. Ей показалось, что он ждет ее, и тогда с улыбкой она пошла в другую сторону, потому что запах хлорки от нее выветрится минут через пять примерно – они засекали с Черникой.
* * *
Полоскать пошли вверх по реке, подальше от любопытных глаз. Уже натерпелись однажды вот этого: чё, бабы, трусы стираете? Черника, зачем тебе лифчик? – прочие гадости. Несмотря на солнечное утро, река была хмурой, сильной, к ней никак было не подступиться, да и муть после ливней еще не сошла толком.
– Пошли в тазике. Вообще не подойти, да и грязно, – высказалась Черника.
Катя кивнула, но штормовку все же решила здесь прополоскать – тяжело ее в тазике, в реке быстрее, к тому же она темная – сойдет. Галя пошла обратно к лагерю, а Катя на корточках с берега осторожно погрузила штормовку в воду. Река радостно рванула ее из рук, и Катя, не удержавшись, оказалась в воде, вскрикнув в спину Чернике. Она попыталась встать, но сразу ушла под воду – никакого дна не было. Вынырнув, поняла, что ее сносит на середину реки и вниз по течению. Она изо всех сил заработала руками и ногами, пытаясь вернуться к берегу. Это ей почти удалось, но, когда до берега оставалось всего ничего, ногу свело судорогой, словно подмяло гигантской мясорубкой. Тело совсем не слушалось, и Катя поняла, что тонет. Ее несло по течению, Черника бежала вдоль берега, и Катя видела ее лицо, рот, перекошенный криком. «Странно, она кричит, а я ничего не слышу», – почти равнодушно думала она. Еще она вдруг увидела заплаканное лицо мамы, и папа, наверное, зарыдает. Смерть представилась ей той чернотой внизу, тянущей к себе, зовущей ледяным дыханием.
Внезапно она увидела Володю, который бежал к берегу с туалетного пригорка, размахивая руками. Прямо в одежде он врезался в воду и, поднырнув под Катю, толкнул ее к берегу метра на два. Но еще столько же до него. Берег в этом месте обрывистый, и дна нет, не за что зацепиться. Скованная смертельной судорогой, Катя отчаянно схватилась за вожатого. Она продолжала тонуть и понимала, что он теряет силы вместе с ней, и надо бы его отпустить, иначе вместе пропадут, но как отпустить-то? Наконец, исхитрившись, он все-таки высвободился, так же ловко поднырнул под нее и снова толкнул Катю к берегу. Оттуда уже тянулись руки, много рук, подхватили ее.
Она лежала на траве, отплевывалась от речной воды, кашляла, пытаясь выкашлять реку, своего врага, плакала, снова кашляла. Володя рядом на коленях держал ее ногу, разминал ее – как он понял про судорогу? Лицо у него такое мокрое, силился что-то сказать, но только качал головой на нее. Река гудела рядом, и Катя думала, что гудит она недовольно, даже злобновато: вот не дали проглотить девчонку, вырвали из коричневых волн.
* * *
В походе всю ночь была сухая гроза, раскаты грома прямо над поляной, страшно мелькали молнии, топали ежики. Ни дождинки не пролилось в душной ночи. Влюбленные парочки разбрелись по поляне, томно перешептывались вокруг, целовались, само собой. Володя делал вид, что ничего этого не замечает, посмеивался, подбрасывая в костер сухие сучья. Катя иногда слышала в темноте тихий смешок Коваль, и там же у дикой яблоньки мелькал огонек сигареты ее парня. Курили много в этом походе: кто от любви, кто оплакивая ее. Благо Анна Федоровна осталась в лагере: у Германа из почки вышел камень. Разочарованные в любви курили одни по кустам или горестными группками, вздыхали. Черника не курила, но сидела насупленная у костра еще с двумя такими же девочками, обойденными любовным везением. Может быть, жалела о сомбреро, подаренном ветреному Гусеву. Полночи они пели щемящие песни, потом тут же у костра легли спать, завернувшись в одеяла. Как будто боялись пропустить что-то еще очень важное и хорошее, что непременно разыграется здесь, уйди они в палатку.
Гусев появился из темноты с тремя девочками, пресыщенно поедая шоколад, преподнесенный кем-то из них. Расположился на камнях напротив Кати в одеялах и поклонницах, и Катя жалела, что они нашумели этой своей опекой над Гусевым, шелестят фольгой, кашляют, и не слышно больше ежиков, а гром слышно.
Она вдруг испытала такое острое чувство счастья, как еще никогда в жизни. От прозрачного языкатого огня, от молний в небе, стихших ежиков, от теплой пятки Черники, разметавшейся на земле, от того, что рядом невидимый, она просто не смотрела на него, сильный, голубоглазый Володя, и иногда – она верила, неслучайно – их плечи и локти соприкасаются. И даже Гусев, красивый и сердитый, был составляющей этого счастья. И светлячок сигареты рядом со смехом задавалы Коваль.
С первыми розовыми лучами откуда-то из-за гор исчезло все, кроме этого ощущения счастья. Кате показалось, что за ночь оно так разрослось в ней, что теперь хватит на всех. Совсем сонные, но какие-то радостные, они брели обратно, позабыв об обидах, о злости, о любви, сбывшейся и не очень, или, может быть, наоборот, все в этой любви, шли и думали о том, что впереди еще целый огромный день в лагере, чудесный последний день, да и хорошо, что последний, уже охота домой, и чтобы осенняя прохлада и новый портфель, учебники пахнут типографской краской и клеем.
* * *
Катя грела обед и злилась на то, что ей снова сейчас топать в школу из-за совета дружины, хотя в сентябре она вступила в комсомол и, казалось бы, никакого отношения к пионерии уже не имеет. Но старшая вожатая Раиса попросила ее еще годик повозглавлять дружину, если ей, конечно, не трудно. Да не трудно ей. Она даже любила все эти советы, и праздничные линейки, и свое звонкое и требовательное «дружина, равняйсь, смирно», и когда ей сдавали рапорт, а минуту молчания Катя объявляла так, что даже у учителей мороз по коже. Но сейчас некоторые ее одноклассники и Быковский, который ей страшно нравился, пошли к Ленке Яныгиной, просто так посидеть, пока родичи на работе. Катю звали, конечно, но у нее совет дружины – Быковский ржал.
Часто второпях Катя ела обед из кастрюли – посуды меньше мыть, не надо с разогревом возиться. Мама не догадывалась – все счастливы. Но на днях в книге по этикету она наткнулась на абзац о самоуважении – там как раз приводился пример с поеданием супа из кастрюли. Всю неделю Катя продолжала есть из кастрюли, но уже беспокойно, с оглядкой: мысль о самоуважении отравляла ей прежде веселое преступление. Книга призывала сервировать стол даже в кромешном одиночестве. Сегодня, вздохнув, Катя переложила немного плова в маленькую сковородку и вот грела его под крышкой – в порядке самоуважения, – грустно улыбалась себе. Грустно, потому что ревниво, как там они у Яныгиной.
В дверь позвонили. Катя, облизывая ложку, заглянула в глазок. Радостно заверещала, путаясь в замках и ложке. С размаху бросилась на шею негаданному гостю: «Володечка!»
В это невозможно было поверить: он шагнул в прихожую прямо из того летнего мира, в котором она его оставила, из которого он писал раз в неделю все эти три месяца, мира, пахнущего водорослями и защитным кремом Коваль, рекой и немного хлоркой. Ни словечка о приезде, как снег на голову.
Катя его тормошила, пока раздевался, мыл руки, и в кухне тоже: как? почему? какими судьбами? – где Сочи и где Сибирь. Он неизменно отвечал: «Вот, к тебе приехал». Она смеялась, отмахивалась – ей не нравился ответ.
– Ну правда? – тянула.
– Ты всегда так ешь? – Володя присвистнул на накрытый стол. – Ты прямо как моя мать, тоже не выносит, когда хлеб прямо на стол ложат, на блюдечке ей подавай. А нам с батей хоть на газете.
Рассказал, что решил поработать здесь, в Якутии. Свободный человек, имеет право, здесь рубль длиннее – а ты что, не рада? – и вообще интересно же.
– Рада, конечно, просто неожиданно, – отвечала растерянная Катя.
Они позвонили Чернике и через ее крикливую радость все-таки разобрали, что в ее школе позарез нужен старший вожатый, и комнату дают, прежний здесь прямо в школе и жил, и пусть Володя немедленно едет к ней, она встретит их в фойе.
– Тогда на совет дружины сначала, ты подождешь меня – это недолго, часик где-то. Постараюсь быстро, – лихорадочно засобиралась Катя. – А потом к Галке. Правда, это на окраине, в Гимеине, но ничего, ничего. Я не знаю, почему этот район так называется.
Катя хотела добавить, что будет часто их навещать, но не добавила.
По дороге в школу Володя расспрашивал о делах, и Катя, привирая, охотно поделилась о своем затянувшемся командирстве, и как устала от него, такая нагрузка, экзамены в этом году, но она не может подвести Раису. Кате даже нравился этот взрослый разговор и то, что Володя так разволновался за нее, ну а потом – надо же было о чем-то говорить.
Вот только немного неловко за его вид. Она вдруг заметила, что выше его ростом, и у него какая-то слишком крупная голова в шапке из жесткой нутрии, мятое пальто странного розовато-горчичного оттенка, а шарф мохеровый, как у цыган. От него веяло какой-то южной бедностью – здесь так не одевались. Ветер сыпанул им в лицо снегом, и было видно, как холодно ему в этом нелепом осеннем пальто.
Володя заглянул в горнистскую уже в самом конце совета, вызвал Раису – на минуточку, – и Катино сердце сжалось.
Так и есть: они стояли у подоконника, все важные школьные дела – всегда у подоконника. Раиса в красных пятнах, сузив глаза, смотрела, как Катя идет к ним на ватных ногах.
– Что же молчала, Максимова, что такой груз на тебе? Сказала бы… – Раиса смотрит с насмешливой болью. – С понедельника свободна.
* * *
Инфекционный корпус поискали, хотя папа уже был здесь. Два часа дня, а серая морозная мгла поглотила все звуки, людей, и, кажется, жизнь остановилась. Минус сорок семь на улице, туманище. Тянется через больничный двор обмерзшая теплотрасса в огромных желтых сосульках и тальник вкривь и вкось под толстым слоем инея. Папа дернул ручку задубелой двери, и сразу больничный дух ударил им в нос. Катя скривилась, подобралась вся, брезгливо пропуская санитара в телогрейке с какими-то пронумерованными флягами. Володю ждали у растрескавшегося подоконника в масляной краске, запах мокрых окурков из банки.
Родители опекали его с первого дня. Мама отдала перешить папин овчинный тулуп для Володи, а женщины с ее работы передали ему старенькие унты. Он приходил по воскресеньям, и они обедали в скучных беседах о его делах, потом Катя старалась сразу перейти в гостиную к телевизору, чтобы не оставаться с ним наедине в ее комнате. Сначала она перестала смеяться его шуткам, а потом и вовсе под благовидным предлогом пропустила три воскресенья подряд. Он понял, больше не появлялся, а под Новый год Черника позвонила, что Володя угодил в больницу с гепатитом.
Папа уже навещал его в январе с паровыми котлетами в банке. Катю щадили – из-за морозов и еще из-за чего-то такого, во что она не вникала, но радовалась тихой поддержке родителей. Мама было поворчала, что надо навестить Володю ей, бессердечной, на что Катя вспылила: «Я его звала сюда?» Родители переглянулись и оставили ее в покое. Катя заметила, что они рылись в Володиных письмах к ней, хотела разораться, но потом только усмехнулась: не к чему там придраться, пусть хоть обчитаются. Самое интимное – «А ведь я ругаю тебя, Катенька, что ты постриглась, так красиво тебе было с косой».
Целую осеннюю неделю она крутила эти слова в голове с нежностью и волнением. Еще там было «полюбил я тебя, чертяку», но это как-то совсем по-колхозному, она не хотела это помнить.
Сегодня, когда папа уже топтался с сумками на пороге в запахе горячей курицы, она не выдержала и крикнула ему: я с тобой.
Заразный Володя с ходу пожал папе руку, и Катя видела, как теперь тот все время думает об этой руке и даже немного отводит ее от полушубка. Володя в больничном халате разорялся, как ему здесь осточертело, кормежка совсем дрянь, а вот соседи по палате – ничего, душевные все; на Катю он старался не смотреть. Закурил.
– Выпишусь – домой на море сразу, сил никаких тут нет, – он выдохнул в них вонючий дым.
«Давай-давай», – думала Катя, разглядывая его треники из-под халата и кожаные тапки.
На улице папа долго тер руки снегом.
* * *
Воскресным весенним утром мама заглянула к ней в комнату: Володя придет прощаться, хочешь – уходи. Конечно, она ушла, слонялась по друзьям, погуляла немного, два раза обошла школу, посидела на скамейке в соседнем дворе и, решив, что опасность миновала – а если нет, ей что, всю жизнь по улицам шляться? – медленно направилась к дому.
Он вылетел из-за угла прямо на нее с порывом ветра с протоки. Был холоден, прощался, почти не разжимая губ, под парами какой-то своей невыносимой правоты. Катя разглядывала его облезлую нутрию, все еще немного желтушные глаза слезились от ветра, вывеска «Ткани» за спиной. Пошел от нее легко.
А она, наоборот, маленькой старушкой еле-еле волокла ноги, обходя апрельскую слякоть, но у самого дома все равно угодила в глубокую лужу с синим небом – сапог насквозь. За лестницей у почтовых ящиков забилась на корточках в самый темный угол и горько заплакала.
Девять дней
Петр Григорьевич Хромов проснулся непривычно радостным, с легкой головой, сто лет так не было. Выбираясь из сонной болотинки, вспомнил, что он за тридевять земель от дома, и вчерашние события все припомнил – ах, вчера случилось такое…
– Вот черт, – Петр Григорьевич зарылся в подушку. – Вот черт.
Лежал с закрытыми глазами, и ему казалось, что он парит над кроватью в подвижных солнечных пятнах; в открытое оконце тянуло морем и тушеными синенькими. Он сонно сощурился на часы: рано-то еще как. Осторожный шелест шин прямо у дома. Было слышно, как за забором дышит соседская овчарка, просунув нос между ржавыми прутьями, шуршит иногда в каких-то пакетах.
Сюда в поселок Хромов приехал хоронить тещу. Жена от известия угодила в больницу, давление скакнуло, он растерянно бросился к детям: кто-то должен проводить бабушку – где там, глаза вытаращили. Он было заартачился, никак ему – первый зам председателя облисполкома, – но жена, глядя на свои руки поверх одеяла, тихо сказала: «Мать моя, Петя». Вот и занесла его судьба на юг – некому такое поручить.
С похоронами помогла двоюродная племянница тещи, Катерина, из дальней станицы примчалась. Вздыхала вокруг о хозяйстве брошенном, о курочках, садике, индюк вон, как же без догляда. Хромов морщился, обещал до отъезда все решить.
Он вышел во двор с полотенцем через плечо, махнул Катерине, которая стерилизовала банки на летней кухне; рядом в тазу млело темное варенье. Она было заговорила с ним, по-южному громко, почти закричала свое «наспалися».
– Не шуми, перебудишь всех, – приложил палец к губам.
Он просто не хотел, чтобы там, за соседским забором, услышали, что он встал. Потому, выйдя из калитки, повернул налево, хотя направо к морю было короче. Шагал широко, чтобы поскорее скрыться за углом, так спешил, что на повороте его чуть не занесло. «Как мальчишка, ей-богу, от баб бегать», – хмыкнул Петр Григорьевич.
На пляже, пустынном в этой части поселка, первым делом нашел глазами место, где ночью были с соседкой Тасей. Вчера после поминок она помогала Катерине с посудой, и он, заметив, что заканчивают, крикнул им, что пошел прогуляться. Подождал у Тасиной калитки, предложил к морю сходить. Вон там и сидели, разговаривали, о теще она много рассказала, конечно. Ему показалось, что Тася первая потянулась к нему. Выпила женщина, ничего страшного – он сам уже четырнадцатый год как ни грамма, – ну и поцелуями-то не кончилось вчера. Петр Григорьевич снова разволновался, вспомнив, как блестела тускло под звездами ее маленькая грудь, принялся размышлять, от природы Тася вся такая смуглая или просто загорала голяком. Как подросток, ей-богу, рыбка серебристая.
Он заплыл далеко, был очень собой доволен: и заплывом, и ночным приключением – лишний раз подтверждение, что мужик он крутой, не старый совсем. И долго еще потом качался на волнах долговязой звездой, как всякий северный житель, радуясь сентябрьскому морю и солнышку, такому неожиданному воскресенью, радовался, несмотря на печальный повод.
– Не, ну а чё, тещу схоронил, бабу окучил, наш пострел… – красовался он сам перед собой, растираясь полотенцем.
Хромов не был циничным; прямолинейным – да, бывало, рубил сплеча, мог острить на грани, но циником себя не считал. И прямоту, и шуточки ему легко прощали, вернее, даже не замечали. За красоту.
В молодости Петр Григорьевич был ослепительно красив. Женщины всплескивали руками: ну вылитый Александр Абдулов! В ответ он улыбался – так у него же глаза карие, – намекал на то, что тут еще кого с кем сравнивать. Тогда все эти женщины говорили: «Ах, какие же у вас синие глаза». К его пятидесяти пяти глаза, конечно, подвыцвели, да и волосы почти все седые, морщин тьма, но фактура, шик никуда не делись, уши какие породистые – нет, Петр Григорьевич был по-прежнему хорош собой.
Две тетки топтались рядом на гальке с расправленными в руках полотенцами, прикидывая, где им расположиться. После тихих споров уселись метрах в двух от него. Хромов глазам своим не поверил.
– Чё, больше-то места не нашлось? – поднялся он, выразительно оглядывая безлюдный пляж.
Оробевшие женщины не знали, что теперь делать с виноградом, кроссвордами, которые только что выгрузили из корзинки. Та, что успела стянуть с себя платье, так и застыла с ним на коленях, боясь даже глаза поднять на величественного Петра Григорьевича, нависшего над ними.
Он пошел посмеиваясь, качая головой с красивой седой стрижкой: вот курицы. Это происшествие только улучшило его великолепное настроение.
На обратной дороге он вдруг понял, что готов пройти мимо соседской калитки, он очень хочет там пройти.
Свернув на свою улочку, он сразу увидел Тасю. Она провожала куда-то девчонку лет 14 с тяжеленьким пакетом в руках. Наставляла вслед:
– Много будут брать – уступи, – подтолкнула девочку между лопаток. – Беги уже. Слышь, уступи, если много.
– Здравствуйте, Татьяна… – церемонно раскланялся Хромов.
Он хотел назвать ее по отчеству, как называл на людях всех своих любовниц, но кто б знал это отчество.
– Не знаю, шо наторгует, – ее глаза смеялись. – Как водичка, Петр Григорьевич?
Какая красивая сегодня, брови прямые, темные, блестящий висок, такая узенькая вся, неужели и вправду кубанская казачка, как Катерина рассказывала?
– В самый раз водичка. На базар, что ли? Чем торгуем? Ягоды? – он был недоволен своим голосом, какой-то старичок-бодрячок.
– Яхыды? Не, то инжир, последний уже. На базар далеко – на автобусы ходим, к остановке. – Она вдруг спокойно развернулась к себе во двор, приговаривая: – Не знаю, шо наторгует.
Хромов удивился – никогда его женщина вот так первая не уходила, и ведь она не обиделась, нет, просто решила, что поговорили, хватит: дела у нее, и у него дела, – лихо! «Заманивает, наверное», – успокаивал он себя за «яйишней», наблюдая, как Катерина тащит к столу дымящуюся турку.
Хоть бы принарядилась, опять горько вспомнил он, сарафанчик старенький, даже не накрасилась. Вдруг представил, что сарафан этот в цветочек был, скорее всего, на голое смуглое тело – низ его ожил, кровь к лицу. В сердцах стукнул об стол дном фарфоровой чашки – да что со мной.
«Так она слышала, как я на море уходил, и вышла с инжиром своим, подгадала, когда мне назад», – Петр Григорьевич смотрел, как раскладывает на уже чистой сухой клеенке Катерина все тещины бумаги.
– Катя, – сердечно сказал он, положив свои длинные пальцы на кряжистую ладонь далекой родственницы. – Ты поезжай сегодня, как хотела. И на девять дней не надо, вон мне Тася поможет, попроси ее. Отдохну здесь, полтора года ведь без отпуска, осмотрюсь, подумаю, что с домиком дальше. Тебя не забудем, не волнуйся. Только я сейчас один хочу.