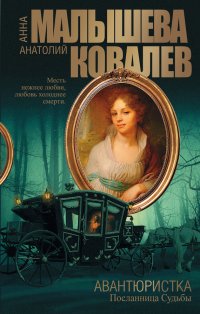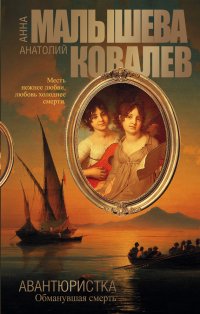Читать онлайн Отверженная невеста бесплатно
- Все книги автора: Анатолий Ковалев, Анна Малышева
Глава первая
«Царев человек». – Фальшивый изумруд и поддельный полковник
Ельник, что тянулся вдоль большой дороги, был настолько стар и гнил, что не нашлось охотника выкупить его у разорившегося барина. Суд отобрал его в казну. Лес было решено пустить на дрова, а вырученной от продажи дров суммой покрыть часть долгов. Об этом в первую очередь был извещен староста деревни Епифан Скотников, так как управляющий имением находился в бегах. Проворный немец, почуяв, что запахло жареным, прихватил последние денежки своего хозяина и был таков.
Староста, щуплый на вид, «дохлехонький» мужичок, с жиденькой в три волоска бороденкой, пригласил к себе братьев Никитиных, местных деревенских лесорубов, и сказал им, лукаво прищурив маленькие наглые глазки:
– Зачните рубить ельник-от не со стороны деревни, а зайдите с Большой дороги…
– А нам какая в том корысть, две версты лишних по кочкам ноги бить? – грубо оборвал старший брат Демьян, сильно недолюбливавший старосту за его оборотистость и хитроумие. Тот ссужал земляков деньгами и мукой за безбожные проценты.
– Нам не расчет кажный день крюк давать, домой и к ужину не поспеем, не то что к обеду! – подхватил младший брат Потап.
– Да выслушайте-от сперва, прежде чем ерепениться!
Скотников знал, что Демьян его прилюдно называет «жидомором» и «кровососом», однако ничего до сих пор против него не предпринял, потому как побаивался. Старший Никитин слыл на деревне колдуном. Пустые языки трепали, будто он может увидеть прошлое и будущее человека, едва лишь на него глянув. Практичный и расчетливый Епифан Скотников не сильно россказням верил, однако предпочитал не злить Демьяна.
– Через три дня сюда понаедет-от начальство, – сообщил он, – пригонят из управы приставов. Начнут ельник-от мерить да усчитывать…
– А тебе-то чего? Твой он, что ль? – все еще не понимал Демьян.
– А вот чего, – снова прищурил глазки Скотников. – У нас-от ноне всего три дня, не боле. Надыть свезти дрова на двор лесничему Петру Селянину. Его изба как раз стоит-от на отшибе, у Большой дороги.
– Упрятать хошь от начальства? – с презрительной усмешкой бросил старший Никитин.
– Ясно дело, – подхватил Потап. В деревне его считали немного придурковатым, не имевшим своего ума. Лет ему уже было за тридцать, но до сих пор он во всем и всегда слушал и поддерживал старшего брата и жил его мозгами. – А после продаст, а барышом поделится с лесничим!
Обрадовавшись собственной догадке, Потап даже хлопнул в ладоши.
– Небось, не впервой у барина воровать? – все больше злился Демьян.
– Да уж, как липку, бедненького обобрал-от! – рассмеялся староста. – В одних подштанниках по миру пустил гуляти!
Братья не понимали шуток и потому недоуменно переглядывались, внимая «злодею». Отсмеявшись в полном одиночестве, Епифан Скотников строго посмотрел на Демьяна и, погрозив ему пальцем, сказал:
– Ты мне это брось! Барин наш сам себя обворовал-от картежной игрой и прочими-от соблазнами. Ему ноне от тюрьмы никак не отвертеться. А нам-от, неповинным холопам его, придется зиму без дров куковать.
Староста сделал паузу, чтобы посмотреть на реакцию братьев. Демьян сохранил лицо неподвижным, а Потап напротив: раскрыл от удивления рот, выпучил глаза и ударил себя кулаком по лбу.
– У нас всего ничего, три дня… Лесом бы надо запастись. Для мира постараться, для деревни…
Епифан произнес все это тихо, не выказывая особого торжества над простодушными братьями. Кому, как не ему, знать, чем грозит крестьянским семьям вырубка старого ельника, богатого грибами да ягодами, тетеревами да зайцами. Всего этого они должны в одночасье лишиться. А в ореховую рощу их не шибко-то пускают. Соседский помещик весьма строг на этот счет. Завел такого вурдалака-егеря, что тот даже детей не щадит, палит из ружья без предупреждения.
– С Богом, – сказал староста на прощание присмиревшим Демьяну и Потапу и даже перекрестил обоих.
Братья работали не покладая рук от рассвета и до заката. Время от времени к ним приходил на помощь кто-нибудь из сельчан, оторвав драгоценные минуты от посевной страды. Дел у мужика весной невпроворот, и эта помощь дорогого стоила.
Стоял необычно жаркий для северных губерний месяц май тысяча восемьсот тридцатого года. Вместе с жарой распространялись и слухи. Поговаривали о восстании в Польше, о будто бы неизбежной войне с Персией, о неизвестной болезни холере морбус, объявившейся на юге страны. И, как всегда, шептались об отмене крепостного права. Слухи о воле начали ходить сразу после изгнания французов. Ждали от царя, прозванного Благословенным, высокой милости, а дождались скупых слов в манифесте: «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду от Бога…» «От Бога, значит! – горько вздыхали мужики, расходясь из церквей после чтения манифеста. – Не заслужили, стало быть… Зря понадеялись…» Теперь приходилось уповать на нового государя. Слыхали мужики от верных людей, будто бы батюшка царь Николай Павлович как раз такие намерения имеет и что «отпустит» крестьян в тот самый день, когда женит наследника престола. Великому князю Александру шел уже двенадцатый годок, а значит, ждать оставалось недолго. «Ничего, двести лет терпели, еще малость потерпим», – говорили мужики и, крестясь, снова брались за работу.
Два дня стояла прекрасная погода, а на третий испортилась. К ночи началась гроза, перешедшая в нешуточную бурю. Ветер был такой силы, что вырывал деревья с корнями. К утру буря стихла, но до полудня поливал дождь. На этот раз никто не пришел братьям на помощь, однако и деревья не приходилось валить, вполне хватало бурелома. Два коня-тяжеловоза, вязнувшие в грязи по брюхо, сегодня вели себя беспокойно, часто прядали ушами, фырчали и издавали тревожные, жалобные стоны.
– Слышь, Демьян, – обратился Потап к брату, когда они нагрузили обе телеги сырыми, тяжелыми дровами, – чего это с лошадьми?
– Кажись, мертвяка чуют, – спокойно ответил тот.
– Какого мертвяка? – перекрестился Потап. – Откель ему тут взяться?
– А увидишь, – загадочно произнес Демьян.
Когда они вернулись от лесничего с порожними телегами на старое место, кони, прежде всегда послушные, начали артачиться и вставать на дыбы.
– Да чего это с ними, с чертями окаянными! – не выдержав, закричал Потап и принялся осыпать взмокших животных ругательствами.
– Погоди чертыхаться, братуха! Брось коней, не трожь!
Демьян внимательно осмотрел все вокруг. Дождь уже кончился. Выглянуло солнце. От земли медленно поднимался благоухающий травами пар, словно невидимый великан раскуривал свою огромную трубку. Старший Никитин сделал несколько осторожных шагов вперед, остановился перед поваленным деревом. Дальше тянулось болото, сплошной бурелом: громадные ели, выкорчеванные ночным ураганом, лежали вперемежку одна на другой. Окинув их острым взглядом, Демьян вдруг замер на месте, уставившись в одну точку. Потап, подошедший сзади, шепотом спросил:
– Чего там?
С кривых корней старой разлапистой ели свисал большой полусгнивший тряпичный сверток. Подобравшись ближе, братья разглядели торчащие из-под тряпки череп скелета и окостеневшую кисть руки.
– Вот те и мертвяк, – констатировал Демьян.
– Откель он тут? – прошептал потрясенный увиденным Потап.
– Откель-откель, – передразнил его брат. – Нас это не касаемо. Гони-ка ты ужо в деревню за старостой, – строго приказал он, – а я покамест топором помашу. Денек не ждет…
Демьян чуждался покойников и брезговал ими. Он больше ни на шаг не приблизился к скелету и, как только Потап скрылся за деревьями, отошел подальше от того места и принялся рубить деревья с особым рвением. Но в какой-то миг остановился, разогнул спину, замер на месте. Топор выпал у него из рук. Он смотрел в сторону болотца, взгляд сделался туманным, потусторонним. Его вдруг затрясло, залихорадило, и весь он облился потом…
Епифан Скотников хоть и был мужиком «дохлехоньким», но оказался храбрее братьев. Подошел к находке вплотную и стал досконально ее рассматривать, то и дело причитая:
– Ну, не ко времени-от! Чуток бы еще в землице полежал, отдохнул бы-от. Так нет же, выпрыгнул, как черт из табакерки!
– Ты баешь так, будто с малых лет с ним водился, – крикнул с другого конца поляны Демьян, продолжая работать.
– Не-а, я с барами не вожусь, – ответил староста.
– Откель ты взял, что он из бар? – вмешался Потап, ловко орудуя топором.
– На туфель-от глянь!
– На какой такой туфель? – не понял тот.
Примерно в трех саженях от скелета на болотной кочке действительно лежала черная туфля, по-видимому, слетевшая с усохшей ноги во время бури.
– У нас с тобой-от лапти, а у бар туфель, – доходчиво разъяснил Скотников.
Он взял туфлю и покрутил ее в руках.
– Подкова-от жалезная…
Староста поскреб пальцем каблук, очистив его от грязи, и продолжал:
– На ей закорючки каки-то… Буквы, что ль? Не наши вроде… И цифири…
– Как мыслишь, давно он тут «отдыхает»? – спросил Демьян.
– Давненько…
– А на костях еще кой-где мясцо видать, – брезгливо поморщился старший Никитин.
– Цифирь тут, Демьян, на подкове-от, – не своим голосом заговорил Скотников, – тысяча осемьсот двенадцать…
– Двенадцатый год?! – разом воскликнули братья, раскрыв от удивления рты.
– Тут копытом сам леший-от вдарил, не иначе! Чтоб его, паскудника, подбросило да об земь треснуло! – запричитал староста и заметался по поляне, размахивая руками. – Не ко времени нам этот барин-от! Лес не успеем заготовить, как понаедут приставы. Еще того хуже, начнут деревенских-от в управу таскать, душу выматывать!
– Погоди, Епифан! – перебил его старший брат. – Неча зря языком молоть! Ты когда в управу собирался?
– Завтра о полудни…
– Вот и езжай. Ему, – он кивнул в сторону болотца, – все едино, хоть и завтра. Он тут скольки пролежал?
– Скажешь там, мол, после бури покойник из болота вышел, – вставил Потап и тут же добавил, разведя руками: – А кто таков, не знамо…
– И насчет деревенских, ты опять же зря, – продолжал успокаивать старосту Демьян. – До деревни отсюдова две версты, а то и поболее будет, а Большая дорога – вона, рядом! – Он указал в сторону тракта и заключил: – Дураку понятно, что его с дороги снесли сюда и кинули в трясину…
– А ведь и верно, – припомнил Скотников, – прежде тут трясина была, а ноне обмельчало…
Доводы Демьяна его немного успокоили. Он присел на поваленное дерево и задумался. Братья ни на секунду не останавливались: очищали стволы деревьев от веток, разрубали на несколько частей, взваливали на телеги. Епифан почесал в затылке, достал из-за пазухи мешочек с махоркой, открыл его и протянул братьям со словами:
– Угощайтесь махорочкой-от, работа пойдет повесельче…
Если бы старшему Никитину три дня назад кто-нибудь сказал, что «жидомор» будет делиться с ним махоркой, он рассмеялся бы тому человеку в лицо. А если бы тот еще добавил, что Демьян одолжится табаком у кровососа и скажет ему «благодарствуйте», то разговор бы и вовсе закончился руганью.
Братья еще долго оглашали ельник звонким чиханием, а староста ходил по крестьянским избам, сбивал мужиков в помощь Никитиным. Он решил ехать в управу с самого утра, предчувствуя для деревни огромные беды из-за найденного в лесу покойника.
Приехавшие на другой день полицмейстер и частный пристав тоже были весьма озадачены, после того как братья Никитины с трудом сняли скелет с корней старой ели, проросших сквозь него тут и там. Из полусгнившего плаща выпал кожаный футляр, ставший бурым от болотной тины, а также три небольших цилиндра, разных в диаметре.
– Вот те на! – воскликнул полицмейстер Тихомиров, долговязый, с белесыми усами и сморщенным наподобие моченого яблока лицом. – Футлярчик-то из воловьей кожи, непотопляемый.
– И труба в придачу, – добавил пристав Костюков, неловко скручивая цилиндры в подзорную трубу. Его звероватое, опухшее после многодневной попойки серое лицо, заросшее грязной щетиной, казалось сонным, бесцветные навыкате глаза, посаженные необыкновенно близко по бокам кривого носа, обильно слезились с похмелья.
– Это что ж получается? Господин морской офицер изволили-с утонуть в нашем болоте? – прыснул долговязый.
– Выходит, так, – вяло усмехнулся кривоносый и слегка трясущимися руками расстегнул футляр.
Окружившие полицмейстера и пристава крестьяне с нескрываемым любопытством придвинулись поближе, в надежде увидеть что-то из ряда вон выходящее.
– Куды прете! – заорал на них Тихомиров, схватившись за эфес сабли.
Мужики отступили, но взгляды их прямо-таки впились в футляр. Каково же было их разочарование, когда запойный пристав извлек оттуда слежавшуюся бумажонку. По поляне волной прокатились вздохи. Кое-кто махнул рукой и пошел восвояси. Однако жандармы воодушевились.
– Казенная вроде, – пробормотал Костюков.
– Ну-ка, дай! – выхватил у него бумагу полицмейстер и первым делом стал рассматривать подпись и печать.
– Что там? – не терпелось знать запойному приставу, и он попытался заглянуть начальнику через плечо, при этом приподнявшись на цыпочки, так как росточка был совсем невысокого.
– Боже праведный! – воскликнул вдруг тот. – Да ведь здесь подпись и печать покойного государя императора!
– Что же получается? – опешил пристав. – У нас тут в болоте лежит государственное лицо?! Царев человек?!
Мужики настороженно притихли. Слишком долго ждали милости от Благословенного, а не дождавшись, не решились впрямую его обвинить в несправедливости. По губерниям ходили смутные толки, что воля все же была дана, но ее утаили чиновники и помещики. И вот, покойный царь посылал им с того света весточку – за своей подписью, за печатью… Может, не напрасно случилась вчера ночью буря? Может, пришла свобода от постылого ярма и принес ее «царев человек»?
Староста, никаких иллюзий не питавший, услышав про царскую печать, схватился за голову, будто прикрывая макушку от топора.
– Эй, Епифан! – подозвал его к себе Тихомиров. – Вели соорудить гроб и перевезти покойника в управу. А ты, Костюков, – обратился он к приставу, – собирайся-ка в Петербург, с докладом в Третье отделение. Дело-то не шуточное.
Частного пристава Костюкова в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии никто из высших чинов принять не пожелал. Ему пришлось общаться с низшими чинами, которые ничего решить не могли. Однако кожаный футляр с бумагами «государственного лица» был у него изъят.
– Теперь месяца три канитель эта будет тянуться, а то и более, – возмущался полицмейстер Тихомиров. – А что нам делать с мощами прикажете? – обращался он неведомо к кому. – Уже вся управа провоняла гнилью!
Покойник и в самом деле пованивал, но хуже того – в управу начали стекаться любопытные крестьяне из окрестных сел поглядеть на «царева человека», о котором ходили уже самые невероятные слухи. То обстоятельство, что на костях скелета кое-где сохранилось мясо, растревожило людскую фантазию. Иные уверяли, будто покойник, пролежав много лет без гроба в сырой земле, сохранился целиком, без всякой порчи. К этой басне немедленно прибавили, что мертвец источает благоуханный аромат. Посыпались настойчивые вопросы попу местного прихода «Не святой ли это угодник или мученик, принявший праведную смерть, лежал столько времени в нашем ельнике?» Приставы целыми днями гоняли мужиков и баб от крыльца управы, чем порождали еще больше нелепых домыслов.
Все разрешилось неожиданно скоро. На третий день после визита пристава Костюкова в Третье отделение из Петербурга прибыл статский советник Дмитрий Антонович Савельев, назначенный расследовать обстоятельства гибели найденного человека. Столичный гость оказался весьма приятной наружности и мог бы даже считаться красавцем, если бы не шрам на левой щеке, от глаза до подбородка, отчасти скрываемый пышной бакенбардой. Несмотря на свои сорок два года, выглядел он моложаво. Смуглое красивое лицо его не было еще прорезано ни единой морщинкой. Спину при ходьбе он всегда держал ровно, словно гарцевал в седле. И только едва припудренные сединой виски выдавали истинный возраст статского советника.
Он явился в управу внезапно, без предупреждения, приехав в казенной, а не в личной, запряженной цугом, карете, как обычно являлись большие начальники. Представившись оторопевшему полицмейстеру Тихомирову, Дмитрий Антонович сразу поинтересовался:
– Где вы держите тело?
Придя в себя после длинной паузы, Тихомиров встал во фрунт и отрапортовал:
– Так что, осмелюсь доложить, «цареву человеку» выделено отдельное помещение, ваше высокородие… Тут рядом, в сарайчике.
– «Царев человек»? – с улыбкой перебил статский советник. – Вы его так прозвали?
– Мужики нарекли, Ваше высокородие, – смущенно пояснил тот. – Как прослышали про бумагу, подписанную покойным государем, так и нарекли…
Едва взглянув на останки «царева человека», лежавшие уже в дешевом сосновом гробу, Савельев попросил бумагу и перо. Даже не морщась от удушливой вони, он присел на лавку рядом с телом и, согнувшись, быстро начеркал две короткие записки. Стоявшие рядом навытяжку полицмейстер и частный пристав Костюков старались дышать пореже, не смея в присутствии высокого чина прикрыть носы рукавами или платками. Их сильно мутило.
– Отвезете вашего «царева человека» в анатомический театр, что на Васильевском острове, передадите его профессору Цвингелю. Здесь адрес и фамилия профессора, а здесь записка для него самого, – передал статский советник обе бумаги Тихомирову. – Все понятно?
– Разрешите исполнять прямо сейчас? – не веря своим ушам и глазам, уточнил полицмейстер.
– Немедленно! – в голосе чиновника зазвенел металл.
– Ах, как нам вас и благодарить, ваше высокородие!.. – залепетал было Тихомиров, но статский советник оборвал восторги подчиненного.
– Но-но, – сказал он строго, – приберегите благодарности на будущее. – И, поднявшись, приказал: – Велите позвать мужиков, нашедших труп. Пусть укажут место, где его обнаружили, и пусть захватят с собой лопаты.
Демьян Никитин и староста Епифан Скотников привели столичного начальника, в сопровождении жандармов, на ту самую злосчастную поляну с остатками болота.
– Вот здесь-от на корнях висел, – указал староста на размашистые, толстые корни огромного, поваленного бурей дерева.
Демьян предпочитал отмалчиваться, так как остерегался столичных начальников. Мало ли что им придет в голову? Ни за что могут упечь в Сибирь. О таких случаях он был наслышан.
– А далеко ли отсюда до столбовой дороги? – оглядевшись, поинтересовался Савельев.
– Да рукой-от подать, ваше высокородие, – угодливо ответил Скотников. – Саженей двести будет, а то и меньше.
Как бы в подтверждение его слов где-то совсем близко заскрипела крестьянская телега с несмазанными колесами.
– Двести саженей, – задумчиво повторил следователь. – Все же не два шага. Случайно, без цели, не забредешь.
– Не забредал он сюда, ваше высокородие, – вдруг подал голос дотоле крепившийся Демьян. – Его сперва убили, а после кинули в трясину.
– В трясину? – удивился Савельев.
– Прежде здесь топь непролазная была, – вмешался пристав Костюков, радуясь, что может оказаться полезным. – Я как-то весной забрел сюда спьяну, так едва выкарабкался…
Он вдруг осекся, поймав на себе недовольный взгляд начальника. Тихомиров красноречивым движением приказал болтуну замолчать. Это не ускользнуло от внимания статского советника.
– Так значит, ты сразу смекнул, что его убили? – дружеским тоном обратился Савельев к Демьяну. – А как же это? Мне вот и невдомек, как он помер…
– Вот глянул на него, все и увидал… – упорствовал Демьян, не обращая внимания на отчаянные взгляды старосты.
– Что же ты «увидал»?
– Да так, – неопределенно махнул рукой лесоруб, уже жалея о том, что сболтнул лишнее, – а только не сам он утоп…
– Ты давай не юли, – нахмурился Савельев, – говори все прямо! Я тебя за язык не тянул, сам вылез!
– Я чего… я ничего… – забормотал Демьян, виновато косясь то на жандармов, то на столичного начальника.
– Ну ты, дурак, отвечай! – прикрикнул на него Тихомиров, зловеще скалясь.
– В обчем, – нехотя начал тот, – привиделось мне оно…
– Он у нас в деревне, ваше высокородие, вроде колдуна, – улучив момент, пояснил вполголоса староста Епифан.
– Ясновидящий, что ли? – недоверчиво усмехнулся Савельев.
– Во-во, видится ему иногда! – подтвердил Скотников.
Жандармы растерянно переглянулись. Подобное свидетельство положительного и несклонного к мистицизму старосты явилось для них неожиданностью.
– Душегубов было двое, – вещал тем временем Демьян, прикрыв ладонью глаза, – чернявы, смуглы лицом, не из наших мест и говорят не по-нашему. Они покойничка обшарили, забрали у него денежки, опосля раскачали его и швырнули в трясину…
– Они убили его, чтобы ограбить? – недоверчиво спросил статский советник.
– Нет, не то, – покачал головой лесоруб, не открывая глаз. – Они будто не по своей воле это сделали… Над ними больший кто-то был…
– Ты и это увидал? – усомнился Савельев.
– Не… То ись… У них-то у самих на покойника зла не было… – замешкался Никитин. – Да и не сразу они ушли, поковыряли чуток лопатами землю… Будто бы могилу роют… Вид такой хотели дать. Видать, велели им зарыть покойничка, а тут подвернись болото…
– Зачем же они копали?
– А черт их знает! Может, барин приметливый. Углядит, что лопаты-от чистые, стало быть, приказ не сполнен, так задаст им жару…
– Так они что, слуги чьи-то? – зло спросил Тихомиров, которого, очевидно, бесил этот рассказ. Его белесые жидкие усы все заметнее дрожали над оттопыренной верхней губой.
– Не знамо, – покачал головой Демьян, – одежа-то богатая, навроде как у попа в престольный праздник. На груди, на плечах – золото, на рукавах, на спине даже… И кормленые такие, рослые, гладкие, хоть паши на них!
– Да, братец, мастер ты сказки рассказывать! – усмехнулся статский советник Савельев. – Жаль только, видения твои к протоколу не подошьешь, а то б я дело-то и закрыл!
Он велел мужикам отмерить десять шагов вокруг поваленного дерева, на чьих корнях был найден скелет, и копать в два штыка лопаты, тщательно прореживая землю и остатки болотной жижи через специальное сито, которое привез с собой. Провозившись до самой темноты, мужики ничего путного не обнаружили, кроме какого-то полуистлевшего тряпья да нескольких медных монет.
К помощи доктора Иннокентия Карловича Цвингеля Савельеву не раз приходилось прибегать еще в те времена, когда он служил старшим полицмейстером в гаванской управе благочиния. Маленький юркий старичок, всегда безупречно одетый, любящий во всем чистоту и порядок, строгий, как инквизитор, без тени улыбки на бледном, будто высеченном из мрамора лице, мог подробно, в деталях, описать последние минуты жизни почти любого покойника. Он изучал труп любовно долго, медленно продвигаясь вдоль тела, вооруженный огромной, позолоченной лупой. Свой вердикт доктор Цвингель произносил, исследовав желудок и кишки мертвеца, заглянув во все сердечные отделы и препарировав печенку. Вскрыв черепную коробку и извлекши оттуда желеобразный ком слизи, старичок давал заключение даже об умственных способностях усопшего. С помощью этого талантливого фанатика своего дела было раскрыто не одно кровавое преступление.
На этот раз доктор Цвингель был разочарован. Труп, пролежавший в болоте более полутора десятков лет, мог поведать не о многом. К моменту появления Савельева в анатомическом театре старик успел очистить от болотной тины и грязи почти все кости, за исключением лишь скрюченной кисти одной руки. Обширная комната, до потолка облицованная белыми кафельными плитками, была залита ярким утренним светом, проникавшим сквозь не зашторенные высокие окна. Застекленные шкафы, типа аптекарских, щегольски сияли чисто вымытыми стеклами, и даже страшные предметы, заключенные в них, – банки с заспиртованными частями тел и органами, – глядели невинно и приветливо, будто были обычными консервами и хранились в обычной, чистенькой, белой кухне. Хозяин «кухни», такой же чистенький старичок, озабоченно склонялся над телом, распростертым на мраморном столе, как повар, недовольный качеством присланного продукта.
– Увы, у меня такой случай впервые, – нехотя признался он статскому советнику. – Могу только определить возраст, примерно тридцать пять – сорок лет, и сказать, что это кости и зубы вполне здорового человека… Но это может любой анатом…
Доктор замолчал. Он еще ни разу не взглянул на собеседника, из чего можно было заключить, что Иннокентий Карлович не на шутку смущен.
– То есть следов насильственной смерти вы не обнаружили?
– Ни малейшего признака, – покачал головой тот. – Черепная коробка цела и невредима, она не подверглась каким-либо серьезным повреждениям, какие могли бы привести ее владельца к летальному исходу. Ребра все на месте, не раздроблены и даже не оцарапаны…
– Могло быть, к примеру, пулевое ранение в живот? – перебил его статский советник.
– Почему бы нет? – пожал плечами Цвингель. – Предположить можно что угодно. Ведь даже искусный удар ножа или шпаги в сердце мог не задеть ребер. Слишком много времени прошло, ваше высокородие, – заключил он. – Ничего существенного я сказать не могу.
Между тем доктор осторожно протирал тряпочкой ссохшиеся мышцы и кости правой кисти трупа. Вдруг что-то стукнуло о мраморную столешницу и покатилось на пол.
– Господи, что это?! – встрепенувшись, воскликнул Иннокентий Карлович.
Предмет размером с перепелиное яйцо подкатился к ногам Савельева. Он поднял его с пола, взял со стола одну из тряпок, тщательно обтер находку и поднес ее к свету. Это оказался зеленый камень, ограненный в форме капли. Лучи солнца заполыхали в его гранях и отбросили на мрамор дрожащие зеленые блики.
– Изумруд? – удивленно приподнял брови Цвингель.
Статский советник недоверчиво покачал головой.
– Думаю, стекляшка, – предположил он.
– Вы уверены? – переспросил неискушенный доктор.
– Наверняка подделка, – уже без колебаний произнес следователь. – Мне приходилось иметь дело с подобными вещицами.
– А я бы ни за что не отличил от настоящего, – признался Иннокентий Карлович. – Что же делает обыкновенное стекло таким похожим на драгоценный камень?
– Соединение хрома и солей железа в той или иной пропорции могут предать калиевому стеклу разнообразные оттенки зеленого цвета.
Впервые за много лет Савельев выступал в роли эксперта, а не наоборот.
– Так неужели же из-за этой стекляшки… – начал было доктор возмущенным тоном, но статский советник его перебил.
– Ну-ну, не стоит делать скоропалительных выводов, – сказал он. – Пока что все это дело для нас – сплошная тайна. Разрешите?
Следователь протянул руку к позолоченной лупе Цвингеля. Внимательно осмотрев с ее помощью страз, он обнаружил в его вершине сквозное, забитое грязью отверстие.
– Это подвеска. Вероятно, наш герой сорвал ее с костюма убийцы перед смертью, – произнес Савельев и тут же усомнился в собственной догадке. – Если, конечно, мы имеем дело с насильственной смертью. Это мог быть и дорогой ему памятный предмет… Подарок женщины, например, которую он вспоминал перед тем, как покончить с собой. Я еще не исключил возможности самоубийства.
– В самом деле, трудно представить, чтобы на платье мужчины в двенадцатом-тринадцатом году были навешаны подобные безделушки, – согласился с ним доктор. – Здесь не обошлось без женщины.
– Увы, дорогой Иннокентий Карлович, – вздохнул следователь, – загадок становится все больше, а мы пока не в силах разгадать ни одной.
На следующее утро, едва забрезжил рассвет, он уже сидел в своем кабинете, разложив на письменном столе все, что было найдено при трупе: подзорную трубу, подвеску из зеленого стекла и, самое главное, кожаный футляр морского офицера, позволивший сохранить почти невредимыми важные бумаги, которые и побудили главного начальника Третьего отделения в конце концов дать ход расследованию.
Что же это были за бумаги? Первая, та самая, которую полицмейстер Тихомиров выудил из кожаного футляра, оказалась ничем иным, как приказом Его Императорского Величества от десятого декабря тысяча восемьсот двенадцатого года о награждении капитана первого ранга барона Конрада Августовича Гольца орденом Святого Владимира второй степени за отвагу и мужество, проявленные им в бою у села Студенки, во время переправы французов через Березину.
Вторая бумага была подписана адмиралом Чичаговым Павлом Васильевичем, главнокомандующим Третьей Западной армией, и гласила о предоставлении кратковременного отпуска все тому же Конраду Августовичу Гольцу в январе тринадцатого года по случаю его легкой контузии.
Но особый интерес представляла третья бумага, подписанная председателем Департамента военных дел Государственного совета графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым. В ней говорилось о том, что полковник барон Конрад Августович Гольц имеет право на беспрепятственный проезд по всей территории Российской империи и что ему надлежит оказывать всяческую помощь в его путешествии.
Кроме этих трех бумаг в футляре лежала маленькая записная книжка в кожаном переплете. Заметки, сделанные в ней латинскими буквами, не поддавались прочтению.
Когда два дня назад главный начальник Третьего отделения Александр Христофорович Бенкендорф вызвал к себе Савельева, он первым делом протянул ему эту самую книжицу со словами: «Взгляните! Что скажете?»
– Это шифр, ваше превосходительство, – констатировал следователь и недоуменно пожал плечами. Шпионы были не по его части.
– Немецкий шифр, – уточнил шеф жандармов и нервно заходил по кабинету. – А теперь представьте, что эта шпионская книжица с немецким шифром пролежала вместе со своим хозяином семнадцать лет в болоте, в нескольких верстах от Петербурга, между Царским Селом и Павловском. Впрочем, это не все. – Он протянул ему остальные бумаги и приказал: – Сядьте и ознакомьтесь.
Следователь быстро пробежал глазами все три бумаги.
– Что скажете? Они кажутся вам подлинными?
Бенкендорф продолжал ходить из угла в угол. Савельев не мог припомнить, чтобы видел его когда-либо в таком волнении.
– Каждая в отдельности не вызывает у меня подозрений, – признался статский советник, – но все вместе…
– Не вызывает подозрений?
Шеф жандармов наконец остановился, сел за стол и посмотрел на Савельева сурово, даже несколько враждебно.
– Как вам должно быть известно, – начал он менторским тоном, – Наполеон перехитрил адмирала Чичагова и вместе со старой гвардией преспокойно переправился через Березину. Третья Западная армия Чичагова подошла к переправе слишком поздно и вступила в бой со свежими силами маршала Удино. Вряд ли император мог наградить кого-то из офицеров Западной армии за столь блистательно проваленную операцию.
– Однако, ваше превосходительство, силы были слишком неравными, – вставил в свою очередь статский советник. – К Удино присоединился корпус Нея, а затем Наполеон бросил на Чичагова гвардию. Потери французов были огромны. В рапорте генерала Ермолова сказано: «Вся потеря неприятеля принадлежит действию войск адмирала Чичагова». Среди офицеров Западной армии было много достойных награды даже в тот не слишком удачный для нас день.
– Вот как? – удивился Александр Христофорович осведомленности своего подчиненного. – То есть вы полагаете, что бумага неподдельная?
– Я ничего не полагаю и тем паче не предполагаю, ваше превосходительство. Я доверяю только фактам. Нужно проверить в архиве Военного министерства список награжденных офицеров от десятого декабря тысяча восемьсот двенадцатого года, – заключил Савельев.
– Это, во-первых, – одобрительно кивнул Бенкендорф. – Во-вторых, мне показалось странным, что в то время, когда наша армия после столь кровопролитных боев испытывает нехватку в офицерском составе, Чичагов отправляет офицера высшего звена в отпуск. И, в-третьих, в записке Аракчеева капитан первого ранга вдруг превратился в полковника.
– Эти звания равны, – возразил Савельев, – а граф Аракчеев в те времена мог написать что угодно. С него станется.
– Хорошо, – согласился начальник, его взгляд сразу смягчился. – Давайте думать дальше.
– А чего тут думать, ваше превосходительство? – усмехнулся статский советник. – И Чичагов, и Аракчеев – члены Государственного совета…
– Вы предлагаете мне переговорить с ними? – брезгливо поморщился Бенкендорф.
Все в Третьем отделении знали, как шеф ненавидит бывшего временщика, и хотя тот давно утратил былое могущество, а Бенкендорф, напротив, его приобрел, все же Александр Христофорович предпочитал обходить графа Аракчеева стороной.
– Тогда поступим иначе, – сразу нашел выход из затруднительной ситуации Савельев. – Поднимем из архива какие-нибудь бумаги, написанные графом и адмиралом, и сверим почерка.
– Действуйте, Савельев! Я поручаю это дело вам.
Начальник аккуратно уложил все бумаги обратно в водонепроницаемый футляр морского офицера и положил его перед статским советником.
– Позвольте один вопрос, ваше превосходительство, – не торопился брать футляр в руки Савельев.
– Спрашивайте.
– Почему вы поручаете мне дело о шпионаже?
– Оно вовсе не является таковым, – возразил шеф жандармов. – Я не верю, что барон Гольц утонул в болоте. Его убили и замели следы. Ваша задача – найти убийцу и узнать причину, по которой тот совершил злодеяние…
Никогда еще Дмитрий Антонович не сталкивался с преступлением, совершенным много лет назад. Это сильно затрудняло расследование. Поездка на место преступления не дала никаких результатов, и даже доктор Цвингель на этот раз ничем не мог быть ему полезен. Самые большие надежды следователь возлагал на записную книжку и первым делом отдал ее на расшифровку. Своего подчиненного коллежского секретаря Нахрапцева он отправил в архив Военного министерства. Вскоре тот вернулся и с ходу доложил:
– Барона Гольца нет в списке награжденных офицеров от десятого декабря тысяча восемьсот двенадцатого года, и в последующих списках за оный год он также не числится…
«Бенкендорф, как всегда, оказался прав, – мысленно признал Дмитрий Антонович. – По всей видимости, остальные бумаги тоже поддельные».
– Он и не мог числиться среди награжденных, – выдержав паузу, добавил помощник.
Коллежский секретарь Андрей Иванович Нахрапцев, молодой человек лет двадцати шести, высокого роста, с природным румянцем на щеках, всегда выглядел щеголем, даже в ординарном голубом вицмундире, в котором ходил на службу. Пшеничного цвета волосы были уложены в самую модную прическу, усы нафабрены и немного закручены вверх. Светло-голубые глаза смотрели с обманчивой наивностью и порой казались глуповатыми. Он попал в Третье отделение по протекции, но за два года службы совершенно освоился и выгодно себя проявил. По тому, как азартно сияли глаза коллежского секретаря, Савельев сразу догадался, что им добыта очень важная информация.
– Вот извольте взглянуть, Дмитрий Антонович…
Нахрапцев протянул бумагу, исписанную аккуратным мелким почерком.
– Что это? – удивился следователь, узнав почерк своего помощника.
– После того как я не нашел Гольца в списках офицеров Третьей Западной армии, мне пришло в голову порыться в документах Молдавской армии, которую до войны с французами возглавлял адмирал Чичагов. Там я обнаружил прелюбопытную справку о капитане первого ранга Конраде Гольце, – сообщил он с самодовольной улыбкой и не без гордости добавил: – Так как мне не позволили вынести ее из архива, пришлось собственноручно скопировать.
В справке говорилось, что капитан первого ранга барон Конрад Августович Гольц родился в тысяча семьсот семьдесят пятом году в городе Гамбурге. До тысяча восемьсот пятого года состоял на службе у прусского короля, а после наполеоновской оккупации перешел на службу к русскому царю. Служил некоторое время на Черноморском флоте, потом был направлен в Молдавскую армию и в чине полковника воевал с турками. Двадцать второго июня тысяча восемьсот одиннадцатого года в битве под Рущуком был тяжело ранен и перевезен в госпиталь в городе Яссы…
– Вот ведь, прости Господи, черти этого Гольца хороводят! – неожиданно воскликнул Савельев. – Я тоже был ранен под Рущуком, в колено, и тоже лечился в Яссах!
– Но вы дочитали до конца? – нетерпеливо поинтересовался коллежский секретарь.
Оставалось всего одно предложение, но оно было подобно разрыву артиллерийского ядра.
– «Первого июля тысяча восемьсот одиннадцатого года, – не веря собственным глазам, следователь принялся перечитывать вслух, – капитан первого ранга, барон Конрад Августович Гольц скончался»… То есть как это скончался? – поднял он недоуменный взгляд на помощника.
– Выходит, мы имеем дело не с Гольцем, а с кем-то другим, – заключил Нахрапцев.
Он смотрел на своего начальника с торжествующим видом победителя. Совсем иное лицо было у Савельева: усталое и озадаченное. Загадки множились, а ответы все не спешили объявляться.
Глава вторая
Русский католический салон за несколько лет. – Новая супруга виконта. – Месть возрождается. – Луи-Филипп захватывает Париж, а госпожа виконтесса его оставляет
В парижском высшем обществе считалось дурным тоном не состоять завсегдатаем какого-нибудь мало-мальски известного салона. Хозяйками таких салонов обычно были богатые аристократки, собиравшие в своих домах изысканное общество: влиятельных политиков, высшее духовенство, писателей с мировыми именами, виртуозных музыкантов и прочих незаурядных личностей, снискавших себе славу, пусть даже самую скандальную. Особенно престижными были салоны мадам Рекамье, Сен-Олера, Ансело, а также клерикальный салон мадам Свечиной. О последней ходили разноречивые слухи. Многие считали Софью Петровну Свечину чуть ли не святой. Эта знатная дама покинула Россию в тысяча восемьсот пятнадцатом году вместе с отцами-иезуитами, которых император Александр объявил своим указом вне закона за их миссионерскую деятельность среди русской аристократии. Гагарины и Голицыны, Волконские и Долгоруковы, Васильчиковы и даже Ростопчины предали веру отцов и по большей части превратились в рьяных и ревностных католиков, благодаря неутомимой деятельности ордена, некогда запрещенного Папой Климентом XIV и в пику Ватикану обласканного Екатериной Великой. Говорят, что последней каплей, побудившей императора издать указ об изгнании иезуитов, послужило обращение в католичество Валерьяна Голицына, несовершеннолетнего племянника министра духовных дел. К тому же этот любознательный и весьма одаренный отпрыск благородного семейства с детства играл в салки с внебрачной дочерью императора и пани Четвертинской Сонечкой Нарышкиной.
Недоброжелатели болтали, что мадам Свечина шпионит в пользу Ватикана и папский двор посвящен во все тайны русской политики. Ведь даже самые ярые гонители и хулители католичества, едва попав в Париж, считали за честь посетить ее модный салон. Так, в тысяча восемьсот двадцать втором году, ровно через десять лет после сожжения Москвы, здесь появился неистовый губернатор и яростный галлофоб граф Ростопчин в сопровождении своей супруги-католички. Его появление приветствовали аплодисментами. Ему хлопали аббаты и прелаты, бывшие эмигранты-аристократы и господа масоны с мартинистами, которым он некогда объявил войну. И даже бывший наполеоновский генерал, поседевший за один день под Бородином и отморозивший под Смоленском руку и ногу, постучал в знак уважения костылем. Не хлопала только одна дама, сидевшая в креслах рядом с дочерью бывшего губернатора графиней Софи де Сегюр. Дама эта была блондинка лет двадцати шести, с пристально-холодноватым взглядом голубых глаз, нежно очерченным профилем и иронично сложенными пухлыми губами. Посетители салона, не знавшие ее, были уверены, что эта красавица – знатная англичанка. То было лицо, какое можно встретить на иллюстрациях к балладам, но романтическое впечатление тут же уничтожал взгляд молодой женщины, внимательный и цепкий. Ее роскошный вечерний туалет вышел из лучшей мастерской парижской портнихи, ее жемчуга и бриллианты заставляли оборачиваться. В ее блистательности было нечто ледяное, отпугивающее самых бесстыдных повес. Именно к ней и направился Ростопчин, оставив супругу на попечение мадам Свечиной и не обращая внимания на других посетителей салона, искавших его общества.
– Я рад вас видеть здесь, Элен, – обратился он по-французски к даме, даже не поднявшей на него глаз. – Я знаю, что вы никогда не простите мне то давнее московское происшествие, и все же хочу просить у вас прощения. Уж помилуйте старика… Лишь дурак свят – в нем мозги спят!
Голос бывшего губернатора задрожал, на его глаза навернулись слезы. Многие находили его в последнее время чересчур сердобольным и набожным, непохожим на прежнего воинственного и дикого варвара. Граф уже не производил впечатления яростного и неистового галлофоба. Он еще иногда подпускал шпильки в адрес французов, но всегда с уважением и даже с любовью отзывался о своих новых родственниках Сегюрах. Весь Париж в это время судачил о старшем сыне Ростопчина Сергее, посаженном в долговую тюрьму, и о том, что отец отказался уплатить за него карточный долг, сказав при этом: «Тюрьма послужит Сереже хорошим уроком».
Дама по-прежнему молчала и не смотрела на бывшего губернатора.
– Поверьте, мало найдется на белом свете людей, слышавших от меня подобные слова. Если таковые вообще имеются… – на этот раз по-русски проговорил он.
– Мне не совсем понятно, граф, за что вы просите прощения, – наконец вымолвила дама. – Мой дом подожгли пьяные французские гренадеры, а значит, в смерти моей матери вы вовсе невиновны. А то, что не признали во мне Елену Мещерскую, когда дядя объявил меня авантюристкой, так не вы один сделали эту подлость. Пол-Москвы в тот вечер угощалось на деньги моего погибшего под Бородином отца и равнодушно взирали на то, как гибнет его дочь…
Она говорила спокойным и даже равнодушным тоном. Могло показаться, что ей лень произносить слова и прошлое ее больше не волнует. На самом деле Элен готова была надерзить бывшему губернатору, с которым у нее были свои счеты, но сдержалась, потому что рядом сидела Софи, беременная вторым ребенком. Все время их разговора графиня де Сегюр держала руку на животе, словно пыталась уберечь дитя от надвигавшейся грозы. Однако гром не грянул, вместо молний полыхали безобидные зарницы, отдаленно напоминавшие о некогда бушевавших стихиях.
– Очевидно, вы запамятовали разговор в моем кабинете, – виновато напомнил Федор Васильевич. – Я мог бы тогда подсказать выход из создавшегося положения. Вам вовсе не обязательно было ехать в Петербург, искать аудиенции у матери-императрицы. Все могло разрешиться на месте. Ваш жених граф Евгений Шувалов находился тогда в Москве. Достаточно было одного его свидетельства, чтобы начать процесс против вашего дяди, но, увы… – Он вздохнул, сделав паузу, и запустил пальцы в непослушную шевелюру, начавшую сильно редеть. – Вот за это я и прошу меня простить.
Ростопчин произнес последнюю фразу в несвойственной ему манере, тихим, вкрадчивым голосом, после чего, не дожидаясь ответа, поклонился Елене, резко повернулся и был тотчас перехвачен пожилой дамой в старомодном чепце. Елена посмотрела ему вслед безмятежным, спокойным взглядом.
– Что это сегодня нашло на твоего отца? – спросила она подругу. – Какая оса его укусила?
– Ты разве не догадываешься? – грустно улыбнулась Софи.
– Пожалуйста, объясни, дорогая, ты же знаешь, я не сильна в шарадах.
– Увы, – пожала плечами графиня де Сегюр, – моя семья играет в эту шараду уже много лет. Отец на днях узнал, что ты вышла замуж за француза, при этом оставшись православной, и весьма растрогался, даже обронил слезу.
– Только и всего? – удивилась Элен. – Это разбудило в нем дремавшую совесть?
– То, что для одних пустяк, другим представляется величиной с небо, – философично заметила Софи.
…В тысяча восемьсот двадцать первом году виконт Арман-Огюст-Бертран де Гранси в возрасте шестидесяти восьми лет оставил наконец службу и переехал из Лондона в Париж.
Франция, уставшая от бесконечных войн, уныло и безмолвно наблюдала, как на ее трон вновь взгромоздились Бурбоны. Людовик XVIII обратился с призывом к титулованным эмигрантам возвращаться домой. По дорогам Европы из самых отдаленных ее уголков потянулись вспять кареты со старинными гербами. Люди, сидевшие в этих экипажах, выглядели как призраки прошлого века: мужчины в париках и камзолах, женщины в шляпах с перьями, в корсажах и платьях с вызывающе глубокими декольте. И те и другие были сильно набелены, нарумянены и напомажены. Всем своим видом они как бы свидетельствовали, что и в помине не было никакой Революции, никакого Конвента и иже с ними выскочки Марата, чудовища Робеспьера и жуткой гражданки Гильотины.
Прибывший в числе этих призраков де Гранси обосновался в доме своих предков на улице Марэ в Сен-Жерменском предместье. Сюда же переехали из Лондона Елена и маленькая индийская принцесса. Статус молодой женщины, живущей под опекой старого аристократа, был довольно не ясен для парижского общества, уже успевшего отвыкнуть от альтруистов и филантропов. И хотя де Гранси представлял всем Элен как приемную дочь, оба – и виконт, и графиня – нередко ловили на себе недвусмысленно лукавые взгляды. Елену это больно ранило, и она отказывалась выезжать. «Но тогда вам трудно будет найти достойную партию, дитя мое», – говорил старик, отечески прижимая ее к груди и поглаживая высохшей ладонью чудесные светлые локоны. «Я не собираюсь замуж, – отвечала ему приемная дочь, – я хочу всю жизнь провести рядом с вами…»
Однако узнав, что в салоне мадам Свечиной часто бывает ее бывшая подруга, Соня Ростопчина, Елена не убоялась сборища святош и набожных дам, составлявших основу салона. Встреча двух давних подруг была бурной настолько, насколько это позволяли приличия.
– Ах, Элен! – воскликнула графиня де Сегюр, взяв ее за руки. – Я ни секунды не верила в то, что ты застряла в медвежьем углу и вышла замуж за какого-то дремучего помещика, не доехав полпути до Петербурга!
– О, конечно, эта нелепая басня была придумана мной для мадам Тома! Старая скряга и обжора до такой степени мне надоела, что я решила отправить ее обратно в Москву…
Графиня Мещерская, вращаясь сначала в лондонском свете, а затем в парижском, научилась лгать не стесняясь и самым правдоподобным образом. Элен не стала исповедоваться Софи в пережитых ею несчастьях. Она столько раз переступала черту, которую не дозволено пересекать женщине ее круга, что расскажи она всю правду, графиня де Сегюр вряд ли бы стала водить с нею знакомство.
– И правильно сделала, – поддержала подруга. – Отец вскоре ее рассчитал. Так ты добилась аудиенции у вдовствующей императрицы?
– Увы, Ее Величество ничем не смогла мне помочь, – с улыбкой отвечала Елена, не вдаваясь в излишние подробности. – Зато присутствующий при нашем разговоре виконт де Гранси сжалился надо мной и решил меня удочерить. Восемь лет я прожила в Англии и теперь переехала в Париж.
– Как я рада, что все таким прекрасным образом разрешилось! – воскликнула Софи и с искренностью отнюдь не светской львицы призналась: – Я так часто вспоминала о тебе!
Отныне они встречались, чуть ли не ежедневно, у Свечиной. Графиня де Сегюр относилась к тому редкому типу женщин, которых красят беременность и роды. В ожидании второго ребенка она преобразилась до такой степени, что все находили ее красавицей. В ней ничего не осталось от прежней угловатой и резкой Софи. Формы ее округлились, движения сделались изящными и женственными. К сожалению, и черты характера девочки-подростка, которыми когда-то восхищалась Елена, были утрачены мадам де Сегюр. Она стала осторожной в суждениях и оценках. Вовсе утратила дерзость и все свои шаги непременно согласовывала с мужем. И только когда речь заходила о литературе, в ней просыпалась прежняя бунтовщица. Она могла процитировать любое место из Шатобриана или Шенье и часами доказывать, что на самом деле имел в виду тот или иной автор. В ее милой головке непостижимым образом умещалась вся французская литература. Даже запрещенный томик «Жюстины» мятежного маркиза со всей его едкой философской и альковной эквилибристикой хранился в этом сейфе и в пылу спора мог быть изъят и предъявлен ошеломленному оппоненту. Разговоры вновь обретших друг друга приятельниц в основном и касались литературы, а также музыки и живописи. Елена всячески избегала воспоминаний о своих злоключениях. «Графиня де Сегюр может сколько угодно шокировать общество, цитируя похождения Жюстины, но явись перед нею настоящая Жюстина, и графиня не скажет с нею и слова, – размышляла она. – Не стоит испытывать судьбу и терять единственного друга, уцелевшего от моего прошлого». Между подругами повисла завеса благопристойной лжи.
В том же двадцать первом году виконт внезапно слег с жестокой простудой. Доктора подозревали воспаление легких и не надеялись на его выздоровление. Тогда он позвал к себе Елену.
– Дитя мое, после моей смерти тебя ждут нелегкие испытания. У меня имеются дальние родственники в Тулузе, которые, узнав о моей кончине, попытаются оспорить завещание. Я боюсь, что они попросту вышвырнут тебя на улицу. Поэтому предлагаю тебе прямо сейчас обвенчаться со мной, потому что Господь может призвать меня в любую минуту.
Его речь то и дело прерывал надрывный кашель, и Елена, глядя на страдания человека, некогда спасшего ее от неминуемой гибели и впоследствии заменившего ей отца, не могла сдержать слез.
– Я готова принять ваше предложение, дорогой виконт, – отвечала она, – но я не могу предать веру моих покойных родителей…
– Дитя мое, я никогда бы не посмел просить тебя о такой жертве, – махнул он слабой рукой и тут же распорядился позвать католического и православного священников. Те не замедлили явиться на улицу Марэ и обвенчали их, соблюдя все формальности и с той и с другой стороны.
Затем явился нотариус, и было составлено новое завещание, согласно которому виконтесса Элен де Гранси наследовала все английские замки, купленные виконтом за годы эмиграции, дом на улице Марэ и годовую ренту в пятьдесят тысяч ливров.
– Дай слово, что ты позаботишься о НЕЙ, – загадочно произнес он шепотом после очередного приступа кашля.
Присутствующие недоуменно переглянулись, очевидно, полагая, что де Гранси начал бредить. Еще более странным показалось всем то, что молодая виконтесса, встав перед умирающим супругом на колени, крепко сжала его руку и также тихо произнесла:
– Я не только даю слово, но и обещаю вам, что буду всегда относиться к НЕЙ как к родной дочери…
Виконт поднес дрожащий палец к губам, давая понять, что уже сказано слишком много для чужих ушей. Никто из присутствующих понятия не имел, что в доме на улице Марэ старик прячет от разбойников магараджи Раджива десятилетнюю индийскую принцессу.
Елене не трудно было дать такое обещание, потому что за годы, проведенные рядом с Майтрейи, она успела полюбить девочку и многому ее обучить. Маленькая принцесса отвечала ей пламенной преданностью, но видела в Елене скорее заботливую и любящую старшую сестру, нежели мать. Майтрейи была очаровательным созданием, грациозным, нежным и бесконечно женственным, хотя женщина в ней только пробуждалась. Трагическая гибель родителей не ожесточила ее, бесконечная любовь приемного отца и старшей наперсницы не сделала девочку избалованной сумасбродкой. Ее тонкое, чуть смугловатое лицо, казалось, излучало сияние, так совершенна была ее расцветающая красота.
– Теперь я могу спокойно умереть, – заключил виконт и закрыл глаза.
Виконтесса провела у постели супруга всю ночь, не смыкая глаз, и только под утро, когда виконт, метавшийся в жару наконец уснул, она провалилась в кошмар, который преследовал ее уже несколько лет и которого она до смерти боялась.
…Елена стояла на эшафоте посреди Гревской площади. Вокруг толпился народ. При этом было тихо, как на кладбище, и она вдруг поняла, что все эти люди, пришедшие посмотреть на ее казнь, давно умерли. «Ну, разумеется, – сказала она себе, оглядев спокойным взглядом толпу, – ведь они все обезглавлены». Мертвецы держали свои отрубленные головы в руках и терпеливо ждали развязки. Удивительное дело, глаза у отрубленных голов были открыты и внимательно наблюдали за каждым движением палача!
Палач тем временем сомкнул у нее на шее окровавленный дощатый капкан и начал привязывать к нему руки девушки. Она чувствовала на лице его горячее дыхание, щедро сдобренное водкой и чесноком. К тому же он громко и противно сопел носом. Брезгливо поморщившись, Елена подумала, что это горькая насмешка судьбы. В своих детских грезах она мечтала умереть под музыку Гайдна и чтобы в гробу непременно лежал букет ее любимых лилий, источающих загадочный, потусторонний аромат.
Тоненький, фальшивый смех ворвался в ее грустные мысли. Она посмотрела в сторону, откуда он раздавался, и узнала в одном из зрителей дядюшку Илью Романовича. Он точно так же, как и другие, держал свою голову в руках. Лицо его было скрыто под той самой маской Прозерпины, богини загробного царства, в которой он красовался на маскараде в Павловском парке. Зеленые стразы, обрамлявшие страшную личину Прозерпины, переливались на солнце тусклым, мертвенным светом и постукивали друг о дружку от легкого весеннего ветерка.
– Эй, давай поживее! Чего медлишь? – крикнула голова Белозерского подвыпившему палачу, который как раз в это время собирался опустить окровавленное лезвие на шею девушки.
Елена зажмурила глаза и вдруг услышала тихое, очень знакомое и родное: «Аленушка!»
…Она открыла глаза и с вздохом облегчения обнаружила, что находится в спальне виконта.
Де Гранси не спал. Он с тревогой смотрел на нее и повторил еще раз:
– Аленушка!
Старый аристократ выучил это русское имя, узнав, что именно так обращался к Елене отец, когда хотел ее приласкать.
– Ты громко стонала во сне. Тебе снилось что-то страшное?
– Один и тот же кошмар преследует меня с тех пор, как вы рассказали о казни вашей дочери Мадлен, – призналась она. – Гревская площадь, пьяный палач, толпа обезглавленных мертвецов. Только на этот раз среди них оказался мой дядюшка в той самой маске…
– Кажется, в маске Прозерпины итальянской работы, – припомнил виконт, знавший в этом толк.
– Что же мы с вами говорим о пустяках?! – опомнилась Елена и, положив ему на лоб ладонь, радостно воскликнула: – Господи, да ведь у вас и в помине нет жара!
– Меня как будто накрыло волной и выбросило за борт с корабля, плывущего в Тихую гавань, – пошутил бывший капитан.
– Я разбужу слуг, чтобы они вас переодели и поменяли постель.
– И скажи, пусть приготовят омлет! – крикнул он слабым голосом ей вдогонку.
– И непременно бутылку вашего любимого бургундского! – воскликнула она, смеясь от переполнявшей ее радости.
Она превратилась вдруг в озорную, шаловливую девчонку-подростка, которой пообещали подарить на именины настоящего щенка ньюфаундленда. Елена не ходила по комнатам, а летала и запомнила впоследствии этот день как один из самых счастливых в своей жизни. Она впервые отдавала распоряжения как полноправная хозяйка старинного особняка на улице Марэ, а заглянув в спальню Майтрейи, обняла и расцеловала девочку со словами:
– Отец будет жить!
– Он никогда не умрет! – сверкнув огромными черными глазами, заявила маленькая принцесса.
Виконтесса подхватила девочку, и они закружились в мазурке, весело напевая мелодию танца. Елена сама обучала Майтрейи танцам, игре на клавесине, латинскому, французскому и немецкому языкам. И даже дала несколько уроков русского языка. Девочка оказалась на редкость способной и схватывала все на лету, играючи.
Тем временем виконт позавтракал в постели, в окружении изумленных докторов. Он вновь, уже в который раз, перехитрил костлявую. Обедать вышел к общему столу, хотя доктора категорически настаивали на постельном режиме, надев по случаю выздоровления праздничный камзол золотистого цвета. Обе приемные дочери с восхищением смотрели на него и с удовольствием отметили изрядный аппетит папа. Де Гранси, как всегда, делал замечания повару Жескару, здоровенному детине с красным лицом, больше походившему на мясника:
– Бараньи почки сегодня немного пересолены и недостаточно вымочены в соусе. Утиный паштет, напротив, недосолен, и ты забыл добавить в него грибы… Вино я просил подать третьего года, что означает тысяча восемьсот третий год, а не тысяча семьсот девяносто третий… А в остальном все чудесно, Жескар.
– Как тебе это нравится? – протянул он Елене початую бутылку, когда повар вышел за дверь. – Вот и сон твой в руку.
Она повертела в руках бутылку, на стекле которой значились большие выпуклые цифры: 1793.
– Попробуйте, не бойтесь! – предложил виконт приемным дочерям. – Оно немного кисловатое, но имеет своеобразный тонкий букет.
Он сделал знак лакею, и тот, взяв из рук Елены бутылку, налил ей полный бокал и полбокала Майтрейи. Виконтесса предпочитала совсем другие напитки. В Англии ей полюбился медовый эль, а здесь, во Франции, – сладкий грушевый сидр. Напитки скорее плебейские, чем аристократические, не популярные в модных парижских салонах, но ведь и дома, в Москве, в пору своей ранней юности, она самым тонким винам предпочитала вишневый квас, который изготовляла ключница. Отпив глоток, Елена поморщилась, не почувствовав никакого букета, вино показалось ей кислым и отвратительным, как уксус. Майтрейи лишь поднесла к носу бокал, понюхала и отставила его в сторону. На ее личике появилась изящная гримаска.
– Пахнет крысиным пометом, – со своей обычной прямолинейностью заявила она.
– Неужели не понравилось? – притворно удивился де Гранси и, нахмурив лоб, произнес: – А мне вот, побывавшему на краю могилы, нынче по вкусу любое вино.
– Не говорите так, дорогой виконт! – умоляюще воскликнула Елена. – Не пугайте нас!
Вечером, уже перед сном, она вошла в его кабинет с тяжелым сердцем. Виконт корпел над каким-то толстым фолиантом со старинными картами. В одной руке он держал увеличительное стекло, указательным пальцем другой водил по карте.
– Пришла меня проведать? – не отрываясь от своего занятия, спросил старик.
Он бросил взгляд на часы с амурами, стоявшие на его столе, покачал головой и воскликнул:
– Как время немилосердно! Оно вытекает, как вино из дырявой бочки! Майтрейи уже спит?
– Она сегодня уснула раньше обычного, – ответила Елена, – потому что плохо спала последние три ночи. Мы все плохо спали…
И только в этот миг виконт заметил, что его приемная дочь чем-то очень сильно опечалена. Она была бледна и стеснительно отводила взор, стараясь не встречаться с его взглядом.
– Что случилось, девочка моя? – Он встал из-за стола и, подойдя к ней, взял ее холодные руки.
– Моя камеристка мадам Байе спрашивает, ночую ли я сегодня в моей спальне или проведу ночь у вас? – Последние слова были едва различимы, так тихо она их произнесла.
– Ах, вот оно что! – встрепенулся виконт, по всей видимости, только сейчас вспомнив о заключенном браке. Он искренне, громко рассмеялся: – Твоя мадам Байе – несусветная дура, дитя мое! Как она тебя расстроила! А меня вот насмешила, ведьма она этакая! Старина де Гранси уже давно не всходит на капитанский мостик! – Он крепко прижал к груди Елену и нежно поцеловал ее в лоб. – Между нами все останется по-старому, Аленушка, и лишь для общества, для этих сатиров и пошляков, мы будем с тобой называться супругами.
– Я никогда не забуду, отец, сколько добра вы для меня сделали, никогда ничего не потребовав взамен!
Елена впервые за восемь лет назвала де Гранси отцом. Ей с детства внушила бабушка Пелагея Тихоновна, что слова «отец» и «мать» священны и ими нельзя разбрасываться. Несмотря на всю доброту и заботу, проявленную виконтом, она считала, что отец может быть только один. Часто вспоминая страшный московский двор тысяча восемьсот двенадцатого года с мертвыми солдатами, телегу с кровавой соломой, на которой лежал Денис Иванович, остекленевшими глазами глядя в дымное небо, Елена прятала лицо в ладонях и горько молилась.
Де Гранси крепче сжал в своих объятьях приемную дочь. Как давно он не слышал этого слова! «Это Бог наказывает меня за то, что я так мало времени уделял своей малышке Мадлен», – говорил он себе и терпеливо ждал.
Виконт сделал глубокий вдох, чтобы остановить слезы, подступившие к горлу, и тут же захлебнулся в приступе кашля.
– Принести воды? – испугалась Елена. – Послать за доктором? Может, вам лучше лечь в постель?
– Ничего не надо, – отмахнулся он, а когда кашель утих, взял ее за руку и подвел к письменному столу.
Де Гранси раскрыл перед ней огромную карту Атлантического океана с омываемыми им берегами четырех материков.
– Посмотри сюда! – указал он на еле заметную точку в архипелаге островов близ Португалии. – Это крохотный необитаемый остров без названия. Однажды мне удалось там побывать.
– Там никто не живет?
– Ни единой души, кроме птиц и зверей. Это райский уголок, Элен, о котором можно только мечтать.
– Вы хотите его купить? – догадалась она.
– Для вас с Майтрейи. Построить замок в средневековом стиле, чтобы вам жилось в нем спокойно и уютно.
– Расходы будут огромны, отец, – попыталась она его образумить. – Вполне достаточно маленького дома для летнего отдыха.
– Ты, очевидно, забыла, что принцесса должна быть в безопасности, – возражал виконт. – Ей нужна настоящая крепость!
– За эти восемь лет, что я рядом с ней, не было ни одной попытки похитить девочку, – напомнила Елена.
– Все равно надо быть начеку…
Тем же летом они совершили путешествие в Португалию и, наняв небольшое суденышко, доплыли до райского острова. Здесь все поражало своей первозданной красотой. Остров состоял из скалистой горы и покрывавшего ее леса, тут и там пересеченного неглубокими ущельями.
Слуги соорудили из веток шалаши, а виконт с поваром Жескаром, взяв с собой ружья, ушли в лес. Они вернулись очень скоро с подстреленным кабаном, и Жескар приготовил его на вертеле.
– В лесу полно зверья, судя по следам, значит, рядом есть питьевая вода, – резонно заметил он.
Источник с пресной водой виконт без труда обнаружил на следующий день, когда поднялся на гору. Ручей тек по дну расщелины и озорным потоком низвергался в низину, образуя небольшой водопад.
Три незабываемых дня они провели на острове и покидали его скрепя сердце. Больше всех была опечалена Майтрейи. После Парижа и Лондона остров показался ей волшебной сказкой и невольно напомнил о родине, хотя Индию она знала только по книгам и рисункам. За короткое время путешествия она приручила маленькую рыжую змейку с красивым золотисто-зеленоватым рисунком на спине, назвав ее русским словом «лучинка», которое понравилось ей еще во время первых уроков. Виконт только пожимал плечами.
– Змея может оказаться ядовитой! – выговаривал он принцессе. – Не стоит ее брать с собой в Париж.
– Лучинка поедет с нами! – топала ногой Майтрейи, не желая слышать возражений. А змейка в это время, обвившись вокруг ее запястья, трогательно трясла головкой, словно соглашаясь со своей маленькой хозяйкой.
– Если сделать для змеи ящик, из которого она не смогла бы выползти, – предложила Елена, – тогда Лучинка и в самом деле могла бы поехать с нами.
– Хорошо, – согласился де Гранси, – ящик я сделаю, а ты, Майтрейи, пообещай мне, что за все время пути не будешь брать змею в руки.
Девочка опустила голову. Ей доставляло такое удовольствие играть с Лучинкой, гладить ее бархатную спинку, поить молоком и кормить крохотными кусочками мяса! Змейка так привыкла к ней, так полюбила ее горячую кожу, что спала с маленькой принцессой, обвившись вокруг ее руки, и никуда не уползала. Майтрейи не могла себе представить, что в течение нескольких дней не сможет взять в руки и приласкать свою любимицу.
– Обещаю… – произнесла она наконец тихим голосом, потупив черные блестящие глаза.
Через день в Лиссабоне виконт купил этот остров на имя своей супруги виконтессы Элен де Гранси. При оформлении документов чиновник министерства спросил его:
– Какое имя присвоите острову?
– Как назовешь свой остров, дорогая? – в свою очередь поинтересовался у супруги де Гранси.
Елена, не задумываясь, ответила:
– Остров Мадлен…
Через год началось строительство. Елена отговорила виконта от средневекового замка, напомнив ему о страшном лиссабонском землетрясении.
– Тогда, может быть, выстроим копию московского дома твоих родителей? – предложил он.
Виконтесса вспомнила их восстановленный фамильный особняк, выкрашенный Белозерским в розовый цвет, и поморщилась. Нет, ей совсем не хотелось иметь копию дома ненавистного дядюшки.
– Он будет нелепо выглядеть в этом ландшафте, – произнесла она вслух. – Здесь должно быть что-то легкое и ажурное, в романском стиле.
И они пригласили архитектора-итальянца.
К тысяча восемьсот двадцать пятому году дом был полностью готов. Белоснежный и ажурный, как фата невесты, он стоял на горе, и к нему вели вырубленные в скальной породе ступеньки.
– Пока поднимешься, Богу душу отдашь! – ворчал виконт, опираясь на свою индийскую трость.
С годами он становился все более ворчливым и привередливым. Обычно он не спускался к океану, а предпочитал сидеть на террасе и читать несвежие газеты, которые ему доставляли сюда из Парижа. Виконт любил давать советы повару Жескару, как приготовить то или иное блюдо, а потом отчитывал его – непременно что-то оказывалось не так, как он хотел. Простодушный повар никогда не обижался на своего господина, не спорил с ним и кротко старался ему угодить. Однако среди прислуги завелся бунтарь. Де Гранси разыскал своего старого марсельского боцмана, с которым начинал когда-то плавать по морям и океанам. Он звал его всегда только по фамилии – Бризон. Ровесник виконта, Бризон плавал на их небольшом суденышке, осуществляя связь между материком и островом. Как все марсельцы, он в свое время приветствовал Революцию и Конвент, был сначала страстным поклонником Робеспьера, а затем Бонапарта. Когда де Гранси приглашал его на террасу выпить чашечку кофе с ромом попросту, без всяких сословных предрассудков, бывший боцман охотно соглашался. Но не проходило и пяти минут, как между стариками вспыхивал спор, сопровождавшийся яростными криками и грубой уличной бранью на марсельском арго. На «недорезанного аристократишку» и «прихвостня Капетов» Арман де Гранси отвечал не менее живописно «мерзким санкюлотом» и «фурункулом на заднице Марата»! Если бы не вмешательство виконтессы, постоянные ссоры бывших морских волков, возможно, выливались бы в драки. Но мадам Элен тотчас находила предлог услать дядюшку Бризона в Порту за какой-нибудь безделицей – мотком ниток или бутылкой масла. Однако не проходило и трех дней, как ссора забывалась и виконт снова приглашал верного боцмана на террасу выпить чашечку кофе и все начиналось сызнова. Для стариков это было скорее развлечением, чем серьезным политическим диспутом, но Елена этого не понимала и высказала как-то дядюшке Бризону:
– Неужели нельзя найти какую-нибудь более приятную тему и не задирать виконта? Ведь вы должны, наконец, понимать, какое горе постигло его во время Якобинской диктатуры!
– Ну так тем более, госпожа виконтесса, ему надо выпустить пары, сорвать на ком-нибудь зло. Если держать горе все время внутри, оно в могилу сведет, – подмигнул ей старый хитрец и добавил: – Думаете, я люблю эту шайку разбойников? – Он махнул рукой. – Прежде был дураком, а нынче вот поумнел…
Елена действительно стала замечать, что после утреннего кофе с Бризоном виконт потом целый день ходит в приподнятом настроении, словно перебил целый отряд санкюлотов.
Сама она любила сидеть в кресле на берегу океана, не прячась под зонтиком, а, напротив, подставляя лицо утреннему солнцу. Ей было решительно все равно, будут ли потом в парижских салонах насмехаться над ее смуглой, как у крестьянки, кожей, нарекут ли презрительно «креолкой». Под нежный плеск волн, едва касавшихся ног, Елене удавалось избавиться от мрачных мыслей, терзавших ее чуть ли не каждый день. Мыслей о прошлом.
Она будто бы все эти годы находилась в спячке и только здесь, на острове, начала понемногу пробуждаться. Вспоминать страшное военное время, заставившее ее пройти все семь кругов ада, было мучительно больно. Всего лишь за один год она претерпела столько невзгод, обид и унижений, что иному человеку могло бы с лихвой хватить на целую жизнь. «Неужели это все случилось со мной одной? – спрашивала себя виконтесса и тут же задавалась другим вопросом, волновавшим ее в последнее время более других: – И все мои враги до сих пор спокойно ходят по земле?»
Этот вопрос начал вдруг до такой степени сверлить ее душу, что Елена потеряла покой и сон, заметно осунулась и исхудала. Теперь ее раздражали резвые игры Майтрейи, она отрывисто отвечала на бесконечные вопросы взрослеющей девочки, порой бывала даже резка со своей подопечной. Услышав в свой адрес очередное сухое замечание или окрик, маленькая принцесса тихо отходила в сторону, с осторожным вниманием оглядываясь на старшую подругу. В мягком, кротком взгляде Майтрейи не было обиды, лишь кроткое удивление – и, встретив его, Елена первая спешила помириться. Конечно, все эти перемены не ускользнули от внимания виконта.
– Что с тобой происходит, дорогая моя? – поинтересовался он как-то, приказав слугам снести его кресло с террасы на берег и поставить напротив кресла виконтессы. – Ты начинаешь чахнуть в этом райском уголке? Тебе нездоровится?
– Отнюдь нет, дорогой виконт, – одарила она его слабой, бесцветной улыбкой. – На здоровье я не жалуюсь.
– Что же тогда?
– Не знаю, – пожимала плечами виконтесса, давая своим видом понять, что он вторгается в некую запретную зону, закрытую даже для него.
В другой раз, во время конной прогулки по лесу, де Гранси был более настойчив.
– Очевидно, ты тоскуешь по Москве, – сказал он. – Уж кому-кому, а мне-то известно, что такое тоска по родине.
– Больше нет той Москвы, в которой я родилась и которую всем сердцем любила, – бесстрастно отвечала она. – Пожар уничтожил ее. Рухнувший за моей спиной горящий Яузский мост навсегда похоронил под собой мое безоблачное детство и образы дорогих мне людей. Этот город теперь для меня чужой, а родина, как известно, там, где тебе хорошо. Остров Мадлен – вот моя родина.
Виконт в ответ только покачал головой, и лицо его сделалось еще более озабоченным.
Ночью Елена металась по комнате, не пытаясь заснуть. Книги, брошенные в сердцах на пол, шелестели страницами от производимого ею сквозняка. Ни «Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо, столь любимая папенькой Денисом Ивановичем, ни приключения Жиль Блаза, некогда занимавшие ее в дороге из Москвы в Петербург, больше не волновали Елену, а, напротив, вызывали в ней раздражение и злобу. Какая же она была наивная дурочка, если некогда позволила стольким негодяям оскорбить себя и унизить! Нет, книги не помогли ей распознать скверных людей!
В коридоре послышались шаги. Дверь в ее спальню резко распахнулась. На пороге стоял виконт с подсвечником в руке. В глазах его отражался огонь свечи, оттого они казались совершенно безумными. Елена в испуге отпрянула.
– Я знаю, что с тобой творится, дитя мое! – воскликнул де Гранси с одержимостью алхимика, получившего путем многотрудных опытов философский камень. – Ты жаждешь мести!
Не в силах больше сдерживать чувств, владевших ею все эти дни, она бросилась виконту на грудь и судорожно разрыдалась.
– Завтра же едем в Париж, – твердо решил старик. – Ты должна исповедаться своему духовнику и навсегда отказаться от мысли мстить кому-либо, ибо это грех, девочка моя.
После этих слов виконтесса перестала плакать и в какой-то миг сделалась прежней, тихой и послушной дочерью.
– Хорошо, отец, – сказала она, поднимая с пола книги и аккуратно кладя их на прикроватную тумбочку, – мы так и поступим.
Решение виконта оказалось для нее как нельзя более кстати, и вовсе не потому, что Елена давно не исповедовалась. В Париже, в одном из салонов, она слышала имя частного сыщика Антуана Мираду, известного раскрытием нескольких громких преступлений. Она нашла адрес его конторы в справочнике-календаре, выпущенном на новый тысяча восемьсот двадцать шестой год. Из этого же справочника она узнала о скоропостижной смерти русского императора Александра и о восстании дворян на Сенатской площади, но эти вести заняли ее внимание ненадолго.
Вернувшись в Париж, она без труда добилась встречи с прославленным сыщиком. Антуан Мираду оказался еще довольно молодым человеком, лет тридцати, с правильными чертами лица и остроконечной, тщательно выхоленной бородкой, выдававшей в нем франта. Выходец из среды мелких судейских чинов, озлобленный былой нищетой и бесправием, он не получил в свое время ни порядочного образования, ни воспитания. Составив себе состояние и имя едва ли не шантажом, разбогатев и прославившись, он сделался заносчив и груб и не делал исключения даже для светских дам. Более того, он им дерзил намеренно, находя удовольствие в том, чтобы смущать знатных особ, попавших в затруднительное положение.
– Что вам угодно, мадам? – обратился он к визитерше, смерив Елену с ног до головы неприятным колючим взглядом.
– Я хочу получить сведения о некоторых людях, проживающих в России… – туманно начала она, но сыщик резко оборвал ее:
– Кто эти люди?
– Неужели не все равно?
– Они преступники?
– Как взглянуть… С точки зрения закона нет, – растерялась виконтесса. – Но если судить по совести…
– Я не занимаюсь вопросами совести, мадам, – презрительно усмехнулся Мираду. – Вы обратились не по адресу.
– А к кому мне следует обратиться?
– Не знаю, – пожал плечами сыщик, после чего повернулся к Елене спиной и, усевшись в кресло, закинув ногу на ногу, принялся читать газету.
Подобного отношения к себе ей не приходилось встречать, пожалуй, с того самого дня, как она покинула Россию. Елена дала себе слово больше не спускать никому, даже королю и папе римскому, если они захотят ее унизить.
Она подошла к Мираду, вырвала из его рук газету и, не дав ему опомниться, процедила сквозь зубы:
– Извольте встать, когда перед вами находится дама!
– Какого черта! – обескураженно закричал он, тем не менее вскакивая с кресла.
Его попытка отобрать газету оказалась тщетной, и виконтесса, торжествуя, методично порвала ее на мелкие клочки. Ее перчатки покрылись пятнами типографской краски, голубые глаза угрожающе потемнели.
– Что вам от меня надо? Убирайтесь вон! – продолжал, все менее уверенно, негодовать сыщик.
Он сжал кулаки, глаза его налились кровью, лицо мгновенно стало красным, как у лангуста, брошенного в кипящую воду.
Елена же, напротив, невозмутимая, опустилась в его кресло и с убийственной улыбкой произнесла:
– Я в два счета уничтожу вашу контору и вас самих, надутый идиот. Распущу слух, что вы грубиян, мерзавец и грязно домогались меня. Вы лишитесь клиентуры навеки. В ваших интересах помочь мне… Если вы будете думать долго, то я разозлюсь всерьез. Торопитесь! Я уже хочу вас раздавить, просто так, для забавы!
Антуан Мираду разжал кулаки и нервно зашагал из угла в угол, опасливо оглядываясь на разодетую белокурую даму с нежным точеным профилем, которая отчего-то вела себя совсем не так покладисто, как ее светские соплеменницы, зачастую дрожавшие от страха и унижения в его кабинете, опрометчиво доверив ему свои тайны. Ее глаза приобрели стальной блеск, и сыщик ни минуты не сомневался, что эта особа с обманчиво безобидной внешностью исполнит все, что пообещала. Его кровь, отравленная веками пресмыкательства и лакейства, трубила тревогу, столкнувшись с противником, отмеченным, опять же вековой, печатью господства. Мираду паниковал так, словно и не было у него двадцатипроцентной государственной ренты и надежной репутации. Наконец он остановился.
– Я знаю, кто вам нужен! – воскликнул сыщик, но тут же осекся: – А вы согласитесь иметь дело с евреем?
– Хоть с самим чертом!
– Тогда вот адрес. – Он быстро начеркал его на клочке разорванной газеты. – Господин Алларзон долгое время жил в России. Он занимается тем, что выслеживает людей и составляет на них досье.
Елена взяла адрес и молча покинула контору сыщика, не глядя швырнув на стол скомканную банкноту. А тот после ее ухода, обессилев, упал в кресло и приказал в ближайшие два часа никого к нему не пускать. Так дурно ему не было со времен ранней юности, когда он, прогуливаясь в предместье Парижа со случайной возлюбленной из Латинского квартала, наступил в густой траве на гадюку. Та, неизвестно почему, не укусила Мираду, но он по сей день не мог забыть, с какой яростной силой обвилось вокруг его щиколотки живое мускулистое кольцо, увенчанное плоской головкой с разинутой безмолвной пастью. Еще долго после этого случая у него дрожали руки. Дрожали они и сейчас.
Господин Алларзон, небрежно одетый человечек неопределенного возраста, с длинным крючковатым носом и маленькими серыми глазками, то и дело слезящимися, оказался куда обходительнее Мираду. Он внимательно выслушал виконтессу, ни разу ее не перебив, и, когда она замолчала, с минуту подумал и заговорил, к ее удивлению, по-русски:
– Я готов вам помочь, но вы должны понимать, что все это будет стоить недешево. Дорога в Россию на почтовых лошадях нынче влетит в копеечку. Переезд из Петербурга в Москву и обратно – это тоже, знаете ли, удовольствием не назовешь. Дороги в России ужасны! Кроме того, расходы на письма, которые я буду вам присылать раз в неделю с полным отчетом о своих делах. Еще вам придется оплатить мое проживание в гостинице и полный пансион. – Он сделал паузу, во время которой впервые посмотрел на нее прямо своими слезливыми глазками. – И, наконец, за свою работу я возьму не менее тысячи франков, и то только в том случае, если управлюсь за полгода.
Елена дала свое согласие и подписала договор, выплатив Алларзону немалую сумму аванса.
Уже через три недели она получила от него первое письмо из Петербурга с подробным, если не сказать дотошным, отчетом о проделанной работе и была вполне удовлетворена. Однако не так прост оказался хитрый сыщик и свое пребывание в России умело растянул на полтора года, вытянув из Елены огромную сумму. Впрочем, виконтесса не жалела денег на благие, как ей казалось, цели.
Через месяц после возвращения Алларзона в Париж она снова явилась в его контору и сказала:
– Вы достаточно отдохнули, мсье, а теперь я хочу, чтобы вы начали действовать исподволь, по моим указаниям…
На ее счастье, виконт ничего не заподозрил, потому что не инспектировал драгоценности, которыми щедро одаривал приемную дочь. К тому же осенью тысяча восемьсот двадцать восьмого года он получил тревожное письмо от императрицы Марии Федоровны, которая жаловалась на ослабевшее здоровье и предполагала, что вряд ли дотянет до зимы. Трудно было представить милую, неизменно пышущую здоровьем Доротею на смертном одре…
– Я еду в Петербург, – объявил он Елене. – Мария Федоровна зовет проститься.
– Отец, подумайте о своем здоровье! – забеспокоилась виконтесса. – Такое дальнее путешествие, в сырость, холод и распутицу, не пойдет вам на пользу.
Старик и сам прекрасно понимал, что подобное приключение в его возрасте может стоить жизни. Тело его становилось все более немощным, но несгибаемый дух «морского волка» воодушевлял слабеющую плоть.
– Ты готова ехать со мной? – спросил он.
В последние два года они много путешествовали, объехали пол-Европы. Де Гранси считал, что таким образом он помогает Елене забыть о прошлом. Это и в самом деле помогало, но всякий раз, возвращаясь в Париж, она обнаруживала на своем туалетном столике письма от Алларзона, и пламя мести, которое виконт пытался затушить, разгоралось с новой силой.
– Нет, увольте, – качнула она головой, – вернуться в Павловск пока выше моих сил!..
Императрица Мария Федоровна скончалась двадцать четвертого октября тысяча восемьсот двадцать восьмого года поздно вечером. За окнами дворца крупными хлопьями непрерывно падал снег. Слегка колеблемый ветром, он словно ласкался к стеклам. Виконт успел приехать за два дня до кончины императрицы, и старикам удалось-таки наговориться вдоволь, вспоминая вюртембергское девичество Доротеи, берлинские балы, их наивные, детские мечты о будущей взрослой жизни. Это странным образом утешало двух людей, чья жизнь естественным образом близилась к концу.
Виконт вернулся в Париж, как и предсказывала ему Елена, совершенно вымотанным долгим путешествием и больным. Очередное воспаление легких не оставляло никаких надежд на выздоровление, хотя обе приемные дочери ожидали такого же чуда, как в прошлый раз.
Маленькая индийская принцесса за последний год успела превратиться в девушку изумительной красоты, о чем, впрочем, сама едва догадывалась. Она не выезжала на балы, не показывалась в обществе, еще не слышала в свой адрес ни единого комплимента и не вкусила сладкой отравы великосветских ухаживаний, развращающей юных дебютанток быстрее, чем те успевали забыть своих кукол. Майтрейи выглядела испуганным простодушным ребенком, когда настойчиво спрашивала Елену:
– Что же с нами будет, сестрица? Отец не может умереть!
Змейка Лучинка ярким браслетом оплетала ее руку и заметно волновалась, поворачивая головку то к одной, то к другой собеседнице. Елена давно привыкла к этому живому украшению Майтрейи, и хотя в руки змейку никогда не брала, однако и не боялась ее.
– Все мы когда-нибудь умрем, – философски заметила виконтесса. – Надо быть готовыми ко всему. И ты уже не маленькая… Ты должна это понимать.
Старый боцман Бризон ни на шаг не отходил от своего бывшего капитана.
– Ну что, старая рухлядь, идем на дно? – посмеивался де Гранси, когда, очнувшись ото сна, вновь видел над собой его унылое лицо. – Свистать всех наверх! Шлюпки спускай! А капитан, дружище, остается на мостике…
– Эх, да кабы такая напасть, я бы вас силком в шлюпку-то столкнул, а сам пошел бы на дно, на корм рыбам… Какой от меня, трухлявого бочонка, прок?
– Не узнаю тебя, старина, – лукаво усмехнулся виконт. – Измена в рядах санкюлотов! А где же боевой клич: «Смерть аристократам!»?
– Если бы все аристократы были похожи на вас, никто не пошел бы брать Бастилию, – пробормотал Бризон, сморгнув слезы.
– Ну, это ты врешь! – Де Гранси, прикрыв веки, замолчал.
Вечером к виконту позвали кюре. Исповедовавшись и причастившись, де Гранси захотел видеть дочерей. Сначала он обратился к Елене:
– Надеясь вскоре узреть Вечный престол Всевышнего, я не хочу ничего приказывать и запрещать, девочка моя. Но прошу тебя, Аленушка, оставь мысли о мести, выкинь эту мертвечину из своего живого сердца. Взгляни на старика Бризона. Мы с ним были некогда противниками. Он ненавидит аристократов так же, как я презираю якобинцев. Но разве я ему мстил? Надо быть великодушнее… – Речь его была прервана жестоким приступом кашля. Бризон, усиленно сморкаясь в клетчатый красный платок, неуклюже крестился и шептал обрывки молитв, перепутанных и полузабытых.
Едва отдышавшись, преодолевая клокочущую одышку, виконт еле слышно обратился к Майтрейи, которая стояла на коленях, припав губами к его руке:
– Милая девочка, во всем слушайся Элен. После моей смерти она заменит тебе и отца, и мать. С нею ты поедешь на первый свой бал… Оставайся всегда с нею…
Это были последние слова старого аристократа. После он впал в забытье и через полчаса отдал Богу душу.
Так в начале января тысяча восемьсот двадцать девятого года виконтесса стала вдовой, унаследовав огромное состояние супруга.
Примерно через год в салоне мадам Свечиной, еще не сняв траура, она спросила свою подругу Софи де Сегюр:
– Давно ли ты была в России?
– Как вышла замуж – ни разу, – ответила та.
– И тебя не тянет на родину?
– Моя духовная родина – Франция, а это намного сильнее притягивает, чем тот кусочек земли, где ты просто родилась, – легко рассуждала Софья Ростопчина, дочь великого русского патриота.
– Москва для тебя кусочек земли? – грустно усмехнулась Елена.
– Той Москвы больше нет…
Разве не то же самое Елена совсем недавно говорила виконту, когда он завел разговор о тоске по родине? Почему же сегодня ее задевают слова подруги? Почему ей становится вдруг больно и она молчит несколько минут кряду, вспоминая бабушку Пелагею Тихоновну с ее медным чайничком, сидящую в старой беседке над Яузой («Аленушка, отведай моего чаю с шиповником!»); и няньку Василису, срывающую для нее с дерева чудесное яблочко-«звонок» («Вот тебе, Аленушка, погремушка!»); и отца Дениса Ивановича под его любимым тисом в виде яйца, украшенном на пасху разноцветными лентами и сюрпризами («Поди-ка сюда, доченька, сама сними конфекту!»)…
– Ты меня совсем не слушаешь! – возмутилась Софи. – Я говорю, Сережа нынче в Париже…
– Какой Сережа? – очнулась виконтесса.
– Наш Сережа. Мой старший брат. Неужели не помнишь?
– Очень смутно, дорогая, – призналась Елена. – Мы были тогда совсем детьми.
– Он жил какое-то время в Италии, лечил там нервы. Ты ведь помнишь, он в яме сидел за неуплату картежного долга?
– Да, да, конечно, помню. – Виконтесса с трудом оторвалась от давящих сердце воспоминаний. «Не хватало еще расплакаться перед Софи!»
– Так вот, он как раз собирается ехать в Россию.
– Когда? – Она приложила усилие, чтобы вопрос прозвучал бесстрастно, между прочим.
– Очевидно, летом, когда дорога приличнее, – ответила графиня.
– Он не хочет нанести мне визит? – поинтересовалась Элен де Гранси.
– Серж постесняется, – улыбнулась Софи де Сегюр. – Он стал невозможно застенчив, просто как девица.
– Я буду ждать вас завтра к обеду, – настаивала виконтесса. – Обязательно приведи его ко мне…
Повар Жескар в этот день постарался на славу. «Все, как любил господин виконт», – то и дело повторял он. Елена была не столь привередлива в еде, как ее покойный муж, но отдавала дань его тонкому вкусу и всегда просила Жескара приготовить обед или ужин, «как любил господин виконт».
Серж Ростопчин, на беглый взгляд, ровным счетом ничего не унаследовал от своего знаменитого отца. Похож он был скорее на графиню Екатерину Петровну. Однако его выпуклые голубые глаза имели настолько доброе и вместе с тем неумное выражение и так явно свидетельствовали о полном отсутствии воли, что уничтожали сходство с жестокой и властной матерью. Он производил довольно странное впечатление. Елена была много наслышана о его «подвигах» повесы и картежника, а между тем этот уже почти сорокалетний мужчина всякий раз робел и отводил глаза, встретившись с нею взглядом. Когда же к ним в гостиную вышла Майтрейи, которую Елена решила больше не прятать от людей, а приучать к обществу, гость залился краской до самых ушных мочек.
– И вы с виконтом так долго скрывали от мира подобную красоту?! – воскликнула Софи, взяв девушку за руки и восхищенно оглядывая ее с ног до головы с видом знатока. – Но ведь это преступно… Вы очаруете весь Париж, дитя мое, мне даже страшно представить, какой переворот произойдет в обществе, едва вы в нем появитесь…
– Меня держали, как птичку в клетке. – Неожиданно для всех Майтрейи произнесла это по-русски.
– Дорогая, не стоит в русском обществе говорить на русском языке, особенно в Париже, – поучала ее Елена. – Но знание этого языка пригодится тебе во время путешествия… По русским дорогам, конечно!
Ростопчины оценили юмор виконтессы и, переглянувшись, рассмеялись. Граф Сергей, набравшись храбрости, спросил:
– Вы тоже собираетесь ехать в Россию?
– Да, этим летом, – отвечала Елена.
– Я бы мог вам составить компанию, – предложил он.
Таков и был ее расчет. Уж она-то прекрасно знала, что путешествие без сопровождающего мужчины таит в себе много опасностей, особенно с такой юной прелестницей, как Майтрейи.
– Ты не смотри, что братец робок и застенчив, – шепотом просвещала ее за столом подруга, в то время как граф Сергей, выпив несколько бокалов шампанского и окончательно расхрабрившись, расписывал принцессе красоты итальянской природы и достопримечательности этой прекрасной страны. – Когда дело доходит до драки, он превращается в настоящего рыцаря.
«Заколдованный рыцарь», – усмехнулась про себя Елена. Она знала наверняка, почему Софи с таким жаром сватает ей брата в попутчики. У Сергея не было денег на дорогу, а графиня с годами становилась такой же прижимистой, как ее мать, и не собиралась одалживать братцу ни сантима. «Что ж, рыцарь поедет за мой счет…»
Дела задержали Елену в Париже до июля. Все это время граф Сергей покорно ждал, когда они отправятся в путь. Увидеть далекую северную страну не терпелось и Майтрейи.
– А Лучинка там не замерзнет? – тревожно спрашивала она виконтессу.
– У нее ведь русское имя, значит, выживет, – улыбаясь ее детскому страху, отвечала Елена.
Наконец сборы были окончены и день отъезда назначен. В шестиместной карете кроме двух дам и графа разместились две служанки и повар Жескар. Единственный слуга ехал с кучером на козлах. У графа Сергея, как и предполагала Елена, не оказалось ни слуг, ни камердинера. Все его имущество составлял скромный дорожный саквояж, который он не выпускал из рук.
Их отъезд из Парижа совпал с новой революцией. Король Карл Х, последний из Бурбонов, был низложен, и на престол взошел Луи-Филипп из династии Орлеанских, некогда заседавший в Конвенте и голосовавший за отрубание аристократических голов. То был единственный компромисс, хоть отчасти примирявший роялистов с бонапартистами. События не обещали стать столь кровавыми, как сорок лет назад. На сей раз никому не рубили голов, да и пули свистели как-то лениво, невзначай. Однако служанки и повар были не на шутку напуганы.
– Не бойтесь! – подбадривала их виконтесса. – Сейчас доберемся до заставы, а за городом ничего не происходит.
На восточной заставе их встретил патруль, уже присягнувший новому королю. Молодой офицерик с рыжими усиками, явно выходец из мелких буржуа, мечтающий сойти за дворянина, с напыщенным видом просмотрел их документы и вдруг замер, выпучив водянистые рачьи глаза.
– Что-то не так, господин офицер? – поинтересовался граф Сергей. Его застенчивость как рукой сняло, в голосе позвякивал металл.
«И впрямь заколдованный рыцарь!» – приятно удивилась Елена.
Офицерик уставился на него и, не скрывая изумления, спросил:
– Вы – граф Ростопчин? Сын московского губернатора?
– Да, – подтвердил Сергей и не без гордости добавил: – Граф Федор Ростопчин – мой отец.
– Не смею вас задерживать, дамы и господа! – словно щенок, взвизгнул рыжеусый офицерик, возвращая документы и торопливо отдавая честь.
– Трогай! – крикнул кучеру виконтессы граф Сергей.
Карета тронулась, направляясь к поднятому шлагбауму, а офицер вдруг опомнился и, побежав следом, кричал в окно:
– Вы ведь не сказали, куда вы едете? Я обязан спросить…
– В Россию, разумеется! – Опустив кожаную шторку и откинувшись на спинку диванчика, граф Сергей вздохнул, печально глядя на Елену: – Папенька не в первый раз меня выручает, сам того не ведая… Пусть земля ему будет пухом. Он умер, как мученик!
Раскаявшийся повеса перекрестился на православный манер и опустил глаза.
Глава третья,
в которой предается забвению старый неоплаченный долг
Граф Федор Васильевич Ростопчин умирал долго и мучительно. Первопричиной болезни явилось страшное горе, которое он не в силах был пережить. Еще в тысяча восемьсот двадцать третьем году, живя в Париже, супруги Ростопчины заметили, что дочь Лиза, их «ангельчик», начала покашливать. Заметили слишком поздно, потому что девушка намеренно скрывала начавшуюся у нее чахотку и просила домашнего доктора Альбини ничего не говорить родителям. Уже несколько месяцев она упрашивала папеньку вернуться в Петербург, хотя прекрасно понимала, что балтийский воздух для нее теперь смертельно опасен.
– Тебе не терпится повидать своего дружка милого, Борисушку? – догадывался граф, однако возвращение на родину изо дня в день откладывал. Что ему было делать в Петербурге? Выслушивать в свой адрес устарелые упреки? Чувствовать со всех сторон ненависть, терпеть злопыхательство? Ему нравилась парижская жизнь в лучах славы. Роялисты до сих пор носили его на руках, всерьез считая победителем Наполеона наравне с императором Александром.
– Мы не виделись пять лет, – потупив взор и залившись стыдливым румянцем, сказала Лиза.
Ровно десять лет прошло с того дня, когда она впервые познакомилась с Борисом Белозерским в театре Позднякова во время представления немецкого зингшпиля «Ужин холостяков». Они были тогда совсем детьми, наивными и шаловливыми, как котята. Их детская симпатия, неумелая игра во влюбленность должна была бы умереть вместе с детством, как это обычно бывает. Но, вопреки всеобщему закону, игра переродилась во вполне осознанное, пламенное чувство, одинаково воодушевлявшее их сердца. Закончив пажеский корпус, Борис поступил на военную службу в кирасирский полк, расположенный в Гатчине, и писал Лизе оттуда письма, полные нежности и любви. Он продолжал сочинять стихи и всегда просил ее высказывать свое мнение. Они уже совсем не походили на те первые неумелые вирши в духе Хераскова, которые юный Белозерский дарил ей в детстве. Эти строчки вдохновляла новая русская поэзия, недавно давшая первые всходы в Царскосельском лицее и уже расцветавшая на страницах журналов и альманахов. Лиза была в восторге от борисушкиных стихов, заучивала их наизусть и читала Софи. Сестра чаще ругала их, чем хвалила, пеняла Лизе на ее испорченный вкус и, в конце концов, высказывала мнение, что любые стихи по-русски звучат вульгарно. «Да ты и языка-то родного уже не помнишь!» – в сердцах бросала ей Лиза и давала себе слово больше никогда не читать борисушкиных стихов мадам де Сегюр. Однако, получив очередное драгоценное письмо из Гатчины, первым делом бежала к сестре, потому что ей больше не с кем было поделиться радостью.
Граф чрезвычайно гордился своим «ангельчиком». Достигнув возраста невесты, Лиза была не просто хороша собой, она затмевала всех красотой. Во время приемов и балов в доме Сегюров и мужчины, и женщины не могли удержаться, чтобы не высказать графу Федору Васильевичу и графине Екатерине Петровне восторга по поводу необыкновенной красоты и обаяния их младшей дочери. Конечно, претендентов на ее руку и сердце оказалось бы не мало. Однако горячо любящий отец не торопился с устройством замужества своей любимицы. Оттого, может быть, он и тянул с возвращением в Россию, догадываясь, что его Лиза и Борис Белозерский любят друг друга. Впрочем, он ничего не имел против этого союза, ведь Белозерские достаточно знатный и богатый род, хотя для «ангельчика» он мог бы найти и более блестящую партию.
Когда в результате случайности обнаружилась болезнь Лизы и преступному укрывательству доктора Альбини настал конец, граф испугался. Чего-то подобного он ждал все последние годы и готов был к самому страшному удару, к возмездию, но… «Но моя Лиза! Почему же искупительной жертвой избран мой “ангельчик”?!» – в отчаянии шептал он, обливаясь слезами, простояв всю ночь на коленях перед образами. А ранним утром поднял пинками обленившихся от веселой парижской жизни слуг и закричал им не своим голосом: «Живо собираться, едем в Москву! В Москву, черти окаянные!»
Ростопчины вернулись в Россию летом тысяча восемьсот двадцать третьего года и сразу, не задерживаясь в Москве, переехали в Вороново, заново отстроенное после пожара. Сюда же вскоре прибыла огромная коллекция картин, статуй и ваз, приобретенная графом за границей и вдвое превосходящая по ценности и значимости сгоревшую в двенадцатом году. Теперь Федор Васильевич мог хвастаться перед гостями подлинниками Дюрера и Рубенса, Мурильо и Грёза, Веласкеса и Рембрандта и другими великими именами. В конюшнях снова жевали овес кони самых престижных пород, в том числе и ростопчинской. Семейство художника Тончи вновь поселилось в Воронове, и друг семьи Сальватор первым делом взялся за написание портретов домочадцев, начав, по настоянию графа, с «ангельчика».
С яростным упорством и необычайным размахом воссоздавая деревенскую жизнь довоенного прошлого, Федор Васильевич будто вознамерился повернуть время вспять, в ту пору, когда все они жили счастливо, еще не было его пресловутого губернаторства и он ничего не знал о переходе супруги и дочери Софьи в католическую веру. Лиза, всегда любившая Вороново, оказавшись в родной стихии, почувствовала себя лучше. Болезнь приостановилась, на щеках девушки снова заиграл свежий румянец. Еще из Парижа она послала письмо в Гатчину и с нетерпением ждала Бориса. Он, испросив отпуск у полкового начальства, раньше Ростопчиных прибыл в Москву и гостил теперь у отца в подмосковном поместье, в двадцати верстах от Воронова.
Лиза сидела у окна своей комнаты и перечитывала письма и стихи Бориса, когда из самой отдаленной аллеи парка показался всадник на гнедом коне. Она вдруг почувствовала сильное сердцебиение, письмо выпало из ее ослабевших рук. В следующее мгновение девушка бросилась вон из дома, никого не замечая на своем пути.
Граф в это время сидел в креслах перед дворцом, на том самом месте, где в сентябре двенадцатого года, под огромными статуями бронзовых коней, от которых нынче остались одни постаменты, биваком расположились офицеры после оставления Москвы. Вместо генерала Ермолова и английского посланника Вильсона теперь компанию ему составляли художник Тончи и секретарь графа Александр Булгаков. Говорили соответственно о пустяках: о живописи, о театре, а не о судьбах России, как тогда. Разговор тек медленно и лениво, будто в дреме. Федор Васильевич потягивал шампанское, к которому сильно пристрастился за время пребывания в Париже. Тончи предпочитал сельтерскую воду, а Булгаков держал перед собой блюдце с первыми ягодами крыжовника. Как раз в это время мимо вихрем пронеслась Лиза, ни с кем не поздоровавшись, ни на кого не взглянув.
– Давеча Лизонька и пяти минут не могла позировать, сказавшись больной, – удивился художник, – а нынче скачет, как быстроногая лань.
– Что такое случилось, в самом деле? – с тревогой спросил Булгаков.
– Любовь, – коротко ответил им граф, ставя пустой бокал на выстриженную чуть не под корень траву.
Увидев бегущую к нему Лизу, Борис тотчас спешился и побежал ей навстречу. Он заключил задохнувшуюся девушку в крепкие объятия, и они простояли так несколько секунд, не в силах оторваться друг от друга и произнести хотя бы слово. Каждый слышал, как громко и учащенно бьется сердце в груди другого. Наконец Лиза воскликнула:
– Ну дайте же мне хотя бы взглянуть на вас! Я еще не видела этой военной формы!
– А я так вообще вас давно не видел! – пошутил Борис. – Пять лет назад вы были еще совсем маленькой.
– Вы тоже успели за это время подрасти, – засмеялась она, намекая на его огромный рост. Девушка теперь едва доставала князю до плеча.
Сияющие черные глаза маленькой графини с восторгом оглядывали статного воина в блестящей форме, способной сказочно преобразить даже урода. Борис же Белозерский не только уродом не был, но, с общего согласия товарищей по полку, считался у них первым кавалером и заводилой на всех балах, в которых доводилось участвовать молодым военным. Находились и завистники, намекавшие, что князю Белозерскому не трудно будет сделать карьеру, воспользовавшись не столько своими талантами и личной храбростью, а скорее испытывая на влиятельных придворных дамах силу своей счастливой внешности. Внушительная фигура, словно созданная для парадов, волевое и вместе с тем тонко очерченное лицо, в выражении которого читалась некая приятная мягкость, говорившая о доброте сердца, миндалевидные глаза редкого изумрудного оттенка, свежий рот, всегда готовый улыбнуться, каштановые кудри, шелковистые, как у женщины… Немудрено, что Лиза была влюблена в своего давнего детского друга со всем самоотвержением, на которое способно девственное сердце, рано встретившее свой идеал и решившее вечно ему служить!
– Пойдемте же в дом! – еле выговорила она наконец борясь с внезапно охватившим ее смущением. – Скоро обед!
Никто бы не смог заподозрить в эту минуту, что Лиза серьезно больна, таким румянцем было озарено прелестное фарфоровое личико девушки.
Они простодушно взялись за руки, по детской привычке, и не спеша пошли по аллее, ведущей к дворцу. Гнедой конь кирасира, огромный, как медведь, и послушный, как ребенок, неотступно следовал за ними, время от времени тычась бархатными губами в спину позабывшего о нем хозяина.
За обедом граф расспрашивал Бориса о службе, об отце и вообще о жизни в России. Лиза почти ничего не ела. Не
отрывая глаз, она любовалась молодым офицером, а он то и дело посылал ей нежные, полные любви взгляды. Граф с грустью наблюдал эту обреченную идиллию.
Младший сын Ростопчиных, десятилетний Андрей, живо интересовался военной службой и к концу трапезы, рассмешив всех, заявил, что непременно тоже сделается кирасиром. Борис катал его после обеда на своем коне и охотно возился с мальчиком, сам при этом превращаясь в большого ребенка.
Вечером граф предложил Белозерскому почитать свои стихи.
– Я с удовольствием прочту, – согласился молодой офицер, – но только не свое, а Пушкина и Дельвига. Я всего лишь жалкий подражатель.
– Вы несправедливы к себе, Борис! – возмутилась Лиза.
Он читал вдохновенно, но просто, без излишней декламации. Молодая графиня впитывала каждое произносимое им слово, наслаждаясь не столько стихами, сколько звуком любимого голоса. Даже ее белокурые локоны трепетали, покачиваясь в такт чтению.
– У этих новых пиитов слог невысокий, – критически вымолвил Ростопчин, когда Борис умолк. – Но души, признаться, в их стихах поболее, чем у наших стариков. Я даже обронил в одном месте слезу.
– А я бы сказала, в этих стихах больше жизни, – поправила дочь.
– О да, больше жизни, – эхом отвечал Борис.
– Да, пожалуй… «больше жизни»… – задумчиво повторил граф, с затаенной болью глядя на дочь.
Доктор Альбини, не получивший до сих пор отставки только потому, что был католиком (доктора не католика графиня Екатерина Петровна даже на пушечный выстрел не подпустила бы ни к себе, ни к детям), сказал на следующее утро Ростопчину:
– Волнение, связанное с пребыванием в доме молодого офицера, едва ли пойдет на пользу здоровью Елизаветы Федоровны.
– Однако отъезд молодого офицера взволнует ее во сто крат сильнее и опаснее, – невозмутимо ответил граф и повернулся спиной, давая понять, что разговор окончен. Когда Альбини удалился, он в сердцах воскликнул: – Дурак!
Вечером, когда Ростопчин сидел в беседке в полном одиночестве и потягивал шампанское, к нему прибежал Андрей и возбужденно, запыхавшись, сообщил:
– Папенька, папенька! Там… возле пруда… Лиза и Борис цалуются!
– Ты что же это, шпионишь за ними? – спокойно спросил отец.
– Я? – растерялся мальчик. – Нет! Я случайно увидал…
– Значит, я шпиона в доме у себя взрастил?! – нахмурив брови, возмутился Ростопчин.
– Я случайно… – жалко пропищал Андрей, готовый уже расплакаться.
– Ну, на первый раз прощаю. – Граф привлек его к себе, обнял и, грубо гладя по голове, словно желая втереть в нее прописные истины через макушку, стал поучать: – Впредь не подглядывай, не наушничай, не ябедничай. Все это недостойно звания дворянина.
– Больше не буду, папенька! Никогда! – искренне поклялся Андрей.
– Ну, молодец! – похвалил граф. – А теперь ступай в дом и помни же – матери ни слова о том, что «случайно» увидел!
Отпуск Бориса подходил к концу, а Лиза так и не сделала ему самого главного признания. Впрочем, девушка чувствовала себя настолько хорошо, что все вокруг, да и она сама начали понемногу верить в чудо – болезнь пройдет, отступит навсегда, растворится, как утренний туман над рекой. Ведь и такие случаи бывали.
– Не стоит ему ничего говорить, – убеждала она отца в его кабинете, вечером накануне отъезда Бориса. – Зачем его огорчать раньше времени? Борис не сможет спокойно жить, зная, что я больна. А если мне сделается худо, сразу же напишу ему обо всем, признаюсь.
– Поступай, как подсказывает тебе сердце…
Бывший губернатор рассматривал на свет пузырьки шампанского в бокале, стараясь скрыть от дочери выступившие у него на глазах слезы. Письменный стол, на котором всегда громоздились книги и эстампы, был пуст, на сукне красовались лишь три пустые бутылки из-под «Вдовы Клико».
– Вы много пьете в последнее время, папенька… – робко проговорила Лиза, чувствуя себя не вправе обсуждать с отцом подобные темы.
– Это, Лизонька, пустяки, – он притянул дочь к себе и нежно погладил по щеке, – это пройдет. Была бы ты у меня счастлива, ангельчик…
А что же Екатерина Петровна? Конечно, это она подослала к графу доктора Альбини. Роман дочери с сыном ненавистного ей князя Белозерского не входил в ее планы. Она приказала своей новой компаньонке мадам Турнье неотступно следить за молодыми людьми, но та оказалась плохой шпионкой. Лиза тут же разоблачила ее, и, чтобы избавиться от слежки, они с Борисом каждый день отправлялись на конные прогулки. Но и останься они дома, компаньонка графини немногое бы узнала, потому что молодые люди общались исключительно по-русски, и мадам Турнье не поняла бы ни слова.
Вскоре в Вороново пожаловали новые гости, и внимание графини переключилось на них. Приехала старшая дочь Наталья с детьми. Надо сказать, Екатерина Петровна признавала только внуков-католиков, детей Софи. Ко всем остальным, «обреченным на адов огонь», она была равнодушна. Общение с Натали также не доставляло ей удовольствия. Со времени последних родов дочь начала глохнуть, и матери всякий раз приходилось кричать, чтобы втолковать ей любую малость. Куда больше ее занимал прибывший в поместье аббат Мальзерб, заменивший отца Серрюга. С ним она вела серьезные теософские беседы и была подчеркнуто мила и обходительна.
В день расставания Лиза провожала Бориса до самых границ поместья. У нее под седлом был конь ростопчинской породы по имени Нежный. Гнедого коня Бориса звали Преданный. Нежный и Преданный выступали бок о бок неспешно, уже привыкнув к долгим и тихим совместным прогулкам.
– Это самое лучшее лето в моей жизни! – неожиданно призналась Лиза.
– Помните клятву, которую я дал вам некогда на крестинах Андрея? – спросил князь, едва всадники спешились в поле за оградой парка. – Помните, что я обещал любить вас до самой смерти?
– Эта клятва напугала меня, Борис… Я и сейчас боюсь, когда клянутся…
– Не бойтесь ничего! Мое слово останется в силе, пока я жив!..
Он покрыл ее лицо горячими поцелуями, бросил «Прощай!» и, опасаясь, что девушка заметит его слезы, быстро вскочил на коня.
Лиза провожала всадника взглядом, пока тот не скрылся за дальним лесом, оставив за собой на дороге пыльный, медленно оседавший в безветренном воздухе шлейф. Тогда она бессильно опустилась наземь и пролежала около часа, наблюдая за движением облаков. Нежный сосредоточенно щипал траву, время от времени приближаясь, чтобы слизать слезы с побледневших щек своей хозяйки.
Как и предсказывал граф, состояние Лизы после отъезда Бориса Белозерского заметно ухудшилось. Рано наступившая осень привела с собой ночные заморозки, утренний воздух стал резким, колючим, вечера длинными и сырыми… Девушка начала таять на глазах. С первым снегом семейство перебралось в Москву, в дом на Лубянке. Несмотря на возражения супруги, Федор Васильевич созвал докторов для консилиума. Все в один голос отметили быстротечность чахотки и дали неутешительный прогноз – Лиза не доживет до весны.
В последних числах февраля, когда девушка уже не могла самостоятельно подняться с постели, она написала Борису в Гатчину:
«Милый мой, родной! Прости, что скрыла свой недуг! Я обманывала не столько тебя, сколько себя, мне не хотелось думать о смерти, не верилось в нее. Теперь я знаю твердо, что не доживу до весны, поэтому освобождаю тебя от старой детской клятвы! Живи и люби свободно на радость мне!»
– Когда Борис приедет в Москву, примите его, как сына, – наказывала она отцу, – другого мужа я не желала бы иметь…
В ночь с двадцать восьмого февраля на первое марта девушка стала задыхаться. Альбини предрек близкий конец и дал Лизе несколько капель опиума на кусочке сахара. Девушке стало легче, и к ней позвали православного священника. Она исповедалась, причастилась и соборовалась.
– Папа, – обратилась она к отцу, который не отходил от ее постели дни и ночи, – во время болезни я часто бывала нетерпелива и несдержанна. Прошу всех меня простить, особенно Наталью. Напишите ей, что мне трудно было говорить громко: она меня почти не слышала и могла счесть это за издевку… – Потом, взяв руку отца и крепко прижавшись к ней щекой, продолжала: – Когда меня не станет, разделите мое приданое поровну между сестрами. – Помолчав и отдышавшись, спросила: – А госпожа Тончи уже вернулась?
Умирающая поручила жене художника продать все свои наряды и с нетерпением ожидала денег, чтобы самой раздать их своим горничным.
– Андрюшенька, подойди ко мне! – обратилась она к брату. Мальчик дежурил у кровати Лизы вместе с отцом. – Вот тебе мои часики и цепочка, возьми их и не забывай сестру Лизу…
Эти чудо-часики, игравшие мелодию из «Волшебной флейты», граф купил для своего ангельчика в семнадцатом году в швейцарском Базеле, по дороге из Карлсбада в Париж. Для девочки они были главным предметом гордости. Ни у старших сестер, ни у кого из подруг ничего подобного не было.
Андрей принял из дрожащей, горячей Лизиной руки нагревшиеся, будто живые часы и вдруг, только сейчас осознав своим детским умом всю глубину трагедии, разыгравшейся в их доме, не выдержал и зарыдал. Граф притянул к себе сына, крепко обнял его, но слов утешения не нашел, он и сам едва сдерживал рыдания.
Тут явилась графиня в сопровождении мадам Турнье.
– Мальчику давно пора спать! – первым делом высказала она мужу. – Третий час ночи!
– И правда, папенька, ступайте с Андрюшей, ложитесь спать, – поддержала мать Лиза, – мне уже гораздо лучше… – В подтверждение этих слов она приподнялась на постели, взяла с тумбочки ночной чепчик и надела его на свои растрепавшиеся светлые волосы. – Я, кажется, тоже засну. А когда проснусь, вам тотчас доложат.
Граф, утерев платком слезы, поцеловал дочь, взял за руку плачущего Андрея, и они удалились.
– Девочка моя, – ласково и проникновенно заговорила с Лизой графиня, – ты теперь находишься на пороге Вечности и должна сделать важнейший для христианки выбор…
– Опять вы, маменька, за свое, – тихим, измученным голосом произнесла Лиза. Ее осунувшееся лицо как будто ушло в тень.
– Разве я могу спокойно смотреть, как дочь умирает в ложной вере! – Екатерина Петровна энергично вытерла платком глаза. – С содроганием сердца я буду помнить, что адский пламень пожирает твою чистую душу, дитя мое, а слуги люциферовы хлещут ее страшными кнутами и окунают в чан со смрадными испражнениями грешников…
– Знаете, что я подумала? – перебила ее Лиза. – Вы сейчас так ярко расписываете ад, а в детстве никогда не рассказывали мне сказок, никаких, ни веселых, ни страшных. Если бы не Софьюшка, я бы вовсе была лишена этого удовольствия…
– Прости меня, девочка моя! – Графиня встала перед дочерью на колени. – Я не всегда была добра к тебе, каюсь. Зато там, в райских кущах, ты не раз помянешь меня добрым словом…
Лиза ничего не ответила. Ей вдруг привиделось, что она стоит на берегу бурлящего моря. Три года назад они с отцом подались на небольшом суденышке в Англию и попали в довольно крутой шторм. Свирепый ветер и кипящие у бортов высокие волны вовсе не испугали маленькую графиню, напротив, она тогда испытала какой-то необъяснимый восторг, граничащий с сумасшествием. Вот и теперь возникшая под воздействием опиума галлюцинация вызвала на ее лице счастливую улыбку. Екатерина Петровна, растолковав это явление по-своему, сделала знак мадам Турнье, и та, бросившись к двери, пригласила в комнату терпеливо ожидавшего своего выхода на сцену аббата Мальзерба.
Лиза ничего этого уже не сознавала, потому что провалилась в беспокойный, полный горячечных видений сон.
– Нельзя медлить! – обратилась к своим сообщникам графиня. – Надо действовать!
Вместе с мадам Турнье они подняли с кровати полумертвую девушку и поставили ее босыми ногами на холодный пол. Аббат Мальзерб тотчас окропил Лизу святой водой, отчего она вдруг очнулась и, оценив происходящее, из последних сил крикнула:
– Уберите своего попа, маман! Я не желаю быть изменщицей, как вы!
– Успокойся, дитя мое! Ты еще не ведаешь истинного света…
– Нет, это вы не ведаете, что твори…
Отец Мальзерб не дал девушке договорить. Пробормотав что-то по латыни, он сунул ей в рот облатку. Возмущенная до предела Лиза, собрав последние силы, вырвалась из рук матери и мадам Турнье и выплюнула священнику в лицо причастие. Вместе с облаткой из ее рта извергся поток алой крови. Она упала без чувств, но еще дышала. Тотчас послали за доктором Альбини. Лиза оставалась лежать на полу, к ней не решались притронуться. Сообщники впали в оцепенение, их поразило отчаянное сопротивление умирающей девушки, к тому же одурманенной опиумом.
– Это конец! – констатировал доктор и сам перенес Лизу на кровать.
Екатерина Петровна наблюдала агонию дочери с каменным выражением лица. Земные хлопоты ее мало интересовали, она заботилась лишь о Вечном.
– Мы можем считать Лизу католичкой? – спросила она аббата.
Тот перестал отирать лицо носовым платком, уже пропитавшимся кровью, и пожал плечами:
– Но ведь ваша дочь не приняла святого причастия…
– Болезнь помешала ей это сделать, – скорбно произнесла графиня.
– В таком случае, – приняв ее игру, сощурился Мальзерб, – будем считать, что ваша дочь умерла католичкою…
Лиза так и не пришла больше в сознание. Она скончалась в шесть часов утра в первое утро весны тысяча восемьсот двадцать четвертого года, восемнадцати лет отроду.
Той ночью граф Федор Васильевич спал в своем кабинете в креслах. Он нарочно не лег в спальне, чтобы не раздеваться и быть готовым в любую минуту прийти к дочери. И, будто подстерегая минуту слабости графа, ему вновь приснился выходец с того света, кошмар, который раньше являлся в горячечных видениях и едва не свел его с ума, пока Ростопчин не покинул Москву. Купеческий сын Верещагин, растерзанный толпой с его подачи накануне взятия Москвы французами, чистенький, завитой, щегольски одетый в модный сюртук и узкие панталоны, снова уселся на подоконнике губернаторского кабинета. Омерзительный призрак легкомысленно болтал ногами и выстукивал по стене тросточкой мелодию популярной польки. Он улыбался и смотрел на бывшего губернатора сладеньким, заискивающим взглядом.
– Вернулись, ваше превосходительство? – Купеческий сын говорил, не раскрывая рта, продолжая растягивать губы в притворной улыбке. – Хорошо показалось за границей-то? Лучше, чем у нас? Как же-с, как же-с, такому герою, как вы, везде почет и уважение!
– Чего притащился опять ко мне? – устало спросил Ростопчин. Верещагин его больше не раздражал, не пугал, он казался теперь давно забытым на антресолях хламом, вроде изношенного башмака. – Пришел на горе мое посмотреть? Позлорадствовать?
– Как можно-с? – Призрак принял серьезный вид и перестал постукивать тростью. – Я, может быть, Лизоньку не меньше вашего любил! – Он достал из кармана носовой платок и громко высморкался. – Такая милая девчушечка была, этакий ангельчик! Эх, не уберегли вы доченьку сердечную, ваше превосходительство! В своих парижах да лондонах сгубили!
Купеческий сын вдруг в голос разрыдался, прикрыв лицо ладонями. Он содрогался всем телом, и страдание его казалось искренним, но в какой-то момент он отогнул большой палец руки, и Ростопчин увидел в щели лукавый взгляд и все ту же притворную улыбку.
– Паяц! – возмущенно крикнул он и запустил в купеческого сына бронзовым бюстом императора Павла, стоявшим на его письменном столе.
Граф проснулся от звона стекла. Однако окно было цело, и бюст Павла стоял на прежнем месте.
– Что за чертовщина? – произнес он вслух. – Опять мне этот леший примерещился!
Федор Васильевич перекрестился, не переставая думать о том, что не впустую Верещагин упомянул парижи и лондоны. Граф уже не раз за последние месяцы вспоминал их с дочерью путешествие в Англию на маленьком суденышке и тот проклятый шторм, в который они угодили. В Лондоне, когда они гостили у графа Семена Воронцова, Лиза немного покашливала, да он не придал этому особого значения, тем более что кашель вскоре исчез.
– Это я, я сам, безмозглый осел, погубил мою девочку! – запричитал он, схватившись за голову.
Звон стекла, разбудивший графа, на самом деле прозвучал не во сне. Художник Сальватор Тончи, направлявшийся в кабинет Ростопчина, чтобы сообщить отцу о смерти Лизы, не удержал в дрожащей руке графина с водой. Лизу он рисовал еще совсем крохой и часто со смехом вспоминал, как трехлетняя проказница тайно лакомилась его красками и к концу сеанса вымазывалась с головы до пят. Этот и другие портреты сгорели в старом Воронове, а последний он не успел дописать, потому что девушка, измученная болезнью, отказывалась позировать.
Тончи стоял и плакал над разбитым графином, как дворовая девка, которой грозит порка за порчу хозяйского добра. Екатерине Петровне пришлось перешагивать через осколки стекла, чтобы попасть в кабинет супруга.
– Мужайся, Федор, – сухо сказала она с порога, – наша дочь скончалась. – И тут же без перехода присовокупила: – Она умерла католичкою и должна быть погребена по католическому обряду.
Граф вытер платком глаза, выпрямился и так же бесстрастно ответил:
– Я ничего про это не знаю. Когда я расстался с Лизой, она была православной.
У гроба девушки сошлись приходской священник и аббат Мальзерб. Обменявшись враждебными взглядами, они молча покинули дом бывшего губернатора, так и не прочитав положенных молитв над покойной. Федор Васильевич обратился за помощью к митрополиту Московскому Филарету, и тот своей властью приказал хоронить Лизу по православному обряду на Пятницком кладбище.
Графиня Екатерина Петровна на похороны дочери не явилась..
«Милая Лиза, которую я называл своей любовью, – писал Ростопчину из Лондона граф Семен Воронцов, – обладавшая всеми духовными совершенствами, умная, кроткая, скромная, одна только не замечавшая всеобщего восхищения, всюду ею возбуждаемого! Как отец, как ваш искренний друг, как человек, знавший, что представляет из себя милая Лиза, я чувствую всю горечь вашей утраты. Было бы безрассудством говорить вам слова утешения. Будем вместе плакать, но покоримся безропотно велениям Провидения».
В день похорон на графа Федора Васильевича тяжело было смотреть. Даже равнодушным зевакам внушали жалость его опухшее от слез лицо, померкший, тусклый взгляд всегда очень живых, искрящихся глаз.
«Ах, папенька, я хотела бы всегда быть с вами и никогда, никогда не расставаться!» – восторженно признавалась ему семилетняя девочка, когда они ехали на «Ужин холостяков», едва уговорив маменьку отпустить Лизу в театр. Он отвечал ей шутливо: «Придет время, ты выйдешь замуж, а потом твой старенький папенька покинет этот мир. Вот как будет и никак иначе!»…
Судьбе было угодно перечеркнуть все расчеты и планы. Он, старик, все еще зачем-то жил и дышал, а его любимое дитя лежало на дне могилы, немое и ледяное, как засыпавшие его комья мерзлой земли… Граф не помнил себя от горя. Он очнулся только на пятый день после похорон, когда ему доложили, что прибыл молодой князь Белозерский. Письмо в Гатчину пришло слишком поздно, и как Борис ни старался успеть к Лизе, загоняя лошадей и с кулаками набрасываясь на медлительных и лукавых станционных смотрителей, он все равно бы опоздал.
Ростопчин обнял Бориса и, не удержавшись, разрыдался у него на груди.
– Дочка не хотела вас расстраивать до поры до времени, друг мой, – с трудом выговорил он, – хотя уже летом знала, что умрет…
Молодой князь отказался отобедать в доме бывшего губернатора – он не смог бы проглотить ни куска. Остаток дня офицер провел на кладбище, присев на скамейку в ограде свежей могилы и остановившимся взглядом созерцая позолоченный крест с именем Лизы, обледеневшие венки с вымокшими лентами, любопытных воробьев, то и дело пикирующих на земляной холм. Взъерошенные птички бойко выклевывали из комьев земли личинки, вывороченные лопатами могильщиков, и спустя некоторое время так привыкли к неподвижной фигуре мужчины, слившейся со скамейкой, что иногда спархивали ему на плечи с ветвей березы, поникшей над оградой. Борис не замечал птиц. Он не двигался, не чувствовал холода, не плакал, кажется, даже не думал, лишь вспоминал… Несколько месяцев назад они с Лизой целовались на берегу реки в Воронове, смеялись, носились по парку, как сумасшедшие, играли в салки… У нее были горячие губы, ее светлые волосы пахли медом и кувшинками, он подхватывал девушку на руки и кружил над землей, как ребенка… Она была легкой и живой, как солнечный луч, и ему казалось удивительным, что ее гибкое полудетское тело имеет какой-то вес… А порой, когда их губы встречались надолго, ее глаза странно тускнели и туманились, дыхание становилось прерывистым и частым, и в такие минуты Борис боялся себя – так он желал ее, так мечтал о ней как о будущей жене. Она и теперь совсем рядом, но к ней уже не прикоснуться, их разделяет груда тяжелой сырой земли. И все так просто, обыкновенно – ограда, туман, воробьи, нищие на церковной паперти… Как будто ничего и не случилось.
Когда начали сгущаться сумерки, Борис поднялся со скамьи, наклонился над могильным крестом и сведенными от холода губами прошептал слова детской клятвы, от которой Лиза избавляла его в своем письме:
– Я буду любить тебя до самой смерти и никогда, никогда не предам! А если такое случится, пусть покарает меня Господь!
Не заехав в родительский дом и не повидавшись с отцом, он отправился обратно в полк.
Агония графа Ростопчина продолжалась целых десять месяцев. Болезни разом накинулись на него, самая страшная и неизлечимая среди них была грудная водянка, парализовавшая легкие. Доктор Пфеллер, лечивший графа, как-то заметил Александру Булгакову: «Душевные страдания, вызванные смертью дочери, сменились физическим недугом, и этот процесс уже необратим».
В декабре тысяча восемьсот двадцать пятого года боли стали невыносимыми, и Федор Васильевич умолял докторов не давать ему больше лекарств, желая поскорее умереть. Однако несколько капель опиума успокаивали его, облегчали страдания, и он мог немного поспать.
В своих предсмертных записках он писал: «Я ожидаю смерти без боязни и без нетерпения. Моя жизнь была плохой мелодрамой с роскошной обстановкой, где я играл героев, тиранов, влюбленных, благородных отцов, но никогда лакеев».
Известие о кончине императора Александра оставило его равнодушным. Он написал: «По странному совпадению, Александр умер в Таганроге, городе, служившем в прошлом столетии местом ссылки преступников, и, несомненно, его тело было набальзамировано Виллие, придворным хирургом, принимавшим участие в убийстве Павла, перерезавшим ему сонную артерию, после того как он был задушен».
Узнав о восстании дворян на Сенатской площади, бывший губернатор воскликнул: «Во Франции сапожники решили стать князьями, а у нас князья вознамерились попасть в сапожники!»
Накануне Рождества стало очевидно, что конец близок. Пфеллер честно признался графу, что бессилен его спасти, и сообщил, что тот вряд ли доживет до нового года. Ростопчин с щедростью русского барина заплатил доктору три тысячи рублей и велел позвать приходского священника. За исповедь он заплатил тысячу рублей и сказал батюшке в присутствии своего секретаря Булгакова и графини:
– Совершайте погребение один, пусть гроб будет скромный и пусть меня похоронят рядом с дочерью Лизой, под простой мраморной плитой с надписью: «Здесь покоится Федор Ростопчин», без всякого титула.
После ухода священника он тихо застонал и воскликнул:
– Боже, сжалься над бедным грешником, прекрати мои страдания!
– Страдания преходящи, а небесное блаженство вечно, – поспешил утешить его Булгаков.
– Нет, – покачал головой граф, – я не достоин Царствия Небесного.
– Кто унижается перед Господом – возвышается, – вставила Екатерина Петровна. – Вспомни, друг мой, о разбойнике Варраве и не сомневайся в милосердии Божием.
– Разбойник я и есть, – задыхающимся голосом произнес бывший губернатор. – Император Александр не простил мне казни Верещагина, не простит и Господь, хотя я только что покаялся в этом самом страшном моем грехе…
Утомленный и взволнованный, он упал на подушки и затих. Никто не проронил ни слова, секретарь и графиня словно впали в оцепенение.
Тридцатого декабря поутру с графом сделался нервный удар, парализовавший язык. Тем не менее можно было разобрать все, что он говорил. Ростопчин приказал собрать всю прислугу и просил у нее прощения. После своей смерти он велел всех дворовых людей отпустить на волю с дорогими подарками.
– Граф, – выбрав минуту, обратился к нему Булгаков, – на вашем старшем сыне тяготеет ваш гнев. Простите его перед смертью.
– Ах, мой дорогой друг, как я вам благодарен. – Умирающий пожал руку секретарю. – Вы напомнили мне, что я отец повесы и картежника! – Подумав с минуту, он обратился к графине: – Я благословляю и прощаю Сергея. Если его долги окажутся больше оставленного мною ему наследства, выплачивай ему ежегодно по двадцати тысяч франков.
Вечером того же дня графа соборовали и он, попрощавшись со всеми, приготовился умереть. Однако прогнозы докторов не оправдались. Ростопчин продолжал жить и мучиться, наперекор науке. «Я ничего не понимаю, – спустя неделю разводил руками Пфеллер на срочном консилиуме. – Он уже почти две недели живет с полностью парализованными легкими! Это уникальный случай!»
– Доктор, ради бога, кончите мои мучения! – Граф то умолял Пфеллера, то кричал на него. – Я прошу смерти. Я требую смерти, черт возьми!!!
Дежурные десять капель опиума успокаивали графа, притупляли боль, и он погружался в сон. Так умирающий протянул еще одну неделю.
Единственной утехой последних дней жизни неистового губернатора было шампанское, которое доктора благосклонно разрешили ему пить, правда, разбавленным сельтерской водой. Да еще на мгновение скрашивали мучения письма друга семьи, действительного тайного советника Николая Николаевича Новосильцева, приближенного к императору Николаю. В письмах он сообщал, что всякий раз, как попадается на глаза его величеству, тот не забывает справиться о здоровье графа и желает ему скорейшего выздоровления.
Пятнадцатого января в облике Ростопчина произошли зловещие изменения: на лице и на руках у него выступили синие пятна, один глаз совершенно провалился в орбиту, речь стала все более бессвязной. Тем не менее он попросил бокал шампанского. Осушив его до дна, пожал руку Булгакову и слабым движением пальцев потрепал за волосы Андрюшу. Последними его внятными словами стали: «Прощайте, прощайте, я умираю!» Дальнейшей речи уже нельзя было разобрать.
Восемнадцатого января тысяча восемьсот двадцать шестого года, в восьмом часу вечера граф Федор Васильевич отмучился. Его похоронили рядом с Лизой, как он и просил. Графиня Екатерина Петровна снова не пожелала присутствовать ни на погребении, ни на панихиде.
На мраморной могильной плите была начертана эпитафия, которую граф сочинил за несколько лет до смерти на французском языке:
- «Здесь нашел себе покой,
- С пресыщенной душой,
- С сердцем истомленным,
- С телом изнуренным,
- Старик, переселившийся сюда.
- До свиданья, господа!»
…Далеко не все подробности этой печальной повести были известны графу Сергею, но и того, что он поведал своим спутницам, хватило, чтобы Елена погрузилась в сумрачное молчание, а чувствительная Майтрейи тихонько всплакнула в уголку кареты, от души жалея свою безвременно погибшую, неизвестную ей ровесницу. Рассказ, начатый невдалеке от мятежного Парижа, граф Сергей закончил уже в Швейцарии. О последних днях Лизы и отца он был осведомлен из писем сестры Натальи. Многому та была свидетельницей сама, а прочее узнала от секретаря графа, доброго и верного Булгакова.
Елену эта история серьезно озадачила. Виконтессу удивляло, что Софи, ее лучшая подруга, ничего ей не рассказывала о смерти сестры и отца. Правда, та целый год не снимала траура, но все так же бойко обсуждала в салонах последнюю книгу Шатобриана или светскую сплетню и не выглядела удрученной. В Россию, на могилу отца, Софи даже не собиралась, впрочем, по уважительной причине, из-за очередных родов. Но теперь Елена не сомневалась, что не будь этой причины, нашлась бы другая. Живя в Париже, мадам де Сегюр настолько отмежевалась от родины и от семьи, что казалась уже вовсе не русской и не Ростопчиной.
– Вы не находите, дорогая виконтесса, что моя сестра Софи сильно изменилась? – словно прочитал ее мысли граф Сергей.
– Мы все меняемся с годами, – ответила она.
– Она сделалась скупа и расчетлива, как настоящая француженка.
– И в чем же это выражается? – усмехнулась Елена. – В том, что Софи не дала вам денег в дорогу? А кстати, почему у вас нет денег? – напрямик спросила она. – Ведь отец не забыл о вас перед смертью.
– Все, что он мне оставил, ушло на оплату долгов и на мое лечение в Италии, а те двадцать тысяч франков, которые матушка должна была высылать мне ежегодно, она ни разу не выслала. В ответ же на мои просьбы о деньгах она попросила меня приехать за ними в Москву…
– Поэтому вы и едете в Россию?
– Разумеется, – не стал кривить душой граф, – хотя знаю наверняка, что она задумала.
– Не трудно догадаться, – зорко взглянула на него виконтесса. – Она хочет вас перекрестить в католика за счет денег вашего отца. Другими словами, хочет купить вашу измену.
– Только вряд ли ей удастся этот фокус! – воскликнул Серж Ростопчин и торжествующе прищелкнул пальцами.
– Вы настолько крепки в православной вере? – удивилась Елена.
– Дело не во мне, – махнул он рукой, – я бы перекрестился и глазом не моргнул. Император Николай, в отличие от своего старшего брата, ярый противник таких переходов в другую конфессию. За нашей семьей теперь, как вы понимаете, установлен особый надзор. Едва мой отец отдал богу душу, император тотчас же распорядился отобрать у матери младшего сына, чтобы она не смогла его перекрестить, и наш добрый Булгаков лично отвез Андрюшу в Петербург. Брат был отдан на попечение своего зятя Нарышкина, супруга Натальи, и помещен в пажеский корпус.
– Бедный мальчик! – воскликнула Елена.
– Не такой уж он и бедный, – возразил граф Сергей. – Андрюша оказался первостатейным мотом и потратил за годы учебы сорок тысяч рублей на всякие удовольствия. Мне с моими жалкими картежными долгами такие суммы не снились! Недавно «бедный мальчик» потребовал у матери еще шестьдесят тысяч…
– Неужели ваша матушка ему их предоставила?!
– Еще как! – без тени зависти произнес граф. В его голосе, напротив, слышалось восхищение. – Мать не смеет ему ни в чем отказывать. По всей видимости, в душе она еще надеется сделать из Андрюши примерного католика. Отец оставил после себя около миллиона капитала, но такими темпами «бедный мальчик» скоро спустит все до копейки.
– Кажется, он еще несовершеннолетний?
– Этот ловкий малый исправил свою метрику и сам сделал себя совершеннолетним…
– То есть как – исправил? – изумилась виконтесса. – Разве это не противозаконно?
– О, дорогая моя благодетельница! – фамильярно воскликнул Серж. – В нашем отечестве закон всегда на стороне того, у кого звенит в кармане.
– Представьте себе, эту неприглядную истину я хорошо усвоила еще в юном возрасте, – тоскливо произнесла Елена. Отвернувшись, она смотрела в окно. По обе стороны дороги тянулись аккуратно нарезанные пшеничные поля и бархатные луга, на которых бродили стада откормленных коров. Сгущались сумерки, пахнущие лавандой, молоком и медом. Тягучий звон коровьих колокольчиков мешался со звоном в отдаленной церкви, невидимой в альпийских предгорьях. Эти звуки навевали на женщину глубокую грусть, странно обессиливали ее. Была минута, когда ей захотелось остановить карету, выйти одной и затеряться в этих душистых полях, раствориться в тускнеющих красках вечера.
– И что же ваш брат? – сделав над собой усилие, после долгой паузы спросила она. – Вышел из пажеского корпуса?
– Разумеется, – кивнул граф, – хоть и не окончил курса. Директор заведения получил от него в подарок тройку коней ростопчинской породы из конюшен Воронова, ведь он закрыл глаза на подделанную метрику. Андрюша нынче служит в кирасирском полку в Гатчине, под командованием бывшего Лизиного жениха Бориса Белозерского. Кажется, он вам родственник?
– Кузен, – подтвердила виконтесса.
– Вот видите, – улыбнулся Сергей, – мы едва с вами не породнились.
Елена давно отметила про себя, что у графа очень приятная улыбка.
Путешественники остановились на ночлег в маленьком швейцарском городке. Старинный постоялый двор, прелестный, как рождественская игрушка, оказался настолько тесен и неудобен, что виконтессе пришлось разместиться в одной комнате с Майтрейи. Девушка, не проронившая за весь день ни слова, к вечеру разговорилась, в то время как Елене хотелось побыть одной и помолчать.
– Этот граф очень мил и любезен, – рассуждала принцесса, сидя на широкой кровати и наблюдая за Лучинкой, которая оплела ее руку и ползла по ней все выше, направляясь к шее и подбородку. «За вечерним поцелуем», – называла этот маневр своей питомицы Майтрейи. – Ни за что нельзя сказать, что он сидел в тюрьме.
– В тюрьмах зачастую сидят весьма достойные люди, – неохотно ответила виконтесса. – И, напротив, отъявленные негодяи чаще всего остаются на свободе.
– Откуда ты это взяла, Элен? – не поверила ей принцесса. – Из книг? Ты столько читаешь…
Елена, сидевшая в кресле, держала в руках роман Стендаля «Арманс, или Сцены из жизни парижского салона 1827 года», рекомендованный в дорогу Софи де Сегюр. Книга ее не увлекала, она никак не могла продвинуться дальше первых страниц.
– Из жизни, моя дорогая. Все-таки я старше тебя почти вдвое и кое-что уже повидала…
– А мне ничего никогда не рассказывала! – возмутилась Майтрейи. – Можно подумать, у тебя вовсе нет прошлого!
– Придет время – расскажу, – пообещала виконтесса. – Вспоминать худое – не слишком-то приятное занятие. А теперь давай спать! – сказала она уже строго. – И, пожалуйста, на этот раз спрячь свою змею в ящик. Не желаю, чтобы эта тварь по мне ползала!
Елена загасила свечи, оставив только одну для чтения. Майтрейи, измученная путешествием, быстро уснула крепким ребяческим сном.
Виконтесса еще долго сидела в кресле, держа перед глазами книгу, но не понимала ни строчки. Мысли ее были далеко отсюда. Рассказ графа Сергея взволновал ее глубже, чем она думала.
«Ростопчин, которого ненавидела вся Москва за пожар, за афишки, за казнь Верещагина и за многое другое, умер как святой мученик! – Елена была одновременно поражена и уязвлена. – Не иначе, Лиза, его “ангельчик”, любовью и молитвами избавила отца от адова пламени и унесла за собой на небо». Виконтесса вспомнила, как бывший губернатор подходил к ней в салоне мадам Свечиной, чтобы попросить прощения. «Что ж, Федор Васильевич, я вас прощаю…» – прошептала она, и в тот же миг ей сделалось нехорошо. Ведь так, чего доброго, недолго простить всех своих врагов! «Нет, не за тем я еду в Россию!» – выговорила себе Елена и вдруг почувствовала, как кто-то тронул ее за ногу. Виконтесса содрогнулась, но в следующий миг уже взяла Лучинку в ладонь, без всякой брезгливости.
– Вот непослушная девчонка! – с усмешкой произнесла Елена вслух, сама не зная, упрекает она Майтрейи или змейку.
В ответ Лучинка ласково обвилась вокруг ее запястья.
Глава четвертая,
в которой давняя тайна покупается на вес бриллиантов
Князь Павел Васильевич Головин настолько прикипел душой к Туманному Альбиону, что никакие силы не могли заставить его вернуться на родину. Даже смерть отца и просьба матери помочь ей продать родовое поместье на Псковщине не тронули сердца этого уже изрядно поблекшего денди. Нельзя было и предполагать, что в неприступной крепости вдруг образуется брешь! А пробил ее один уклончивый намек, случайно оброненная фраза… Но исходила она не от какого-нибудь светского пустозвона и проныры, а от самого Христофора Ливена, русского посланника при английском дворе. Именно он шепнул князю на ухо во время конной прогулки: «Кое-кто в Петербурге хотел бы видеть вас при новом правлении в Сенате». Этого оказалось достаточно, чтобы на следующий день князь Павел объявил жене и дочери:
– Пора ехать в Россию!
– Если это шутка, дорогой, то неуместная, – нахмурилась княгиня Ольга Григорьевна. Каждый год муж исправно обещал, что они поедут домой, но поездка по той или иной причине столь же исправно откладывалась. Пятнадцать лет княгиня не видела своих престарелых родителей, живущих в Твери, а старики писали в Лондон слезные письма, горюя о том, что умрут, не повидав внучку Танюшу.
Татьяна имела самое смутное представление о своей родине, поэтому не знала, радоваться ей или огорчаться решению отца. Ее английская бонна всегда с ужасом вспоминала Петербург, говорила, что там смертельно холодно зимой, а летом грязно, душно и сыро, как в склепе. «И по улицам вшивые мужики выгуливают вшивых медведей!» – добавляла она с брезгливой гримасой. Совсем другие речи вела Дарья Ливен, супруга посланника. «Не понимаю, почему отец не учит тебя русскому языку, – возмущалась она, – ведь рано или поздно вы вернетесь в Россию. Стоит тебе там немного пожить, и уже не захочется никакой Европы. Спорить не стану, здесь намного чище… Чисто, как в спальне старой добродетельной мисс… И так же, деточка моя, отчаянно скучно!»
Когда княгиня Ольга поняла, что намерения супруга на этот раз серьезны, она подняла на ноги всю прислугу и перевернула дом вверх дном. Собрались в считаные часы, и уже через неделю, а именно в августе тысяча восемьсот двадцать восьмого года, семейство Головиных в сопровождении многочисленной челяди ступило на родную землю, воспользовавшись преимуществом морского путешествия.
Князь Павел снял на Каменном острове небольшой особняк в готическом стиле, с витражными окнами, мрачноватый, но вместе с тем уютный. Раньше он принадлежал какому-то эмигранту, члену Мальтийского ордена, отбывшему на родину под фанфары Реставрации. Однако княгиня с дочерью не задержались в новом доме даже на день и сразу отбыли в Тверь. Князь же с юношеским рвением принялся устраивать собственную карьеру. Он нанес визиты разным почтенным особам, с трудом узнавшим в нем «того самого повесу Головина», некогда славившегося громкими кутежами на всю столицу. Посетил самые знаменитые петербургские салоны, задал несколько пышных холостяцких обедов, и уже к зиме двадцать восьмого года удостоился избрания в Сенат, о чем было упомянуто во всех газетах.
Девятнадцатого декабря того же года князь был приглашен на бал во дворец по поводу тезоименитства императора Николая. Он даже удостоился непродолжительной беседы с его величеством. Император в частности спросил, не встречал ли он в Лондоне одну очень известную персону. Головин готов был к этому вопросу, прекрасно зная, что «та самая персона» замешана в бунте на Сенатской площади. Вернее, персона входила в одно из преступных тайных обществ, которые весьма распространились в России за время предыдущего правления. «Мы вращались в разных кругах, ваше величество, – выдал он заготовленную фразу, – и ни разу не сталкивались». По той быстроте, с какой император тотчас потерял к нему всякий интерес, Павел Васильевич понял, что от него ждали совсем другого ответа. Зато императрица Александра Федоровна удостоила его особым вниманием, подробно расспросив о лорде Байроне и Вальтере Скотте, с коими он не только виделся, но и долгие годы дружил.
Так как княгиня Ольга с дочерью до сих пор не вернулись из Твери, князь Павел мог свободно флиртовать с дамами из высшего света, правда, держась в рамках приличия, дабы не спровоцировать дуэль. Оттанцевав, несмотря на свои пятьдесят лет, все туры и выпив за здоровье его величества невероятное количество бокалов шампанского, Павел Васильевич в пятом часу утра отбыл на Каменный остров.
Снимая с князя шубу, камердинер еще в передней почтительным шепотом сообщил, что в гостиной с вечера дожидается какая-то дама и ни за что не желает уходить.
– Дама? – приятно удивился захмелевший Головин. – Н-ну, тем лучше!
Гостья устроилась в кресле, едва освещаемом единственной, уже сильно оплывшей свечой. Склонив голову на грудь, она безмятежно спала. На ней было широкое платье из темно-зеленого бархата, рядом на столике лежали пелерина, подбитая собольим мехом, и дорожная шляпа.
С первого взгляда дама показалась князю совершенно незнакомой. На цыпочках, чтобы не разбудить гостью, он подкрался поближе и принялся ее разглядывать. Это была блондинка, на вид лет тридцати, с красивым, хоть и помятым лицом. Теперь ему смутно припоминалось, что он уже где-то видел эту женщину. Князь взял в руку подсвечник и поднес пламя совсем близко к лицу незнакомки. В тот же миг Павел Васильевич вздрогнул, едва не уронив свечу на ковер, и отпрянул назад. Почти одновременно с этим гостья открыла глаза, жеманно потянулась, бесцеремонно зевнула, не прикрывая рта, и с улыбкой сказала:
– Ну вот и встретились, князюшка! А я вас заждалась…
Головин с трудом узнавал в этой женщине ту прекрасную табачницу, в которую был когда-то влюблен. Зинаида по-прежнему была хороша, все так же трогательна казалась родинка в виде слезы под ее глазом – по ней он и узнал бывшую любовницу… Но во взгляде женщины появилось теперь что-то фальшивое и весьма неприятное. Она встала, аккуратно приняла из его дрогнувшей руки подсвечник и зажгла от него свечи во всех канделябрах. Держалась незваная гостья попросту, будто находилась у себя дома.
– Кто дал тебе мой адрес? – сухо, почти грубо спросил он. Эта женщина больше не будила в нем желания, напротив – бесила и раздражала его.
– Никто, миленький князюшка! Я из газет узнала, что вы вернулись из Англии и стали сенатором. Найти ваш дом было нетрудно – гривенничек там, пятиалтынный здесь… Вы, небось, и не знаете, как болтливы швейцары и будочники! Ну и на извозчика потратилась, не без того!
Раньше, ослепленный любовью, он не замечал ее вопиющей вульгарности, теперь замашки лавочницы резко бросались в глаза. Князь, отбросив церемонии, уселся за ломберный столик, закинул ногу на ногу и пододвинул к себе коробку с сигарами.
– Я вижу, ваши вкусы в отношении сигар не изменились. – Зинаида услужливо поднесла ему огонек. – А вот меня вы не рады видеть. Неужели я так подурнела?
Князь раздраженно выпустил ей в лицо клуб дыма. Зинаида и глазом не моргнула, лишь на ее губах зазмеилась уязвленная улыбка.
– Без сантиментов, пожалуйста, – грубо произнес Головин. – Зачем явилась?
– О, не бойтесь, добиваться заново вашей сердечной склонности я не собираюсь! Как-никак, прошло пятнадцать лет, а от времени хорошеют только вина и сигары, уж никак не женщины! – Зинаида рисовалась, явно повторяя чьи-то слова, запомнившиеся ей, но в ее зеленых глазах вспыхивал злой огонек. – Однако нам и теперь есть о чем поговорить.
– О чем же? – пожал он плечами, ничуть не впечатленный ее эскападой.
– Хотя бы о том, как вы стали отцом, благодаря мне. – Улыбка исчезла с лица Зинаиды, глаза угрожающе потемнели.
Такого выпада Головин никак не ожидал. Махинация с новорожденным младенцем, совершенная ими по взаимному согласию много лет назад, давно казалась Павлу Васильевичу чем-то из области преданий и анекдотов. Князь до того свыкся с мыслью, что Татьяна – его дочь, что ему в голову не приходило опасаться разоблачения. «Лучший способ обмануть других – самому поверить своей лжи!» Эти и подобные изящные сентенции он щедро изрекал в гостиных Лондона и Петербурга, никогда не думая о том, что они имеют самый неприглядный смысл.
– Что ж, изволь, поговорим, – судорожно бросил он, стараясь не подать виду, что лавочница его напугала.
– Как мило, что вы меня не гоните! – зловеще усмехнулась женщина, явно сознавая свое преимущество. – Дело несложное… В то время, пока вы с семейством жили в свое удовольствие за границей, я видела только несчастья. Помните мою табачную лавочку? О, по глазам вижу, помните… Ее больше нет. Теперь я полностью разорена и живу на содержании у одного состоятельного покровителя. Но я терпеть его не могу! – Зинаида вполне убедительно изобразила гримаску отвращения. – Мне нужны деньги, чтобы натянуть нос моему старику и уехать из этого проклятого города навсегда.
– Деньги? Неужели твой «состоятельный покровитель» не дает тебе денег? – презрительно скривился князь.
– Не дает, разумеется! Старик боится, что я удеру! – прямо ответила она.
– Хорошо. Сколько тебе нужно?
– Тысячу рублей.
– Пс-с! – изумился Павел Васильевич. – А если я не дам?
– В таком случае… – Зинаида изобразила сладкую улыбку, с какой в былые времена навязывала клиентам дорогой сорт табака взамен ординарного, и промурлыкала: – Ваша дражайшая супруга получит анонимное письмо, из которого узнает всю правду.
– Мерзавка! – крикнул он в сердцах, но немедленно полез в карман за портмоне. Нужная сумма как раз была при нем – князь собирался платить каретнику. Отсчитав ассигнации и раздраженно бросив их на ломберный столик, Головин прошипел: – На, подавись! И помни, такая штука удалась тебе один-единственный раз! Еще покажешься близко от моего дома – в порошок тебя сотру, шлюха!
– Ах, князюшка, каким же вы стали, однако, грубияном! – воскликнула та, ничуть не смутившись. – А раньше были таким обходительным, милым мальчиком. Вот и верь тем, кто говорит, будто заграница идет на пользу манерам!
– Вон отсюда! – заорал он, указывая ей на дверь.
Зинаида схватила деньги, бегло пересчитала их, скомкала и запихала в ридикюль.
– Прощайте, князь! – через плечо вымолвила она и удалилась чуть не бегом, будто боясь, что деньги отнимут.
Морозное декабрьское утро взбодрило ее, Зинаида шла быстро, крепко давя каблучками визжащий слежавшийся снег, оглядываясь в поисках извозчика. Наконец с нею поравнялся «ванька».
– На Васильевский! – крикнула она ему. – На Шестнадцатую линию!
Сонная заиндевевшая лошадка едва перебирала ногами. «Ай да князюшка! – ежась, негодовала про себя Зинаида. – Прежде ручки целовал, а нынче взашей погнал!»
Если бы князь Головин, сенатор, потомственный аристократ и настоящий денди, узнал, что его гостья пятнадцать лет состояла владелицей тайного публичного дома, торгуя малолетними девицами, то он наверняка вызвал бы квартального с приставом и потребовал бы немедленного заключения старой знакомой под стражу. Вряд ли помог бы ей в этом случае шантаж, да и кто дал бы веру словам бывшей сводни? В последнее время ей чудом удавалось избегать тюрьмы. Зинаида состояла в розыске и жила по поддельным документам. А ведь еще совсем недавно дело ее процветало, приносило немалый доход и на горизонте не предвиделось никаких туч. Всех своих клиентов она знала много лет, квартальный с частным приставом Илларионом Калошиным были подкуплены и бесплатно пользовались услугами девочек. Ей неоткуда было ждать удара, она жила припеваючи в заново отстроенном, теплом, каменном доме, ни в чем себе не отказывая. И надо же было такому случиться, одна какая-то несчастная бумажонка поломала всю ее жизнь! Подана эта бумага была в управу благочиния на имя старшего полицмейстера. Подписал ее некий барон фон Лаузаннер. Кто он такой? Она впервые слышала эту немецкую фамилию. Снова немцы вмешиваются в ее дела, как и тогда с табачной лавкой! Как удалось этому треклятому Лаузаннеру все вынюхать и высмотреть, причем она и в глаза-то его никогда не видела? Мерзнуть бы ей сейчас в сибирских снегах, издыхать и наживать чахотку на каторге, если бы не частный пристав Калошин…
…Она помнила катастрофу в мельчайших деталях. Большие напольные часы в приемной зале пробили двенадцать раз. Наступила полночь, самое горячее время, когда Зинаида беспрестанно встречала и провожала гостей, занимаясь (по ее собственному выражению) «сбором средств на пропитание юных сироток». Разряженная хозяйка публичного дома грациозно восседала на кушетке с грифонами, обтянутой рытым розовым бархатом. Специально для приемной она, не пожалев денег, приобрела итальянский ореховый гарнитур, великолепно смотревшийся на фоне бледно-зеленых обоев с серебристыми розами. «У этой мещанки совсем не плебейский вкус, – сказал как-то один из ее клиентов-аристократов своему приятелю и с ухмылкой добавил: – Беда только, при ближайшем рассмотрении эта дива вульгарна до последней степени!»
Нанятая недавно пианистка, иссохшая старая дева, сидела за клавиаккордами, чопорно наигрывая что-то убаюкивающее и в высшей степени «приличное». «У меня не какая-нибудь грязная дыра, где пляшут пьяные матросы со спившимися шлюхами! – надменно предупредила музыкантшу Зинаида еще при найме. – У меня чистота, порядок, девочки одна к одной, свеженькие, как весенние цветочки, и клиенты самые почтенные. Чтобы и музыка тоже была приличная, запомните это!» Девка Хавронья, сильно сдавшая за последнее время, похожая на старуху в свои сорок лет, отрешенно вязала носок и клевала носом под эти сонные наигрыши. По обыкновению, она сидела на стуле у входа, готовая по первому мановению хозяйки подать чай, вино или кофе с ликерами. Из угла в угол слонялись три девочки в светлых муслиновых платьях, с веерами в руках. Они выглядели дебютантками, собравшимися ехать на свой первый бал. Девочки весело щебетали, хихикали, грызли леденцы и выглядывали в окна.
Вдруг резко распахнулась входная дверь, едва не слетевшая с петель. Музыкантша взвизгнула, мелодия оборвалась. На пороге стоял частный пристав Илларион Калошин. Он был не похож на себя: волосы растрепаны, мундир расстегнут, в остановившихся глазах застыли паника и страх. К тому же он крепко выпил, чего прежде за ним не водилось.
– Фу, надрался, несет, как из бочки! – поморщилась Зинаида. – Что стряслось?
– Всему конец! – выдохнул тот вместе с винными парами и упал в хрустнувшее дамское кресло. – Закрывай лавочку, Зинаида Петровна. Хватай деньги и беги, пока ноги целы! А не то в Сибирь отправишься, на каторгу!
– Да ты что, очумел? – рассмеялась она. – Мне бежать?! Куда? Зачем?
– Бумага на тебя поступила в управу…
– Что за бумага? – насторожилась Зинаида, почувствовав, что пристав не шутит.
– Кто-то из твоих гостей донес, все подробно описал, гад… Не угодила, видно, чем-то! – Калошин обвел взглядом залу и, уставившись на девочек в муслиновых платьях, прохрипел: – Гони всех в шею немедленно! Слышишь? С минуты на минуту придут к тебе с облавой!
– Да не приснилось ли тебе это? Не померещилось спьяну? – все еще не верила ему Зинаида, хотя у нее уже дрожали и руки и ноги.
– Эх, дура ты, дура! – Калошин растер ладонями покрасневшее лицо. – Не так я пьян, как со страху развезло… Через тебя и мои дела пошли прахом, Зинаида Петровна. Старший полицмейстер сегодня грозился не только мундир с меня сорвать, но и отдать под суд за сокрытие преступления. Ведь в бумаге той прямо фамилии указаны, кто тебя покрывал, – я и квартальный Селиванов. И откуда взялся этот немец-доносчик на наши головы? – Пристав судорожно вздохнул и, понизив голос, добавил: – А вот чего никак не пойму… В той же бумаге описано мое разбойничье прошлое. Все до ниточки – как, что и когда… Об этом-то он откуда узнал, дьявол?! Так что мне теперь один путь – бежать из города обратно в лес и начинать старую волчью жизнь сызнова.
Он еще не успел договорить, а Зинаида окончательно уверилась в его правдивости. Ее бросило в жар и тут же будто морозом охватило.
– Что расселась? – крикнула она остолбеневшей Хавронье. – Беги, собирай вещи! Да тряпки-то ношеные не укладывай, только лучшее бери, да серебро, да меха… Чего ждешь, корова, наказание мое, чурбан безглазый?!
Ругательства подействовали на Хавронью безотказно – уронив вязанье, она бросилась выполнять приказ. Музыкантше Зинаида велела подняться «в комнаты» и предупредить господ о готовящейся облаве. Старая дева покраснела до кончика носа и с уязвленным видом стала медленно взбираться по лестнице, явно обдумывая, как бы улизнуть.
– А девицам там скажи, пусть катятся на все четыре стороны, да живей! – крикнула ей в спину хозяйка публичного дома.
Земля уходила у нее из-под ног. Пятнадцать лет благополучия нежданно-негаданно закончились. Впереди – неизвестность, в лучшем случае – нищета, в худшем – суд и тюрьма.
Частный пристав между тем откашлялся:
– Мне бы денежек немного на дорожку, Зинаида Петровна. Рубликов пятьдесят…
Бывший разбойник привык к сытой размеренной жизни, утратил задор и даже сделался отчасти трусоват. Эту черту в нем развили взятки, которые он брал направо и налево, при этом вечно опасаясь скандала и разоблачения. Сейчас он уже не напоминал прежнего бравого парня Иллариона, которому море казалось по колено.
– Ты в своем ли уме? – возмутилась Зинаида, едва сдерживая рыдания. – Я сейчас в одночасье лишусь и дома, и дела, останусь ни с чем, а ты просишь у меня денег!
Деньги у нее хранились в потайном сейфе, вмурованном в стену спальни. И она бы первым делом бросилась за ними, если бы не частный пристав. Этот разбойник неотступно следовал за ней, выклянчивая последнюю подачку. Она готова была изругать его на все корки и даже огреть чем-нибудь по голове… Неожиданно во дворе раздался истошный крик.
– Хавронья! – метнулась к окну Зинаида. Она сразу увидела шестерых жандармов. Двое крепко держали Хавронью под локти, а та изо всех сил вырывалась, что есть мочи крича. Двое жандармов встали у ворот, еще двое направились к флигелю.
Илларион в тот же миг кинулся к двери и задвинул засов.
– Есть другой выход? – шепотом спросил он Зинаиду.
Она схватила со стола железную коробку с сегодняшней выручкой, открыла ключом дверь в дальнем конце комнаты и вышла в сад. Калошин следовал за ней. На их счастье, жандармы еще не успели окружить дом и перекрыть все выходы. Беглецы пересекли сад и беспрепятственно вышли в калитку. Перед ними тянулась узенькая, грязная улочка, уходившая в трущобы, где можно легко затеряться. Зинаида перевела было дух, но тут ее заметили жандармы, тоже выбежавшие из дома в сад. Светлое платье сослужило женщине дурную службу. Кто-то разглядел беглянку издали и закричал:
– Вон, вон хозяйка! Держи ее!
Началась погоня.
Добежав до ближайшего перекрестка, Илларион схватил Зинаиду за рукав и выдохнул ей прямо в лицо:
– Дальше нам не по пути, Зинаида Петровна! Погубите и себя, и меня! Ныряйте в подворотню и затаитесь до поры, а я их отвлеку! Только вот что… – Пристав поднес к горлу женщины нож, молниеносно оказавшийся у него в руке. – Коробочку подарите мне, добровольным образом. Ведь я заслужил вознаграждение, разве нет?
Частный пристав Калошин, вновь превратившийся в разбойника по кличке Кистень, вырвал из рук опешившей Зинаиды коробку с ее последними деньгами и пустился наутек.
Она пряталась до рассвета во дворе какого-то заброшенного, полуразвалившегося дома. Продрогнув и окоченев чуть не до смерти, женщина впервые за много лет дала волю слезам и проплакала всю ночь напролет, проклиная судьбу-злодейку. План Калошина между тем оказался спасительным для нее. Зинаида слышала, как жандармы пробежали мимо заваленной мусором подворотни, в которую она нырнула как затравленная крыса. Потом, спустя недолгое время, полицейские возвратились назад.
Первой ее мыслью было навсегда уехать из города. Но как далеко можно убежать без денег и документов? «Нет, без денег даже и думать нечего об отъезде!» Еще теплилась надежда, что при обыске жандармы не нашли потайного сейфа. Тогда она проникнет в дом и заберет то, что принадлежит ей по праву. Пока надо было подумать об убежище. «Да и думать нечего!» – ответила она собственным мыслям. На Шестнадцатой линии Васильевского острова жила одна из бывших ее рабынь, которой она сама когда-то дала звучное красивое имя Элеонора. Девочка, подобранная на улице, где она, осиротев, просила милостыню, служила Зинаиде семь лет, пока ей не исполнилось двадцать. Обычно хозяйка публичного дома сбывала на сторону девиц, как только те начинали приобретать зрелые женские очертания. За это она получала законную комиссию от хозяев других публичных домов, которые предпочитали взять вышколенную, чистенькую девицу «из рук в руки», чем подбирать заморенную бродяжку с панели. Но Элеонора была миниатюрна, кукольно хороша и продолжала пользоваться успехом у любителей юных весталок. Девушка ушла от Зинаиды сама, став любовницей богатого купца, торгующего мануфактурой. Он-то и снял для нее квартиру.
– Мамочка, милая, как я рада тебя видеть! – воскликнула Элеонора, бросившись на шею своей бывшей благодетельнице.
Девицы, ходившие у хозяйки в любимицах, поголовно называли ее «мамочкой», и, надо сказать, Зинаида заботилась о них куда больше, чем их родные матери – спившиеся, вышедшие замуж второй или третий раз, а то и вовсе сбежавшие или умершие. Бывшие рабыни, за небольшим исключением, вовсе не проклинали Зинаиду за свое опоганенное детство, отлично понимая, что, останься они на улице, без семьи, крова и еды, с ними случилось бы все то же самое, но в несравненно более скотском варианте.
Зинаида рассказала Элеоноре о своем несчастье, и та с воодушевлением согласилась предоставить ей убежище. Жизнь на содержании у богатого купца оказалась невыносимо скучной, и девушка была рада любой компании. Она тут же выделила гостье комнату, щедрой рукой открыла все шкафы и сундуки, предложив к ее услугам весь свой гардероб. Взыскательная Зинаида морщилась, разглядывая висевшие на плечиках кричащие наряды.
– Учила я тебя, учила, как в приличном обществе одеваются, да все, видно, не впрок! – ворчала она, прикидывая на себя перед зеркалом одно платье за другим. – Ну вот что это?! Красное с желтым лифом… А хвост зеленый с кружевами! Просто как публичная девка или попугай!
– Да я сперва все заказывала шить как поблагородней, – хныкала Элеонора, не переставая поглощать шоколадные конфеты из огромной раззолоченной коробки. – А моему идолу не нравится. Купчина, что с него взять! Борода до пупа… «Мне, говорит, твоих серых да черных тряпок не надоть, ты не учительша и не приказчица. Надевай, что подороже да почудней, чтоб в глаз бросалось, чтобы все видели, какая у Демьян Денисыча кралечка!»
– Темнота, – снисходительно протянула Зинаида. – Невежество… А и разъелась же ты, дорогая моя, как я посмотрю! Совсем круглая стала, как мяч, а была былинка былиночкой!
– Опять он виноват, – жаловалась Элеонора, облизывая испачканные шоколадом пухлые пальцы, на каждом из которых сверкало по кольцу. – Как только поселил здесь, сразу начал кормить как на убой. Ночью даже разбудит, в бок толкнет: «Вставай, чу, поешь! Ты, мол, тощая, мне это не нравится, я тебя брал с тем, чтобы ты отъелась, а то виду никакого!» Ну и приучил объедаться… Даже стыдно иной раз становится – ем, ем, даже задохнусь, а все ем… А что тут делать-то? Он придет – скука, а уйдет – еще скучнее…
Эта скучная сытая жизнь мало-помалу затянула и Зинаиду. Целыми днями она слонялась по комнатам вместе с Элеонорой, садилась с ней за стол пять-шесть раз, а чайная посуда вообще никогда не убиралась. Женщины лениво болтали, перебирали старые сплетни и случаи из жизни публичного дома, рылись в тряпках, читали вслух газету, глазели в окно – и больше не делали ровным счетом ничего. Купец был ревнив и запрещал любовнице куда-либо выходить без него, а Зинаида попросту боялась высовываться на улицу, понимая, что ее наверняка разыскивает полиция. Она жила всего в двух шагах от Гавани и от местной управы благочиния.
Лишь в те редкие дни, когда купец посещал Элеонору, Зинаида просиживала несколько часов в кондитерской на углу, предварительно замазав белилами родинку под глазом, которая могла ее выдать, и набросив поверх шляпки широкий кружевной шарф, скрывавший ее лицо почти полностью. Кондитерская была немецкой, и это представляло определенную опасность. Слишком многим василеостровским немцам она продавала в свое время табак. Зинаида всегда выбирала самый темный угол и норовила сесть спиной к завсегдатаям.
Однажды, едва выйдя из кондитерской, она столкнулась лицом к лицу с отцом Иоилом. Встреча была настолько неожиданной, что Зинаида, не удержавшись, вскрикнула. Некогда моложавый, отец Иоил теперь сошел бы за старика. Длинная седая борода, болезненная зеленоватая бледность, глубокие морщины – все это меняло его до неузнаваемости. Живые, умные глаза утратили былую лукавость и теперь смотрели строго, зорко. Старообрядческий священник поклонился бывшей лавочнице, женщина, растерявшись, ответила едва заметным кивком и быстро пошла прочь. За спиной у нее раздалось:
– Постой, Зинаида!
Отец Иоил догнал ее и доверительно проговорил:
– Вижу, не сладко тебе живется…
– Вам-то что до меня? – повела она плечом, стараясь обрести былую дерзость. – Я для вас потерянная душа.
– Это моя вина, я выдал тебя замуж за изверга. Не будь этого, жила бы ты с хорошим человеком, растила бы детей… Грех на мне, гложет он меня.
– Э, чего там… Какие у вас грехи! – усмехнулась Зинаида.
Священник тяжело вздохнул:
– Ты заходи ко мне, если нужда приключится. Помогу, долгом своим почту. И деньгами ссужу, по надобности…
Жить на содержании у своей бывшей рабыни, глупой, скучной и прожорливой, было для Зинаиды тяжело и унизительно. Но одалживаться у раскольничьего попа, после того как она отвергла его веру с таким шумом и треском, было уж совсем невозможно…
Лишь спустя три месяца она осмелела и решилась наконец взглянуть на свой дом. Для начала туда отправили кухарку Элеоноры разузнать обстановку у дворника. Новость ошеломила Зинаиду. Дом был куплен с молотка неким бароном фон Лаузаннером.
– Что за напасть! – кричала она. – Этот наглый немец написал донос, чтобы разорить меня и завладеть моим имуществом?!
Зинаида не знала, что и подумать. Неужели это происки аптекаря Кребса, который пятнадцать лет назад разорил ее табачную лавку, устроив неслыханный бойкот, только потому, что она, приняв лютеранство, посмела скрывать в своем доме беглого каторжника?! Может быть, он узнал про публичный дом и решил окончательно сжить ее со свету? Да какая же она, к чертям собачьим, лютеранка?! После крещения даже близко к кирхе не подходила!
Ее так и подмывало пойти к Кребсу и закатить ему грандиозную сцену с битьем его поганых вонючих склянок… Но тогда точно не избежать тюрьмы.
Элеонора, с которой она поделилась своими догадками, на миг оторвалась от очередной коробки шоколада и спросила:
– Это какой Кребс? Немец, у которого была аптека на Четвертой линии? Так ведь он давно помер…
– Да точно ли? – опешила Зинаида.
– Помереть мне самой без покаяния! – поклялась девушка. – Тому уж лет пять будет.
…Поздним осенним вечером Зинаида сама отправилась к своему бывшему дому, надеясь узнать и увидеть больше, чем тупая раскормленная кухарка Элеоноры. Женщина решила проникнуть в сад через ту самую калитку, которая ее спасла во время облавы. Но стоило ей начать возиться с замком, подбирая в потемках ключ, как в глубине сада раздался собачий лай. Спустя миг показался огромный ньюфаундленд, скачками несущийся к калитке. Сырая мягкая земля содрогалась под его тяжестью, эта дрожь передавалась оцепеневшей от ужаса женщине. Пес уже изготовился перемахнуть через ограду, что ему не составило бы никакого труда, но тут со стороны дома раздался зов: «Каспер, ко мне!» Каспер недовольно потряс огромной головой, утробно рыкнул на Зинаиду и трусцой отправился к хозяину.
Она набралась смелости и повторила попытку уже зимой. Теперь Зинаида вознамерилась проникнуть в дом с парадного крыльца, сочинив какую-нибудь басню на случай, если ей кто-то встретится. Но ворота и прорезанная в них калитка были надежно заперты на новые замки, а на стук никто не отозвался, кроме двух псов, очень жалевших о том, что они не могут растерзать незваную гостью.
Потерпев поражение, Зинаида решила наконец разобраться, что из себя представляет барон фон Лаузаннер. Она переоделась нищенкой и часами приплясывала на холоде напротив своего бывшего дома. Но и здесь ее ждало разочарование. Окна кареты, изредка выезжавшей из ворот, всегда были плотно занавешены. Она отметила лишь, что на дверцах отсутствует герб, а на запятках ни разу не появились выездные лакеи в ливреях. Барон (если только он сам ездил в карете) явно предпочитал простоту в обиходе или соблюдал инкогнито – такой вывод сделала неудачливая сыщица.
…Возвращаясь на извозчике с Каменного острова от князя Головина, Зинаида размышляла о своей дальнейшей судьбе с горечью. Она не видела никакого просвета. «Без денег лучше не жить, а к этому грубияну князю больше не сунешься! Элеонорка, дура, надоела до чертиков, да и я ей, боюсь, тоже скоро надоем… Тогда куда денешься?!» Доехав до Шестнадцатой линии, женщина расплатилась с извозчиком и вошла в дом. Едва она скрылась в подъезде, от угла дома отделился прилично одетый мужчина в цилиндре и в шубе на заячьем меху. Ни слова не говоря, он уселся в коляску, извозчик ткнул кнутом лошадку, и та вновь засеменила заиндевевшими мохнатыми ногами.
– Ну? – спросил мужчина в цилиндре, когда сани отъехали от дома.
– Была на Каменном, – обернувшись, сообщил извозчик. – В богатом доме.
– Чей дом, выяснил?
– А то как же, – кивнул тот. – Хозяин – сенатор, князь Головин.
– Она провела там всю ночь?
– Угу, – снова кивнул извозчик, – да только господин сенатор прибыли под утро.
– Она столько времени его ждала? – В голосе мужчины послышалось презрительное удивление. – Видать, денег хотела, – заключил он.
– А вот этого не знаю, – пожал плечами возница и почтительно спросил: – Теперь куда вас везти, господин Лаузаннер?
– В Гавань, домой! – приказал тот и, спрятав голову в поднятый воротник шубы, задремал.
Супруга и дочь Головина вернулись из Твери в самом начале весны, перед распутицей. Князь Павел устроил бал в честь радостного события, пригласив огромное количество гостей, заказав оркестр и праздничный фейерверк. Впрочем, новоиспеченный сенатор искал популярности, и если бы никакого повода для бала не было, он бы его изобрел.
– Ах, Поль, – щебетала княгиня Ольга, польщенная вниманием супруга, – ты становишься расточительным, как в молодости!
– В молодости? – возмутился пятидесятилетний сенатор. – По-твоему, я уже старик?
– Нет, мой дорогой, ты мужчина в самом расцвете сил, – с восхищением произнесла она.
Время отнеслось к Головину милосердно, сделав его еще более привлекательным для дамских сердец. Слегка тронутые сединой виски, брови и усы придавали денди особую утонченность. Восторженная и пылкая манера речи сделалась спокойной и уравновешенной. Морщины добавили чертам лица мужественности, которой так недоставало ему в молодые годы… Но княгиню время не пощадило. Эта бывшая петербургская Афродита, «божественная мраморная статуя», изумлявшая своей классической красотой и молодых повес и искушенных старцев, была теперь неузнаваема. Княгиня сильно раздалась вширь, приобрела два лишних подбородка и даже как будто стала ниже ростом. В Англии она пристрастилась к чаепитиям и слишком злоупотребляла ими, а так как почки у нее были нездоровы, по утрам княгиня часто просыпалась с разбухшим, как у утопленника, лицом и заплывшими глазами.
Одеваясь на бал, княгиня никак не могла остановиться на каком-нибудь платье. Одно казалось ей тесным, другое – старомодным, третье – вызывающим. Глядя в зеркало, она вздыхала:
– Когда-то я надевала первое попавшееся платье, и мне все было к лицу! Нет, тут не портнихи виноваты и не новая мода… Просто прошло мое время рядиться…
Наконец княгиня Ольга Григорьевна остановилась на бархатном темно-вишневом платье, хотя прекрасно знала, что бархат нынче не в моде и фасон безнадежно устарел. Но что прикажете делать, если эти новые романтические платья с низко опущенными плечами и широкими рукавами окончательно уродуют ее расплывшуюся фигуру?
Доверенная горничная принесла и поставила на туалетный столик большую сандаловую шкатулку с украшениями. Княгиня обожала эту старинную вещицу, купленную у лондонского антиквария. Тот клятвенно утверждал, что прежней хозяйкой шкатулки была жена индийского магараджи. Стенки, источающие сладкий аромат сандала, были сплошь покрыты тончайшей резьбой, изображающей сцены охоты на тигров. На крышке красовался павлин, усыпанный рубинами, изумрудами и сапфирами. Княгиня вынула свое любимое жемчужное ожерелье, но едва горничная принялась его застегивать, в комнату вошла Татьяна.
– Ах, маменька, вы, вероятно, запамятовали, – девушка капризно выпятила пухлую нижнюю губку. – Вы же обещали одолжить мне это ожерелье для моего первого бала!
– Да отчего же, помню, – вздохнула княгиня, снимая с шеи жемчуг. – Бери, ты ведь всегда получаешь то, чего хочешь!
– Вы как будто меня упрекаете, маменька! – Подхватив ожерелье, Татьяна повернулась к зеркалу. – Что за манера, сперва обещать, а потом сердиться!
Девушка с удовольствием рассматривала свое отражение, вполголоса напевая модный английский романс. Она была в белом, как и подобает дебютантке, и жемчуг очень шел к ее нежной шее, открытым плечам, легкому, почти воздушному платью. Невысокая, стройная, светлая блондинка с искрящимися голубыми глазами, Татьяна была чрезвычайно хороша собой, и знала это. В свои шестнадцать лет она успела выслушать немало комплиментов. Будучи домашним божком, чьей ласковой улыбки добивались, чьи капризы выполнялись в тот же час, когда она их высказывала, Татьяна привычно помыкала окружающими, никогда не встречая отказа или сопротивления. Отец ею не занимался, мать была слишком мягка, а все слуги в доме наперебой ей потакали. Избалованная с самой колыбели, юная девушка искренне считала себя центром мира. Правила и условности, которые пытались навязывать ей домашние учителя, смешили и раздражали ее. Училась она прескверно, читать не любила и была, по словам отца, «цивилизованной дикаркой». Татьяна говорила по-английски, как англичанка, по-французски, как парижанка, держалась в дамском седле элегантнее всех юных наездниц-аристократок на Ринге в Гайд-парке, обожала охоту на лис, по утрам распевала модные романсы, доводя мать до мигрени… И больше не знала и не умела ничего, полагая, что и этого вполне достаточно.
Княгиня с удовольствием разглядывала дочь и говорила про себя, без тени зависти: «Я никогда не была такой красавицей, даже в юности!» Она перебирала драгоценности, раздумывая, какое ожерелье надеть, когда вошедшая горничная доложила, что некая дама просит ее принять.
– Я сейчас никого не принимаю, – отрезала княгиня.
– Так я ей и сказала, ваша светлость… Но эта особа уверяет, что пришла по очень важному делу, касающемуся вас лично…
– Вот как? – недовольно поморщилась Ольга Григорьевна и, подумав секунду, кивнула: – Хорошо, пусть войдет на минуту.
– Спасибо за жемчуг, маменька! – Татьяна поцеловала ее в щеку и выпорхнула в дверь, едва не столкнувшись с незнакомкой, входившей в комнату. Та смерила девушку неприлично пристальным взглядом и так мерзко усмехнулась, что Татьяна невольно вздрогнула и, перестав улыбаться, с недоумением на нее оглянулась.
– Я вас не припоминаю, – сухо заметила Ольга Григорьевна, когда непрошеная гостья остановилась перед ее креслом.
– Августа Гейндрих, к вашим услугам, – сладко улыбаясь, отрекомендовалась незнакомка.
Княгиня впервые слышала это имя, и так как оно было немецкое, решила, что женщина явилась с поручением или счетом из какого-нибудь модного магазина. Впрочем, для приказчицы она была слишком хороша собой и модно одета. Прическа, платье, перчатки – все было вполне прилично, и все же гостья производила неприятное впечатление. Ольга вдруг поняла, что не может смотреть незнакомке в глаза – блестящие, наглые, как будто насмешливые.
– Вы из магазина? – не выдержав, спросила она, так как та упорно молчала и никаких счетов из ридикюля не извлекала.
– О, нет, я по личному делу. По весьма важному и весьма личному, – бойко ответила та и многозначительно посмотрела на двух служанок, убиравших платья княгини в шкаф.
– Оставьте нас на минуту! – приказала княгиня, все более тревожась. Как только служанки удалились, она, пытаясь скрыть нарастающее волнение, обратилась к Августе Гейндрих: – Я вас слушаю, но будьте кратки.
– Попытаюсь, хотя краткость не всегда уместна… Это касается вашей семьи… – начала женщина, но тут ее слегка пошатнуло. Она прикрыла веки и слабым голосом произнесла: – Разрешите мне присесть, ваша светлость. Я больна и к тому же два дня ничего не ела. Боюсь упасть в обморок.
– Садитесь. – Шокированная Ольга Григорьевна указала ей на стул.
– Вы так добры… – Удобно усевшись, Августа Гейндрих прерывисто вздохнула: – Я вынуждена открыть вам тайну, которую вот уже много лет бережет князь, ваш супруг.
– Вы знакомы с ним? – нахмурилась княгиня.
– Была когда-то знакома, очень давно и очень недолго… Шестнадцать лет назад, как раз в ту пору, когда вы, ваша светлость, родили дочку. Ваш супруг места себе не находил от тревоги, ведь ребенок был так слаб, чуть жив, да и вы пролежали в опасной горячке несколько дней… К счастью, вы поправились, да и новорожденной девочке внезапно стало лучше… – Она сделала паузу, чтобы проверить реакцию княгини.
– Это все не тайна. – Ольга Григорьевна отчего-то почувствовала сильное сердцебиение, хотя незнакомка говорила о вещах, ей известных.
– На первый взгляд, нет… – покладисто согласилась Августа Гейндрих, и в ее зеленых глазах вспыхнул дьявольский огонек. – Но все же тут есть кое-что, чего вы не знаете, ваша светлость… Ваша дочь тогда умерла…
– Вы сумасшедшая?! – воскликнула княгиня. Кровь отхлынула от ее лица, она сделалась мертвенно бледной. Если бы женщина не сидела в этот миг в кресле, ноги не удержали бы ее обмякшего тела.
– Да, это страшная правда, и в нее нелегко поверить, – сочувственно вздохнула женщина. – Но я могу поклясться на Библии, что сама увезла вашу дочь мертвой из вашего особняка, похоронила ее и своими руками поставила над ее могилкой крест.