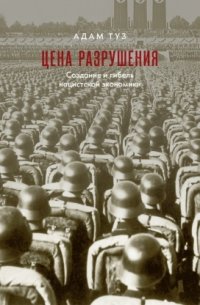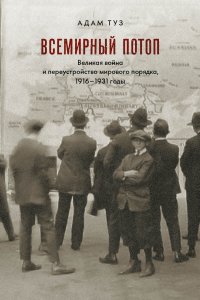
Читать онлайн Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы бесплатно
- Все книги автора: Адам Туз
Посвящается Эди
Большинство тревожащих вопросов рано или поздно попадают к историку. И они досаждают ему, не переставая тревожить, оттого, что государственные мужи перестали ими заниматься и отложили в сторону, посчитав их практически решенными…Удивительно, как историки, серьезно относящиеся к своему делу, могут спать по ночам.
Вудро Вильсон[1]
Летопись завершена. Какое чувство возникает, когда переворачиваешь двухтысячную страницу, написанную г-ном Черчиллем? Благодарности. Восхищения. Может, некоторой зависти к его твердому убеждению в том, что границы, расы, патриотизм и, если надо, даже войны в конечном счете присущи человечеству, что позволяет ему видеть своего рода достоинство и даже благородство в событиях, которые для других представляются лишь кошмарной прелюдией, которой необходимо избегать.
Дж. М. Кейнс. Рецензия на книгу У. Черчилля «Мировой кризис. Последствия»[2]
Расчленение Китая, ок. 1911 г.
Территориальные изменения в Европе в результате Первой мировой войны
Благодарности
Настоящая книга вышла в свет после моей совместной работы с Саймоном Уайндером и Клэр Александер. Я признателен им обоим, а также Уэнди Вольфу за то, что они подвигли меня на этот труд. Мои новые агенты в США Эндрю Уайл и Сара Шалфант были свидетелями того, как идет работа над проектом вплоть до его завершения. Зная, что юбилейный 2014 год будет насыщен событиями, Саймон, Марина Кемп, мой выпускающий редактор Ричард Мэйсон, составитель предметного указателя Дейв Крэддок и производственная группа издательства Penguin под руководством Ричарда Дагида приложили все усилия, чтобы «Великий потоп» был издан в кратчайшие сроки. Я глубоко благодарен им за дружелюбие, профессионализм и интерес к этому проекту.
Писать книги нелегко, но бывает, что одни книги даются труднее, чем другие. Эта книга оказалась непростой. Счастливы те, у кого есть готовые оказать помощь друзья и коллеги, и я отношу себя к числу таких счастливчиков. В Англии удача улыбнулась мне в лице таких людей, как Бернард Фулда, Мелисса Лейн, Крис Кларк, Дэйвид Рейнольдс и Дэйвид Элгертон, всегда готовых поддержать беседу или ознакомиться с рукописью. Еще большая удача поджидала меня, когда в 2009 году я переехал в Йельский университет, где не только обрел верных друзей, но и увидел сообщество интеллектуалов.
В любом сообществе действуют многочисленные связи. Прежде всего, я встретил поддержку группы блестящих аспирантов и моих будущих коллег, вдохновлявших меня и дающих мне силы, как этого ни делал никто прежде. Грэй Андерсон, Энер Барзилай, Кейт Брэкни, Кармен Деж, Стефан Ейч, Тед Фертик и Джереми Кесслер создали обстановку, в которой всестороннее обсуждение темы продолжалось непрерывно на протяжении всего времени, начиная с 2009 года. Сила и неусыпная энергия, двигавшие нашей группой, представлялись чем-то необычным. Этот опыт принес мне подлинную радость, и я горжусь им. Мне хотелось бы его продолжить.
В Йельском университете сложилась разнообразная интеллектуальная среда, и второй круг составили мои друзья и коллеги, занимающиеся вопросами мировой истории в Центре изучения проблем международной безопасности (International Security Studies, ISS) который в 2013 году перешел мне по наследству от великого Пола Кеннеди. Директору не обойтись без заместителей. Благодаря Аманде Бем, образцово выполнявшей обязанности заместителя директора ISS, я смог завершить работу над настоящей книгой в 2013 году. Это не значит, что весь ISS держится только за счет двух человек. Среди множества людей, занимающихся в Йельском университете вопросами мировой истории, особенно заметны мои коллеги Патрик Корс и Райен Ирвин, предшественник Аманды на посту заместителя директора ISS, чье влияние на настоящую книгу было особенно значительным.
И наконец, я хочу выразить благодарность коллегам на отделениях истории, политологии, германистики, а также на юридическом факультете за то, что они нашли время, чтобы поделиться со мной своим мнением об отдельных главах настоящей книги, принять участие в обсуждении, разделить со мной моменты вдохновения, просветления и приободрить меня. Благодаря Лауре Энгельстейн я чувствовал себя в Йеле как дома, она также поддержала мои взгляды по истории России. Тим Снайдер, Пол Кеннеди и Джей Уинтер принимали участие в обсуждении первоначального варианта книги. Джулия Адамс на своих семинарах по вопросам переходного периода организовала интереснейшие беседы. Каруна Мантена собрала заинтересованную аудиторию по вопросам, касающимся Индии и либерализма. Энтузиазм Скотта Шапиро и Ооны Хатауэй в вопросах международного права и мирных инициатив в рамках пакта Келлога – Бриана передавался всем. Джон Уитт был образцом дружеского общения ученых во время наших многочисленных встреч за ранним завтраком в кафе «Блю стейт». Беседы с Брюсом Акерманом помогли мне понять то, что я читал о Вильсоне. Пол Норт навел меня на мысль о необходимости осветить позиции реформистов в современной политике. Не могу представить себе более блистательную защитницу этих позиций, чем Шейла Бенхабиб. В ходе работы над книгой меня всегда вдохновляло доброжелательное отношение Яна Шапиро.
Помимо этого, были еще сменявшие друг друга группы студентов Йельского университета, которым я преподавал мировую историю в период между войнами. От них я услышал важные соображения и замечания. В первую очередь я имею в виду Бена Алтера, Коннора Кроуфорда, Бенджамина Даус-Хаберле, Эди Фишмана и Тео Суареса. Все они оставили свой след в тексте книги, в некоторых случаях в буквальном смысле. Ценное содействие в редакторской правке оказали Бен и Тео, а также Нед Дауни, Изабель Марин и мой надежный ассистент в ISS Игорь Бирюков.
Первые тезисы по данному проекту вне ставших мне родными стен Кембриджа и Йеля я представил на легендарном семинаре Ганса-Ульриха Велера в университете Билефельда. Участие в таком форуме было честью для меня. Перед этим я услышал очень полезные комментарии на семинаре по американской истории в Кембридже. В Британии я последний раз представлял свои тезисы на семинаре по истории в Бристольском университете, куда меня пригласил Джеймс Томпсон. Питер Хайс и Дебора Коэн предоставили мне возможность выступить в Северо-Западном университете, а Джефф Элей – на рабочей группе по вопросам фашизма в Нотр-Даме. Удовольствие от участия в семинаре в Йельском университете со мной разделили Чарли Брайт и Майкл Гейер. Незабываемой оказалась дискуссия, организованная в стенах университета Майами Домиником Рейллом и Германом Беком. На конференции по вопросам Великой депрессии, проходившей в Принстоне в начале 2013 года, Барри Эйхенгрин с непередаваемой деликатностью воспринял мои критические замечания по поводу «Золотых оков». И это вдохновило меня еще сильнее. В университете Пенсильвании Джонатан Штейнберг, Дан Рафф и Майкл Бордо придали мне больше уверенности в подходе к вопросу о господстве Америки в период между войнами. Доброжелательную поддержку Джонатана я ощущаю на протяжении всей своей карьеры уже почти 20 лет. Дружба с ним и с Марион Кант очень важна для меня. Гарольд Джеймс и другие участники состоявшегося в 2013 году в Национальном разведывательном совете в Вашингтоне обмена аналитическими данными открыли для меня новый мир обсуждения вопросов американской политики. В ходе семинара по политтехнологиям в период Великой войны 1900–1930 годов, состоявшегося в Центре углубленных исследований (IFK) в Вене, я ознакомился с крайне полезными для себя соображениями Хью Страхана, Джея Винтера и в который раз Майкла Гейера. Особой благодарности заслуживает Джари Элоранта за оказанную в последнюю минуту помощь с данными.
Двадцать два года назад, когда я был аспирантом Лондонской школы экономики, я познакомился с Франческой Карневали. В течение последующих лет мы обменивались друг с другом написанными текстами. Мы были очень близкими друзьями. И разумеется, Франческа была одной из первых, кому я показал черновики настоящей книги. Она и ее неподражаемый муж, Паоло Ди Матино, которого я имею честь считать своим другом и коллегой, дали мне возможность в полной мере оценить присущую им неуемную энергию, гостеприимство и любовь, каждый раз как я оказывался в Бирмингеме. Кончина Франчески стала невосполнимой потерей.
Франческа была устремлена вперед. Она находила умиротворение, занимаясь вопросами нового и грядущего. В 2009 году, встретив в Нью-Хейвене Анни Варек и Йейна Йорка, я заново узнал, что такое дружба. Они оба и их прекрасные сыновья Зев, Малахай и Леви сделали наши отношения необыкновенно теплыми и светлыми.
Бекки Конекин помогла мне на заключительном этапе работы над книгой, а я в свою очередь могу с гордостью сказать, что помог ей, когда она заканчивала свою блестящую работу, посвященную Ли Миллеру. Эта взаимность сопровождает наши отношения на протяжении почти 20 лет совместной жизни. Надеюсь, однажды и она будет гордиться тем, что мы сделали.
Эту книга я посвятил нашей любимой дочери Эди, которая всегда была светом моей жизни.
Нью-Хейвен, ноябрь 2013 года
Введение
Всемирный потоп: Передел мирового порядка
В рождественское утро 1915 года Дэвид Ллойд Джордж, в прошлом радикальный либерал, а теперь министр по делам вооружений, предстал перед толпой встревоженных профсоюзных деятелей из Глазго. Он пришел сообщить им о том, что необходимо отправить еще одну партию призывников, и его выступление носило соответствующий моменту мрачный характер. Война, говорил он, ведет к переделу мира. «Это – всемирный потоп, это – конвульсии Природы… несущие с собой неслыханные перемены в социальной и индустриальной материи. Это – ураган, который с корнями выворачивает декоративные растения, окружающие современное общество. Это – землетрясение, переворачивавшее основы жизни в Европе. Это – сейсмическое возмущение из числа тех, вследствие которых страны либо делают бросок вперед, либо откатываются на целые поколения назад»[3]. Четыре месяца спустя его слова эхом отозвались по ту сторону линии фронта в выступлении германского рейхсканцлера Теобальда фон Бетмана-Гольвега. 5 апреля 1916 года, когда кровавая битва при Вердене шла уже шестую неделю, он раскрыл перед депутатами рейхстага суровую правду. Пути назад не было. «История не знает случаев возврата к статус-кво после столь драматических событий»[4]. Жестокость Великой войны изменила мир. К 1918 году в результате Первой мировой войны рухнули старые евразийские империи: Российская империя, империя Габсбургов и Османская империя. Китай был охвачен гражданской войной. К началу 1920-х годов карта Восточной Европы и Ближнего Востока была перекроена. Но эти видимые изменения, при всем их размахе и противоречивости, обретали свое полное значение в связи с другим, более глубоким, но не столь заметным сдвигом.
В результате Великой войны возник новый порядок, который, помимо стычек, происходивших между новыми государствами, и их показного национализма, сулил изменение основ в отношениях между великими державами: Британией, Францией, Италией, Японией, Германией, Россией и Соединенными Штатами. Для того чтобы понять масштаб и значение этого изменения баланса сил, требовалось геостратегическое и историческое воображение. Зарождающийся новый порядок во многом был обусловлен невидимым присутствием главного определяющего элемента – новой мощи Соединенных Штатов. И для тех, кто таким воображением обладал, перспективы этого тектонического сдвига превратились почти в навязчивую идею.
Зимой 1928/29 года, спустя десять лет после окончания Великой войны, каждый из трех современников, обладавших подобным воображением – Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер и Лев Троцкий, – имел возможность оглянуться на то, что произошло. В первый день нового, 1929 года Черчилль, занимавший тогда должность министра финансов в правительстве консерваторов, возглавляемого Стэнли Болдуином, нашел время для того, чтобы завершить работу над «Последствиями» – заключительным томом его эпического повествования о Первой мировой войне под названием «Мировой кризис». Для тех, кто знаком с более поздними работами Черчилля, посвященными Второй мировой войне, этот последний том стал сюрпризом. Если после 1945 года Черчилль использовал выражение «вторая Тридцатилетняя война», говоря о продолжающейся войне с Германией как о едином историческом понятии, то в 1929 году он придерживался иного мнения[5]. Черчилль всматривался в будущее не с мрачной отстраненностью, а со значительной долей оптимизма. Казалось, что из беспощадной Великой войны родился новый мировой порядок. Глобальный мир был построен на основе двух великих региональных договоров: Европейском пакте о мире, начало которому было положено в Локарно в октябре 1925 года (подписан в Лондоне в декабре), и на Тихоокеанских договорах, подписанных на Вашингтонской морской конференции зимой 1921/22 года. Это были, как писал Черчилль, «прочные и нерушимые пирамиды-двойники, на которых стоял мир… поддержание которого обеспечивали ведущие страны мира и все их флотилии и армии». Эти соглашения стали основой мира, который так и не был достигнут в Версале в 1919 году. Они позволили заполнить пустоту, остававшуюся после Лиги Наций. «В истории еще надо поискать параллели подобным начинаниям», – отмечал Черчилль. «Надежды, – писал он, – теперь основываются уже на более прочном фундаменте… Ужас перед только что закончившейся войной будет еще долго сохраняться, и в этот благословенный промежуток времени великие нации смогут предпринять дальнейшие шаги к созданию всемирной организации, с полной уверенностью, что предстоящие трудности окажутся не больше тех, какие они уже сумели превозмочь»[6].
Неудивительно, что для взглядов Гитлера и Троцкого на историю, спустя десять лет после окончания войны, были характерны совсем другие выражения. В 1928 году Адольф Гитлер, ветеран войны и незадачливый заговорщик, превратившийся в политика, участвовавший во всеобщих выборах и проигравший их, вел переговоры с издателями о продолжении своей первой книги, Mein Kampf. Во вторую книгу он намеревался включить свои речи и статьи начиная с 1924 года. Но продажи его книги в 1928 году, как и его результаты на выборах, вызывали разочарование, поэтому рукописи Гитлера так и остались неизданными. До нас они дошли в виде «Второй книги» (Zweites Buch)[7]. Лев Троцкий, в свою очередь, располагал достаточным временем для того, чтобы писать и размышлять: проиграв Сталину, он сначала был выслан в Казахстан, а затем, в феврале 1929 года, в Турцию, откуда продолжал комментировать революционные события, принявшие столь катастрофический оборот после смерти Ленина в 1924 году[8]. Черчилль, Троцкий и Гитлер представляют собой несочетаемую, если не сказать антипатическую компанию. Некоторые даже могут счесть провокацией то, что они упоминаются вместе. Конечно, они не были равными ни как писатели, ни как политики, ни как интеллектуалы или носители морали. Но тем более удивительным представляется то, насколько дополняет друг друга видение событий мировой политики конца 1920-х годов каждым из них.
Гитлер и Троцкий видели ту же реальность, что и Черчилль. Они тоже полагали, что Первая мировая война открыла новый этап «организации мира». Но там, где Черчилль воспринимал эту новую реальность как повод для торжества, коммунисту- революционеру, каким был Троцкий, или национал-социалисту, каким был Гитлер, эта реальность сулила по меньшей мере историческое забвение. На первый взгляд, мирные договоренности 1919 года могли казаться развитием логики суверенного самоопределения, сложившейся в европейской истории в конце Средневековья. В XIX веке эта логика привела к возникновению новых национальных государств на Балканах, к объединению Италии и Германии. Теперь, с развалом Османской, Российской и Габсбургской империй, эта логика достигла высшей точки своего развития. Рост числа суверенных государств сопровождался выхолащиванием сущности суверенитета[9]. Великая война привела к бесповоротному ослаблению всех воюющих европейских стран, даже наиболее сильных из них, даже стран- победительниц. В 1919 году Французская республика отмечала свою триумфальную победу над Германией в Версале, во дворце «короля-солнца», но это не могло скрыть того, что Первая мировая война положила конец притязаниям Франции на звание державы мирового масштаба. Менее крупным национальным государствам, возникшим в предыдущем веке, война нанесла еще более серьезную травму. В период 1914–1919 годов Бельгия, Болгария, Румыния, Венгрия и Сербия находились на грани национального исчезновения, по мере того как военная удача оказывалась то на одной, то на другой стороне. В 1900 году кайзер опрометчиво требовал для своей страны места на мировой арене. Двадцать лет спустя Германия была ослаблена настолько, что вступила в спор с Польшей по вопросу о границе в Силезии, а наблюдал за этим спором японский виконт. Германия, скорее всего, превратилась из субъекта в объект Weltpolitik. Италия вступила в войну на стороне победителей, но, несмотря на торжественные заверения союзников, заключение мира лишь подчеркнуло ее ощущение принадлежности к странам второго разряда. Если в Европе и был победитель, то это была Британия, отсюда и радужные оценки Черчилля. Однако Британия господствовала не как европейская держава, а как страна, стоявшая во главе мировой империи. Для современников чувство, что Британская империя закончила войну сравнительно неплохо, лишь подтверждало вывод о том, что эпоха властвования Европы подошла к концу. В век мирового господства политические, военные и экономические позиции Европы безвозвратно отодвигались на периферию[10].
Единственной страной, вышедшей из войны без единой видимой царапины и значительно более могучей, чем прежде, были Соединенные Штаты. На самом деле, превосходство США было настолько подавляющим, что, казалось, вновь вставал вопрос, исключенный из истории Европы в XVII веке. Представляли ли собой США всеобъемлющую, всемирную империю, сходную с той, которую однажды грозили создать католики Габсбурги? Вопрос будет оставаться открытым в течение последующего столетия[11]. К середине 1920-х годов Троцкому казалось, что «балканизированная Европа» оказалась «в том же положении по отношению к Соединенным Штатам», которое однажды в предвоенный период занимали страны Юго-Восточной Европы по отношению к Парижу и Лондону[12]. У них присутствовали внешние атрибуты суверенитета, но сам суверенитет отсутствовал. В 1928 году Гитлер предостерегал, что если политические лидеры Европы не пробудят население своих стран от их обычного «политического безрассудства», то «угроза мирового господства Североамериканского континента» низведет все эти страны до положения Швейцарии или Голландии[13]. Черчилль из Уайт-холла воспринимал эту точку зрения не как спекулятивный взгляд на историю, а как практическую реальность такой власти. Как мы увидим, в 1920-х годах правительство Британии вновь и вновь будет сталкиваться с тем болезненным фактом, что Соединенные Штаты представляют собой силу, не похожую ни на какую другую. Эта сила появилась довольно неожиданно, в виде нового «супергосударства», обладающего правом вето в вопросах финансов и безопасности прочих ведущих стран мира.
Определение географических границ становления нового мирового порядка представляет собой главную задачу настоящей книги. И решение этой задачи требует особого подхода, ведь Америка заявила о своей мощи необычным способом. В начале XX века американское руководство не было склонно считать свою страну военной державой, кроме как на основных океанских маршрутах. Влияние США зачастую было косвенным и носило форму скрытой потенциальной силы, а не ее непосредственного явного присутствия. Но тем не менее это влияние было реальным. Центральная задача настоящей книги – выявление путей, по которым мир в ходе борьбы за формирование нового порядка пришел к тому, чтобы принять новую центральную роль Америки. Эта борьба всегда шла по нескольким направлениям: в экономике, военных вопросах и политике. Она началась непосредственно во время войны и продолжилась после ее окончания в 1920-х годах. Верное понимание этих событий важно для того, чтобы понять истоки «Пакс Американа», продолжающего определять современное положение в мире. Это также важно для понимания масштабов «второй Тридцатилетней войны», на которую Черчилль будет оглядываться уже с 1945 года[14]. Внезапная эскалация насилия 1930-х и 1940-х годов стала проверкой силы, которой, как полагали поднявшие против нее мятеж, они противостояли. Именно этот едва заявивший о себе потенциал грядущего доминирования американской капиталистической демократии стал общим фактором, побудившим Гитлера, Сталина, итальянских фашистов и их японских партнеров к столь решительным действиям. Их враги зачастую были невидимы и неуловимы. Им приписывались заговоры, окутавшие мир зловещей паутиной влияния. Многое выглядело нарочито случайным и беспорядочным. Но если мы хотим понять, каким образом в период Первой мировой войны и после нее были заложены основы крайне жестокой политики периода между войнами, то должны серьезно отнестись к этой диалектике порядка и мятежа. Наше понимание таких движений, как фашизм или советский коммунизм, будет далеко неполным, если мы попытаемся свести их к понятным обычным проявлениям расизма и империализма в современной европейской истории или будем рассматривать их в ретроспективе, начиная с невероятного периода 1940–1942 годов, когда они победоносно маршировали по Европе и Азии и казалось, что будущее принадлежит им. Все вожди национал-социалистической Германии, империалистической Японии и Советского Союза, как бы ни пытались утешить себя доморощенными фантазиями их последователи, считали себя мятежниками, решительно восставшими против мощного деспотического мирового порядка. При всем их бахвальстве в 1930-е годы они считали, что западные державы не слабы, а ленивы и лицемерны. За показной моралью и панглоссианизмом западных держав скрывалась жесткая сила, позволившая сокрушить Германскую империю и грозившая сохранить такое положение навсегда. Для того чтобы предотвратить столь ужасный конец, требовались невероятные усилия, которые в свою очередь требовали особого риска[15]. Мятежники извлекли чудовищный урок из событий мировой политики в период с 1916 по 1931 год, о которых и пойдет речь в настоящей книге.
I
Какие главные элементы лежали в основе нового порядка, который был столь ужасен в глазах его потенциальных врагов? Принято считать, что новый порядок имел три аспекта: моральный авторитет, военная мощь, на которую он опирался, и экономическое превосходство.
В глазах многих ее участников Великая война началась как столкновение империй, как классическая война великих держав, а завершилась событием, несущим значительно больший моральный и политический заряд, – триумфальной победой коалиции, провозгласившей себя лидером нового мирового порядка[16]. Возглавляемая американским президентом «война за то, чтобы положить конец всем войнам» была доведена до победного конца для поддержания верховенства международного права и низвержения авторитаризма и милитаризма. По замечанию одного японского наблюдателя, «капитуляция Германии бросила вызов самим основам милитаризма и бюрократии. Естественным следствием стала политика, отвечающая интересам народа, отражающая волю народа, а именно – демократии (minponshugi), мысли о которой, подобно стремлению в рай, охватили весь мир»[17]. Образ, выбранный Черчиллем в качестве характеристики нового порядка – «пирамиды-близнецы мира, возвышающиеся твердо и непоколебимо», – говорит сам за себя. Пирамиды – это не что иное, как величественные памятники слияния духовной и материальной силы. Для Черчилля они являли яркую аналогию с тем, сколь грандиозным в глазах современников представлялся проект цивилизованного переустройства мировой власти. Характерно, что Троцкий описывал картину в гораздо менее возвышенных тонах. Если верно то, что внутренняя политика и международные отношения впредь не могут существовать раздельно, то, считал он, их можно свести к единой логике. Вся «политическая жизнь», даже таких стран, как Франция, Италия и Германия, вплоть до «смены партий и правительств будет определяться в последнем счете волей американского капитала…»[18] С присущим ему сарказмом Троцкий говорит не о торжественном величии пирамид, а о нелепом спектакле, в котором чикагские мясозаготовщики, провинциальные сенаторы и производители сгущенного молока читают лекции французскому премьер-министру, британскому министру иностранных дел или итальянскому диктатору о благах разоружения и мира во всем мире. Это были неотесанные предвестники американского стремления к «мировому господству», со своими интернационалистскими идеалами мира, прогресса и прибыли[19].
Но при всей нелепости форм ставки на морализацию и политизацию международных отношений были чрезвычайно высокими. Со времен религиозных войн XVII столетия общепринятой в международной политике и международном праве стала глухая стена между внешней и внутренней политикой. Общепринятые нормы морали и толкование законов отдельно взятой страной считались неуместными в дипломатии и войнах великих держав. Разрушая эту стену, архитекторы новой «мировой организации» вполне осознанно играли роль революционеров. На деле, к 1917 году их революционные цели становились все более очевидными. Смена режима превратилась в одно из предварительных условий переговоров о перемирии. В Версале вина за развязывание войны была возложена на кайзера, которого объявили преступником. Вудро Вильсон и страны Антанты вынесли смертный приговор Османской империи и империи Габсбургов. К концу 1920-х годов, как мы увидим, «агрессивная» война была объявлена вне закона.
Но какими бы привлекательными ни казались эти либеральные заповеди, в них поднимались фундаментальные вопросы. Что давало странам-победительницам право подобным образом низвергать закон? Разве право заключается в силе? В чем состоял исторический смысл сделанных ими ставок? Возможно ли на основе подобных претензий формировать долгосрочную основу мирового порядка? Мысль о возможной войне ужасна, но означало ли заявление об установлении прочного мира твердое обязательство сохранения статус-кво, независимо от его легитимности? Черчилль мог себе позволить быть оптимистом. Его страна на протяжении длительного времени входила в число наиболее успешных предпринимателей, орудовавших на ниве морали и законности. Но что, если (как один немецкий историк сформулировал в 1920-х годах) какая-то страна оказывалась в числе бесправных, в числе нижних сословий нового порядка, подобно феллахам, оказавшимся посреди пирамид мира?[20]
Подлинных консерваторов мог устроить только перевод часов назад. Они требовали развернуть поезд либерального морализаторского обустройства мира и вернуть международные отношения к идеальному образу европейского публичного права (Jus Publicum Europaeum), в котором европейские суверены жили бы одной семьей в условиях неподсудной и лишенной иерархической подчиненности анархии[21]. Но это был не просто исторический миф, имевший мало общего с реалиями мировой политики в XVIII и XIX столетиях. В нем игнорировалось то, о чем в своем послании рейхстагу весной 1916 года говорил Бетман-Гольвег. После этой войны пути назад не было[22]. Имевшиеся альтернативные варианты были еще жестче. Первый из них состоял в конформизме нового типа. Второй – в мятеже, на который сразу после войны решился Бенито Муссолини. Создав в марте 1919 года в Милане фашистскую партию, он назвал зарождающийся новый порядок «мошенничеством напыщенных богатеев», подразумевая Британию, Францию и Америку, направленным «против пролетарских наций», под которыми он имел в виду Италию, и имевшим целью «закрепить навсегда существующее в мире равновесие…»[23] Вместо возврата к некоему воображаемому ancien régime (старому режиму), он обещал дальнейшую эскалацию. За всей этой неприглядной политизацией международных отношений скрывался все тот же неразрешимый конфликт ценностей, который породил смертельную жестокость религиозных войн XVII столетия и революционной борьбы конца XVIII века. Ужасы Первой мировой войны должны были привести либо к прочному миру, либо к еще более радикальной жестокой войне.
И хотя опасность подобной конфронтации была очевидной, степень риска зависела не только от поднявшейся волны протеста и восставших друг против друга идеологий. В конечном счете риск, связанный с поисками путей установления и поддержания нового мирового порядка, определялся тем, в какой степени приемлемым окажется предлагаемый моральный порядок для того, чтобы получить всеобщую поддержку, зависящую как от достоинств самого этого порядка, так и от силы, необходимой для его сохранения. После 1945 года в период холодной войны между США и СССР мир воочию увидит логику конфронтации, доведенной до крайней степени. Две международные коалиции, руководствовавшиеся антагонистическими идеологиями, обладали огромным арсеналом ядерного оружия и грозили человечеству гарантированным взаимным уничтожением. Многие историки желают видеть в событиях 1918–1919 годов, когда Вильсон противостоял Ленину, прообраз холодной войны. Даже при кажущейся правомерности подобной аналогии она не соответствует действительности, хотя бы потому, что в 1919 году еще не существовало ничего похожего на симметрию, сложившуюся в 1945 году[24]. К ноябрю 1918 года на колени была поставлена не только Германия, но и Россия. Баланс мировой политики в 1919 году напоминал однополярный мир 1989 года в значительно большей степени, чем разделенный мир 1945 года. Если идея переустройства мирового порядка вокруг одного центра силы и общего набора либеральных «западных» ценностей представлялась радикальным историческим изменением, то это именно она стала причиной того, что результаты Первой мировой войны оказались столь драматичными.
Поражение 1918 года было тем более горьким для Центральных держав, что, как мы увидим, в ходе Первой мировой войны военная инициатива неоднократно переходила от одной стороны к другой. Благодаря превосходной штабной работе кайзеровским генералам нередко удавалось добиться превосходства на отдельных направлениях и угрожать прорывами: в 1915 году в Польше, при Вердене в 1916 году, на итальянском фронте осенью 1917 года, на Восточном фронте уже весной 1918 года. Но эти драматические события на полях сражений не должны отвлекать нас от скрытой за ними логики войны. Центральные державы имели действительное превосходство лишь по отношению к России. Развитие событий на Западном фронте в период с 1914 года и до лета 1918 года было удручающим. Это можно объяснить одним главным фактором: соотношением имевшимися в распоряжении сторон военной техники и снаряжения. С лета 1916 года начались огромные поставки из-за океана, что позволяло британской армии удерживать европейские поля сражений, и требовалось лишь время для того, чтобы Центральные державы утратили свое превосходство на любом из направлений. Это была борьба на истощение. Сопротивление продолжалось вплоть до последних дней ноября 1918 года, однако провал был почти повсеместным. Когда великие державы собрались в Версале на первой такого рода международной ассамблее, Германия и ее союзники были повержены. В последующие месяцы их армии, некогда вызывавшие чувство гордости, были расформированы. Франция и ее союзники в Центральной и Восточной Европе хозяйничали на европейской сцене. Но это было, как хорошо понимали французы, лишь началом. В ноябре 1921 года, в 3-ю годовщину прекращения огня, члены закрытого клуба руководителей стран впервые собрались в Вашингтоне, чтобы принять новый мировой порядок, который Америка изложила с небывалой ясностью. На Вашингтонской морской конференции сила измерялась в боевых кораблях, которые, по насмешливому выражению Троцкого, распределялись «по карточкам»[25]. Не было уже ни двусмысленности, наблюдавшейся в Версале, ни туманных фраз, содержащихся в Уставе Лиги Наций. Распределение геостратегических сил выглядело как соотношение 10:10:6:3:3. Список возглавляли Британия и США, получившие равный статус, как единственные истинно мировые державы, присутствующие в открытых водах. На третьем месте находилась Япония, которой дозволялось действовать лишь в одном, Тихом, океане. Франция и Италия ограничивались прибрежными водами Атлантического океана и Средиземным морем. Ни одна страна, кроме этих пяти, в балансе учтена не была. Германия и Россия даже не рассматривались в качестве участников конференции. Казалось, в этом и состоял окончательный результат Первой мировой войны: всеобъемлющий мировой порядок, при котором стратегические силы распределялись строже, чем сегодня ядерные вооружения. Этот переворот в международных отношениях, отмечал Троцкий, был аналогичным тому, который произвел Коперник, переписавший космологию Средневековья[26].
Вашингтонская морская конференция наглядно продемонстрировала силу, готовую обеспечить поддержание нового мирового порядка, но уже в 1921 году были сомневающиеся в том, смогут ли «замки из стали» эпохи боевых кораблей представлять собой оружие в будущем. Подобные аргументы, однако, оставались без внимания. Боевые корабли, независимо от их боевых качеств, были самыми дорогостоящими и технологически сложными инструментами мирового господства. Лишь наиболее богатые страны могли позволить себе обладать военно-морскими флотилиями и использовать их. Америка даже не стала строить всех положенных ей по квоте кораблей. Было достаточно того, что все понимали, что она в состоянии это сделать. Мощь Америки определяла экономика, а военная сила была лишь побочным продуктом. Троцкий не только признавал это, но и с удовольствием дал такому положению качественную оценку. В эпоху острой мировой конкуренции темное искусство сравнительного измерения экономик было распространенным занятием. В 1872 году, считал Троцкий, национальные состояния США, Великобритании, Германии и Франции были примерно равны, при этом каждая из стран располагала 30–40 млрд долларов. Спустя 50 лет стал очевидным огромный разрыв. Послевоенная Германия была доведена до нищеты и, по мнению Троцкого, стала беднее, чем была в 1872 году. Напротив, «Франция примерно вдвое богаче (68 млрд), Англия также (около 89 млрд), а национальное достояние Соединенных Штатов скромно оценивается сейчас в 320 млрд долларов»[27]. Эти цифры были умозрительными. Но никто не оспаривал того, что к ноябрю 1921 года, когда проходила Вашингтонская морская конференция, задолженность британского правительства перед американскими налогоплательщиками составляла 4,5 млрд долларов, Франция была должна Америке 3,5 млрд долларов, а Италия – 1,8 млрд долларов. Платежный баланс Японии серьезно ухудшался, и Япония с нетерпением ожидала поддержки от Дж. П. Моргана. В то же время 10 млн граждан Советского Союза оставались живы благодаря помощи голодающим, поступающей из США. Никогда еще ни одной другой стране не удавалось достичь подобного глобального экономического превосходства.
Рис. 1. Валовый внутренний продукт империй (паритет покупательной способности, в долларах 1990 г.)
Если обратиться к современным статистическим данным для построения графика развития мировой экономики начиная с XIX века, то станет вполне очевидным, что ход развития можно разделить на две части (рис. 1)[28]. С начала XIX века Британская империя представляла собой крупнейшую экономику мира. В 1916 году, когда состоялись битвы при Вердене и на Сомме, США обогнали Британскую империю по общему объему выпущенной продукции. С тех пор и до начала XXI века мощь американской экономики считалась решающим фактором формирования мирового порядка.
Всегда существовал соблазн, особенно у британских авторов, считать XIX и XX столетия периодом передачи по наследству США британского господства[29]. Это лестно для Британии, но не соответствует действительности, так как наследование предполагает преемственность проблем мирового порядка и средств их разрешения. Проблемы мирового порядка, возникшие в результате Первой мировой войной, не имели ничего общего с проблемами, решением которых прежде занимались британцы, американцы или кто-либо еще. Но есть и другой момент: американская экономическая мощь количественно и качественно отличалась от того, чем когда-либо располагала Британия.
Британское экономическое превосходство разворачивалось внутри «мировой системы», созданной Британской империей, раскинувшейся от Карибского бассейна до Тихого океана, оно росло благодаря свободной торговле, миграции и экспорту капитала на просторах «неформального» пространства[30]. Британская империя создала матрицу для развития экономики всех остальных стран, которая позволила раздвинуть границы глобализации в конце XIX века. Появление крупных стран-конкурентов привело к тому, что некоторые из ученых-приверженцев империи и сторонников «Великой Британии» стали выступать за превращение этого разнородного конгломерата в единый замкнутый экономический блок[31]. Но благодаря устоявшейся британской традиции свободной торговли преференциальный имперский тариф был установлен лишь в разгар Великой депрессии. США, а не Британская империя располагали всем, к чему стремились ярые сторонники имперских преференций. США складывались как совокупность разнородных колониальных поселений, которая в начале XIX века превратилась в экспансионистскую хорошо объединенную империю. В отличие от Британской империи Американская республика стремилась включить в состав федерации новые южные и западные территории. В условиях изначально существовавших в XVIII веке расхождений между свободным Севером и рабовладельческим Югом этот интеграционный процесс был чреват опасностями. В 1861 году, не дожив до своего столетия, стремительно развивавшаяся американская государственность рассыпалась в результате ужасной гражданской войны. Спустя четыре года Союз был сохранен, однако цена этого, если учитывать пропорции, была не менее ужасной, чем та, которую заплатили основные воюющие стороны в Первой мировой войне. Немногим больше чем 50 лет спустя, в 1914 году, американский политический класс состоял из людей, переживших в детстве ужасы этой кровопролитной войны. Понять ставки в мирной политике администрации Вудро Вильсона можно, лишь осознав, что 28-й президент США возглавлял первый кабинет демократов-южан, который взял на себя управление страной со времен Гражданской войны. Свое восхождение они воспринимали как подтверждение примирения белой Америки и воссоздания американского национального государства[32]. Заплатив кошмарную цену, Америка превратилась в нечто, не имевшее аналогов. Она уже не была хищнически продвигающейся на запад империей. Но она не стала и неоклассическим идеалом «города на холме» Томаса Джефферсона. Это было нечто, считавшееся невозможным по меркам классической политической теории, – единая федеральная республика континентального масштаба, национальное государство огромного размера. Между 1865 и 1914 годами, получая прибыль от рынков, транспорта и сетей связи британской мировой системы, экономика США росла быстрее любой другой экономики за всю предшествовавшую историю. Занимая выгодные позиции на побережье двух величайших океанов, страна обладала уникальными притязаниями и возможностями оказывать влияние в глобальном масштабе. Называть ее преемницей британского господства означает согласиться с теми, кто в 1908 году упорно называл «Модель Т» Генри Форда «безлошадной повозкой». Этот ярлык был не столько ошибочным, сколько безнадежно устаревшим. Это была не преемственность. Это была смена парадигмы, совпавшая с принятием Соединенными Штатами отличной от других концепции мирового порядка.
В этой книге многое будет сказано о Вудро Вильсоне и его преемниках. Но самая основная мысль формулируется просто. Стратегия Соединенных Штатов, которые сформировались как национальное государство, получившее выход на мировую арену в процессе экспансии, имевшей наступательный континентальный размах, но сумевшее избежать конфликта с другими ведущими державами, отличалась и от стратегии старых держав, таких как Британия и Франция, и от стратеги недавно возникших новых конкурентов, таких как Германия, Япония и Италия. Появившись на мировой арене в конце XIX века, Америка быстро осознала свою заинтересованность в прекращении напряженного мирового соперничества, которое начиная с 1870-х годов определяло новый век мирового империализма. Правда, в 1898 году американский политический класс предпринял набег, совершив заморское вторжение в ходе испано-американской войны. Но после столкновения с реалиями имперского правления на Филиппинах энтузиазм быстро исчез, и на смену ему пришла более основательная стратегическая логика. Америка не могла оставаться оторванной от живущего в XX столетии мира. Построение крупного флота станет принципиальной основой американской военной стратегии вплоть до создания стратегических военно-воздушных сил. Америка будет следить за тем, чтобы ее соседи в Карибском бассейне и в Центральной Америке «вели себя правильно», а доктрина Монро, исключающая вторжение в Западное полушарие извне, выполнялась. Другие державы не допускались. Америка будет создавать базы и промежуточные пункты, позволяющие ей демонстрировать свою силу. Но без одного Америка может прекрасно обойтись, а именно без разносортных беспокойных колониальных владений. В этой простой, но важной позиции и состояло основное отличие континентальных Соединенных Штатов от так называемого либерального империализма Британии[33].
Истинная логика американской мощи была сформулирована между 1899 и 1902 годами в трех «Записках», в которых госсекретарь Джон Хэй впервые дал общее определение так называемой политики открытых дверей. В качестве основы нового мирового порядка в этих «Записках» предлагался один внешне простой, но далеко идущий принцип: равенство возможностей доступа к товарам и капиталу[34]. Здесь важно понять, чем это не являлось. Политика открытых дверей не призывала к свободе торговли. Среди крупных экономик американская носила наиболее протекционистский характер. США не выступали за конкуренцию ради конкуренции как таковой. Втайне ожидалось, что после открытия дверей американские экспортеры и банкиры оттеснят всех своих соперников. В конечном счете политика открытых дверей должна была подорвать исключительность европейских имперских владений. Но США не были заинтересованы в нарушении имперской расовой иерархии или глобального цветного барьера. Торговли и инвестиции требовали порядка, а не революций. На что определенно была направлена американская стратегия, так это на подавление империализма, под которым понималось не колониальное продвижение продукции, не расовое господство белого человека над людьми с другим цветом кожи, а эгоистичное и жесткое противостояние Франции, Британии, Германии, Италии, России и Японии, которое несло угрозу разделения единого мира на отдельные сферы интересов.
Война сделала бы президента Вудро Вильсона знаменитостью мирового значения, его провозгласили бы великим первопроходцем и пророком либерального интернационализма. Но основными элементами его программы были предсказуемые дополнения логики политики открытых дверей, обеспечивающей мощь Америки. Вильсон стремился к роли мирового арбитра, обеспечению свободы морей и ликвидации дискриминации в торговой политике. Он хотел, чтобы Лига Наций положила конец соперничеству империй. Это была антивоенная, постимпериалистическая повестка дня страны, убежденной в том, что она находится в шаге от мирового влияния, которое достижимо применением мягкой силы – экономики и идеологии[35]. Осталось недооцененным, однако, то, насколько далеко был готов пойти Вильсон, чтобы продвигать вопрос обеспечения американского господства в противовес всем оттенкам европейского и японского империализма. Как будет показано в начале настоящей книги, когда Вильсон в 1916 году вел Америку к передовым рубежам мировой политики, его задача состояла не в том, чтобы в Первой мировой войне победила «нужная» сторона, а в том, чтобы не победила ни одна из сторон. Он отказался от каких-либо открытых связей с Антантой и делал все от него зависящее, чтобы противостоять эскалации войны, к которой стремились Лондон и Париж и которая, как они надеялись, должна была привести Америку на их сторону. Лишь мир без победы – цель, которую он провозгласил в своей беспрецедентной речи в Сенате в январе 1917 года, – мог обеспечить США положение действительно непререкаемого арбитра в международных делах. В настоящей книге утверждается, что, несмотря на провал этой политики уже весной 1917 года и на то, что Америка при всем ее нежелании была втянута в Первую мировую войну, эта цель оставалась основной для Вильсона и его преемников вплоть до 1930-х годов. И именно в этом ключ к ответу на следующий вопрос. Если США стремились к тому, чтобы создать мир открытых дверей, имея в своем распоряжении огромные ресурсы для достижения этой цели, то почему развитие событий пошло совсем по другому руслу?
II
Этот вопрос крушения либерализма является классическим вопросом историографии периода между войнами[36]. В настоящей книге утверждается, что этот вопрос обретает совершенно иное звучание, если начать с оценки того, насколько значительным было превосходство возглавляемых Британией и США победителей в Первой мировой войне. Учитывая события 1930-х годов, об этом очень легко забыть. А ведь очевидный ответ на этот вопрос, данный пропагандистами доктрины Вильсона, говорил об обратном[37]. Они предвидели провал Версальской мирной конференции еще до того, как она состоялась. Они говорили о Вильсоне, своем герое, в самых трагических тонах, тщетно пытаясь показать его непричастность к махинациям Старого Света. Неотъемлемой частью этой сюжетной линии была демонстрация отличия американского пророка либерального будущего от коррумпированного Старого Света, к которому он обратился со своим посланием[38]. В конце концов Вильсон поддался силам этого Старого Света, возглавляемого империалистами Британии и Франции. Результатом стало заключение «плохого» мира, который в свою очередь вызвал осуждение Сената США и значительной части общественности не только в Америке, но и во всех англоговорящих странах[39]. Дальше было еще хуже. Арьергардные действия, предпринятые силами старого порядка, не просто преградили путь реформам. Они распахнули двери перед еще более кровожадными демонами от политики[40]. Европа разрывалась между революцией и жестокой контрреволюцией, когда Вильсон обнаружил, что в предзнаменовании холодной войны он противостоит Ленину. Коммунисты всех оттенков представляли собой крайне правые силы. Сначала в Италии, затем по всему континенту и в наиболее смертельно опасной форме в Германии на первый план выдвигался фашизм. Жестокое, все в большей степени приобретавшее расовый и антисемитский оттенок развитие кризиса 1917–1921 годов навязчиво предвещало еще больший кошмар 1940-х годов. Старому Свету некого винить за эту катастрофу, кроме самого себя. Европа, верным учеником которой оказалась Япония, действительно была «темным континентом»[41].
Эта сюжетная линия наполнена особым драматизмом и породила заметное количество исторической литературы. Но помимо пользы для историографии она важна и как источник информации об аргументах, звучащих из-за океана и имеющих отношение к политическим решениям периода, начавшегося на смене веков. Мы увидим, что позиции администрации Вильсона и его преемников-республиканцев, вплоть до Герберта Гувера, во многом определялись именно таким пониманием истории Европы и Японии[42]. Такой критический подход устраивал не только американцев, но и многих европейцев. Вильсон предложил аргументы, которые радикальные либералы, социалисты и социал-демократы в Британии, Франции, Италии и Японии могли использовать против политических оппонентов в своих странах. Именно во время Первой мировой войны и после ее окончания Европа открыла для себя новое понимание собственной «отсталости», увидев ее в зеркале американской мощи и пропаганды, и это понимание лишь усилилось после 1945 года[43]. Но сам факт того, что эта концепция «темного континента», яростно сопротивлявшегося силам прогресса, действительно имела историческое влияние, несет в себе риск для историков. Бесславный провал принципов Вильсона имел долгосрочные последствия. Созданная Вильсоном конструкция исторического периода между двумя войнами оставила след в столь многочисленных источниках, что требуются сознательные и последовательные усилия, чтобы держаться от них подальше. Вот почему столь важны коррективы, содержащиеся в свидетельствах участников столь разнородного трио, с которых мы начали, – Черчилля, Гитлера и Троцкого. Их взгляды на последствия войны очень во многом различны. Они были убеждены, что в международных отношениях произошли фундаментальные перемены. Они также сходились в том, что условия этого перехода диктовали Соединенные Штаты, а Британия с готовностью способствовала этому. Если за кулисами и действовала диалектика радикализации, способная открыть двери истории мятежникам-экстремистам, то в 1929 году ни Троцкий, ни Гитлер ничего о ней не знали. Для того чтобы лавина мятежа тронулась с места, потребовался второй острейший кризис – Великая депрессия. Именно понимание того, что они столкнулись с могучими оппонентами, привело в движение жестокую смертоносную энергию, которую получившие свой шанс экстремисты направили против послевоенного мироустройства.
Это подводит нас к другому распространенному объяснению катастрофы, произошедшей в период между войнами, состоящему в кризисе теории гегемонистской стабильности[44]. И это объяснение начинается с того же, с чего начали мы, а именно с сокрушительной победы Антанты и США в Первой мировой войне. Но вопрос ставится не о том, почему США встретили сопротивление на основном направлении, а о том, почему победители, получившие столь значительный перевес в силах в результате Великой войны, не достигли своих целей. В конце концов, их преимущество не было воображаемым, а победа в 1918 году не была случайной. В 1945 году подобная коалиция сил добьется еще более полного разгрома Италии, Германии и Японии. Более того, после 1945 года США приступят к созданию очень успешного политического и экономического порядка[45]. Что пошло не так после 1918 года? Почему политика США в Версале оказалась бесплодной? Почему мировая экономика рухнула в 1929 году? Помня, чем начинается настоящая книга, мы не можем уйти от этих вопросов, а они продолжают звучать и сегодня. Почему «Запад», имея на руках выигрышную комбинацию, не сыграл лучше? Куда делась способность управлять и руководить?[46] С учетом подъема Китая эти вопросы обретают очевидную значимость. Проблема состоит в выборе правильного стандарта, в соответствии с которым можно судить о данном провале и искать убедительные объяснения того, почему богатым и могущественным демократиям так серьезно не хватает воли и рассудительности.
Цель настоящей книги состоит в том, чтобы найти синтез объяснений, предлагаемых двумя школами: школой «темного континента» и противостоящей ей школой «краха либеральной гегемонии». Но такой синтез не означает попытки смешать и совместить элементы, представленные с обеих сторон. Вместо этого в настоящей книге делается попытка открыть эти две основные школы исторической аргументации для третьего вопроса, который позволит выявить общее для них белое пятно. В исторических схемах, предлагаемых моделями и «темного континента», и «краха гегемонии», существует тенденция вуалировать радикальное изменение положения, с которым столкнулись мировые лидеры в начале XX столетия[47]. Это белое пятно заложено в примитивной схеме «Новый Свет – Старый Свет» школы «темного континента». В ней «внешним силам» приписываются новизна, открытость и прогресс, будь это США или революционный Советский Союз. При этом деструктивная сила империализма невнятно идентифицируется со Старым Светом или с ancien régime, с эпохой, которая в ряде случаев прослеживается вплоть до времен абсолютизма, а то и еще дальше – до глубин кровопролитной истории Европы и Восточной Азии. Таким образом, катастрофы XX века объясняются отсылкой к мертвому грузу прошлого. В модели «краха гегемонии» кризис периода между войнами объясняется иначе. Но это объяснение имеет еще больший исторический размах и еще меньше заинтересовано в признании того, что начало XX века могло действительно стать по-настоящему новой эрой. Наиболее убедительная версия этого аргумента состоит в том, что экономика капиталистического мира начиная со своего зарождения в 1500-х годах зависела от центральной стабилизирующей силы, будь то города-государства в Италии, монархия Габсбургов, Голландская республика или Викторианский королевский флот. Периоды передачи власти между этими господствующими силами обычно совпадали с периодами кризисов. Кризис, разразившийся в период между войнами, оказался просто последним по времени разрывом, образовавшимся в период, когда на смену британскому господству пришло господство США.
Но ни одна из этих концепций не в состоянии объяснить беспрецедентный темп, размах и жесткость изменений, происходивших в международных делах в период с конца XIX столетия. Как быстро поняли современники, значительная конкуренция в «мировой политике», развернувшаяся между великими державами в конце XIX века, не представляла собой стабильную давно устоявшуюся систему[48]. Она не была узаконена ни традициями династий, ни присущей ей «естественной» стабильностью. Эта конкуренция носила взрывоопасный, угрожающий, всепоглощающий и истощающий характер, и к 1914 году она существовала всего лишь несколько десятилетий[49]. Термин «империализм» не принадлежал к лексикону находящегося в почтенном возрасте, но коррумпированного ancien régime, а был неологизмом, получившим широкое распространение лишь около 1900 года. В нем крылись новые перспективы нового явления – перекройки политической структуры всего мира в условиях неограниченной военной, экономической, политической и культурной конкуренции. Таким образом, модели «темного континента» и «краха гегемонии» построены на ошибочных допущениях. Современный глобальный империализм представлял собой новую радикальную силу и не был пережитком старого мира. По тому же отличительному признаку беспрецедентной представлялась проблема установления мирового господства «после империализма». Масштабы проблемы мирового порядка в ее современной форме сначала проявились в Британии в последние десятилетия XIX века, когда обширная имперская система встретилась с вызовами в сердце Европы, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, Индийском субконтиненте, огромных просторах России, Центральной и Восточной Азии. Британия связала эти регионы в глобальную систему и тем самым синхронизировала происходящие в них кризисы. Британии не удавалось успешно действовать в сложившейся ситуации, и она была вынуждена прибегнуть к ряду стратегических импровизаций. Чувствуя угрозу растущего влияния Германии и Японии, Британия оставила свои заокеанские владения и сосредоточилась на достижении лучшего взаимопонимания в европейских и азиатских вопросах с Францией, Россией и Японией. Возглавляемая Британией Антанта в конце концов добилась бы победы в Первой мировой войне, но лишь при условии дальнейшего усиления и распространения ее стратегической вовлеченности в мировые события через глобальные связи Британской и Французской империй и расположенных на противоположных берегах Атлантики Соединенных Штатов. Таким образом, война привела к возникновению не встречавшейся ранее проблемы мирового экономического и политического порядка, при этом исторической модели мирового господства, которая могла бы способствовать решению этой проблемы, не существовало. Начиная с 1916 года британцы сами предпринимали попытки интервенции, координации и стабилизации, чего никогда не позволили бы себе в период расцвета Викторианской империи. Еще никогда история Британской империи не была столь тесно взаимосвязана с мировой историей, что волей-неволей привело к сохранению этого хитросплетения и в послевоенный период. Как мы увидим, несмотря на ограниченность имеющихся ресурсов, правительство Ллойда Джорджа в послевоенные годы выступало в довольно необычной для него роли стержня европейских финансов и дипломатии. И это тоже стало причиной его падения. Череда кризисов, достигшая высшей точки в 1923 году, положила конец карьере Ллойда Джорджа как премьер-министра и показала всем ограниченность британского господства. Была только одна сила, если таковая существовала вообще, которая могла взять на себя эту роль – новую роль, за которую еще ни одна страна не пыталась всерьез взяться, – Соединенные Штаты.
В поездку по Европе в декабре 1918 года президент Вильсон взял с собой команду географов, историков, политологов и экономистов, которые должны были представить ему вразумительную новую карту мира[50]. Ведущие державы были охвачены волной беспорядков, вызванных войной. Война привела к тому, что на просторах всей Евразии царил небывалый вакуум. Из многовековых империй выжили лишь Китай и Россия. Первым оправилось Советское государство. Но соблазн толковать «сдержанность» в отношениях, существовавшую между Вильсоном и Лениным в 1918 году, как прелюдию холодной войны представляет собой еще один пример отказа от того, чтобы признать исключительным положение, сложившееся в результате войны. Конечно, после 1918 года угроза большевистской революции занимала умы консерваторов всего мира. Но это был страх гражданской войны и анархических беспорядков, и во многом это была воображаемая опасность. Ее никоим образом нельзя сравнить с внушающим страх военным присутствием сталинской Красной армии в 1945 году или даже со стратегическим значением царской России до 1914 года. Ленинский режим выжил в революции, пережил поражение от Германии и Гражданскую войну, но находился на грани краха. На протяжении 1920-х годов коммунизм действовал с позиций обороны. Спорным остается вопрос о паритете сил США и СССР даже в 1945 году. Если взглянуть на предыдущее поколение, то отношение к Вильсону и Ленину как к равным свидетельствует о неспособности осознать одну из действительно определяющих особенностей ситуации – обвальное падение мощи России. В 1920 году Россия была столь ослаблена, что Польская республика, которой тогда не исполнилось и двух лет, решила, что настало время для вторжения. Красная армия оказалась достаточно сильна для того, чтобы противостоять этой угрозе. Но когда Советы двинулись в западном направлении, то потерпели сокрушительное поражение в окрестностях Варшавы. Отличие от эпохи пакта между Гитлером и Сталиным и от периода холодной войны совершенно очевидно.
В условиях поразительного вакуума власти в Евразии, от Пекина до Балтии, вряд ли было удивительным, что наиболее агрессивно настроенные представители интересов империализма в Японии, Германии, Британии и Италии почувствовали ниспосланную свыше возможность для расширения своих территориальных владений. Не сдерживаемые ничем устремления самых ярых империалистов, входящих в состав правительств Ллойда Джорджа, генерала Людендорфа в Германии или Гото Симпея в Японии, дают обширный материал для сюжета, отвечающего модели «темного континента». Но при всей очевидной жесткости их воззрений мы должны внимательно отнестись к нюансам их разговоров о войне. Такой человек, как Людендорф, не питал иллюзий насчет того, что его великая концепция общего передела Евразии была проявлением традиционного искусства государственного управления[51]. Он оправдывал масштаб своих устремлений именно тем, что мир вступал в новую радикальную фазу, в последнюю или предпоследнюю стадию окончательной глобальной борьбы за власть. Подобные ему люди не были выразителями идей ancien régime. Они зачастую весьма критически относились к традиционалистам, которые во имя сохранения баланса и законности не решались использовать исторические возможности. Не будучи выразителями идей старого мира, наиболее ярые противники нового либерального мирового порядка сами были новаторами-футуристами. При этом они не были реалистами. Общепринятое различие между идеалистами и реалистами представляется слишком большой уступкой оппонентам Вильсона. Может, Вильсон и был оскорблен, но и империалисты оказались застигнутыми врасплох. Уже в ходе войны проблемы, присущие любой действительно помпезной программе экспансии, оказались более чем очевидны. Как мы увидим, уже через несколько недель после ратификации в марте 1918 года Брест-Литовского договора о заключении окончательного империалистического мира он был отвергнут теми, кто его создал, когда они обнаружили, что пытаются преодолеть противоречия своей собственной политики. Японские империалисты исходили бессильной злобой из-за отказа своего правительства принять решительные меры для подчинения всего Китая. Наиболее успешными империалистами были британцы, чья основная зона экспансии находилась на Ближнем Востоке. Но это и правда было исключением, подтверждающим правило. В разгар противостояния британских и французских империалистов во всем регионе царил хаос. Первая мировая война и ее последствия превратили Ближний Восток в источник постоянных волнений, которым он остается до нашего времени[52]. На более надежной оси правления Британской империи в таких белых доминионах, как Ирландия и Индия, основная политическая линия состояла в отступлении, предоставлении автономии и самоуправления. Эта линия проводилась непоследовательно и с видимым нежеланием, тем не менее ее направление было безошибочным.
И хотя знакомая сюжетная линия краха политики Вильсона изображает президента США загнанным в ловушку необузданной агрессии старого воинственного империализма, в действительности бывшие империалисты самостоятельно приходили к выводу о необходимости поиска новой стратегии, отвечающей требованиям новой эпохи, пришедшей на смену эпохе империализма[53]. Несколько ключевых фигур олицетворяли собой этот новый raison d’état (национальный интерес). Густав Штреземан наладил сотрудничество Германии со странами Антанты и с США. Британский министр иностранных дел Остин Чемберлен, старший сын Джозефа Чемберлена, ярого националиста эдвардианского периода, разделил с министром иностранных дел Штреземаном Нобелевскую премию мира за вклад в урегулирование в Европе. Третьим человеком, получившим Нобелевскую премию за Локарнские соглашения, был министр иностранных дел Франции Аристид Бриан, бывший социалист, чьим именем был назван пакт 1928 года, объявлявший агрессивные войны вне закона. Кидзюро Сидэхара, министр иностранных дел Японии, олицетворял собой новый подход к безопасности в Восточной Азии. Все они ориентировались на США, считая, что именно эта страна является ключом к установлению нового порядка. Однако чрезмерное отождествление этих перемен с конкретными людьми, сколь значительными бы они ни были, ведет к неправильному пониманию происходившего. Эти люди, выступавшие носителями перемен, нередко совершали противоречивые поступки, разрываясь между своими личными пристрастиями к старым методам ведения политики и тем, что они считали императивами новой эры. Именно представление о том, что новый порядок создается на основе более надежной, чем сила отдельно взятой личности, придавало людям, подобным Черчиллю, уверенность в прочности нового порядка и приводило в уныние Гитлера и Троцкого.
Соблазнительно было бы соотнести эту новую атмосферу 1920-х годов с «гражданским обществом» и множеством международных неправительственных организаций, выступающих за мир, которые появлялись накануне Первой мировой войны[54]. Однако склонность к отождествлению новаторского морального предпринимательства с международными обществами в защиту мира, всемирными конгрессами экспертов, энтузиазмом международного женского движения за солидарность или с разнообразной деятельностью активистов, выступающих против колониализма, косвенным образом ведет к возрождению давнего стереотипа о том, что отзвуки империализма неизбежно будут слышны в биении сердца власти. Напротив, беспомощность движения за мир позволяет циникам-реалистам настойчиво утверждать, что в конечном счете только власть имеет значение. В настоящей книге предлагается другой подход. В ней делается попытка определить главный сдвиг в представлениях о власти, происходящий не во вне, а внутри самой машины управления, во взаимодействии военной силы, экономики и дипломатии. Как мы увидим, это наиболее очевидно проявилось в случае Франции, на долю которой выпала самая большая порция клеветы, адресованной «старым мировым державам». Мы увидим, как после 1916 года Париж, вместо того чтобы переживать старые обиды, стремился к созданию нового, ориентированного на Запад атлантического союза с Британией и США. Такой союз позволил бы ему освободиться от неприятной для него ассоциации с царским самодержавием, на помощь которого Франция рассчитывала начиная с 1890-х годов, полагаясь на сомнительные обещания гарантий безопасности. Такой союз позволил бы привести внешнюю политику Франции в соответствие с ее республиканской конституцией. Это стремление к созданию атлантического союза стало новой задачей французской политики, которая после 1917 года свела вместе таких людей, как Жорж Клемансо и Раймон Пуанкаре.
В Германии выделялась фигура Густава Штреземана, великого государственного деятеля периода стабилизации Веймарской республики. В период начиная с разгара рурского кризиса 1923 года Штреземан, без сомнения, сыграл решающую роль в сохранении ориентации Германии на Запад[55]. Но, будучи националистом и сторонником Бисмарка, он с опозданием и большим трудом адаптировался к условиям новой международной политики. Политической силой, оказывавшей поддержку каждой из его знаменитых инициатив, была широкая парламентская коалиция, с которой Штреземан в период ее возникновения был на штыках. Три партии, входившие в коалицию, – социал-демократы, христианские демократы и прогрессивные либералы, – представляли ведущие демократические силы в предвоенном рейхстаге. Все три в свое время были заядлыми противниками Бисмарка. Вместе их свели в июне 1917 года под руководством популиста христиан-демократа Маттиаса Эрцбергера катастрофические последствия военной кампании германских подводных лодок против США. Как мы увидим, первое испытание новой политики этих партий состоялось уже зимой 1917/18 года. В то время как Ленин пытался заключить мир, эта коалиция в рейхстаге делала все от нее зависящее, чтобы противостоять оголтелому экспансионизму Людендорфа и сформировать то, что, как они надеялись, станет легитимным, а значит, устойчивым господством на Востоке. Печально известный Брест-Литовский договор сравнивается в настоящей книге с Версальским договором не как акт мщения, а как демонстрация того, что он также оказался «хорошим миром, который обернулся бедой». Споры в Германии вокруг победоносного мирного Брест-Литовского договора как важной увертюры новой эры в мировой политике были характерными в том плане, что почти в равной мере относились и к внутреннему устройству Германии, и к международным отношениям. Именно отказ кайзеровского режима от обещанных реформ внутри страны и от новой жизнеспособной дипломатии подготовил почву для революционных событий осени 1918 года. Как мы увидим, после поражения Германии на Западном фронте большинство в рейхстаге осмелилось не единожды, но трижды в период с ноября 1918 года по сентябрь 1923 года поставить будущее своей страны в зависимость от западных держав. Начиная с 1949 года и до сих пор прямые потомки этого большинства в рейхстаге – Христианско-демократический союз, Социал- демократическая партия (СДП) и Свободная демократическая партия – остаются главной опорой демократии в Федеративной Республике и ее приверженности Европейскому проекту.
В этой взаимосвязи внутренней и внешней политики и в выборе между радикальным бунтом и политикой согласия прослеживается любопытное сходство между положением, сложившимся в Германии и Японии в начале XX века. В 1850 году, когда Японии грозило прямое подчинение иностранному господству и она была вынуждена противостоять России, Британии, Китаю и США как потенциальным противникам, Япония ответила тем, что перехватила инициативу и приступила к выполнению программы реформ внутри страны и начала проводить агрессивную внешнюю политику. Именно высокая эффективность и смелость, проявленные при проведении этого курса, дали основание называть Японию «Пруссией Востока». Но при этом слишком легко забывается, что в качестве противовеса этому курсу всегда выступала другая тенденция: обеспечение безопасности путем подражания, альянсов и сотрудничества – японская традиция новой дипломатии Касумигасэки[56]. Это было сделано сначала путем установления партнерских отношений с Британией в 1902 году, а затем за счет заключения временного стратегического соглашения с США. Одновременно в Японии происходили изменения внутриполитического характера. Соединение демократизации с мирной внешней политикой Японии давалось ничуть не легче, чем любой другой стране. Но и во время, и после Первой мировой войны складывавшаяся в Японии многопартийная политическая система выступала в роли действенного противовеса авторитету военных. Однако именно значение этой взаимосвязи вело к росту ставок. К концу 1920-х годов те, кто выступал за конфронтационный внешнеполитический курс, одновременно требовали революции внутри страны. Именно в 1920-х годах, эпоху Тайсё, была особенно очевидной биполярная природа политики, проводимой в период между войнами. До тех пор, пока западные державы занимали ведущие позиции в мировой экономике и обеспечивали мир в Восточной Азии, преимущество было на стороне японских либералов. Если бы эта военная, экономическая и политическая структура разрушилась, то сторонники империалистической агрессии не преминули бы воспользоваться предоставленной им возможностью.
Такая интерпретация событий показывает, что в противоположность выводам, предлагаемым в модели «темного континента», ужасы Великой войны привели в первую очередь не к двустороннему соперничеству между проектами, которые осуществляли США и СССР в период холодной войны, и не к тому, что сбылись не менее анахроничные прогнозы о трехстороннем противостоянии между американской демократией, фашизмом и коммунизмом. Война привела к тому, что начался многосторонний, полицентричный поиск стратегии умиротворения. И в поиске этих путей все великие державы в своих расчетах ориентировались на один ключевой фактор – Соединенные Штаты. Именно этот конформизм был причиной столь мрачного настроения Гитлера и Троцкого. Оба надеялись на то, что Британская империя все же бросит вызов Соединенным Штатам. Троцкий предвидел новую войну между империалистическими странами[57]. Гитлер в Mein Kampf уже ясно выразил свое желание создать англо-германский союз против Америки и темных сил мирового еврейского заговора[58]. Но, несмотря на шумные заявления правительств консерваторов в 1920-х годах, англо-американская конфронтация не имела больших перспектив. Пойдя на стратегическую уступку чрезвычайной важности, Британия мирно переуступала свое верховенство Соединенным Штатам. Развитие демократии в Британии под давлением лейбористов на правительство лишь усилило этот импульс. Оба кабинета лейбористов, возглавляемых Рамсеем Макдональдом в 1924 году и 1929–1931 годах, были решительно ориентированы на Атлантический союз.
И все же, несмотря на общее согласие, мятежным силам еще предстояло использовать свой шанс, что возвращает нас к основному вопросу, который поставили историки из числа сторонников модели «краха гегемонии». Почему западные державы утратили свое влияние столь необычным образом? В конечном счете ответ следует искать в том, что США оказались не готовы к сотрудничеству с Францией, Британией, Германией и Японией в обеспечении стабильности и жизнеспособности мировой экономики и в создании новых органов коллективной безопасности. Очевидно, что совместное решение этих взаимосвязанных проблем экономики и безопасности требовалось для того, чтобы избежать тупиковой ситуации, сложившейся в век империалистического соперничества. Прошедшим через период жестокости и насилия Франции, Германии, Японии и Британии грозила опасность еще больших разрушений в будущем, и они понимали это. Но не менее очевидным было и то, что только США могли обеспечить новый порядок. Подобный акцент на ответственности Америки указывает не на возврат к упрощенной истории американского изоляционизма, а на необходимость адресовать этот вопрос самим Соединенным Штатам[59]. Чем же можно объяснить нежелание Америки ответить на проблемы, связанные с последствиями Первой мировой войны? Именно в этой точке должен быть завершен синтез моделей «темного континента» и «краха гегемонии». Настоящий синтез требует не только понимания абсолютной новизны проблем мирового господства, вставших перед США после Первой мировой войны, но и того, что другие державы также были заинтересованы в поиске нового порядка, выходящего за рамки империализма. Третьим ключевым моментом оказывается то, что выход Америки на современную арену, который в большинстве работ, посвященных мировой политике XX века, представляется простым и легким, имел точно такой же насильственный, дестабилизирующий и противоречивый характер, как и у любого другого государства мировой системы. И правда, если учесть скрытый раскол внутри бывшего колониального общества, существовавший со времен начала работорговли в атлантическом треугольнике, и то, как этот раскол нарастал в ходе насильственного захвата земель Запада, освоение которых происходило за счет массовой миграции из Европы, зачастую при обстоятельствах, травмирующих людей, вынужденных затем постоянно находится в движении, чтобы не отстать от развития капитализма, то станет ясно, насколько серьезными были проблемы вхождения Америки в современность.
Попытки примирения с этим мучительным опытом XIX столетия привели к возникновению идеологии, ставшей общей для всех, независимо от партийной принадлежности, а именно – идеологии исключительности[60]. В век откровенного национализма речь шла не об уверенности американцев в исключительности судьбы своей страны. В XIX веке ни одна уважающая себя страна не обходилась без ощущения своей провиденциальной миссии. Но примечательно то, в сколь необычной степени укрепился и заявил о себе американский эксепционализм именно в тот момент после окончания Первой мировой войны, когда все остальные крупные державы мира пришли к пониманию взаимосвязанности и взаимозависимости своего положения. Внимательно изучив риторику Вильсона и других американских государственных деятелей того периода, мы увидим, что «главным источником прогрессивного интернационализма… является сам национализм»[61]. Таковым было их понимание богоизбранности Америки и ее роли как образца для подражания, которое они хотели навязать миру. Когда ощущение провиденциальной роли Америки было подкреплено значительной мощью, как это произошло после 1945 года, оно превратилось в подлинно преобразующую силу. В 1918 году основные элементы этой силы уже существовали, но ни администрация Вильсона, ни ее преемники не говорили об этом вслух. И теперь вопрос возвращается уже в новой форме. Почему в начале XX столетия идеология исключительности не была поддержана эффективной масштабной стратегией?
Мы подходим к выводу, навязчиво напоминающему вопрос, который стоит перед нами и сегодня. Стало общепринятым, особенно у европейских историков, описывать начало XX века как период прорыва американской современности на мировую арену[62]. Но, как утверждается в настоящей книге, новизна и динамизм существовали рядом с глубоким непреходящим консерватизмом[63]. Перед лицом истинно радикальных перемен американцы цеплялись за конституцию, которая уже к концу XIX века была самой старой действующей системой республиканских взглядов. Эта конституция, как отмечали многие критики внутри страны, во многом не отвечала требованиям современного мира. При всей сплоченности Америки после Гражданской войны, при всем экономическом потенциале, в начале XX века федеральное правительство США было рудиментарным, конечно в сравнении с «большим правительством», которое после 1945 года столь эффективно выполняло роль столпа мирового господства[64]. После Гражданской войны прогрессивные элементы всех политических окрасок и цветов поставили перед собой задачу построения в Америке более действенного государственного механизма. Безотлагательность решения этой задачи подтверждалась массовыми волнениями, последовавшими за экономическим кризисом 1890-х годов[65]. Было необходимо сделать что-то для защиты Вашингтона от вызывавшего тревогу роста воинственности, угрожавшего не только порядку внутри страны, но и международному положению Америки. Это была одна из основных задач, стоявших как перед администрацией Вильсона, так и перед ее предшественниками-республиканцами в начале XX столетия[66]. Но если Тедди Рузвельт и ему подобные считали военную силу и войну мощными векторами последовательного государственного строительства, Вильсон противился движению по этой избитой тропе Старого Света. Мирная политика, которой он следовал до весны 1917 года, представляла собой отчаянное стремление защитить программу внутренних реформ от яростных политических страстей и изнурительного социального и экономического гнета войны. Но все было напрасно. Провальное завершение второго президентского срока Вильсона в 1919–1921 годах свидетельствовало о неудаче первой из предпринятых в XX веке серьезных попыток преобразования федерального правительства США. Это повлекло за собой не только крах Версальского мирного договора, но и невиданный ранее экономический шок – мировую депрессию 1920-х годов, наверное, самое недооцененное событие в истории XX столетия.
Если мы будем помнить об этих структурных особенностях американской конституции и политической экономии, то идеология эксепционализма предстанет пред нами в более выгодном свете. При всей пышности речей об исключительных достоинствах и провиденциальной важности американской истории эта идеология несла в себе мудрость Бёрка, глубоко укоренившееся в американском политическом классе понимание существенного несоответствия беспрецедентных вызовов на международной арене начала XX века и весьма ограниченных возможностей государства, во главе которого этот класс стоял. Идеология исключительности несла в себе память о том, что совсем недавно страну разрывала на части гражданская война, о том, насколько разнороден ее этнический и культурный состав и с какой легкостью наследственная слабость республиканской конституции может вылиться в застой или в полномасштабный кризис. За желанием держаться подальше от разрушительных сил, вырвавшихся на свободу в Европе и Азии, скрывалось понимание ограниченных возможностей государственного устройства Америки, несмотря на ее сказочные богатства[67]. При всей своей устремленности вперед, прогрессисты поколения Вильсона и Гувера были глубоко убеждены в необходимости не радикального расширения этих возможностей, а сохранения преемственности истории Америки и согласования ее с новым порядком, зарождавшимся в стране с окончанием гражданской войны. В этом и заключается главная ирония начального периода XX века. В самом центре стремительно развивающейся, ориентированной на Америку мировой системы действовало государственное устройство, основанное на консервативном понимании собственного будущего. Не случайно Вильсон описывал свою задачу, используя терминологию защиты, когда говорил о необходимости обезопасить мир для демократии. Не случайно определяющим девизом 1920-х годов была «нормальность». Давление, которое такая ситуация оказывала на тех, кто хотел сделать свой вклад в проект «мировой организации», красной нитью проходит через настоящую книгу. Эта нить соединяет момент в январе 1917 года, когда Вильсон пытался положить конец самой разрушительной войне, которая когда-либо велась и завершилась миром без победы, с пропастью Великой депрессии, разразившейся спустя 14 лет, когда всепоглощающий кризис начала XX века настиг свою последнюю жертву – Соединенные Штаты.
Бурные кровавые события, описанные на страницах настоящей книги, перевернули славную историю событий, происходивших в XIX веке в различных странах, с ног на голову. Смерть и разрушение разбили сердца всех оптимистично настроенных философов-викторианцев в истории: либералов, консерваторов, националистов и даже марксистов. Но какие выводы можно извлечь из этой катастрофы? Для одних она знаменовала собой конец какого-либо смысла истории, крушение всех идей прогресса. Это можно было либо воспринимать с фатализмом, либо считать лицензией на спонтанные действия любого рода. Другие приходили к более трезвым заключениям. Развитие имело место (может быть, даже прогресс, при всей его противоречивости), но оно оказалось более сложным, носило характер более насильственный, чем кто-либо ожидал. Вместо аккуратной сцены, спроектированной теоретиками XIX века, история обрела форму, которую Троцкий назовет «неравномерным и сложным развитием», неясной связью событий, действующих лиц и процессов, развивающихся с различной скоростью, где направления движения каждого из них связаны друг с другом загадочным образом»[68]. «Неравномерное и сложное развитие» – не очень элегантное выражение. Но оно вполне соответствует истории, о которой мы говорим, – как международных отношений, так и взаимосвязанного политического развития различных стран, расположившихся по всему Северному полушарию, от Соединенных Штатов до Китая через Евразию. Для Троцкого это выражение определяло метод и исторического анализа, и политического действия. В нем выражена его стойкая убежденность в том, что, хотя история и не дает никаких гарантий, она не лишена логики. Успех зависит от остроты исторического интеллекта человека, позволяющего ему разглядеть уникальный момент и воспользоваться его возможностями. Аналогичным образом Ленин считал ключевой задачей теоретика революции выявление и нанесение удара по наиболее слабым звеньям в «цепи» империалистических держав[69].
Писавший в 1960-х годах политолог Стенли Хоффманн, встав на позиции не революционеров, а правительств, предложил скорее более графический образ «неравномерного и сложного развития». Он описал державы, большие и малые, как членов «бандитской цепочки», коллектива, скованного одной цепью и рыскающего в разных направлениях[70]. Заключенные обладали различным телосложением. Некоторые были более других склонны к насилию. Одни были целеустремленными. В других уживались различные черты характера. Каждый из них боролся с собой и с другими. Каждый мог пытаться доминировать во всей этой цепочке либо сотрудничать с другими. Каждый из них был самостоятельным настолько, насколько это позволяла длина цепи, но в конечном счете они были скованы друг с другом. Какой бы из этих образов мы ни выбрали, смысл останется тем же. Столь взаимосвязанную динамичную систему можно понять, лишь изучая систему в целом, отслеживая ее движение во времени. Для того чтобы понять ее развитие, необходимо дать ее описание. В этом и состоит задача настоящей книги.
Часть I
Евразийский кризис
1
Война на чаше весов
Из окопов Западного фронта Великая война могла показаться позиционной – бои развертывались на линии, протяженностью в несколько миль, а потери исчислялись сотнями тысяч жизней. Но эта перспектива была обманчивой[71]. На Восточном фронте и в войне против Османской империи линия фронта постоянно изменялась. На Западе линия фронта едва двигалась, но это затишье было результатом сосредоточения значительных сил, находящихся в опасном равновесии. Месяц за месяцем инициатива переходила от одной стороны к другой. В наступившем 1916 году страны Антанты планировали разгромить Центральные державы путем концентрических наступательных операций, выполнение которых возлагалось последовательно на французскую, британскую, итальянскую и русскую армии. 21 февраля, не дожидаясь наступления противника, германская армия перехватила инициативу и перешла в наступление под Верденом. Нанося удар по ключевой точке в цепи французских укреплений, немцы рассчитывали насмерть обескровить силы Антанты. К началу лета в битве не на жизнь, а на смерть было уничтожено более 70 % французской армии, что грозило превратить стратегию направленных концентрических наступательных операций Антанты в нечто немногим большее, чем серия экстренных спасательных акций. В мае 1916 года, для того чтобы вернуть инициативу, Британия согласилась провести свое первое крупное наземное наступление в этой войне в районе реки Сомы.
Пока военные, выбиваясь из последних сил, вели боевые действия, дипломаты срочно изыскивали способы втянуть в водоворот событий все новые страны. В 1914 году Австрия и Германия привлекли на свою сторону Болгарию и Османскую империю. В 1915 году Италия выступила на стороне сил Антанты.
Япония вступила в войну в 1914 году, захватив концессии Германии в китайском Шаньдуне. К концу 1916 года Британия и Франция привлекли японский флот, базировавшийся в Тихом океане, к участию в эскорте, защищавшим Восточное Средиземноморье от австрийских и германских подводных лодок. Огромные суммы наличными и все возможные способы дипломатического давления были использованы для того, чтобы воздействовать на последнюю европейскую страну, сохранявшую нейтралитет, – Румынию. Если бы она перешла в лагерь Антанты, то превратилась бы в смертельную угрозу мягкому подбрюшью австро-венгерской монархии. Но в 1916 году существовала одна-единственная сила, которая действительно могла изменить военный баланс, – Соединенные Штаты. Позиция США была решающей с экономической, военной и политической точек зрения. Лишь в 1893 году Британия сочла возможным поднять уровень своего представительства в столице Америки до статуса полноценного посольства. Теперь, менее чем одно поколение спустя, история Европы, похоже, зависела от того, какую позицию по отношению к войне займет Вашингтон.
I
Стратегический успех Антанты зависел от сочетания серии сокрушительных концентрических наступательных операций и медленного экономического удушения Центральных держав. Перед войной британское адмиралтейство разработало планы не только морской блокады, но и финансового бойкота, целью которого было разрушение всей торговли в Центральной Европе. Но в августе 1914 года, столкнувшись с резкими протестами Америки, оно отказалось от полного осуществления этих планов[72]. Ситуация зашла в тупик. Британия и Франция пошли на компромисс, сократив использование своего самого грозного оружия на море. Но блокада, даже частичная, была очень непопулярна в Соединенных Штатах. Американский флот считал начатую Британией блокаду «не отвечающей ни одному закону или обычаю морской войны, известным до сих пор…»[73] Реакция Германии несла в себе еще больший политический заряд. В феврале 1915 года, стремясь изменить обстановку в свою пользу, Кригсмарине (Kriegsmarine), Военно-морской флот Третьего рейха впервые направил свои подводные лодки для совершения массированных атак на маршрутах трансатлантических перевозок. Они топили почти два судна ежедневно и в среднем 100 тысяч тонн грузов в месяц. Но транспортный ресурс Великобритании был велик, а продолжение подобных атак могло привести к тому, что в войну была бы втянута Америка. К общеизвестным потерям можно отнести лишь «Лузитанию» и «Арабику», потопленные соответственно в мае и в августе 1915 года. Стремясь избежать дальнейшей эскалации, гражданское правительство кайзера в конце августа пошло на попятную. При поддержке Партии католического Центра, прогрессивных либералов и социал-демократов рейхсканцлер Бетман Гольвег отдал приказ, запрещавший проведение подводных атак. Антанта не могла должным образом обеспечить блокаду, опасаясь протестов со стороны Америки. По той же причине не состоялся встречный удар со стороны Германии. Вместо этого весной 1916 года германский флот попытался разрешить тупиковую ситуацию на море, заманив большой британский флот в ловушку в Северном море. 31 мая 1916 года в самом крупном морском сражении за всю историю войны, состоявшемся недалеко от берегов Ютландии, столкнулись 33 британских и 27 германских линейных кораблей. Окончательного результата добиться не удалось. Обе эскадры вернулись на свои базы, где и оставались, молча грозя своей мощью из-за кулис театра военных действий.
Летом 1916 года Антанта пыталась вернуть себе инициативу на Западном фронте, но политика блокады на Атлантическом океане оставалась нерешительной. Когда Франция и Британия решили усилить хватку, составив «черный список» американских фирм, которых они обвинили в «торговле с врагом», президент Вильсон с трудом сдержал свой гнев[74]. Это было «последней каплей», признавался Вильсон своему ближайшему советнику, учтивому техасцу полковнику Хаузу: «Должен признаться, что мое терпение с Великобританией и союзниками подходит к концу»[75]. И Вильсон не ограничивался увещеваниями. Американская армия, может, и была немногочисленной, но уже в 1914 году американский флот был силой, с которой приходилось считаться. Это был четвертый флот мира, который, в отличие от японского и германского флотов, мог действительно гордиться сражением с Королевским военно-морским флотом Великобритании в 1812 году. Последователям адмирала Мэхэна, великого американского теоретика военно-морских сил времен «позолоченного века», война дала бесценную возможность превзойти европейцев в строительстве флота и установить безоговорочный контроль на океанских просторах. В феврале 1916 года президент Вильсон согласился с их требованиями и начал кампанию за получение согласия Конгресса на создание, как он хвастливо заявлял, «величайшего флота во всем мире»[76]. Спустя шесть месяцев, 29 августа 1916 года Вильсон подписал самый масштабный план развития военно-морских сил в американской истории, утвердив ассигнования в размере почти 500 млн долларов в течение трех лет на строительство 157 новых судов, включая 16 линейных кораблей. Менее масштабным, но имевшим в конечном счете не менее важные последствия событием было учреждение в июне 1916 года Emergency Fleet Corporation, уполномоченной руководить строительством торгового флота, который не должен был уступать торговому флоту Британии[77].
В сентябре 1916 года при обсуждении с полковником Хаузом возможных последствий американской военно-морской экспансии для англо-американских отношений позиция Вильсона была определенной: «Мы построим флот больше, чем у них, и будем делать все, что пожелаем»[78]. Это угроза была столь зловещей для Британии потому, что, однажды поднявшись, США, в отличие от имперской Германии или Японии, определенно располагали средствами для того, чтобы воспользоваться этим. В течение пяти лет Америка будет признана как равная Британии морская держава. Таким образом, в 1916 году с точки зрения Британии война обрела новый существенный аспект. С начала XX века главной стратегической задачей империи было сдерживание Японии, России и Германии. Начиная с августа 1914 года единственное, что имело значение, был разгром Германии и ее союзников. В 1916 году очевидное желание Вильсона построить военно-морские силы, равные британским, было пугающим. Даже в лучшие времена вызов со стороны США вызывал чувство страха. А в условиях Великой войны он грозил ужасающими перспективами. Американские амбиции на море были не единственным серьезным вызовом, с которым европейцы столкнулись в 1916 году[79]. Рост экономической мощи Америки был очевиден начиная с 1890-х годов, но именно война Антанты с Центральными державами привела к тому что финансовый центр неожиданно переместился на другую сторону Атлантики[80]. Это привело не только к смене географического положения финансового лидера, но и к изменению самого значения лидерства.
Все основные воюющие европейские страны вступали в войну, обладая по современным стандартам необычайно прочным финансовым положением, значительными государственными средствами и крупными портфелями иностранных инвестиций. В 1914 году целую треть богатств Британии составляли частные инвестиции за рубежом. С началом войны мобилизация этих внутренних и находящихся в имперских владениях ресурсов была дополнена масштабными трансатлантическими финансовыми операциями. В этом участвовали все европейские правительства, но прежде всего именно Британия выступала на мировой арене в новом качестве. До 1914 года, в Эдвардианскую эпоху крупных финансовых операций, ведущая роль Лондона была общепризнанной. Но международные финансы были частным бизнесом. Дирижер, управлявший оркестром золотого стандарта, – Банк Англии представлял собой не государственное учреждение, а частную корпорацию. Если британское правительство и присутствовало в сфере международных финансов, то его влияние было незначительным и имело косвенный характер. Министерство финансов Соединенного Королевства оставалось на заднем плане. В чрезвычайных обстоятельствах войны эти невидимые и неформальные потоки денег и влияния довольно неожиданно потребовали значительно более конкретного и открытого политического руководства. С октября 1914 года правительства Британии и Франции положили на чашу весов сотни миллионов фунтов стерлингов в виде правительственных займов, предназначенных на поддержание «русского парового катка», которому предстояло разгромить Центральные державы на Востоке[81]. После Болонских соглашений августа 1915 года золотые резервы всех трех главных членов Антанты были объединены и использованы для поддержания курса фунта стерлингов и франка в Нью-Йорке[82]. Британия и Франция, в свою очередь, взяли на себя ответственность за проведение переговоров о получении займов от имени Антанты в целом. К августу 1916 года после ужасающих потерь в битве при Вердене кредит Франции упал до столь низкого уровня, что брать на себя ответственность за все операции в Нью-Йорке пришлось Лондону[83]. В Европе была создана новая сеть политического кредитования с центром в Лондоне. Но это была лишь часть операции.
С бухгалтерской точки зрения финансирование участия в войне стран Антанты требовало перегруппировки активов этих стран и их долговых обязательств[84]. Для обеспечения залоговых обязательств министерство финансов Соединенного Королевства организовало схему принудительного приобретения частными холдингами первоклассных ценных бумаг банков Северной и Латинской Америки, которые обменивались на выпущенные в Соединенном Королевстве правительственные облигации. Иностранные активы, попав в руки министерства финансов, использовались для обеспечения гарантий по многомиллиардным заимствованиям Антанты на Уолл-стрит. Обязательства перед Америкой, которые брало на себя министерство финансов Великобритании, уравновешивались в ее национальном балансе многочисленными новыми требованиями к правительствам России и Франции. Но нельзя недооценивать исторического значения этих перемен и крайнюю ненадежность возникшей финансовой архитектуры, представляя эту гигантскую мобилизацию как простую переориентацию действующей сети. После 1915 года военные заимствования Антанты привели к тому, что политическая геометрия системы финансов эдвардианского периода оказалась перевернутой с ног на голову.
До войны частные кредиторы в Лондоне и Париже, богатая верхушка имперской Европы, выдавали миллиардные кредиты частным и государственным заемщикам из стран, расположенных на периферии[85]. Начиная с 1915 года, когда источник кредитования переместился на Уолл-стрит, исчезли представители железных дорог России и разработчики алмазных месторождений в Южной Африке, ранее выстраивавшиеся в очередь за кредитами. Самые мощные европейские государства теперь занимали средства у частных граждан в США, да, впрочем, у любого другого, кто мог предоставить кредит. Выдача подобных займов частными инвесторами одной богатой страны правительствам других богатых развитых стран в валюте, которую правительство страны-заемщика не контролирует, не была похожа ни на что, происходившее в период расцвета поздней викторианской глобализации. Как показала гиперинфляция после Первой мировой войны, правительство, которое ранее брало займы в собственной валюте, попросту печатало деньги, необходимые для покрытия долга. Поток свежеотпечатанных банкнот размывал реальную стоимость военного долга. Для Британии и Франции, бравших займы на Уолл-стрит в долларах, дело обстояло иначе. Наиболее влиятельные государства Европы попали в зависимость от иностранных кредиторов. Эти кредиторы, в свою очередь, были уверены в Антанте. К концу 1916 года американские инвесторы поставили на победу Антанты 2 млрд долларов. В 1915 году, после того как Лондон взял на себя ответственность за займы, трансатлантические операции осуществлялись через единственный частный банк – влиятельный на Уолл-стрите Дом Дж. П. Моргана, имевший давние исторические связи в лондонском Сити[86]. Разумеется, это был бизнес. Но для Моргана эта операция была связана с откровенной антигерманской и проантантовской позицией и означала поддержку наиболее открытых критиков президента Вильсона в самих Соединенных Штатах и тех республиканцев, которые выступали за вступление Америки в войну. В результате на международном уровне возникло весьма редкое сочетание государственных и частных сил. Летом 1916 года, во время проведения крупномасштабной наступательной операции на Сомме, Дж. П. Морган, по поручению правительства Великобритании, израсходовал в Америке более миллиарда долларов, что составило не менее 45 % военных расходов Великобритании в те решающие месяцы[87]. В 1916 году отдел закупок банка занимался выполнением контрактов стран Антанты, стоимость которых превышала стоимость всего экспорта США за несколько предвоенных лет. Антанта, используя личные деловые контакты Дж. П. Моргана и при поддержке деловой и политической элиты северо-востока США, мобилизовала значительную часть американской экономики, совершенно не нуждаясь в согласии администрации президента Вильсона. Потенциально зависимость Антанты от американских займов давала американскому президенту мощные рычаги воздействия на ход военных действий. Но мог ли Вильсон действительно воспользоваться этой возможностью? Не была ли Уолл-стрит слишком независима? Могло ли федеральное правительство контролировать деятельность Дж. П. Моргана?
В 1916 году вопрос военных финансов и отношений между США и Антантой увяз в острых дебатах, продолжавшихся уже на протяжении жизни более чем одного поколения, об управлении капитализмом в Америке. В 1912 году, 40 лет спустя после возврата США к золотому стандарту, действие которого было прервано Гражданской войной, в стране все еще не существовало аналога Банка Англии, Банка Франции или Рейхсбанка[88]. Уолл-стрит уже продолжительное время лоббировала создание центрального банка, который выступал бы в качестве кредитора последней инстанции. Но интересы банкиров остались далеки от удовлетворения, когда в 1913 году Вильсон подписал законопроект о создании Федеральной резервной системы (ФРС) США. С точки зрения интересов Уолл-стрит, в частности Дж. П. Моргана, ФРС, созданная по инициативе Вильсона, была чрезмерно политизирована[89]. В сравнении с принадлежащим частным лицам Банком Англии ФРС не была действительно «независимым» институтом. В 1914 году, с началом войны в Европе, новая система прошла первую проверку. ФРС и министерство финансов провели интервенцию в целях предотвращения закрытия европейских финансовых рынков, которое привело бы к коллапсу на Уолл-стрит[90]. Между 1915 и 1916 годами американская экономика росла на волне вызванного экспортом промышленного бума. Для того чтобы удовлетворить европейский спрос на военные поставки, промышленные города Северо-Востока и района Великих озер без разбора нанимали рабочих и привлекали все виды инвестиций со всех концов страны. И это лишь усиливало давление на Вильсона. Бесконтрольное усиление такого бума вело к тому, что американские капиталовложения в Антанту вскоре стали бы слишком большими, чтобы позволить Антанте проиграть войну. А тогда американское правительство фактически теряло свободу маневра, которая сулила ему такую власть в 1916 году.
А могли ли страны Антанты, в свою очередь, избрать другой путь, чтобы в меньшей степени зависеть от ресурсов США? В конце концов, Германия вела войну, не получая столь щедрых даров[91]. Это сравнение наглядно демонстрирует, насколько важную роль играл американский импорт (табл. 1). Летом 1916 года, после изнурительных боев при Вердене и на Сомме, Германия продолжала оборонительную войну на западном фронте еще в течение почти двух лет. Центральные державы ограничивались менее затратными операциями на Восточном и итальянском фронтах. В то же время блокада тяжело сказывалась на положении гражданского населения Центральных держав. С зимы 1916/17 года жители городов Германии и Австрии начали понемногу голодать. Обеспечение поставок продовольствия и угля в тыл было не побочным моментом в Первой мировой войне, а важнейшим фактором, определявшим окончательный исход событий[92]. Для того чтобы экономическое давление оказало воздействие, требовалось время, но в конечном счете оно было решающим.
Таблица 1. Что покупали за доллары: доля закупок Соединенным Королевством материалов оборонного значения за рубежом, 1914–1918 гг., %
Когда весной 1918 года Германия начала свою последнюю крупную наступательную операцию, значительная часть армии кайзера была слишком ослаблена голодом, для того чтобы продолжать наступление в течение длительного времени. В противоположность этому неослабевающая наступательная энергия Антанты в 1917 году – французское наступление в Шампани в апреле, наступление армии Керенского на востоке в июле, наступление британской армии во Фландрии в июле и последнее стремительное наступление летом и осенью 1918 года – была бы невозможна ни с военной, ни с политической точки зрения без поддержки Северной Америки. В Лондоне по меньшей мере до конца 1916 года звучали голоса, призывающие избавить Британию от зависимости от американских займов. Но тем самым они призывали к переговорам о заключении мира. Эти голоса затихли с созданием в декабре 1916 года коалиционного правительства Ллойда Джорджа, которое хранило верность идее нанесения «нокаутирующего удара». Никто и не задумывался всерьез о возможности продолжения полномасштабной войны без поставок и кредитов из Соединенных Штатов. После 1916 года, когда союзники получили первый миллиард долларов в виде кредита на проведение первой операции, направленной на то, чтобы сокрушить Центральные державы в ходе концентрических наступлений, движение пошло по нарастающей. При планировании всех последующих наступательных действий подразумевалось, что они будут обеспечены значительными поставками из-за океана. И это лишь усиливало зависимость. По мере того как миллиарды накапливались, расходы по обслуживанию текущих долгов и стремление избежать унизительного дефолта становились главной заботой как во время самой войны, так и в еще большей степени после ее окончания.
II
В любом случае трансатлантическая борьба, определявшая дальнейший ход войны, никогда не носила только экономический или военный характер. Она всегда оставалась в высшей степени политической. Готовность продолжать войну зависела от политики, а это тоже было вопросом трансатлантического значения. Но тут аргументация была далеко не столь ясной, как в случае с экономической и военно-морской мощью. Имеющаяся у нас картина политических взаимоотношений между США и Европой в начале XX века строится главным образом на более позднем опыте Второй мировой войны. В 1945 году сытые, уверенные в себе «джи-ай» появились в Европе посреди военной разрухи и диктатуры как предвестники процветания и демократии. Но проецировать подобный образ Америки, представляющий собой заманчивый синтез капиталистического процветания и демократии, на начало XX века следует с осторожностью. Скорость, с которой Соединенные Штаты заявили о своем исключительном политическом господстве, была столь же неожиданной, как и возникновение их военно-морской и финансовой мощи. Она была обусловлена самой Великой войной.
Неудивительно, что на фоне ужасной Гражданской войны американский демократический эксперимент в течение полувека, отделявшего 1865 год от событий 1914 года, воспринимался со смешанными чувствами[93]. Разрабатывая конституцию, недавно воссоединившиеся Италия и Германия не черпали вдохновения в примере Америки. У обеих стран имелись собственные традиции конституционализма. Для итальянских либералов образцом была Британия. Моделью новой конституции Японии 1880-х годов была своеобразная смесь европейских влияний[94]. В период расцвета деятельности Гладстона и Дизраэли даже в Соединенных Штатах первое поколение политологов, среди которых был и юный Вудро Вильсон, обращались через Атлантику к вестминстерской модели[95]. Конечно, у юнионистов был свой героический эпос, где в качестве великого трибуна выступал Авраам Линкольн. Но лишь после того, как прошел шок Гражданской войны, новое поколение американских интеллектуалов смогло прийти к новому, примиряющему все стороны пониманию национальной истории. После определения западных границ континент объединился. Испано-американская война 1898 года и покорение Филиппин в 1902 году добавили Америке самодовольной уверенности. Промышленность США развивалась небывалыми темпами. Экспорт американской сельскохозяйственной продукции вел к ее изобилию в мире. Но в среде прогрессивных реформаторов «позолоченного века» собственный образ Америки был полон противоречий. Америка выступала символом коррупции, злоупотреблений и алчности политиков, равно как роста, производства и прибыли. Американские специалисты ехали в города имперской Германии в поисках моделей современного управления, а не наоборот[96]. В 1901 году, оглядываясь назад, Вильсон сам отмечал, что, хотя «девятнадцатый век» являлся «в отличие от всех других, веком демократии, мир…» был «убежден в преимуществах демократии как формы правления в конце этого века не больше, чем в его начале.» Стабильность демократических республик оставалась под вопросом. И хотя Содружество, «возникшее в Англии», считалось очень успешным, сам Вильсон соглашался с тем, что «история Соединенных Штатов… не подтверждает существования тенденции к созданию справедливого, либерального и безупречного правительства»[97]. Американцы могли доверять собственной системе, но им еще многое предстояло доказать остальному миру.
Не следует считать, что с началом войны стороны немедленно поменялись ролями. До тех пор пока число убитых не достигло неприемлемых величин, в европейских воюющих странах всеобщая мобилизация августа 1914 года воспринималась как чудесное подтверждение национальной сплоченности[98]. Ни одна из воюющих сторон не была развитой демократией в том смысле, как это понималось в конце XX века, но они не были старорежимными монархиями или тоталитарными диктатурами. Война была поддержана если и не патриотическим экстазом, то по меньшей мере необыкновенно широким консенсусом. В участвовавших в войне Британии, Франции, Италии, Японии, Германии и Болгарии действовали парламенты. В 1917 году в Вене вновь приступил к работе австрийский парламент. Даже в России ранний всплеск патриотического энтузиазма 1914 года привел к возрождению Думы. По обеим сторонам линии фронта главной мотивацией солдат была защита системы прав, собственности и национальной идентичности, с которой они себя в полной мере отождествляли. Французы воевали, защищая республику от исторического врага. Британцы записывались в добровольцы, чтобы внести свой вклад в защиту мировой цивилизации и устранить германскую угрозу. Немцы и австрийцы воевали, защищаясь от ненавидящих их французов, предавших их итальянцев, самонадеянных притязаний британского империализма и более всего от царской России. И хотя открытые призывы к мятежу подавлялись, а забастовщики оказывались в тюрьме или на опасных участках фронта, открытые разговоры о мирных переговорах становились обычным явлением, что было бы немыслимо по любую сторону фронта на поздних этапах Второй мировой войны.
Когда в декабре 1916 года премьер-министр Ллойд Джордж произвел перестановки в правительстве, это было сделано специально для того, чтобы подтвердить конечную цель – нанесение «нокаутирующего удара» по Германии, вопреки все более громким призывам к мирному соглашению. Тори претендовали на большинство важных мест в кабинете, но сам премьер-министр, будучи радикальным либералом, инстинктивно понимал массовые настроения. Еще в мае 1915 года его предшественник Асквит ввел тред-юнионистов в состав британского правительства. В начале XX века политическая палитра стран Европы была более разнообразной, чем ее обычно представляют. Во Франции социалисты были неотъемлемой частью Union Sacreé, широкого межпартийного альянса, существовавшего в Республике в течение первых двух лет войны. Даже в Германии, где правительство оставалось в руках назначенцев кайзера, социал-демократы представляли самую крупную партию в рейхстаге. После августа 1914 года рейхсканцлер Бетманн Гольвег регулярно проводил с ними консультации. Осенью 1916 года, полностью переводя экономику на военные рельсы, генералы Гинденбург и Людендорф заручились общей поддержкой профсоюзов.
Реакцией американцев из числа сторонников Тедди Рузвельта на столь впечатляющую мобилизацию в Европе стало не ощущение собственного превосходства, а чувство благоговейного восхищения[99]. Как говорил Рузвельт в январе 1915 года, война может быть «ужасной и губительной, но она также благородна и возвышена». Американцы не должны смотреть на нее с «позиции добродетельного превосходства». Им также не следует ожидать, что европейцы станут воспринимать американцев «как образец морали», если те будут «…сидеть, ничего не делая, произносить дешевые пошлости и развивать свою торговлю, в то время как они проливают свою кровь за идеалы, в которые они верят всем сердцем, всей душой»[100]. Рузвельт считал, что если Америке придется доказывать свою легитимность как великой державы, то она должна доказать ее в такой же борьбе, используя свой вес для поддержки Антанты. Но, к величайшему разочарованию Рузвельта, в Америке сторонники войны оставались в меньшинстве даже после того, как в мае 1915 года была потоплена «Лузитания». Миллионы американских немцев выбрали для себя нейтральную позицию, как и многие американские ирландцы. На американских евреев пришлось сильно надавить, чтобы убедить их воздержаться от празднования вступления германской имперской армии в российскую часть Польши в 1915 году, принесшего долгожданное освобождение от царского антисемитизма. Войну не поддерживали ни участники американского рабочего движения, ни остатки массового движения аграриев, выступавших за Вильсона в ходе президентских выборов 1912 года. Первым государственным секретарем при Вильсоне был никто иной, как Уильям Дженнингс Брайан, фундаменталист-евангелист, пацифист и радикал, протестовавший в 1890-х годах против золотого стандарта. Он с большим подозрением относился к Уолл-стрит и ее связям с европейским империализмом. С приближением июльского кризиса 1914 года Брайан отправился в поездку по Европе, где подписал ряд соглашений о посредничестве, которые позволяли Америке избежать вовлечения в войну. Когда война разразилась, он выступал за полнейший бойкот частных заимствований любой из сторон. Вильсон отменил это решение, и в июне 1915 года, после того как была потоплена «Лузитания», Брайан подал в отставку в знак протеста – когда Вильсон пригрозил Германии враждебными действиями, если та не прекратит атаки своих подводных лодок. Самого Вильсона при этом можно считать кем угодно, но только не сторонником вмешательства США в войну.
Вудро Вильсон, до того как стал знаменитым на весь мир либералом-интернационалистом, получил известность как один из видных бардов американской истории[101]. Профессор Принстонского университета и автор бестселлеров по популярной истории, он стремился к тому, чтобы американский народ, все еще не остывший от Гражданской войны, примирился со своим полным жестокости прошлым. Одним из самых ранних детских воспоминаний Вильсона были сообщение об избрании Линкольна и слухи о надвигающейся гражданской войне. Вильсон, росший в 1860-х годах в г. Огасте, расположенном в штате Джорджия, который во время своей встречи в Версале с Ллойдом Джорджем он описывал как «покоренную и опустошенную страну», ощутил на себе, оказавшись на стороне побежденных, горькие последствия справедливой войны, в которой борьба велась до конца[102]. С тех пор он с глубоким подозрением относился к любой воинственной риторике. Вильсона пугала не просто гражданская война. Мир, если его можно было так назвать, последовавший за ней, принес еще больше страданий. В течение всей своей жизни он осуждал последовавший период Реконструкции, попытки Севера установить на Юге новый порядок с предоставлением избирательных прав освобожденному чернокожему населению[103]. По мнению Вильсона, потребовалась жизнь более чем одного поколения, прежде чем Америка сумела восстановиться. Лишь в 1890-х годах было достигнуто нечто похожее на примирение.
Для Вильсона, как и для Рузвельта, война была проверкой новой уверенности Америки в себе и своих силах. Рузвельт хотел доказать зрелость Соединенных Штатов, в то время как Вильсон видел в войне, разгоревшейся в Европе, вызов моральному равновесию и самообладанию американского народа. То, что Америка не дает втянуть себя в войну, означало, что американская демократия подтверждает новую зрелость народа, его иммунитет к провокационной риторике военного времени, принесшей столько вреда 50 лет назад. Но этот упор на самообладание не должен восприниматься как скромность. Там, где принадлежавшие к лагерю Рузвельта сторонники вмешательства страны в войну стремились просто к равенству – к тому, чтобы Америку считали полноценной великой державой, – Вильсон ставил задачу достижения абсолютного превосходства. Такая концепция не означала отказа от «жесткой силы». В 1898 году Вильсон с волнением следил за ходом испано-американской войны. Его программа развития военно-морских сил и призывы к захвату Америкой Карибского бассейна носили более агрессивный характер, чем то, что предлагалось его предшественниками. Вильсон не остановился перед тем, чтобы в 1915 и 1916 годах в целях обеспечения безопасности Панамского канала отдать приказ об оккупации Доминиканской Республики и Гаити и о вторжении в Мексику[104]. Но благодаря тому, что Бог щедро наделил Америку, ей не требовалось завоевывать обширные территории. Потребности экономики страны были сформулированы при смене столетий в политике «открытых дверей». США не испытывали нужды в обладании новыми территориями, но американские товары и капиталы должны были свободно перемещаться по всему миру, пересекая границы любых империй. Тем временем, укрывшись несокрушимым военно-морским щитом, США будут распространять свое моральное и политическое влияние, которому никто не сможет противостоять.
Для Вильсона война была знаком «Божественного провидения», которое давало США «возможность, которая столь редко бывает ниспосланной какому-либо народу, возможность наставлять мир и добиваться мира во всем мире…» – на собственных условиях. Мир на условиях США означал установление вечного «величия» США как «настоящего лидера мира и согласия»[105]. Дважды, в 1915 и 1916 годах, полковник Хауз отправлялся в вояж по столицам Европы с предложением посредничества, но ни одна из сторон не высказала своей заинтересованности в нем. 27 мая 1916 года, всего лишь за несколько недель до того, как британцы начали финансируемую Уолл-стрит наступательную операцию на Сомме, Вильсон изложил свою концепцию нового порядка в речи перед участниками собрания «Лиги принуждения к миру», состоявшемся в вашингтонском отеле New Willard[106]. Соглашаясь с интернационалистами-республиканцами, организаторами этого собрания, Вильсон заявил о своем желании видеть Соединенные Штаты участниками любой «возможной ассоциации народов», которая была бы готова гарантировать мир в будущем. В качестве двуединой основы такого нового порядка он выдвинул свободу морей и ограничение вооружений. От большинства других соперников-республиканцев Вильсон отличался своей концепцией роли Америки в новом мировом порядке, сочетавшейся с ясным отказом от поддержки одной из сторон в текущей войне. Такая поддержка лишала бы Америку права претендовать на абсолютное превосходство. Америка, заявил Вильсон, непричастна к «причинам войны и ее целям»[107]. На публике он просто ограничивался замечаниями о более «глубоких» и «скрытых» причинах войны[108]. В частной беседе со своим послом в Британии, Уолтером Хайнсом Пэйджем, Вильсон был более открытым. Действия кайзеровских подводных лодок возмутительны. Но британская «абсолютизация роли военно-морских сил» представляется не меньшим злом и значительно более важным стратегическим вызовом Соединенным Штатам. Жестокая война, считал Вильсон, была не кампанией либералов против агрессии Германии, но «ссорой, направленной на решение экономического спора между Германией и Англией». Как пишет в своих дневниках Пэйдж, в августе 1916 года Вильсон «говорил о том, что Англия владеет землей, а Германия стремится заполучить ее»[109].
Даже если бы 1916 год не был годом выборов, а Морган не был наиболее видным сторонником республиканской партии, задействование значительной части американской экономики в интересах Антанты по требованию пробритански настроенных банкиров представляло собой дерзкий вызов администрации Вильсона. По мере того как избирательная кампания приближалась к завершению, напряженность внутри Соединенных Штатов, вызванная военным бумом, достигла опасного уровня. С августа 1914 года значительное увеличение экспорта за счет кредитов привело к росту стоимости жизни. Хваленая покупательная способность заработной платы американцев таяла на глазах[110]. Спекуляции бизнесменов на войне оплачивались американскими рабочими. Летом Вильсон утвердил меры по налогообложению экспорта в Европу, предложенные популистским крылом в Конгрессе. В последних числах августа 1916 года, в ответ на угрозу всеобщей забастовки на железных дорогах, он выступил в поддержку профсоюзов, вынудив Конгресс согласиться с восьмичасовым рабочим днем[111]. Крупный американский бизнес реагировал на это невиданной ранее поддержкой избирательной президентской кампании республиканцев. Демократы, в свою очередь, заклеймили позором республиканца Чарльза Хью как «кандидата партии войны», стоящего на службе спекулянтов с Уолл-стрит. После этой скандальной кампании, вызвавшей самую высокую явку избирателей за всю политическую историю Америки, то, как Вильсон победил на выборах, мало способствовало уменьшению явной ангажированности. Хотя Вильсон пользовался поддержкой значительного большинства населения, в коллегии выборщиков он выиграл лишь благодаря голосам, отданным за него в Калифорнии с преимуществом всего в 3755 голосов. Таким образом, Вильсон стал первым с 1830 года президентом-демократом, избранным на второй срок, после Эндрю Джексона. Что касается Антанты и ее сторонников в Америке, то на них этот результат произвел отрезвляющий эффект. Значительная часть американского общества заявила о своем желании оставаться вне конфликта.
III
Повторное избрание Вильсона делало рискованными расчеты Антанты на молчаливое согласие США поддерживать ее растущие экономические потребности, связанные с войной. Но у конфликта была своя динамика развития. После кошмарного завершения Верденского сражения Антанта 24 мая 1916 года, за три дня до того как Вильсон, выступая в отеле New Willard, впервые публично изложил свою концепцию нового мирового порядка, приняла решение о проведении британскими войсками первого масштабного наступления на Сомме[112]. И хотя британским войскам не удалось добиться прорыва, германская армия была вынуждена перейти к обороне. В то же время на Восточном фронте масштабная стратегия Антанты была близка к решающему успеху. Мощь армии Российской империи, поддержанная финансовыми и промышленными возможностями Антанты, могла быть использована против пошатнувшейся империи Габсбургов. 5 июня 1916 года энергичный кавалерист генерал Брусилов повел цвет русской армии на австро-венгерские позиции в Галиции. Длившаяся всего несколько дней замечательная наступательная операция, проведенная русскими войсками, основательно подорвала военную мощь империи Габсбургов. Если бы не срочное подкрепление в виде германских войск и командиров, то южная половина Восточного фронта перестала бы существовать. Шок, испытанный Центральными державами, был столь глубоким, что мог повлечь за собой цепную реакцию.
27 августа Румыния окончательно отказалась от своего нейтралитета и объявила о вступлении в войну на стороне Антанты. Вместо эшелонов с румынской нефтью и зерном, от которых теперь в значительной степени зависели Центральные державы, в Трансильванию двинулась свежая 800-тысячная армия противника. Каким бы невероятным это ни казалось, но в августе 1916 года все выглядело так, как будто судьбами мира распоряжается не президент Вильсон, а премьер-министр Брэтиану в Бухаресте. Как позже отмечал фельдмаршал Гинденбург: «На самом деле, никогда прежде столь маленькому государству, как Румыния, не выпадала роль такой значительной исторической важности в столь подходящий момент. Никогда прежде столь могущественные великие державы, как Германия и Австрия, не испытывали такой зависимости от государства, численность населения которого составляла, наверное, лишь одну двадцатую часть от численности населения этих стран»[113]. В генеральном штабе кайзера сообщение о вступлении Румынии в войну произвело эффект «разорвавшейся бомбы. Вильгельм II совершенно потерял голову, говоря, что война вконец проиграна, и считал, что мы должны просить о мире»[114]. Посол Габсбургов в Бухаресте, граф Оттокар Чернин, предсказывал с «математической точностью полный разгром Центральных держав и их союзников, если война будет продолжена»[115].
В данном случае Румыния бросила вызов своей удаче. Возглавляемое Германией контрнаступление превратило поражение в победу. К декабрю 1916 года силы германской и болгарской армий приближались к Бухаресту, а правительство Румынии и то, что оставалось от румынской армии, оказались на положении беженцев в российской Молдавии. Но эта полная драматизма цепочка событий создавала необходимый фон для противостояния Антанты, Германии и Вудро Вильсона зимой 1916/17 года. Курс Берлина на эскалацию был определен в конце августа 1916 года, когда кайзер сменил утратившего доверие вдохновителя битвы при Вердене Эрика фон Фалькенхайна на фельдмаршала Гинденбурга и начальника штаба Эрика Людендорфа в качестве главнокомандующего Третьей армией (3 Obersten Heeresleitung, OHL). Для Людендорфа и Гинденбурга, которые в течение предыдущих двух лет были заняты исключительно войной против России, близкое знакомство с ситуацией на Западном фронте оказалось настоящим шоком. Германия многое отдала в битве под Верденом. Но небывалый напор британского наступления на Сомме поднял планку на новую высоту. Первым шагом Гинденбурга и Людендорфа стало обустройство оборонительных позиций. Если они рассчитывали противостоять военным действиям Антанты, разросшимся до глобальных масштабов, то было необходимо провести еще одну мобилизацию в Германии. Получивший название «программы Гинденбурга», мобилизационный план предусматривал удвоение объемов производства боеприпасов в течение года. Поставленные задачи были выполнены, правда дорогой для тыла ценой. Между тем именно эти задачи обороны заставили главнокомандующего Третьей армии поддержать требование военно-морских сил о начале подводной войны. Для того чтобы Германия могла выжить, было необходимо нарушить поставки по трансатлантическим маршрутам. Гинденбург и Людендорф не сразу начали подводную войну. Они дали Бетманну Гольвегу выступить в роли посредника на мирных переговорах. Германские социалисты хотели быть уверенными в том, что поддерживают чисто оборонительную войну[116]. Риски, связанные с эскалацией подводной войны, были очевидны. Американцы будут возражать. Но ее дальнейшее откладывание было просто на руку Британии. К тому же с экономической точки зрения Северная Америка и так полностью была на стороне Антанты.
Неудивительно, что Антанта, перед которой стояла сложная задача получения в скором будущем очередного миллиардного займа в США, была не вполне уверена в том, что обязательно получит поддержку Америки. Тем не менее для Британии и Франции еще в большей степени, чем для Германии, переговоры о мире не представляли интереса. Спустя два года после начала войны Германия оккупировала Польшу, Бельгию, значительную часть севера Франции, а теперь – и Румынию. Сербия с карты исчезла. В Лондоне осенью 1916 года именно споры вокруг стратегических приоритетов третьего года войны привели к отставке правительства Эсквита[117]. Как это ни парадоксально, но именно те, кто больше всех был готов принять идею Вильсона о мирных переговорах, с наибольшим подозрением относились к долгосрочному наращиванию американской мощи. Это касалось в первую очередь либералов старой формации, таких как британский канцлер Реджинальд Маккенна. Предостерегая членов кабинета от продолжения избранного курса, он говорил: «Я осмелюсь с уверенностью сказать, что к июню следующего [1917] года или даже раньше президент Американской республики будет в состоянии, если пожелает того, диктовать нам свои собственные условия»[118]. Желание Маккенны избежать дальнейшего усиления зависимости от Америки было лицевой стороной неприязни Вильсона к европейской политике. С позиций обеих сторон лучшим способом свести к минимуму дальнейшее осложнение ситуации было скорейшее прекращение войны. Но к декабрю 1916 года Маккенна и Эсквит утратили свои полномочия. Коалицию, преданную идее нанесения решительного поражения Германии, возглавил Ллойд Джордж. Ирония состояла в том, что, хотя позиция коалиции не совпадала в главном с желанием Вильсона прекратить войну, сама коалиция – по своей основной линии – была самым последовательным сторонником атлантизма[119]. Как сообщал Ллойд Джордж госсекретарю Вильсона Роберту Лансингу, он с большим энтузиазмом смотрел в будущее в ожидании устойчивого мирового порядка, основанного на «активной симпатии двух великих англоязычных народов»[120]. Ранее в 1916 году он говорил полковнику Хаузу, что «если Соединенные Штаты будут на стороне Великобритании, то целый мир окажется не в состоянии поколебать наше совместное превосходство на море»[121]. Более того, «экономическая сила Соединенных Штатов» была «столь велика, что ни одна из воюющих стран не смогла бы противостоять ей…»[122] Но, как повторял Ллойд Джордж, начиная уже с лета 1916 года американские займы не просто определяли подчиненность Британии Уолл-стрит, но и создавали условия для взаимной зависимости. Чем больше займов Британия получит в Америке, чем больше товаров она там закупит, тем труднее будет Вильсону отделить свою страну от судьбы Антанты[123].
2
Мир без победы
Год 1916 близился к концу, и обе стороны, воюющие в Европе, готовились к тому, чтобы пойти на значительный риск, полагая, что финансовые связи Америки и Антанты рано или поздно вынудят Вашингтон стать на сторону Антанты. И это не было государственной тайной. Подобные настроения получили широкое распространение. В июне 1916 года находившийся в изгнании в Цюрихе русский радикал Владимир Ильич Ленин писал заключительные строки того, что станет впоследствии одним из самых известных его популярных очерков, а именно – «Империализма, как высшей стадии капитализма»[124]. В ней общеизвестные предположения о необходимости американского вмешательства представлялись в виде непробиваемой теоретической догмы. Согласно Ленину, в эпоху империализма государство используется в борьбе как инструмент обеспечения интересов деловых кругов страны. По этой логике было очевидно, что рано или поздно Вашингтон должен объявить войну Германии.
Но ни в одном из подобных рассуждений не учитывался примечательный ход развития событий в период с ноября 1916 года до весны 1917 года. Американский президент, избранный на второй срок с мандатом на то, чтобы не допустить вступления Америки в войну, намеревался пойти намного дальше. Он хотел не просто сохранить нейтралитет, но завершить войну на условиях, при которых Вашингтон займет исключительное, ведущее место в мире. Ленин объявлял империализм высшей стадией развития капитализма, но у Вильсона имелись свои соображения[125]. Как оказалось, свои соображения были и у воюющих сторон. Если возврат к довоенному миру империализма был невозможен, то и революция была не единственной альтернативой.
I
На протяжении всего октября 1916 года банковский дом Дж. П. Моргана в срочном порядке обсуждал с Британией и Францией финансовые перспективы союзников. Для предстоящей военной кампании Антанта предлагала собрать по меньшей мере полтора миллиарда долларов. Осознавая размеры этой суммы, Дж. П. Морган пытался заручиться поддержкой ФРС и самого Вильсона. Но такой поддержки он не находил[126]. Приближался день выборов, назначенных на 7 ноября, и Вильсон работал над проектом публичного обращения, призывающего американцев воздержаться от дальнейшего хранения своих сбережений в займах Антанты, с которым предстояло выступить председателю Совета ФРС[127]. 27 ноября 1916 года, за четыре дня до того, как Дж. П. Морган планировал начать выпуск облигаций англо-американского займа, ФРС направила во все банки-участники предписание, в котором указывалось, что в целях обеспечения стабильности американской финансовой системы ФРС считает нежелательным дальнейшее увеличение доли американских инвесторов в британских и французских ценных бумагах. На Уолл-стрит началась паника, спекулянты распродавали фунты стерлингов, а Дж. П. Морган и министерство финансов Соединенного Королевства были вынуждены скупать их в экстренном порядке, чтобы поддержать курс британской валюты[128]. В то же время британское правительство было вынуждено приостановить поддержку закупок, осуществляемых Францией[129]. Все старания Антанты обеспечить свои финансы оказались под угрозой. В России осенью 1916 года нарастало возмущение требованием Британии и Франции перевезти в Лондон золотой резерв страны для обеспечения заимствований союзников. Без американской помощи под угрозой оказывалось не только терпение финансовых рынков, но и сама Антанта[130]. Год подходил к концу, и военный комитет британского правительства пришел к печальному выводу о том, что единственным возможным объяснением могло быть то, что Вильсон решил не оставлять им выбора и прекратить войну в течение ближайших недель. Это зловещее предположение подтвердилось, когда Лондон получил сообщение от своего посла в Вашингтоне о том, что именно президент настоял на резких формулировках в обращении ФРС.
Если учесть масштабы запросов, которые Антанта передала на Уолл-стрит в 1916 году, то станет ясно, что мнение против предоставления Лондону и Парижу дальнейших крупных займов начинало складываться еще до обращения ФРС[131]. Но правительство не могло оставить без внимания и открытую враждебность американского президента. А Вильсон был решительно настроен повысить ставки. 12 декабря рейхсканцлер Бетман Гольвег, не раскрывая собственных целей Германии, сделал упреждающее предложение о проведении мирных переговоров. Вильсон не изменил своей позиции и 18 декабря выступил с ответной нотой, в которой призвал обе стороны заявить о своих целях в войне, которые оправдывали бы продолжение этой кошмарной бойни. Это была открытая попытка объявить войну нелегитимной, тем более тревожная, если учесть ее совпадение с инициативой Берлина. Реакция Уолл-стрит была незамедлительной. Акции оборонной промышленности упали, а германский посол Иоганн Генрих фон Бернсторф и зять Вильсона министр финансов Уильям Гиббс Мак-Эду обнаружили, что их обвиняют в том, что они заработали миллионы, играя против акций, связанных с поставками вооружений Антанте[132]. В Лондоне и Париже последствия оказались более серьезными. Утверждали, что король Георг V плакал[133]. В британском кабинете министров все были в ярости. Лондонская The Times призывала к сдержанности, но не могла скрыть своего смятения в связи с отказом Вильсона сделать различие между двумя сторонами[134]. Это самый жестокий удар, полученный Францией за 29 месяцев войны, – взорвалась патриотическая пресса Парижа[135]. Германские войска продвинулись вглубь территории стран Антанты и на востоке, и на западе. Их было необходимо вывести, прежде чем думать о переговорах. Но неожиданная перемена военной фортуны в конце лета 1916 года делала это маловероятным. Было ясно, что Австрия находится на грани крушения[136]. Когда в конце января 1917 года страны Антанты встретились на военной конференции в Петрограде, разговор шел о новой серии концентрических наступательных операций.
Вмешательство Вильсона создавало очень неловкое положение, но, к счастью Антанты, Центральные державы первыми отвергли предложение Вильсона о посредничестве. Это позволило Антанте выступить 10 января с собственным заявлением, в котором в осторожной форме излагались цели войны. В заявлении содержались требования вывода войск из Бельгии и Сербии, а также возврата Эльзас-Лотарингии, но наиболее настойчиво звучало требование самоопределения угнетенных народов Османской империи и империи Габсбургов[137]. Это было заявлением о продолжении войны, а не о безотлагательном начале переговоров, и здесь возникал неизбежный вопрос: как оплачивать расходы на проведение этих кампаний? Для покрытия расходов на закупки в США, составлявших 75 млн долларов в неделю, Британия могла в январе 1917 года собрать не более 215 млн долларов за счет имеющихся в Нью-Йорке активов. А потом ей пришлось бы привлечь последние остатки золотого резерва, размещенного в Банке Англии, которых хватило бы на совершение закупок в течение шести недель, не более[138]. В январе у Лондона не оставалось иного выхода, кроме как обратиться с просьбой к банковскому дому Дж. П. Моргана о начале подготовки перевыпуска облигаций, который был прерван в ноябре. И вновь подсчеты производились без президента.
В 13 часов 22 января 1917 года Вудро Вильсон направился к трибуне Сената США[139]. Момент был напряженный. Сенаторы узнали о предстоящем выступлении президента лишь во время ланча. Это было первое прямое обращение президента к благородному собранию после Дня рождения Джорджа Вашингтона. И это было событием не только на американской политической арене. Было ясно, что Вильсону придется говорить о войне, и это будет не просто комментарий. Считается, что становление Вильсона как лидера мирового масштаба произошло годом позже, в январе 1918 года, когда он выдвинул «14 пунктов». Но фактически именно в январе 1917 года американский президент впервые открыто заявил о претензиях на роль мирового лидера. Текст выступления был разослан в главные европейские столицы одновременно с выступлением президента в Сенате. 22 января, как и в речи, посвященной «14 пунктам», Вильсон говорил о необходимости создания нового мирового порядка, опирающегося на Лигу Наций, разоружение и свободу морей. Но если «14 пунктов» были манифестом военного времени, который прекрасно вписывался в полувековую сюжетную линию американского мирового господства, то речь, произнесенная Вильсоном 22 января, воспринимается с гораздо большим трудом.
В январе 1917 года широко распахнулись двери, ведущие в век Америки, и в проеме в спокойной позе стоял Вильсон. Он пришел не для того, чтобы поддержать ту или иную сторону, но для того, чтобы заключить мир. Первое открытое притязание Америки на мировое господство в XX веке было направлено не на то, чтобы обеспечить победу «нужной» стороны, а на то, чтобы не победила ни одна из сторон[140]. Мир, открывающий перспективы сотрудничества всех крупных мировых держав, был возможен лишь при условии, что его примут все стороны. Все участники Великой войны должны признать глубокую бессмысленность конфликта. Это означало, что война могла иметь один-единственный исход – «мир без победы». Именно в этой фразе заключалась позиция морального паритета, позволявшая Вильсону держать европейцев на расстоянии с самого начала войны. Он понимал, что такая позиция будет встречена в штыки многими из тех, кто слушал его в январе 1917 года[141] «Неприятно говорить об этом… Я лишь стараюсь смотреть правде в глаза, ничего не утаивая». США не должны принимать ту или иную сторону в продолжающейся бойне. Америка, продолжая оказывать помощь Британии, Франции и Антанте, безусловно, обеспечит их победу. Но, поступая таким образом, Америка поддержит нескончаемый кошмарный круг насилия, характерный для Старого Света. Это было бы, утверждал Вильсон в частной беседе, ничем иным, как «преступлением против цивилизации»[142].
Позднее Вильсона обвинят в идеалистической вере в то, что Лига Наций сможет сама по себе обеспечить мир, и в том, что он, прикрываясь моралью, ушел от вопроса о власти. Неспособность серьезно отнестись к вопросу о международном принуждении к миру была осуждена как врожденный порок интернационалистского «идеализма». Но в этом смысле Вильсон никогда не был идеалистом. В январе 1917 года он призывал к «миру, который будет обеспечен организованной главной силой человечества». Если война завершится делением на победителей и побежденных, то для поддержания мира потребуются значительные силы. А Вильсон стремился к разоружению. Он хотел любой ценой избежать «опруссения» самой Америки. Вот почему был столь необходим мир без победы. «Победа означает мир, навязанный проигравшему… Такой мир принимают со смирением, по принуждению, с невыносимой жертвенностью, он причиняет острую боль, вызывает чувство протеста и горькие воспоминания, а на этих условиях мир не будет постоянным, он будет держаться как на сыпучем песке.» «Правильное направление мысли, правильные чувства между народами так же необходимы для устойчивого мира, как и справедливое решение спорных вопросов территориального, расового или национального характера. Мир, в котором не признается и не принимается этот принцип, неизбежно будет нарушен. Он не сможет устоять, опираясь на симпатии или убеждения человечества»[143]. Именно о создании необходимых условий для мира, поддержание которого не потребует дорогостоящей международной системы безопасности, говорил Вильсон в январе 1917 года, призывая положить конец войне. Истощение воинственного духа во всех странах, показ примера того, что война утратила смысл, сделало бы Лигу самодостаточной.
Но если, говоря о мире между равными, Вильсон имел в виду именно это, то здесь было еще одно обстоятельство. Среди американских президентов Вильсон известен как великий интернационалист. Однако в мире, который он хотел создать, исключительное положение Америки во главе цивилизации должно было быть выгравировано на могильном камне европейских держав. Мир между равными, о котором думал Вильсон, должен был стать миром коллективного истощения Европы. Прекрасный новый мир должен был начинаться с коллективного смирения всех европейских держав, которые припадут к ногам Соединенных Штатов, победоносно возвышающихся как непредвзятый арбитр, как начало нового мирового порядка[144]. Позиция Вильсона не была ни проявлением мягкотелого идеализма, ни планом подчинения суверенитета США международному органу. На самом деле он выступил с непомерными претензиями Америки на моральное превосходство, коренившимися в особом видении ее исторической судьбы.
II
В отличие от программы «14 пунктов», представленной в 1918 году, реакция на призыв Вильсона к «миру без побед» в январе 1917 года была явно неоднозначной[145]. В США президента приветствовали прогрессисты и сторонники из числа левых. Большинство республиканцев, напротив, с возмущением реагировали на то, что было ими воспринято как беспрецедентное предвзятое вмешательство исполнительной власти. Обращение президента, последовавшее за выборами 1916 года, результаты которых многими оспаривались, было, как возмущенно говорил один республиканец, «демагогической речью, произнесенной с трона», невиданным использованием Сената ангажированной исполнительной властью в качестве своей платформы[146]. Еще один слушатель поделился впечатлением, что Вильсон «считает себя президентом всего мира». Чарльз Остин Бирд, видный прогрессивный историк, писал в своем комментарии в The New York Times, что единственным разумным объяснением этой инициативы Вильсона было то, что, как и в 1905 году, когда президент Рузвельт выступил в роли посредника в русско-японской войне, одна из сторон конфликта была на грани банкротства, и ей требовалось немедленное прекращение противоборства[147]. Антанта опасалась именно того, что Вильсон намерен довести ее до банкротства. Для Парижа и Лондона вопросы, поднятые в речи Вильсона, были больше, чем просто тонкости конституции. Предлагаемая им концепция угрожала единству в тылу союзников, которое до сих пор позволяло им продолжать войну во многом за счет призыва добровольцев, не прибегая к безжалостным репрессиям в стране. Но еще больше тревожило то, что Вильсон прекрасно понимал, что он делает. «Возможно, я единственный человек в мире, обладающий верховной властью, – заявил президент, выступая в Сенате, – который может говорить свободно, ничего не скрывая». «Излишним будет добавлять, – продолжал он, – что я надеюсь и верю в то, что я действительно говорю от лица либералов и друзей гуманности в любой стране, представляя все программы освобождения?» В самом деле, продолжал Вильсон, «я охотно поверил бы в то, что я говорю от имени молчаливых масс людей во всем мире, которым до сих пор не представилось места или возможности от всего сердца высказаться о смерти и разрухе, на их глазах обрушившихся на самых дорогих им людей и их дома».
Именно здесь стал ясен истинный посыл обращения Вильсона. Американский президент поднимал вопрос о легитимности представительских полномочий правительств воюющих стран. И этот намек Вильсона не остался незамеченным теми организациями, которые действовали в странах Антанты и совсем не молчаливо претендовали на то, чтобы выступать от имени «массы человечества». 22 января, в день, когда Вильсон выступал со своим обращением, в Манчестере собрались представители британского лейбористского движения – 700 делегатов, включая одного из министров в новом составе правительства Ллойда Джорджа, представлявшие 2 млн 250 тысяч членов движения, что более чем вчетверо превышало их численность в 1901 году, когда состоялся первый съезд[148]. Дискуссия проходила в патриотических тонах. Но когда прозвучало имя Вильсона, антивоенная фракция, организованная в Независимую лейбористскую партию, взорвалась всплеском хорошо отрепетированных оваций[149]. Газета The Times осудила этот их поступок, а «Манчестер Гардиан» аплодировала ему[150]