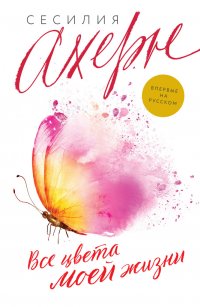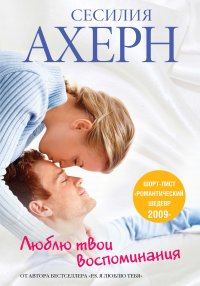
Читать онлайн Люблю твои воспоминания бесплатно
- Все книги автора: Сесилия Ахерн
Cecelia Ahern
Thanks for memories
© Cecelia Ahern 2007
© Бабичева М., перевод на русский язык, 2009
© Черемных Н., оформление обложки, 2011
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2016
Издательство Иностранка®
***
Блистательный роман Сесилии Ахерн «Люблю твои воспоминания» вошел в шорт-лист престижнейшей премии «Романтический шедевр-2009».
Это удивительная история двух незнакомых людей, обретших почти сверхъестественную связь после операции по переливанию крови… Джастин Хичкок, отдавший свою кровь для анонимного переливания, вдруг получает подарочную корзинку, в которую вложена благодарственная записка…
Джойс Конвей вспоминает такие родные мощеные парижские переулки, но… она никогда не была в Париже! Каждую ночь ей снится маленькая девочка с длинными белокурыми волосами, но… она не знает эту девочку! Или все-таки знает?.. Откуда к ней приходят такие воспоминания? Как найти того единственного, с кем они обретут реальность?
***
Посвящается
моим любимым бабушкам и дедушкам
Оливии и Рафаэлю Келли
и Джулии и Кону Ахерн
Пролог
Закрой глаза и посмотри в темноту.
Так советовал мне отец, когда в детстве я не могла заснуть. Сейчас он вряд ли бы мне это посоветовал, но я все-таки решила поступить именно так. Я смотрю в эту безмерную темноту, простирающуюся далеко за пределы моих сомкнутых век. Хотя я лежу на полу неподвижно, но чувствую при этом, будто парю в невероятной высоте, схватившись за звезду в ночном небе, а мои ноги болтаются над холодной черной пустотой. Я в последний раз смотрю на свои пальцы, стиснувшие свет, и разжимаю их. И лечу вниз, падая, паря, затем падая снова, – чтобы оказаться вновь на лоне своей жизни.
Я знаю теперь, как знала и в детстве, борясь с бессонницей, что за туманной пеленой век находится цвет. Он дразнит меня, подначивая открыть глаза и распрощаться со сном. Красные и оранжевые, желтые и белые вспышки испещряют мою темноту. Я отказываюсь открывать глаза. Сопротивляюсь и зажмуриваюсь еще сильнее, чтобы не пропустить эти световые песчинки, которые отвлекают, не давая заснуть, и в то же время свидетельствуют о том, что за нашими смеженными веками есть жизнь.
Но во мне нет жизни. Лежа здесь, у подножия лестницы, я не чувствую ничего. Лишь быстро бьется мое сердце, одинокий боец остался стоять на ринге, отказываясь сдаваться, – красная боксерская перчатка триумфально взлетает в воздух. Это единственная часть меня, которой не все равно, единственная, которой всегда было не все равно. Она борется, стараясь качать мою кровь, чтобы возместить то, что я теряю. Но с той же скоростью, с какой сердце качает ее, кровь покидает мое тело, образуя вокруг меня в том месте, куда я упала, свой собственный глубокий черный океан.
Скорей, скорей, скорей. Мы всегда спешим. Никогда нам не хватает времени здесь, поскольку мы стремимся попасть туда. Нужно было уехать отсюда пять минут назад, нужно быть там немедленно. Телефон звонит снова, и я осознаю всю иронию ситуации. Если бы я не поспешила, могла бы сейчас ответить на звонок.
Сейчас, не тогда.
Я могла бы никуда не торопиться и вдоволь постоять на каждой из этих ступеней. Но мы всегда спешим. Все спешит, кроме моего сердца. Оно постепенно замедляет свой бег. Я не так уж и против. Я кладу руку на живот. Если мое дитя умерло, а я подозреваю, что это так, я присоединюсь к нему там. Там… где? Где бы то ни было. Дитя – это безличное слово. Оно так мало, еще неясно, кем ему суждено было стать. Но там я буду заботиться о нем.
Там, не здесь.
Я скажу ему: «Мне так жаль, солнышко, так жаль, что я лишила тебя, себя – лишила нас возможности жить вместе. Но закрой глаза и посмотри в темноту, как это делает мамочка, и мы вместе найдем дорогу».
В комнате раздается шум, и я чувствую чье-то присутствие.
– О боже, Джойс, о боже! Ты слышишь меня, дорогая? О боже, о боже! Пожалуйста, Господи, не мою Джойс, не забирай мою Джойс. Держись, дорогая, я здесь. Папа здесь.
Я не хочу держаться, и мне хочется сказать ему об этом. Я слышу свой стон, он похож на звериное поскуливание, и это поражает меня, пугает меня. «У меня есть план, – хочу я сказать ему. – Мне нужно уйти, только тогда я смогу быть со своим малышом».
Тогда, не сейчас.
Он не дает мне упасть, помогает балансировать в пустоте, и я все еще не приземлилась. Зависнув, я вынуждена принять решение. Я хочу, чтобы падение продолжалось, но он звонит в «Скорую» и вцепляется в мою руку с таким неистовством, как будто это он держится за жизнь. Как будто я – это все, что у него есть. Он убирает волосы с моего лба и громко плачет. Я никогда не слышала, чтобы он плакал. Даже когда умерла мама. Он сжимает мою руку с силой, о существовании которой в его старом теле я не подозревала, и вспоминаю, что я – это все, что у него есть, и что он опять, как и раньше, – весь мой мир. Кровь продолжает в спешке нестись по моему телу. Скорей, скорей, скорей. Мы всегда спешим. Может быть, я опять спешу. Может быть, мне еще не время уходить.
Я чувствую загрубевшую кожу его старых ладоней, знакомых ладоней, так напряженно сжимающих мои, что это заставляет меня открыть глаза. Их наполняет свет, и я мельком вижу его лицо, искаженное гримасой, которую больше не хочу видеть никогда. Он цепляется за своего ребенка. Я знаю, что своего я потеряла, я не могу позволить, чтобы и он потерял своего. Принимая решение, я уже начинаю горевать. Теперь я приземлилась, упала на лоно своей жизни. А мое сердце продолжает перекачивать кровь.
Даже разбитое, оно все еще работает.
За месяц до несчастья
Глава первая
– Переливание крови, – произносит доктор Филдс с кафедры актового зала в здании факультета искусств Тринити-колледжа, – это процесс трансплантации крови или ее компонентов от одного человека в кровеносную систему другого. Абсолютные показания к переливанию крови – острая кровопотеря, вызванная травмой, операцией, шоком, а также случаи тяжелой анемии – снижения концентрации гемоглобина в крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов. Вот факты. Каждую неделю в Ирландии требуется три тысячи переливаний крови. Только три процента населения страны являются донорами, предоставляющими кровь для населения почти в четыре миллиона. Каждому четвертому в определенный момент жизни почти наверняка понадобится переливание крови. Оглядитесь по сторонам.
В зале темно: шторы спущены, поскольку работает проектор. Однако пять сотен голов поворачиваются налево, направо. Кто-то оборачивается. Тишину нарушают приглушенные смешки.
Доктор Филдс повышает голос:
– Как минимум ста пятидесяти присутствующим в этой комнате на каком-то этапе их жизни понадобится переливание крови.
Это заставляет студентов притихнуть. Поднимается рука.
– Да?
– Сколько крови нужно пациенту?
– Сколько ткани нужно на штаны, тупица, – раздается насмешливый голос с заднего ряда, и шарик из смятой бумаги летит в голову молодого человека, задавшего вопрос.
– Это очень хороший вопрос. – Доктор Филдс хмурится в темноту, но яркий луч проектора мешает ей разглядеть студентов. – Кто его задал?
– Мистер Довер! – кричит кто-то с другого конца зала.
– Я уверена, что мистер Довер сам может за себя ответить. Как ваше имя?
– Бен, – нехотя сообщает тот.
Раздается смех. Доктор Филдс вздыхает.
– Спасибо за вопрос, Бен, а остальным лучше запомнить, что глупых вопросов не существует, – говорит она. – Именно этому и посвящена неделя «Кровь для жизни»: вы задаете все волнующие вас вопросы, приобретаете все необходимые знания о переливании крови. Кто-то из вас, возможно, захочет сдать кровь – сегодня, завтра и в оставшиеся дни недели – здесь, в кампусе, а кто-то станет постоянным донором и будет сдавать кровь регулярно.
Главная дверь открывается, и в темный актовый зал проникает свет из коридора. Входит Джастин Хичкок. Белый свет проектора высвечивает сосредоточенное выражение его лица. Одной рукой он прижимает к груди огромную стопку папок, то и дело норовящих выскользнуть. Он поднимает ногу и подталкивает папки коленом, стремясь вернуть их на место. В другой руке у него набитый портфель и опасно качающийся пластиковый стаканчик с кофе. Джастин медленно ставит поднятую ногу на пол, как будто исполняет какое-то движение гимнастики тайцзи, и, когда порядок восстановлен, на его губах появляется улыбка облегчения. Кто-то хихикает, и с трудом достигнутое им равновесие снова оказывается под угрозой.
Не спеши, Джастин, отведи глаза от стаканчика и оцени ситуацию. Женщина за кафедрой, множество с трудом различимых голов – юноши и девушки. Все смотрят на тебя. Скажи что-нибудь. Что-нибудь умное.
– Я, кажется, не туда попал, – заявляет он темноте, за которой ощущается присутствие невидимой аудитории.
По залу проносится смех, и Джастин, двигаясь назад к двери, чтобы проверить номер аудитории, чувствует, что все глаза направлены на него.
Не пролей кофе. Не пролей чертов кофе.
Он открывает дверь, из коридора снова бьет свет, и студенты заслоняют от него глаза.
Смешки, смешки, нет ничего смешнее заблудившегося человека.
Несмотря на огромное количество вещей в руках, ему все же удается ногой удержать дверь открытой. Он смотрит на номер на ее обратной стороне, а затем опять на свой листок, листок, который, если он его сию секунду не схватит, медленно полетит на пол. Он протягивает руку, чтобы схватить его. Не та рука. Пластиковый стаканчик с кофе летит на пол. Сверху на него планирует листок бумаги.
Черт побери! Вот опять смешки, смешки. Нет ничего смешнее заблудившегося человека, который пролил свой кофе и уронил свое расписание.
– Вам помочь? – Лектор спускается с возвышения.
Джастин возвращается в аудиторию, с ним возвращается и темнота.
– Видите ли, здесь написано… то есть здесь было написано, – кивает он в сторону промокшего листка на полу, – что у меня сейчас тут занятие.
– Регистрация иностранных студентов проводится в экзаменационном зале.
Он хмурится:
– Да я вовсе не…
– Простите. – Доктор Филдс подходит ближе. – Мне показалось, вы говорите с американским акцентом. – Она поднимает пластиковый стаканчик и кидает его в ведро для мусора, над которым написано: «Напитки не бросать».
– А… о… простите.
– Старшекурсники в соседней аудитории, – шепотом добавляет она. – Поверьте, вам тут не будет интересно.
Джастин откашливается и слегка склоняется набок, стараясь запихнуть папки плотнее под мышку.
– Вообще-то я читаю лекции по истории искусства и архитектуры.
– Вы читаете лекции?!
– Я приглашенный лектор. Хотите верьте, хотите нет. – Он дует вверх, пытаясь убрать волосы с липкого лба.
Стрижка, не забыть постричься. Вот опять смешки, смешки. Заблудившийся преподаватель, который пролил кофе, уронил расписание, сейчас потеряет свои папки и которому необходимо постричься. Определенно, нет ничего смешнее.
– Мистер Хичкок?
– Да, это я. – Он чувствует, как папки выскальзывают из-под его руки.
– О, простите меня, – шепчет она. – Я не знала. – Она ловит его папку. – Я доктор Сара Филдс из Ай-би-ти-эс. В деканате мне сказали, что я могу провести со студентами полчаса до начала вашей лекции, с вашего согласия, конечно.
– Никто меня об этом не предупредил, но я не против, пожалуйста, no problemo! – Problemo? – Он покачивает головой, сам себя не одобряя, и начинает двигаться к двери. «Старбакс», я иду к тебе.
– Профессор Хичкок…
Он останавливается у двери:
– Да?
– Вы не хотите присоединиться к нам?
Разумеется, нет. Меня ждут капучино и кексик-маффин с корицей в дивной забегаловке «Старбакс». Нет. Просто скажи «нет».
– Ммм… Нее… Да.
– Простите?..
– Я хочу сказать, присоединюсь с удовольствием.
Смешки, смешки, смешки. Лектор попался. Привлекательная молодая женщина в белом халате, назвавшаяся врачом из неизвестной организации, название которой представляет собой аббревиатуру, заставила его сделать то, чего ему, определенно, делать не хочется.
– Отлично. Добро пожаловать.
Она засовывает папки обратно ему под мышку и возвращается за кафедру, чтобы обратиться к студентам.
– Итак, внимание. Вернемся к вопросу о количестве крови. Пострадавшему в автомобильной аварии может понадобиться до тридцати единиц крови. При язвенном кровотечении – от трех до тридцати единиц. Для аортокоронарного шунтирования требуется от одной до пяти единиц. Все зависит от тяжести случая, и, поскольку кровь необходима в таком объеме, вы теперь понимаете, почему нам всегда нужны доноры.
Джастин садится в первом ряду и с ужасом слушает обсуждение, к которому он зачем-то присоединился.
– У кого-нибудь есть вопросы?
Вы можете сменить тему?
– За сдачу крови платят?
Смешки в зале.
– Боюсь, не в этой стране.
– Знает ли человек, которому переливают кровь, кто его донор?
– Нет. Сдача крови производится анонимно, но продукты, взятые из банка крови, всегда можно индивидуально отследить в процессе сдачи, проведения тестов, разделения на компоненты, хранения и назначения реципиенту.
– Все могут сдавать кровь?
– Хороший вопрос. Вот список противопоказаний к тому, чтобы быть донором. Пожалуйста, все хорошо его изучите и, если хотите, запишите.
Доктор Филдс кладет лист на проектор, и на ее белом халате появляется отчетливое графическое изображение пострадавшего, срочно нуждающегося в переливании крови. Она отступает, и картинка заполняет экран на стене.
В зале стоит стон, и слово «ужас» пробегает по рядам, как приливная волна. Два раза его произносит Джастин. У него начинает кружиться голова, и он отводит взгляд от изображения.
– Ой, не тот лист, – ничуть не смутившись, говорит доктор Филдс, вытаскивает листок и неторопливо заменяет его обещанным списком.
Джастин с надеждой ищет в списке пункт «боязнь крови и иголок», надеясь исключить себя из кандидатов в доноры. Такого пункта в списке, увы, нет, однако это не имеет никакого значения, поскольку вероятность того, что он отдаст кому-нибудь хоть каплю крови, равна его работоспособности по утрам.
– Какая жалость, Довер! – Еще один шарик из смятой бумаги летит с заднего ряда и снова ударяет Бена по голове. – Гомосексуалисты не могут сдавать кровь.
Бен хладнокровно поднимает вверх два растопыренных пальца.
– Но это же дискриминация! – вскрикивает какая-то девочка.
– Это мы обсудим в другой раз, – заявляет доктор Филдс и продолжает рассказ о донорстве. – Помните, что ваше тело возместит жидкую часть того, что вы сдали, в течение двадцати четырех часов. Так как единица крови равна примерно пинте, а в среднем в теле человека находится от восьми до двенадцати пинт, средний человек может спокойно одной из них поделиться.
– А если я не средний? – раздался чей-то голос, аудитория отозвалась смешками.
– Тише, пожалуйста! – Доктор Филдс хлопает в ладоши, безуспешно пытаясь привлечь внимание к своим словам. – Неделя «Кровь для жизни» посвящена не только сдаче крови, другая ее цель – просветительская, познавательная. Нет ничего плохого в том, что мы с вами смеемся и шутим, но мне кажется очень важным, чтобы вы поняли и почувствовали: чья-то жизнь – женщины, мужчины или ребенка – может зависеть от вас прямо сейчас.
Как быстро в аудитории наступает тишина! Даже Джастин перестает разговаривать сам с собой.
Глава вторая
– Профессор Хичкок. – Доктор Филдс подходит к Джастину, который раскладывает на кафедре свои записи, пока студенты расходятся на пятиминутный перерыв.
– Пожалуйста, доктор, зовите меня Джастин.
– А вы зовите меня Сара. – Она протягивает руку.
– Приятно (ну просто очень приятно!) познакомиться, Сара.
– Джастин, я надеюсь, мы увидимся позже?
– Позже?
– Да, после вашей лекции, – улыбается она.
Она заигрывает со мной? Как давно со мной никто не заигрывал! Лет сто, наверное. Я и забыл, как это бывает. Говори, Джастин. Отвечай!
– О свидании с такой женщиной можно только мечтать!
Она сжимает губы, чтобы спрятать улыбку:
– Хорошо, я встречу вас у главного входа в шесть и сама вас отведу.
– Куда вы меня отведете?
– В пункт сдачи крови. Это рядом с полем для регби, но я бы предпочла отвести вас сама.
– Пункт сдачи крови!.. – Его немедленно охватывает страх. – Ох, я не думаю, что…
– А потом мы пойдем куда-нибудь выпить.
– Вы знаете, я только начал приходить в себя после гриппа, так что не думаю, что подхожу для сдачи крови. – Джастин разводит руками и пожимает плечами.
– Вы принимаете антибиотики?
– Нет, но это хорошая идея, Сара. Может быть, я должен их принимать. – Он потирает горло.
– Да не беспокойтесь вы, Джастин, с вами ничего не случится, – улыбается она.
– Нет, видите ли, я в последнее время находился в страшно болезнетворной среде. Малярия, оспа – куча всего. Я был в безумно тропической местности. – Он судорожно вспоминает список противопоказаний. – А мой брат Эл? Он же прокаженный!
Неубедительно, неубедительно, неубедительно.
– Правда? – Она иронически поднимает бровь, и, хотя он борется с собой изо всех сил, на его лице появляется улыбка. – Как давно вы покинули Штаты?
Думай, думай, это может быть вопрос с подвохом.
– Я переехал в Лондон три месяца назад, – правдиво отвечает он наконец.
– Надо же, как вам повезло! Если бы вы провели здесь всего два месяца, то были бы непригодны.
– О, подождите, дайте подумать… – Он почесывает подбородок и напряженно соображает, громко бормоча названия месяцев. – Может быть, это и было два месяца назад. Если посчитать с того момента, когда я прилетел… – Он замолкает, считая на пальцах, глядя вдаль и сосредоточенно нахмурившись.
– Профессор Хичкок, вы боитесь? – Сара улыбается.
– Боюсь? Нет! – Джастин откидывает голову и хохочет. – Но упоминал ли я, что у меня малярия? – Он вздыхает, понимая, что она не воспринимает его слова всерьез. – Что ж, я больше ничего не могу придумать.
– Встретимся у входа в шесть. Да, и не забудьте перед этим поесть.
– Еще бы, ведь я буду исходить слюной перед свиданием с огромной смертоносной иглой, – бормочет он, глядя ей вслед.
Студенты начинают возвращаться в аудиторию, и он старается поскорее стереть с лица довольную улыбку, слишком уж двусмысленную. Наконец-то они в его власти!
Что ж, мои маленькие смеющиеся друзья. Пришло время расплаты.
Они еще не все расселись, когда он начинает.
– Искусство… – объявляет Джастин актовому залу и слышит звуки доставаемых из сумок карандашей и блокнотов, вжиканье молний, звяканье пряжек, дребезжание жестяных пеналов, новехоньких, специально купленных для первого учебного дня. Чистейших и незапятнанных. Жаль, того же нельзя сказать о самих студентах. – …есть продукт человеческого творчества.
Он не делает паузы, чтобы позволить им записать. Пришло время немного повеселиться. Его речь постепенно набирает темп.
– Создание прекрасных или значительных вещей… – Он говорит, меряя шагами возвышение, и все еще слышит звуки расстегиваемых молний и шелест в спешке листаемых страниц.
– Сэр, вы не могли бы повторить это еще раз, пожа…
– Нет, – перебивает он. – Инженерное искусство. Практическое применение науки в торговле или индустрии. – Теперь в аудитории царит полная тишина. – Эстетика и комфорт. Результат их объединения – архитектура.
Быстрее, Джастин, быстрее!
– Архитектура-это-преобразование-эстетических-воззрений-в-физическую-реальность. Сложная-итщательно-разработанная-структура-взглядов-на-искусство-особенно-применительно-к-какому-то-определенному-периоду. Чтобы-понять-архитектуру-мы-должны-изучить-отношения-между-техникой-наукой-и-обществом.
– Сэр, не могли бы вы…
– Нет. – Но он чуть-чуть замедляет скорость речи. – Наша цель – выяснить, как на протяжении веков общество формировало архитектуру, как оно продолжает ее формировать, но также и то, как сама архитектура, в свою очередь, формирует общество.
Джастин останавливается, оглядывает обращенные к нему молодые лица, их головы – пустые сосуды, которые ждут, чтобы их наполнили. Так многому нужно научить, так мало времени отведено на это, а в них так мало страсти, чтобы по-настоящему это понять. Его задача – передать им страсть. Разделить с ними свой опыт путешественника, свое знание всех великих шедевров ушедших веков. Он перенесет их из душной аудитории престижного дублинского колледжа в залы Лувра, услышит эхо их шагов, когда поведет через аббатство Сен-Дени к Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Пьер-де-Монмартр. Они узнают не только даты и цифры, но и почувствуют запах красок Пикассо, шелковистость барочного мрамора, услышат звук колоколов собора Парижской Богоматери. Они ощутят все это прямо здесь, в этой аудитории. Он принесет им все это.
Они смотрят на тебя, Джастин. Скажи что-нибудь.
Он прочищает горло:
– Этот курс научит вас, как анализировать произведения искусства и как оценивать их историческую значимость. Он позволит вам совсем иначе посмотреть на окружающую вас действительность, а также поможет лучше понять культуру и идеалы других народов. Курс предусматривает широкий спектр тем: история живописи, скульптуры и архитектуры от Древней Греции до наших дней, раннее ирландское искусство, художники итальянского Возрождения, великие готические соборы Европы, архитектурное великолепие георгианской эпохи и художественные достижения двадцатого века.
Тут Джастин позволяет наступить тишине.
Они уже раскаиваются в своем выборе, услышав, что ждет их на протяжении следующих четырех лет их жизни? Или их сердца, как и его собственное, бешено стучат от возбуждения перед лицом подобной перспективы? На протяжении многих лет он испытывает немеркнущий восторг при мысли о творениях рук человеческих: зданиях, картинах и скульптурах. Порой энтузиазм заставляет его забываться, на лекции ему перестает хватать дыхания, и он сурово напоминает себе, что нельзя торопиться, нельзя пытаться рассказать им все сразу. А он-то хочет, чтобы они узнали обо всем прямо сейчас!
Он снова смотрит на их лица, и на него снисходит прозрение.
Они твои! Они ловят каждое твое слово в ожидании следующего. Ты сделал это, они в твоей власти!
Кто-то пукает, и аудитория взрывается от смеха.
Он вздыхает, понимая, что заблуждался, и продолжает скучающим тоном:
– Меня зовут Джастин Хичкок, и в своих лекциях я буду говорить о европейской живописи. Особое внимание уделю итальянскому Возрождению и французскому импрессионизму. Мы будем изучать методику анализа живописи и различные технические приемы, которыми пользуются художники – от авторов Келлской книги[1] и до наших дней… Введение в европейскую архитектуру… от греческих храмов до современности… ля-ля-тополя. Мне нужны два человека, чтобы помочь раздать вот эти пособия…
Итак, начался очередной учебный год. Он читает свой курс не дома, в Чикаго, а в Великобритании. За своей бывшей женой и дочерью он помчался в Лондон, и теперь курсирует туда и обратно, между Лондоном и Дублином, поскольку его пригласили читать лекции в знаменитом дублинском Тринити-колледже. Страна другая, а студенты – такие же, как везде. Очередные мальчики и девочки, демонстрирующие молодое непонимание его страсти и намеренно отворачивающиеся от возможности – нет, не возможности, гарантии — узнать что-то прекрасное и великое.
Не важно, что ты сейчас скажешь, дружище. Единственное, о чем они будут помнить, уйдя домой, – это то, что на лекции кто-то пукнул.
Глава третья
– Когда кто-то пукает, это и в самом деле так смешно, Бэа?
– О, салют, папа!
– Что это за приветствие?
– Просто приветствие – и все. Вау, папа, как приятно тебя слышать! Сколько уже прошло? Целых три часа с тех пор, как ты последний раз звонил.
– Приятно, когда ты говоришь как любящая дочь, а не какой-нибудь неумытый поросенок. Твоя дорогая мама уже вернулась домой после очередного дня своей новой жизни?
– Да, она дома.
– И она привела с собой этого очаровательного Лоуренса, да? – Он не может удержаться от сарказма, за который сам себя ненавидит. Что ж, такой уж он человек и не собирается за это извиняться. Так что он продолжает насмехаться, отчего все становится только хуже. – Лоуренс, – произносит он, растягивая гласные. – Лоуренс Аравийский… Нет, Гениталийский.
– Ты просто помешанный. Ты когда-нибудь перестанешь говорить о покрое его штанов? – со скукой вздыхает она.
Джастин сбрасывает с себя колючее одеяло. Оно под стать тому дешевому дублинскому отелю, в котором он остановился.
– Серьезно, Бэа, посмотри сама в следующий раз, когда он будет рядом. Штаны всегда ему слишком узки – то, что он там носит, в штанах не помещается. Это же патология какая-то, она должна иметь специальное научное название, клянусь! Что-нибудь, заканчивающееся на – мегалия. – Яйцемегалия. – И вообще, в этой дыре всего четыре телевизионных канала, один из которых на языке, которого я даже не понимаю. На нем говорят так, будто пытаются прочистить горло после порции той ужасной курицы в вине, которую готовит твоя мать. А в моем чудесном доме в Чикаго у меня было больше двухсот каналов. – Членомегалия. Придуркомегалия. Ха!
– Из которых ты не смотрел ни один.
– Но у человека должен быть выбор – не смотреть эти слезоточивые каналы, посвященные ремонту дома, и музыкальные каналы, где пляшут голые женщины.
– Я понимаю, что человек переживает сильное потрясение, папа. Это, наверное, очень тяжело для взрослого мужчины. А мне, как ты помнишь, в шестнадцать лет пришлось привыкать к такому огромному изменению в жизни, как развод родителей и переезд из Чикаго в Лондон, что, разумеется, прошло совершенно безболезненно.
– У тебя теперь два дома, и ты получаешь в два раза больше подарков, на что тебе сетовать? – ворчит он. – И это была твоя идея.
– Моей идеей была школа балета в Лондоне, а не окончание вашего брака!
– А-а, школа балета! Я думал, ты говоришь: «Заканчивайте это». Я ошибся. Выходит, мы должны переехать обратно в Чикаго и снова сойтись?
– Не-а.
Он слышит улыбку в ее голосе и понимает, что все в порядке.
– И ты ведь не считаешь, что я мог остаться в Чикаго, когда ты перебралась на другой край света? – спрашивает он.
– Но сейчас мы с тобой в разных странах, папа! – смеется она.
– Ирландия – это всего лишь поездка по работе. Я вернусь в Лондон через несколько дней. Правда, Бэа, больше никуда меня не тянет, – уверяет он ее.
Разве что перебраться в хороший пятизвездочный отель.
– Мы с Питером подумываем начать жить вместе, – говорит она как бы между прочим.
– Ты не ответила на мой вопрос, – говорит он, не обращая внимания на ее последнюю реплику. – Неужели звук выпускаемых газов настолько забавен, чтобы заставить людей потерять интерес к какому-нибудь невероятному шедевру мирового искусства?
– Надо понимать, ты не хочешь говорить о том, что я стану жить с Питером?
– Ты еще ребенок. Помнишь свой игрушечный домик? Я его сохранил. Вот в него вы с Питером можете въехать. Я поставлю его в гостиной, будет очень мило и удобно.
– Мне восемнадцать. Я уже больше не ребенок. Я целых два года живу одна вдали от дома.
– Одна ты жила только год. Твоя мать бросила меня на второй год, чтобы приехать к тебе, если я не ошибаюсь.
– Вы с мамой познакомились, когда были в моем возрасте.
– И не дожили счастливо до глубокой старости. Перестань подражать нам и напиши свою собственную сказку.
– Я бы написала, если бы мой чрезмерно заботливый отец не пытался вмешиваться со своей собственной версией того, как должен развиваться сюжет. – Бэа вздыхает и переводит разговор на более безопасную тему. – И что это у тебя за легкомысленные студенты? Я думала, ты занимаешься аспирантами, которые решили выбрать твой скучный предмет. Хотя зачем это кому-то нужно – выше моего понимания. Те лекции, которые ты мне читаешь о Питере, достаточно скучные, а я его люблю.
Любишь! Не обращай внимания, и она забудет, что это сказала.
– Это не было бы выше твоего понимания, если б ты побывала на моих занятиях. Я действительно веду семинары для аспирантов, но, кроме того, меня попросили в течение года читать лекции первокурсникам. Я подписал договор, о котором, возможно, буду потом жалеть, но что поделать! Что же до моей постоянной работы и более срочных дел, я планирую организовать в Национальной галерее выставку, посвященную живописи фламандских мастеров семнадцатого века. Ты должна на нее сходить.
– Нет, спасибо.
– Ну, надеюсь, что аспиранты через несколько месяцев станут больше ценить мой труд и сходят в галерею.
– Знаешь, твои первокурсники, может, и смеются над глупыми шутками, но я уверена, что не меньше четверти из них сдали кровь.
– Они сделали это только потому, что слышали, что после этого получат бесплатный батончик «Кит-Кэт», – фыркает он, копаясь в полупустом мини-баре. – Ты сердишься на меня за то, что я не сдал кровь?
– Я думаю, подвести ту женщину было с твоей стороны засранством.
– Не употребляй слово «засранство», Бэа. И вообще, кто тебе сказал, что я ее подвел?
– Дядя Эл.
– Дядя Эл – засранец. И вот еще что, дорогая. Знаешь, что добрая доктор сказала сегодня о сдаче крови? – Джастин пытается оторвать фольгу, закрывающую верх коробки чипсов «Принглз».
– Что? – Бэа зевает.
– Что сдача крови – процесс анонимный. Понимаешь? Анонимный. Так какой же смысл спасать чью-то жизнь, если реципиент даже не будет знать, что именно ты его спас?
– Папа!
– Что? Давай же, Бэа. Соври мне и скажи, что ты бы не хотела получить букет цветов за то, что спасла чью-то жизнь. – Бэа протестует, но он продолжает: – Или не букет цветов, а маленькую корзинку этих… как ты их называешь? Ну, этих маффинов, которые ты так любишь, с кокосом…
– С корицей! – смеется она, наконец уступая.
– Маленькая корзинка кексиков с корицей перед твоей входной дверью с записочкой внутри, на которой написано: «Спасибо, Бэа, за то, что спасла мне жизнь. Если тебе когда-нибудь что-то понадобится, например забрать одежду из химчистки или чтобы тебе доставляли газеты и кофе каждое утро к двери, машина с шофером для твоего личного пользования или билеты в первый ряд на оперу…» – о, этот список можно продолжать до бесконечности! – Он оставляет попытки оторвать пленку, берет штопор и старается ее проткнуть. – Это могло бы стать чем-то вроде той китайской традиции, ну, знаешь, когда тот, кому ты спас жизнь, считает себя навеки обязанным. Как мило, если на свете существует человек, который каждый день идет за тобой следом, ловит вылетающие из окон рояли, не давая им упасть тебе на голову, и все такое прочее.
Бэа спрашивает с сомнением:
– Надеюсь, ты шутишь?
– Да, конечно, шучу. – Джастин корчит рожу. – Рояль обязательно убил бы спасенного, и это было бы несправедливо.
В конце концов он открывает «Принглз» и швыряет штопор через всю комнату. Тот попадает в стекло в верхней части мини-бара, и оно разбивается.
– Что это было?
– Уборка номеров, – врет он. – Ты думаешь, я эгоист, да?
– Папа, ты полностью поменял свою жизнь, оставил отличную работу и хорошую квартиру и улетел за тысячи миль в другую страну, только чтобы быть рядом со мной. Конечно, я не считаю тебя эгоистом.
Джастин улыбается и кладет в рот несколько чипсов.
– Однако если ты не шутил насчет корзинки с маффинами, тогда ты точно эгоист. И если бы в моем колледже проходила неделя «Кровь для жизни», я бы приняла в ней участие. Но у тебя еще есть возможность наверстать упущенное.
– У меня такое ощущение, что все стремятся заставить меня сдать кровь! Я собирался завтра пойти постричься, а меня гонят к злым людям, жаждущим проколоть мне вены.
– Ну не сдавай, если не хочешь, мне все равно. Но помни, если ты сделаешь это, маленькая тоненькая иголочка не убьет тебя. Зато твоя кровь может спасти чью-нибудь жизнь. Кто знает, а вдруг потом этот человек всегда будет рядом с тобой, оставляя корзинки с маффинами у тебя под дверью и ловя рояли, чтобы они не упали тебе на голову. Ведь это было бы приятно, правда?
Глава четвертая
В передвижном пункте сдачи крови, расположившемся рядом с полем для регби Тринити-колледжа, Джастин старается усилием воли унять дрожь в руках, чтобы Сара не заметила, как он трусит, протягивая ей письменное согласие и анкету, озаглавленную «Здоровье и стиль жизни». В этом подробном документе, откровенно говоря, содержится гораздо больше сведений о нем, чем он сам бы рассказал на первом свидании. Сара ободряюще улыбается и описывает ему всю процедуру, как будто сдача крови – самая обыкновенная вещь на земле.
– Теперь мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы прочли, поняли и заполнили анкету?
Джастин кивает, говорить ему мешает стоящий в горле комок.
– И вся информация, которую вы там указали, правдива и соответствует действительности?
– Почему вы спрашиваете? – хрипит он. – Она вам не кажется правдивой? Если так, я могу уйти и вернуться в другое время.
Она улыбается ему с таким же выражением, с каким смотрела на него мама, подтыкая одеяло и выключая свет на ночь.
– Итак, мы готовы. Я только сделаю анализ на гемоглобин, – объясняет она.
– Он выявляет наличие заболеваний?
Джастин нервно оглядывает оборудование в фургоне. Пожалуйста, пусть у меня не окажется никаких заболеваний. Это было бы слишком унизительно. Хотя маловероятно. Интересно, помню ли я, когда в последний раз занимался сексом?
– Нет, всего лишь измеряет содержание железа у вас в крови. – Сара берет капельку крови из подушечки его пальца. – Кровь на заболевания, в том числе передающиеся половым путем, проверяют чуть позже.
– Должно быть, удобная штука. Можно привести сюда бойфренда вроде бы с благородной целью, а потом справиться о результатах, – шутит он, чувствуя, как капельки пота щекочут его верхнюю губу.
Он изучает свой палец.
Она замолкает, быстро делая анализ.
Джастин ложится на кушетку и вытягивает левую руку. Сара оборачивает ее верхнюю часть манжеткой для измерения давления и протирает спиртом внутреннюю сторону локтевого сгиба.
Не смотри на иголку, не смотри на иголку.
Он смотрит на иголку, и земля под ним начинает кружиться. Горло сжимается.
– Будет больно? – Джастин с трудом сглатывает комок, рубашка прилипает к влажной спине.
– Просто укол, вы и не почувствуете, – улыбается она, подходя к нему с катетером в руке.
Джастин слышит сладкий запах ее духов, и на мгновение это его отвлекает. Когда она наклоняется, он видит то, что находится под вырезом ее кофточки, – черный кружевной лифчик.
– Вот это нужно взять в руку и несколько раз сжать.
– Взять что? – Он нервно смеется.
– Мячик, – улыбается она.
– Ах мячик! – Он берет маленький мягкий мячик и спрашивает, стараясь, чтобы голос не выдал панического страха: – Для чего он нужен?
– Он помогает ускорить процесс.
Джастин изо всех сил сжимает мячик.
Сара смеется:
– Еще не время! И не так сильно, Джастин.
Спина Джастина теперь не влажная – она совершенно мокрая от пота. Волосы прилипли ко лбу. Ты должен был пойти стричься, Джастин. Что за черт тебя сюда понес? Ой!
– Не так уж и страшно, правда? – ласково говорит она, будто обращаясь к ребенку.
Сердце Джастина громко стучит у него в ушах. Он продолжает сжимать мячик в том же ритме. Представляет себе, как его сердце перекачивает кровь, как кровь течет по венам. Видит, как она доходит до иголки, как идет по трубке, и ждет, что сейчас почувствует головокружение. Но голова не кружится, так что Джастин молча смотрит, как его кровь течет в мешок для сбора крови, который Сара предусмотрительно спрятала на весах под кушеткой.
– А «Кит-Кэт» мне потом дадут?
– Конечно! – со смехом обещает она.
– А мы действительно пойдем куда-нибудь выпить или вам нужен был только мой организм?
– Выпить можно, но я должна предупредить, что сегодня вам следует избегать любых активных действий. Ваш организм должен восстановиться.
Он снова замечает ее кружевной лифчик. Ага, конечно.
Пятнадцать минут спустя Джастин с гордостью смотрит на свою пинту крови. Он не хочет, чтобы она досталась какому-то незнакомцу, он готов сам отнести ее в госпиталь, осмотреть палаты и подарить тому, кто ему по-настоящему понравится, какому-то особенному человеку. Еще бы! Ведь впервые за долгие годы он может отдать другому то, что идет напрямую от его сердца.
День сегодняшний
Глава пятая
Я медленно открываю глаза.
Их заполняет белый свет. Постепенно зрачки фокусируются на предметах, и белый свет теряет яркость. Он становится оранжево-розовым. Я осматриваюсь, понимаю, что нахожусь в больнице. Телевизор высоко на стене. Его экран словно залит чем-то зеленым. Пытаюсь присмотреться: лошади на зеленой траве. Они прыгают, они бегут. В палате должен быть папа. Я опускаю глаза: вот он, сидит в кресле спиной ко мне. Он стучит кулаками по подлокотникам, и его твидовая кепка появляется и исчезает за спинкой кресла, когда он приподнимается с каждым ударом. Пружины под ним скрипят.
Отец не издает ни звука. Как будто мне показывают немое кино. Неужели у меня что-то с ушами? Сейчас он подпрыгивает в кресле как заводной, я и не думала, что он способен так быстро двигаться, и грозит телевизору кулаком, беззвучно подгоняя лошадь.
Экран гаснет. Отец разжимает кулаки и поднимает руки вверх, смотрит на потолок и заклинает Бога. Засовывает руки в карманы, ощупывает их и вытаскивает ткань наружу. Серые пустые мешочки остаются торчать из его коричневых брюк. Он похлопывает себя по груди, нащупывая деньги. Проверяет нагрудный кармашек своего коричневого кардигана. Ворчит. Значит, дело не в моих ушах.
Он поворачивается, чтобы ощупать свое пальто, висящее рядом со мной, и я быстро закрываю глаза.
Я еще не готова. Со мной ничего не случилось – до тех пор, пока они мне не скажут. Прошлая ночь – не более чем кошмарный сон, пока они не скажут, что это действительно произошло. Чем дольше я держу глаза закрытыми, тем дольше все останется как было. Счастье неведения.
Я слышу, как отец роется в карманах пальто, слышу звон мелочи, глухой стук монет, падающих в телевизор. Осмеливаюсь снова открыть глаза, и вот он опять сидит в своем кресле, кепка подпрыгивает вверх и вниз, кулаки взлетают в воздух.
Занавеска справа от меня задернута, но я чувствую, что делю палату с кем-то еще. Не знаю, сколько нас здесь. Стоит тишина. В палате мало воздуха, в ней душно и пахнет потом. Огромные окна, занимающие целую стену слева от меня, закрыты. Свет такой яркий, что я не могу посмотреть на улицу. Позволяю глазам привыкнуть – и наконец вижу. Вон автобусная остановка через дорогу. На остановке ждет женщина, у ее ног стоят пакеты с покупками, а на коленях сидит ребенок, пухлые голые ножки блестят в солнечном свете бабьего лета. Я сразу же отвожу глаза. Папа оборачивается и смотрит на меня, выглядывая через край кресла, как ребенок из детской кроватки.
– Привет, моя дорогая, – негромко произносит он.
– Привет. – Я чувствую, что не говорила очень долго, и ожидаю услышать хрип. Но нет, мой голос чист, он течет как мед. Как будто ничего не произошло. Но ничего и не произошло. Еще нет. Пока они мне не скажут.
Опершись обеими руками на подлокотники, он медленно поднимается. Раскачиваясь, будто детские качели, он двигается к моей кровати: влево-вправо, влево-вправо. Он родился с ногами разной длины: левая длиннее правой. В последние годы ему выдают специальные ботинки, однако он предпочитает хромать, это вошло в ненарушимую привычку с тех пор, как он научился ходить. Он ортопедические ботинки терпеть не может и, несмотря на наши предупреждения и боли в спине, ходит как умеет. Я так привыкла к виду его маленького тела, качающегося влево-вправо, влево-вправо. Помню, как ребенком брала его за руку и шла гулять. Как моя рука двигалась в одном ритме с ним: ее тянуло вверх, когда он наступал на левую ногу, и толкало вниз, когда на правую.
Он всегда был такой сильный, такой умелый. Всегда чинил вещи, собирал вещи, ремонтировал вещи: пульты управления, радиоприемники, будильники, розетки. Мастер на все руки для всей улицы. Его ноги были неодинаковой длины, зато руки, всегда и навсегда, были тверды как камень.
Подходя ко мне, он снимает кепку, сжимает ее обеими руками, совершая круговые движения, как будто это руль, и тревожно глядит на меня. Наступает на правую ногу и опускается вниз. Сгибает левую ногу. Это его положение покоя.
– Ты… хм… они сказали мне, что… хм… – Он откашливается. – Они сказали… – Он с трудом сглатывает комок в горле, густые лохматые брови хмурятся и прячут его блестящие глаза. – Ты потеряла… ты потеряла… хм…
У меня дрожит нижняя губа.
Его голос прерывается, но он продолжает:
– Ты потеряла много крови, Джойс. Врачи… – Он разжимает одну руку, отпускает кепку и начинает делать круговые движения скрюченным пальцем, пытаясь вспомнить. – Они сделали тебе небольшое переливание этой кровяной штуки, так что ты… теперь у тебя с кровью все в порядке.
Нижняя губа дрожит сильнее, и руки автоматически тянутся к животу – он немного выступает, приподнимая одеяло. С надеждой смотрю на него, только сейчас понимая, что все еще продолжаю упорствовать: я убедила себя в том, что ужасный инцидент в родильной палате был всего лишь ночным кошмаром. Может быть, я выдумала молчание моего ребенка, наполнившее комнату в тот последний миг. Может быть, были крики, которых я просто не слышала. Конечно, это возможно: тогда у меня не было сил, я теряла сознание, – может быть, я просто не услышала первый чудесный маленький вздох жизни, который заметили все остальные.
Папа грустно качает головой. Нет, крики в родильной палате издавала только я.
Губа теперь не просто дрожит – она подпрыгивает вверх и вниз, и я не могу это остановить. Все тело трясется, и это я тоже не могу остановить. Слезы, они набегают, но я не даю им упасть. Знаю: если начну сейчас плакать, не остановлюсь никогда.
Из горла вылетает звук – ничего похожего я раньше не слышала. Не то стон, не то рычание. Отец хватает мою руку и крепко сжимает. Прикосновение его ладони возвращает меня в прошлую ночь, к той страшной минуте, когда я лежала у подножия лестницы. Он ничего не говорит. Но что тут можно сказать? Даже и не представляю.
Я плыву в каком-то полусне, то выныривая из него, то снова погружаясь. Просыпаюсь, вспоминаю разговор с врачом и пытаюсь понять: не приснился ли он мне? «…потеряли вашего ребенка, Джойс, мы сделали все, что могли… переливание крови…» Кому нужны такие воспоминания? Никому. Не мне.
Когда я снова просыпаюсь, занавеска рядом со мной отдернута. Вокруг соседней кровати бегают трое маленьких детей, преследуя друг друга, а их, как я полагаю, отец уговаривает их успокоиться на языке, которого я не узнаю. Мать детишек лежит на кровати. Она выглядит уставшей. Наши взгляды пересекаются, и мы улыбаемся друг другу.
«Я знаю, что ты чувствуешь, – говорит ее грустная улыбка. – Я тебя понимаю». «Что нам делать?» – спрашивает моя улыбка. «Не знаю, – говорят ее глаза. – Я не знаю». «У нас все будет хорошо?»
Она отворачивается от меня, ее улыбка меркнет.
Мой папа окликает их:
– Откуда вы, ребята?
– Что, простите? – переспрашивает ее муж.
– Интересуюсь, откуда вы, ребята, – повторяет папа. – Вижу, вы не из наших мест. – Его голос весел и любезен. Он не имеет в виду ничего оскорбительного. Он никогда не имеет в виду ничего оскорбительного.
– Мы из Нигерии, – отвечает мужчина.
– Нигерия! – говорит папа. – А где она находится?
– В Африке. – Мужчина тоже любезен. Он понимает: этот старый человек, изголодавшийся по общению, всего лишь пытается проявить дружелюбие.
– А! Африка. Никогда там не был. Там жарко? Думаю, да. Жарче, чем здесь. Наверное, можно хорошо загореть, правда, вам это не нужно, – смеется он. – Вам здесь не бывает холодно?
– Холодно? – Африканец улыбается.
– Ну да, понимаете… – Папа обхватывает себя руками и делает вид, что дрожит. – Холодно…
– Да! – смеется мужчина. – Иногда.
– Так я и думал. Мне тоже иногда бывает холодно, а я местный, – объясняет папа. – Холод просачивается мне прямо в кости. Но жару я тоже не слишком люблю. Кожа краснеет, просто горит. А моя дочь Джойс становится коричневой. Это она там лежит. – Он показывает на меня, и я быстро закрываю глаза.
– Красивая дочь, – вежливо говорит мужчина.
– Это верно. – Наступает пауза, во время которой, как я полагаю, они смотрят на меня. – Она была на одном из испанских островов несколько месяцев назад и вернулась оттуда черная, совершенно черная. Ну, понимаете, не такая черная, как вы, но очень загорелая. Правда, кожа у нее облезала. У вас, наверное, не облезает.
Мужчина вежливо смеется. В этом весь папа. Никогда не хочет никого обидеть. Сам-то он за всю свою жизнь ни разу не выезжал за пределы страны. Его удерживает боязнь полетов. Или он просто так говорит.
– Надеюсь, ваша милая жена скоро поправится. Ужасно болеть на отдыхе.
На этом я открываю глаза.
– А, ты проснулась, дорогая. Я только что разговаривал с нашими милыми соседями. – Он снова ковыляет ко мне, держа кепку в руке. Опирается на правую ногу, опускается вниз, сгибает левую. – Знаешь, мне кажется, мы единственные ирландцы в этой больнице. Медсестра, которая заходила сюда минуту назад, из Синг-а-сунга… или это по-другому называется?
– Из Сингапура, папа, – улыбаюсь я.
– Именно. – Он поднимает брови. – Ты уже с ней встречалась, да? Хотя они все говорят по-английски, эти иностранцы. Правда, это лучше, чем когда ты на отдыхе и приходится изъясняться языком жестов. – Он кладет кепку на кровать и начинает активно шевелить пальцами.
– Папа, ты же никогда в жизни не выезжал из страны.
– Но я же слышал, что говорят парни в клубе, когда мы собираемся по понедельникам, правда? Фрэнк на прошлой неделе был в этой… как ее? – Он закрывает глаза и напряженно думает. – Страна, где делают шоколад.
– Швейцария.
– Нет.
– Бельгия.
– Нет, – говорит он, теперь уже раздраженно. – Маленькие круглые шарики, хрустящие внутри. Теперь можно купить и белые, только я предпочитаю старые темные.
– «Молтизерз»[2]? – смеюсь я, но смеяться больно, и я прекращаю.
– Они. Он был в Молтизерзе.
– Папа, ты имеешь в виду Мальту.
– Точно. Он был в Мальте. – Он задумывается. – Там делают «Молтизерз»?
– Не знаю. Может быть. Так что произошло с Фрэнком на Мальте?
Папа снова закрывает глаза. Он не может вспомнить, что собирался сказать. Эти провалы в памяти ему ненавистны. Раньше он помнил все.
– Ты что-нибудь выиграл на скачках? – спрашиваю я.
– Несколько шиллингов. Сегодня вечером пойду в клуб. Хватит на пару кружек.
– Но сегодня вторник.
– Перенесли на вторник из-за нерабочего дня, – объясняет он, ковыляя к другой стороне кровати, чтобы сесть.
Я не могу смеяться. Это слишком болезненно, и кажется, что чувство юмора забрали у меня вместе с ребенком.
– Ты же не против, если я пойду, Джойс? Я могу остаться, если ты хочешь, это не так важно.
– Разумеется, это важно. Ты двадцать лет не пропускал ни одного понедельника.
– Кроме праздничных дней! – Папа поднимает вверх скрюченный палец, его глаза ликуют.
– Кроме праздничных дней, – улыбаюсь я и хватаю его за палец.
– Детка. – Он берет мою руку. – Ты гораздо важнее нескольких пинт и песен.
– Что бы я без тебя делала? – Мои глаза снова наполняются слезами.
– Прекрасно существовала бы, дорогая. Кроме того, – бросает он на меня осторожный взгляд, – у тебя есть Конор.
Я отпускаю его руку и смотрю в сторону. Конор? А если Конор больше мне не нужен?
– Я пытался позвонить ему вчера ночью на ручной телефон, но никто не отвечал. Возможно, я набрал не те цифры, – быстро добавляет он. – На этих ручных телефонах гораздо больше цифр.
– На мобильниках, папа, – рассеянно поправляю я.
– А, да! На мобильниках. Он все звонил, пока ты спала. Очень волнуется. Он собирается вернуться домой, как только купит билет.
– Это очень любезно с его стороны. Тогда мы сможем заняться делом – проведем следующие десять лет нашей супружеской жизни в попытках завести детей. Милое и приятное развлечение, чтобы придать нашим отношениям хоть какой-то смысл.
– Но, дорогая…
Итак, я вернулась к жизни и сегодня проживаю свой самый первый новый день. Признаться, я не уверена, что хочу здесь находиться. Полагалось бы испытывать благодарность к тем, кто вытащил меня с той стороны горизонта, но мне совсем не хочется этого делать. Честно говоря, я предпочла бы, чтобы они себя не утруждали.
Глава шестая
Я смотрю, как три ребенка играют вместе на полу палаты, маленькие пальчики, толстые щечки и пухлые губки – лица родителей четко отпечатались на их мордашках. Мое сердце падает в желудок, желудок скручивает судорогой боли. Глаза снова наполняются слезами, и мне приходится их отвести.
– Ничего, если я поем винограду? – щебечет папа. Он похож на маленькую канарейку, качающуюся в клетке рядом со мной.
– Конечно, поешь. Папа, ты сейчас должен пойти домой и что-нибудь съесть. Ты должен беречь силы.
Он берет банан.
– В нем море энергии. А сколько калия! – восклицает он и с улыбкой очищает банан точными движения-ми. – Домой я побегу трусцой, вот увидишь.
– А как ты сюда добрался?
До меня вдруг доходит, что папа уже много лет не бывал в городе. Для него все стало слишком быстрым, здания неожиданно выросли там, где их никогда не было, машины на дорогах ездят не в те стороны, что раньше. С огромным сожалением и грустью он продал свой автомобиль: его ухудшающееся зрение стало грозить бедой на дороге ему и другим. Семьдесят пять лет, десять лет, как умерла его жена. Теперь жизнь катится по привычной колее, он прижился в небольшом пригородном районе, где знает всех соседей. По воскресеньям и средам – церковь, по понедельникам – клуб (кроме праздничных дней, когда посещение переносится на вторник), мясник – по четвергам, кроссворды, головоломки и телевизионные передачи – в течение дня, его сад – во все остальное время.
– Фрэн, что живет через дорогу, привезла меня. – Он опускает банан, продолжая улыбаться своей шутке про бег трусцой, и кладет в рот виноградину. – Чуть не угробила меня два или три раза. Или даже больше – во всяком случае, достаточно для того, чтобы я понял, что Бог существует, если когда-нибудь в этом сомневался. Я просил виноград без косточек, а этот с косточками. – Папа хмурится. Покрытые коричневыми пятнами руки кладут гроздь обратно на тумбочку. Он достает изо рта косточки и оглядывается в поисках корзины для мусора.
– Папа, ты и сейчас еще веришь в Бога? – Это звучит жестче, чем мне хотелось, но меня душит гнев, он почти невыносим.
– Верю, Джойс, – без обиды или возмущения отвечает он. Кладет косточки в носовой платок и засовывает его в карман. – Поступки Господа непостижимы, мы часто не можем ни объяснить их, ни понять, ни принять, ни мириться с ними. Я понимаю, что ты сейчас можешь сомневаться в Его существовании, – со всеми нами это случается временами. Когда умерла твоя мать, я… – Он умолкает и, как часто бывает, оставляет фразу незаконченной: дальше он не пойдет – ни в предательстве по отношению к своему Богу, ни в обсуждении смерти жены. – А ведь на этот раз Бог ответил на все мои молитвы. Прошлой ночью Он уж точно услышал мой призыв. Он сказал мне… – Тут в голосе отца начинает звучать усвоенный в детстве сильный акцент графства Каван, который он утратил, когда подростком переехал в Дублин. – «Не волнуйся, Генри, я хорошо тебя слышу. Все под контролем, так что не переживай. Я сделаю это для тебя, нет проблем». И Он спас тебя. Он оставил мою девочку в живых, и за это я буду Ему вечно благодарен, хотя нам и грустно оттого, что ушел другой.
Мне нечего на это ответить, однако я смягчаюсь.
Он со скрежетом подтягивает стул ближе к моей кровати.
– И я верю в жизнь после смерти. – Он говорит теперь немного тише. – Да, это так. Я верю в то, что рай существует, там, наверху в облаках, и что все, кто когда-то был тут, сейчас там. Включая грешников, потому что Бог всех прощает.
– Все там? – Я борюсь со слезами. Не даю им упасть. Знаю, если начну плакать, то не остановлюсь никогда. – А мой ребенок, папа? Он тоже там?
Папино лицо пересекают глубокие морщины страдания. Мы старались поменьше говорить о моей беременности – из суеверия, очевидно. Срок был небольшой, и мы все волновались, а папа больше всех. Всего несколько дней назад мы немного поссорились из-за того, что я попросила его поставить к себе в гараж нашу кровать для гостей. Понимаете, я начала готовить детскую… Боже мой, детская! Оттуда только что вынесли кровать для гостей и разный хлам. Кроватка уже куплена. Стены выкрашены в приятный желтый цвет – «мечта лютика», над кроваткой – погремушка-мобиль с крутящимися утятами.
Оставалось пять месяцев. Кое-кто, включая моего отца, может подумать, что готовить детскую при сроке четыре месяца преждевременно, но мы шесть лет ждали ребенка, этого ребенка. И для меня в этом ничего преждевременного не было.
– Дорогая, ты знаешь, я не могу утверждать…
– Я собиралась назвать его Шоном, если бы это был мальчик. – Господи, наконец я произношу это вслух! Я повторяла эти слова про себя весь день, без конца, и вот теперь они льются из меня вместо слез.
– Шон – хорошее имя.
– Грейс, если бы родилась девочка. В честь мамы. Она бы обрадовалась.
При этих словах папа стискивает зубы и смотрит в сторону. Все, кто не знают его, подумали бы, что он рассердился. Но это не так. Я знаю, что за его стиснутыми зубами собираются слова, как в огромном резервуаре, они хранятся там запертыми, пока в них нет абсолютной необходимости, хранятся в ожидании прилива такой страсти, когда стены рухнут и слова хлынут наружу.
– Но я почему-то думала, что это мальчик. Не знаю почему, просто как-то почувствовала. Могла ошибиться. Я собиралась назвать его Шоном, – повторяю я.
Папа кивает:
– Правильно. Это хорошее имя.
– Я говорила с ним, пела ему. Интересно, он слышал? – Мой голос звучит откуда-то издалека, будто я кричу из полого ствола дерева, в котором прячусь.
Неожиданно я представляю себе будущее, которое никогда не наступит. Будущее с маленьким воображаемым Шоном. Песенки каждый вечер перед сном, белоснежная кожа и брызги во время купания. Брыкающиеся ножки и поездки на велосипеде. Строительство песочных замков и горячие вспышки негодования, когда не пускают играть в футбол. Гнев из-за потерянной, – нет, хуже! – убитой жизни мощной волной затопляет мои мысли.
– Интересно, понимал ли он?
– Понимал что, дорогая?
– То, что его упустят. Думал ли он, что я прогоняю его? Надеюсь, он не винит меня. У него была только я и… – Я приказываю себе остановиться. Хватит пока мучений, иначе через несколько секунд я просто закричу от ужаса. Если я сейчас начну плакать, то не остановлюсь никогда.
– Где он теперь, папа? Как человек может умереть, если еще даже не родился?
– О дорогая! – Он берет мою руку и снова сжимает ее.
– Скажи мне.
Теперь он размышляет об этом. Долго молчит, гладит меня по волосам, негнущимися пальцами убирает пряди с лица и заправляет их за уши. Он не делал этого с тех пор, как я была маленькой девочкой.
– Я думаю, он в раю, милая. Даже не думаю, я просто знаю. Он там с твоей матерью, да, он там. Сидит у нее на коленях, пока она играет в рамми с Полин, обдирает ее как липку и заливисто смеется. Конечно, она там, наверху. – Он смотрит наверх и машет потолку указательным пальцем. – Позаботься за нас о маленьком Шоне, Грейси, слышишь меня? Она расскажет ему про тебя все, обязательно расскажет, о том, как ты была маленькой, о том дне, когда ты сделала свои первые шаги и когда у тебя появился первый зуб. Она расскажет ему о твоем первом школьном дне и о последнем, а также о каждом дне между ними, и он будет знать о тебе все, так что, когда ты пройдешь через ворота там, наверху, старой женщиной, гораздо старше, чем я сейчас, он оторвется от рамми и скажет: «Вот и она. Эта женщина. Моя мамочка». Он сразу узнает тебя.
Огромный ком в горле, который я никак не могу проглотить, мешает мне поблагодарить его, но, возможно, папа все видит в моих глазах, так как он понимающе кивает и быстро отворачивается к телевизору, а я смотрю в окно, в пустоту.
– Тут, при родильном доме, есть часовня, дорогая. Может быть, тебе стоит туда сходить, когда тебе станет лучше и ты будешь готова. Тебе даже не нужно ничего говорить. Он не против. Просто сядь там и подумай. Дело полезное – я и сам всегда так поступаю.
Я думаю о том, что часовня – это последнее место на земле, где я хотела бы оказаться.
– Там внутри очень красиво, – говорит папа, читая мои мысли. Он наблюдает за мной, и я, мне кажется, слышу, как он молится о том, чтобы я вскочила с кровати и схватила четки, которые он положил у моего изголовья.
– Знаешь, это здание в стиле рококо, – неожиданно сообщаю я и совершенно не понимаю, о чем говорю.
– Какое? – Папа хмурит брови, и глаза исчезают под ними, как две улитки, прячущиеся в свои раковины. – Этот роддом?
Я напряженно думаю: «О чем мы говорили?»
Теперь его очередь напряженно думать: «О Молтизерзе? Нет!»
Он ненадолго замолкает, а потом начинает отвечать так, как будто участвует в викторине и сейчас тур вопросов на скорость.
– О бананах? Нет. О рае? Нет. О часовне? Мы говорили о часовне. – Он сияет улыбкой на миллион долларов, радуясь тому, что смог вспомнить разговор, состоявшийся меньше минуты назад. – А потом ты сказала, что это здание для стариков. Но, честно говоря, мне так не кажется. – Он мне подмигивает.
– Да не для стариков! В стиле рококо, – поправляю я его, чувствуя себя учительницей. – Часовня знаменита изысканной лепниной, украшающей потолок. Это работа французского мастера Бартелеми Крамийона.
– Правда, милая? И когда же он это сделал? – Папа придвигает свой стул вплотную к кровати. Ничего на свете он так не любит, как увлекательные истории.
– В тысяча семьсот шестьдесят втором году. – Точная дата. И я произношу ее так естественно. Но, помилуйте, откуда мне это известно?!
– Так давно? Я не знал, что больница стоит здесь столько времени!
– Она построена в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году, – отвечаю я и хмурюсь. А это я откуда знаю? Но я не могу остановиться, как будто мой рот, совершенно независимо от моего мозга, произносит слова сам по себе. – Здание было спроектировано тем же человеком, который построил Лейнстер-хаус, нынешнюю резиденцию правительства Ирландии. Он был немец, его звали Ричард Касселс, иначе – Ричард Касл. Один из самых знаменитых архитекторов того времени.
– Конечно, я слышал о нем, – врет папа. – Если бы ты сказала «Дик», я бы сразу понял, о ком ты. – Он хихикает.
– Это детище доктора Бартоломью Мосса, – объясняю я и не понимаю, откуда идут эти слова, не знаю, откуда появляется это знание. Ощущение дежа вю: слова знакомы мне, но я никогда не слышала их и не произносила в стенах этой больницы. Может, я просто выдумываю? Нет, где-то глубоко внутри живет убеждение, что я говорю правду. Странное тепло окутывает все мое тело.
– В тысяча семьсот сорок пятом году он купил маленький театр, называвшийся «Новая будка», и создал первый в Европе родильный дом.
– Он стоял здесь, да? Этот театр.
– Нет, он находился на Джордж-лэйн. А тут в ту пору простирались поля. Со временем места в роддоме стало не хватать, тогда доктор Мосс купил эти поля, проконсультировался с Ричардом Касселсом, и в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году новый роддом, теперь называющийся «Ротонда», был открыт лордом-наместником. Это произошло восьмого декабря, если я не ошибаюсь.
Папа смущен:
– Вот уж не поверил бы, что ты интересуешься такими вещами, Джойс. Откуда ты все это знаешь?
Я хмурюсь. Я тоже не знала, что знаю все это. Неожиданно на меня накатывает волна раздражения, и я яростно трясу головой.
– Мне нужно постричься, – сердито откликаюсь я, сдувая челку со лба. – Я хочу выбраться отсюда.
– Хорошо, дорогая. – Папин голос тих. – Нужно только еще немного подождать.
Глава седьмая
Постригись! Джастин дует вверх, сдувая челку с глаз, и недовольно смотрит на свое отражение в зеркале.
До того как отражение попало в его поле зрения, он собирал сумку, чтобы поехать обратно в Лондон, насвистывая веселую мелодию недавно разведенного мужчины, который только что занимался сексом с первой женщиной после своей – бывшей! – жены. Если быть точным, это второй случай за год, но первый, о котором он может вспоминать с некоторой гордостью. Теперь, когда Джастин стоит перед зеркалом в полный рост, он даже свистеть перестает: реальность вдребезги разбивает его иллюзии. Вот этот тип претендует на роль героя-любовника?! Он выпрямляется, втягивает щеки и напрягает мускулы, обещая себе, что теперь, когда пелена развода спала, он снова приведет свое тело в порядок. Ему сорок три года, он привлекателен и знает об этом, но не впадает в грех самоуверенности. При мысли о собственной внешности он придерживается той же полной здравого смысла логики, что и при дегустации хорошего вина. Виноград просто вырос в правильном месте в правильных условиях, причем растили его с заботой и любовью. Так и он, Джастин, появился на свет с хорошими генами и правильными чертами лица. Его не стоит за это ни хвалить, ни ругать – точно так же и менее привлекательного человека не стоит разглядывать, презрительно раздувая ноздри и самодовольно улыбаясь. Внешность – это данность, которую следует принять.
Джастин высокий – почти шесть футов, широкие плечи, каштановые волосы все еще густые, однако с проседью на висках. Джастину это даже нравится: седые волосы начали появляться рано, когда ему пошел третий десяток, и, на его взгляд, придавали ему необычный вид. Правда, Джастину приходилось встречать людей, которые считали его бачки с проседью вызовом обществу, чем-то вроде колючки, грозящей разорвать пузырь их выдуманной жизни. Эти мнимые доброжелатели подходили к нему, кланяясь и горбясь, будто чернокнижники шестнадцатого века, и протягивали краску для волос с таким видом, словно это был графин с драгоценной водой из фонтана вечной жизни. Фу-ты, черт, какой он загнул художественный образ! А ведь эти несчастные просто-напросто были не в силах противиться массированному давлению СМИ, провозгласивших молодость добродетелью, а старение в любых формах – чем-то малопристойным…
Для Джастина движение вперед и сопровождающие его изменения – самоочевидные вещи. Человек взрослеет, затем входит в зрелый возраст – это объективная реальность, так же как и постепенно пробивающаяся на висках седина. Какой смысл красить волосы? От этого моложе не станешь… Однако он никак не ожидал, что его индивидуальная философия закономерного старения и изменения форм подорвет основы их брака. Дженнифер ушла от него, чтобы поразмышлять о том, как и почему все у них изменилось. Ну, по правде говоря, не только за этим. На самом деле причин было так много, что он жалеет, что не взял тогда ручку и блокнот и не записал их, когда она кричала на него в порыве ненависти. В течение первых темных одиноких ночей, последовавших за этим эпизодом, Джастин держал в руке бутылочку с краской и пытался понять: что было бы, не пойди он на поводу у своей крепкой, ограниченной философии? Он бы просыпался утром, а Дженнифер лежала в их постели? Зажил бы маленький шрам на его подбородке от удара обручальным кольцом? А перечень его черт, которые она так ненавидела, стал бы списком тех, которые она любила? Потом Джастин протрезвел и вылил краску в кухонную раковину своей съемной квартиры, почерневшая нержавейка которой каждый день напоминала ему о решении смело смотреть в глаза реальности. А вскоре он переехал в Лондон, чтобы быть ближе к дочери, к большому неудовольствию его бывшей жены.
И вот теперь он стоит перед зеркалом. Хотя пряди длинной челки закрывают ему глаза, он видит человека, которого ожидал там увидеть. Во всех недостатках, таких, как слегка расплывшаяся талия, частично виноват возраст, частично он сам, потому что во время бракоразводного процесса успокаивал себя пивом и готовыми обедами, вместо того чтобы время от времени заниматься ходьбой или бегом.
Вспыхивающие в голове стоп-кадры прошлой ночи заставляют его взглянуть на кровать, на которой они с Сарой узнали друг друга. Весь сегодняшний день он чувствовал себя самым крутым парнем в кампусе и чуть не прервал рассказ о голландской и фламандской живописи детальным описанием своих ночных свершений. Студенты первого года принимали бурное участие в Неделе благотворительности, так что на занятии присутствовали далеко не все, да и те после развеселой ночной вечеринки. Джастин уверен: они и не заметили бы, если бы он пустился в подробный анализ своих сексуальных способностей. Проверять это предположение он все-таки не стал.
Неделя «Кровь для жизни», к большому облегчению Джастина, длилась ровно неделю, и по ее окончании Сара уехала из колледжа в свой Центр переливания крови. Когда в этом месяце Джастин вернулся в Дублин, он случайно столкнулся с ней в баре, в котором, как ему было известно, она часто бывала, и там у них все закрутилось. Он не был уверен, увидит ли ее снова, хотя во внутреннем кармане пиджака был надежно спрятан номер ее телефона.
Прошлая ночь оказалась, безусловно, приятной: в оживленном баре на Грин они выпили несколько бутылок вина «Шато Оливье», которое до вчерашнего дня ему не нравилось, несмотря на прекрасное местоположение взрастивших лозу бордоских виноградников, вслед за чем последовало путешествие в его гостиничный номер. И все же Джастин не мог не признать, что его победе чего-то не хватало. Он почерпнул толику ирландского мужества из мини-бара в своем номере, перед тем как присесть на диван рядом с Сарой, так что к тому времени, когда дело пошло на лад, был уже не способен на серьезный разговор, а если не кривить душой, был не способен на разговор вообще. Господи, Джастин, кто из знакомых тебе мужчин когда-нибудь беспокоится о чертовом разговоре? Но, несмотря на то что в итоге они оказались в его постели, он чувствует, что Сара нуждалась в разговоре. Возможно, она что-то хотела сказать ему и, возможно, сказала. Он помнит ее грустные голубые глаза, глядящие в его глаза, и губы, напоминающие розовый бутон, которые открывались и закрывались, но виски «Джеймсон» не давало ему ничего услышать, напевая у него в голове, заглушая ее слова, как нахальный ребенок.
Вторая из его ежемесячных лекций осталась позади, и Джастин бросает одежду в сумку, радуясь тому, что наконец-то уедет из этой жалкой, пахнущей плесенью комнаты. Середина дня пятницы, время лететь обратно в Лондон. Обратно к дочери, и младшему брату Элу, и невестке Дорис, приезжающим в гости из Чикаго. Он выходит из отеля, спускается в вымощенный булыжником переулок Темпл-Бара и садится в ожидающее его такси.
– В аэропорт, пожалуйста.
– Были здесь в отпуске? – немедленно спрашивает водитель.
– Нет. – Джастин поворачивается к окну, надеясь, что это положит конец разговору.
– По работе? – Водитель заводит мотор.
– Да.
– Где вы работаете?
– В колледже.
– В каком?
Джастин вздыхает:
– В Тринити-колледже.
– Уборщиком? – В зеркале он видит шутливое подмигивание зеленых глаз.
– Я читаю курс лекций по искусству и архитектуре, – говорит он, занимая оборонительную позицию, складывая руки на груди и дуя вверх, чтобы глазам не мешала отросшая челка.
– Архитектура, говорите? Я раньше был строителем.
Джастин не отвечает и надеется, что на этом разговор прервется.
– Так куда вы теперь? В отпуск?
– Не-а.
– Куда же тогда?
– Я живу в Лондоне. – И номер моей американской карточки социального страхования…
– А здесь вы работаете?
– Ага.
– А здесь бы жить не хотели?
– Не-а.
– Почему это?
– Потому что здесь я работаю по договору. Мой бывший коллега пригласил меня вести занятия раз в месяц.
– Вон что! – Водитель улыбается в зеркало, как будто Джастин пытался его обмануть. – А в Лондоне чем занимаетесь? – Его взгляд как будто допрашивает Джастина.
Я серийный убийца, который охотится на любознательных водителей такси.
– Множеством разных вещей, – вздыхает Джастин и сдается, понимая, что придется удовлетворить любопытство водителя. – Я редактор «Обозрения искусства и архитектуры», единственного серьезного международного издания, посвященного искусству и архитектуре, – с гордостью говорит он. – Я основал его десять лет назад, и нам до сих пор нет равных. У него самые большие тиражи из всех журналов такого класса. – Двадцать тысяч подписчиков, лжец.
Никакой реакции.
– Я еще галерист. – Вот ведь расхвастался.
Водитель подмигивает:
– Орудуете веслом?
Джастин морщится в замешательстве:
– Что? Нет. – Потом без всякой необходимости добавляет: – Кроме того, я также постоянный участник передачи на Би-би-си, посвященной культуре и искусству.
Два раза за пять лет – какое уж там постоянство, Джастин. Да заткнись ты.
Теперь водитель смотрит на Джастина в зеркало заднего вида.
– Выступаете по телевидению? – Он прищуривается и изучает его. – Что-то я вас не узнаю.
– А вы смотрите эту передачу?
– Нет.
О чем же тогда говорить?
Джастин закатывает глаза. Он снимает пиджак, расстегивает еще одну пуговицу на рубашке и опускает окно. Волосы прилипают ко лбу. По-прежнему. Прошло несколько недель, а он так и не побывал у парикмахера. Он отдувает челку от глаз.
Они останавливаются на светофоре, и Джастин смотрит налево. Парикмахерская.
– Эй, вы не могли бы припарковаться слева на несколько минут?
– Слушай, Конор, не переживай из-за этого. Перестань извиняться, – устало говорю я в телефонную трубку. Он утомляет меня. Каждый, даже короткий, разговор с ним опустошает меня. – Со мной папа, и мы вместе поедем домой на такси, хотя я вполне способна сама сидеть в машине.
При выходе из больницы папа придерживает мне дверь, и я забираюсь в такси. Наконец я еду домой, но не испытываю того облегчения, на которое надеялась. Нет ничего, кроме страха. Я боюсь встречаться со знакомыми, которым снова и снова придется объяснять, что произошло. Я боюсь заходить в свой дом, в котором неизбежно увижу наполовину обставленную детскую. Я боюсь, что придется избавиться от детской, поставить туда кровать для гостей и заполнить шкафы моим собственным переизбытком обуви и сумок, которые я никогда не буду носить. Я боюсь, что придется идти на работу, вместо того чтобы взять отпуск, как я планировала. Я боюсь встречи с Конором. Я боюсь возвращения в брак без любви, в котором не будет ребенка, способного занять нас. Я боюсь каждого дня оставшейся жизни, в то время как Конор продолжает жужжать по телефону о том, как бы он хотел быть здесь, со мной, хотя в течение последних нескольких дней я как мантру повторяла, чтобы он этого не делал. Я понимаю, что согласно здравому смыслу я должна хотеть, чтобы мой муж примчался домой, ко мне, более того, я должна хотеть, чтобы мой муж мечтал примчаться домой, ко мне, но в нашем браке слишком много «но», и это происшествие – не обычное явление. Оно заслуживает необычного поведения. Вести себя правильно, как взрослые, кажется мне неверным, потому что я не хочу, чтобы рядом со мной кто-то был. Меня тыкали и кололи как физически, так и психологически. Я хочу горевать в одиночестве. Я хочу жалеть себя без слов утешения и медицинских объяснений. Я хочу быть непоследовательной, плаксивой, ожесточенной и потерянной самоедкой всего еще несколько дней, – пожалуйста, мир, о пожалуйста! – и я хочу страдать в одиночестве.
Для нашего брака, впрочем, это абсолютно естественно.
Конор – инженер. Он месяцами работает за границей, возвращается домой на месяц, а потом снова уезжает. Я так хорошо приучила себя к своей собственной компании и повседневной жизни, что в течение его первой недели дома бывала очень раздражительна и хотела, чтобы он уехал обратно. Со временем это, конечно, изменилось. Теперь эта раздражительность растягивается на весь месяц его пребывания дома. И стало совершенно очевидно, что в этом чувстве я не одинока.
Когда много лет назад Конор пошел на эту работу, нам было трудно так долго находиться вдали друг от друга. Я навещала его так часто, как могла, но было сложно все время отпрашиваться с работы. Поездки стали короче, реже, потом и вовсе прекратились.
Я всегда думала, что наш брак может пережить все что угодно, пока мы оба стараемся. Но потом поняла, что мне приходится стараться, чтобы стараться. Я разрывала все новые слои сложностей, которые мы создали за годы, чтобы добраться до начала наших отношений. Пыталась понять: что у нас было тогда, что мы могли бы воскресить сейчас? Что может заставить двух людей захотеть пообещать друг другу провести вместе каждый день оставшейся жизни? В конце концов я поняла, что это. Любовь. Простое короткое слово. Если бы только оно не значило так много, наш брак был бы безупречным.
Мое сознание частенько блуждало, пока я лежала на больничной койке. Временами оно прерывало свои странствия – так бывает, например, когда входишь в комнату, а потом забываешь, зачем это сделал. Сознание замирало, цепенело, и я, глядя на розовые стены, думала только о том, что смотрю на розовые стены.
Затем, выйдя из оцепенения, мое сознание продолжало блуждания, и вот как-то раз я глубоко копнула, чтобы найти воспоминание о том времени, когда мне было шесть лет и у меня был любимый чайный сервиз, подаренный мне бабушкой Бетти. Она оставила его у себя в доме, чтобы я играла с ним, когда приходила к ней по субботам. Днем, пока бабушка пила чай со своими друзьями, я одевалась в одно из красивых платьев, которые в детстве носила моя мама, и «пила чай» с кошкой Тетушкой Джемаймой. Платья, увы, не были мне впору, но я все равно их надевала, и мы с Тетушкой Джемаймой так и не полюбили чай, но обе были достаточно вежливы, чтобы каждую неделю притворяться, и успешно притворялись, пока мои родители не заезжали за мной в конце дня. Несколько лет назад я рассказала эту историю Конору, и он рассмеялся, не поняв ее смысла.
Что ж, не понял и не понял – смысл действительно легко было упустить, однако, лежа на больничной койке и заставляя себя вспоминать, я чувствовала настоящую боль от его непонимания. Ведь я хотела донести до Конора мысль о том, что люди, даже взрослея, нисколько не теряют интерес к играм и переодеваниям. Наша ложь просто становится более утонченной, вводящие в заблуждение слова – более красноречивыми. Мы играем в ковбоев и индейцев, докторов и медсестер, в мужей и жен и никогда не перестаем притворяться, что нам нравятся наши платья и наши роли. Сидя в такси рядом с папой и слушая Конора в телефонной трубке, я поняла, что дальше притворяться не собираюсь.
– Где Конор? – спрашивает папа, как только я выключаю телефон.
Он расстегивает верхнюю пуговицу на рубашке и ослабляет галстук. Папа надевает рубашку и галстук каждый раз, когда выходит из дома, и никогда не забывает о кепке. Он ищет ручку на дверце машины, чтобы опустить стекло.
– Папа, тут стекла опускаются автоматически. Вот кнопка. Конор все еще в Японии, вернется домой через несколько дней.
– Мне казалось, он должен был приехать вчера.
Папа опускает стекло до конца, и ветром его прижимает к спинке сиденья. Кепку сдувает с головы, а несколько оставшихся на макушке прядей встают дыбом. Он поплотнее натягивает кепку и устраивает с кнопкой мини-битву, пока не добивается того, что наверху остается небольшая щель, через которую воздух проникает в душное такси.
– Ага! Вот тебе! – Он победно улыбается, стуча кулаком по стеклу.
Я жду, пока он закончит возиться со стеклом, чтобы ответить:
– Должен был. Но я сказала, чтобы он этого не делал.
– Что ты кому сказала, дорогая?
– Конору. Ты спрашивал про Конора, папа.
– А, ну да, спрашивал. Скоро вернется домой, да?
Я киваю.
Сегодня жарко, и я сдуваю челку с влажного лба. Волосы прилипают сзади к мокрой шее. Неожиданно они начинают казаться мне тяжелыми и грязными. Тусклые, неживые, они тяготят меня, и я снова испытываю непреодолимое желание сбрить их напрочь, начинаю нервно ерзать на сиденье, и папа чувствует мое недовольство, но понимает, что лучше промолчать. Я веду себя так всю неделю: испытываю такую необъяснимую злость, что хочется пробить кулаком стену и поколотить медсестер. Потом становлюсь плаксивой и ощущаю внутри пустоту, огромную настолько, что кажется, ее уже никогда не наполнить. Злость лучше. Она обжигает и заполняет, дает мне за что уцепиться.
Мы останавливаемся на светофоре, и я смотрю налево. Парикмахерская.
– Пожалуйста, остановите здесь.
– Джойс, что ты делаешь?
– Папа, подожди в машине, я вернусь через десять минут. Просто быстро постригусь, я больше так не могу.
Папа смотрит на парикмахерскую, затем на водителя такси, и они оба понимают, что вмешиваться не стоит. Такси, что ехало прямо перед нами, мигает поворотником и тоже подъезжает к краю тротуара. Мы останавливаемся за ним.
Из машины выходит мужчина, и я, уже вынеся одну ногу на тротуар, застываю, чтобы посмотреть на него. Какое знакомое лицо, наверное, я его знаю. Мужчина останавливается и тоже смотрит на меня. Мы молча вглядываемся друг в друга. Каждый ищет что-то в лице другого. Он почесывает левую руку, и я почему-то внимательно за этим наблюдаю. Я чувствую себя так странно, так необычно, что по коже бегут мурашки. Тут меня пронзает мысль: не хватало только сейчас встретить знакомого! Я быстро отвожу взгляд.
Он тоже отводит от меня взгляд и делает несколько шагов.
Я наконец вылезаю из машины и иду в сторону парикмахерской. Он идет туда же. Чуть замедляю шаги, походка делается неуклюжей, неловкой. Отчего я так забеспокоилась? Вероятно, оттого, что, если я и впрямь знакома с этим человеком, мне придется ему сказать о потерянном ребенке. Да, месяц беспрерывной болтовни о ребенке, а ребенка, чтобы ее оправдать, нет. Простите, ребята. Я чувствую себя виноватой в этом, как будто обманула друзей и семью. Теперь можете дразнить меня хоть всю жизнь. Ребенком, которого никогда не будет. Сердце болезненно сжимается.
Он держит дверь в парикмахерскую открытой и улыбается. Привлекательный. Свежевыбритый. Высокий. Широкоплечий. Мускулистый. Идеальный. Американский ковбой «Мальборо». Он улыбается? Я точно должна его знать.
– Спасибо, – улыбаюсь в ответ я.
– Пожалуйста.
Мы оба останавливаемся, смотрим друг на друга, назад – на два одинаковых такси, ожидающих нас у тротуара, и снова друг на друга. По-моему, он хочет еще что-то сказать, но я быстро отвожу взгляд и вхожу внутрь.
Посетителей нет, два парня-парикмахера сидят и о чем-то болтают. У одного из них длинный хвост и короткие волосы по бокам, второй обесцвеченный блондин. Завидев нас, оба вскакивают со своих мест.
– Кого вы хотите? – спрашивает американец уголком рта.
– Блондина, – тихо отвечаю я с улыбкой.
– Значит, пойдете к тому, у которого хвост, – говорит он.
От удивления у меня открывается рот, но я смеюсь.
– Здравствуйте, мои дорогие, – подходит к нам тот, что с хвостом. – Чем могу вам помочь? – Он переводит взгляд с американца на меня. – Кто сегодня будет стричься?
– Полагаю, мы оба, да? – Американец смотрит на меня, и я киваю.
– Ой, простите, я думал, вы вместе.
Вдруг я понимаю, что мы стоим так близко, что наши бедра почти соприкасаются. Мы оба смотрим вниз, на наши соединенные бедра, затем одновременно вскидываем друг на друга глаза и потом оба делаем шаг в сторону.
– Вам стоит попробовать заняться синхронным плаванием, – хихикает парикмахер, но шутка не удается, так как мы не реагируем. – Эшли, ты берешь эту милую девушку. Теперь пройдемте со мной. – Он показывает своему клиенту на кресло. Пока американца ведут, он строит мне рожу, и я снова смеюсь.
– Я просто хочу срезать два дюйма, – говорит он. – В прошлый раз, когда я стригся, с меня состригли около двадцати. Пожалуйста, только два дюйма, – повторяет он. – Меня на улице ждет такси, чтобы отвезти в аэропорт, так что, пожалуйста, постарайтесь сделать это как можно быстрее.
Парикмахер смеется:
– Конечно, без проблем. Вы едете обратно в Америку?
Мужчина закатывает глаза:
– Нет, я не еду в Америку, я не еду в отпуск, и я не собираюсь никого встречать в аэропорту. Я просто собираюсь улететь. Подальше. Отсюда. Вы, ирландцы, задаете много вопросов.
– Разве?.. – Парикмахер накрывает американцу плечи и показывает на него ножницами. – Попались!
– Да, – отвечает тот сквозь стиснутые зубы. – Вот уж действительно.
Я громко хихикаю, и он сразу же поворачивается ко мне. Он выглядит немного смущенным. Может быть, мы действительно знакомы. Может, он работает с Конором. Может, мы вместе учились в школе. Или в колледже. Возможно, он тоже занимается недвижимостью, и я с ним работала. Нет, ведь он американец. Может быть, я показывала ему дом. Может, он известный человек, и я не должна была его разглядывать. Я смущаюсь и быстро отвожу взгляд.
Мой парикмахер заворачивает меня в черную пелерину, и я еще раз украдкой смотрю в зеркало на мужчину в соседнем кресле. Он смотрит на меня. Я смотрю в сторону, а затем снова на него. Он отводит глаза. И наш теннисный матч взглядов продолжается все время нашего пребывания в парикмахерской.
– Так что вы хотите, сударыня?
– Состричь все, – говорю я, пытаясь не смотреть на свое отражение. Однако холодные руки касаются моих пылающих щек, поднимая мою голову, и меня заставляют посмотреть себе в лицо. Есть что-то лишающее воли в том, что тебя заставляют смотреть на саму себя, когда ты не хочешь себя разглядывать, боясь увидеть что-то кровоточащее и реальное, от чего не можешь убежать. Ты можешь лгать себе, но когда ты смотришь себе в лицо, что ж, ты знаешь, что лжешь. Со мной не все в порядке. Я не скрываю этого от себя, и эта правда смотрит мне в лицо. У меня впалые щеки, большие черные круги под глазами, обведенными красными дужками век. Это следы ночных слез, и глаза от них все еще горят. Однако при всем при этом я выгляжу… собой. Несмотря на огромную перемену в жизни, я выгляжу как раньше. Уставшая, но узнаваемая. Не знаю, что я ожидала увидеть. Полностью изменившуюся женщину, при взгляде на которую людям сразу станет понятно, что она прошла через тяжелое испытание? А вот что говорит мне зеркало: никто ни о чем не догадается, просто взглянув на меня. Никогда нельзя узнать о человеке все, просто посмотрев на него.
Мой рост пять футов пять дюймов, волосы средней длины ложатся на плечи. Их цвет – что-то среднее между русым и каштановым. Я человек середины. Не толстая, но и не тощая, делаю зарядку два раза в день, немного бегаю, немного гуляю, немного плаваю. Ничего чрезмерного, ничего недостаточного. Ни на чем не помешана, ни к чему не пристрастилась. Меня нельзя назвать общительной, но и стеснительной тоже нельзя, во мне есть оба эти качества, проявляющиеся в зависимости от моего настроения и от событий вокруг. Я никогда ни к чему не прикладываю больше усилий, чем требуется, и получаю удовольствие от большинства вещей, которые делаю. Нечасто скучаю и редко жалуюсь. Когда я пью, то пьянею, но никогда не отключаюсь и не мучаюсь похмельем. Мне нравится моя работа, но я не люблю ее. Я симпатичная, не сногсшибательная, не уродина; не жду слишком многого, потому глубоко не разочаровываюсь. Редко бываю сильно возбуждена, но и полностью спокойна тоже, однако многое меня интересует. Я нормальная. Ничего захватывающего. Я смотрю в зеркало и вижу этого среднестатистического человека. Немного уставшего, немного грустного, но не разваливающегося на части. Смотрю на мужчину рядом с собой и вижу то же самое.
– Простите? – Парикмахер прерывает мои размышления. – Вы хотите состричь всё? Вы уверены? У вас такие здоровые волосы. – Он перебирает их пальцами. – Это ваш натуральный цвет?
– Да, обычно я его немного оттеняла, но перестала из-за… – Я чуть не говорю «ребенка». Мои глаза наполняются слезами, и я смотрю вниз, но он думает, что я киваю на свой живот, спрятанный под пелериной.
– Из-за чего перестали? – спрашивает он.
Я продолжаю смотреть вниз и вожу по полу ногой. Старый трюк с шарканьем. Не могу придумать, что бы ему сказать, и делаю вид, что не слышу вопроса.
– Вы сказали, что прекратили из-за чего-то.
– Мм… да. – Не плачь. Не плачь. Если ты начнешь сейчас, то не остановишься никогда. – Да я не знаю… – бормочу я и наклоняюсь, будто мне необходимо порыться в стоящей на полу сумке. Это пройдет, это пройдет. Когда-нибудь, Джойс, все это пройдет. – Я перестала, чтобы не портить волосы химикатами.
– Хорошо, вот как это будет выглядеть. – Он собирает мои волосы сзади. – А что, если мы сделаем прическу, как у Мэг Райан во «Французском поцелуе»? – Он вытягивает пряди во все стороны, и я выгляжу так, будто засунула пальцы в розетку. – Получается очень сексуально, волосы растрепаны, словно вы только что встали с постели. Или мы можем сделать так. – Он еще немного возится с моей головой.
– А мы не можем ускорить процесс? Меня тоже на улице ждет такси. – Я смотрю в окно. Папа болтает с водителем. Они оба смеются, и я немного расслабляюсь.
– Ну что ж… Но это нельзя делать на скорую руку. У вас такие густые волосы…
– Ничего страшного. Я разрешаю вам спешить. Просто отрежьте их все. – Я снова смотрю на такси.
– Дорогая, мы же должны оставить несколько дюймов. – Он опять поворачивает мое лицо к зеркалу. – Мы же не хотим сделать из вас Сигурни Уивер из «Чужого», правда? Мы сделаем вам челку набок, очень утонченно, очень модно. Я считаю, вам это пойдет, подчеркнет высокие скулы. Что вы об этом думаете?
Мне наплевать на мои скулы. Я хочу состричь всё.
– Почему бы нам попросту не сделать вот так? – Я беру у него ножницы, отрезаю свой хвост, а затем протягиваю ему и то и другое.
Он ахает. Хотя больше это напоминает писк.
При виде моего парикмахера, в руке которого зажаты длинные ножницы и десять дюймов волос, у американца отпадает челюсть. Он поворачивается к своему парикмахеру и хватает ножницы до того, как тот успевает отрезать следующую прядь.
– Не надо, – показывает он в мою сторону, – делать этого со мной!
Парикмахер с хвостом вздыхает и закатывает глаза:
– Конечно нет, сэр.
Американец снова начинает чесать левую руку:
– Наверное, меня кто-то укусил. – Он пытается отвернуть рукав рубашки, и я наклоняюсь в кресле, стараясь взглянуть на его руку.
– Пожалуйста, сидите спокойно.
– Пожалуйста, сидите спокойно.
Парикмахеры говорят в унисон. Потом смотрят друг на друга и смеются.
– Что-то смешное сегодня в воздухе, – замечает один из них, и мы с американцем смотрим друг на друга. Действительно, смешное.
– Сэр, пожалуйста, смотрите в зеркало.
Американец отворачивается.
Мой парикмахер кладет палец мне под подбородок и в очередной раз поворачивает мое лицо к зеркалу. Он протягивает мне мой хвост:
– Сувенир.
– Мне это не нужно.
Я отказываюсь брать у него свои волосы. Каждый дюйм этих волос связан с тем, чего теперь нет. С мыслями, стремлениями, надеждами, желаниями, которых больше не существует. Я хочу начать сначала. С новыми волосами.
Он начал придавать прическе форму, и я смотрю, как медленно опускается на пол каждая отрезанная прядь. Голове становится легче.
Волосы, которые выросли в тот день, когда мы купили кроватку. Чик.
Волосы, которые выросли в тот день, когда мы выбирали краску для детской, бутылочки, слюнявчики и распашонки. Все куплено слишком рано, но мы были так рады… Чик.
Волосы, которые выросли в тот день, когда мы выбрали имена. Чик.
Волосы, которые выросли в тот день, когда мы рассказали друзьям и близким. Чик.
День первого УЗИ. День, когда я узнала, что беременна. День, когда был зачат мой ребенок. Чик. Чик. Чик.
Более болезненные свежие воспоминания еще какое-то время останутся в корнях. Мне придется подождать, пока волосы вырастут, чтобы избавиться и от них тоже, и тогда все следы исчезнут, и я буду жить дальше.
Я подхожу к кассе, когда американец платит за свою стрижку.
– Вам идет, – говорит он, рассматривая меня.
Смущаясь, я пытаюсь заправить за ухо волосы, но их нет. Я чувствую себя легче – легкомысленной, радостной до головокружения.
– Вам тоже.
– Спасибо.
Он открывает мне дверь.
– Спасибо. – Я выхожу на улицу.
– Вы слишком уж вежливы, – говорит он мне.
– Спасибо, – улыбаюсь я. – Вы тоже.
– Спасибо, – кивает он.
Мы смеемся. Разглядываем ожидающие нас такси, будто стоящие в очереди, а потом с любопытством опять смотрим друг на друга. Он странно улыбается.
– Первое такси или второе? – спрашивает он.
– Мне?
Он кивает.
– Мой водитель болтает без умолку.
Я изучаю оба такси, вижу, как во втором папа наклоняется вперед и разговаривает с водителем.
– Первое. Мой папа болтает без умолку.
Он переводит взгляд на второе такси, где папа теперь прижимает лицо к стеклу и с недоумением рассматривает меня.
– Значит, второе такси, – говорит американец и, пока идет к своему, два раза оборачивается.
– Эй! – протестую я, зачарованно глядя на него.
Я подплываю к своему такси, и мы одновременно захлопываем двери. Водитель и папа смотрят на меня так, как будто увидели привидение.
– Что? – Мое сердце бешено колотится. – Что случилось? Рассказывайте.
– Твои волосы! – с чувством произносит папа, на его лице написан ужас. – Ты похожа на мальчика.
Глава восьмая
Чем ближе такси подъезжает к моему дому в Фисборо, тем сильнее затягивается узел у меня в животе.
– Занятно, что тот мужчина тоже попросил таксиста дождаться его, правда, Грейси?
– Джойс. Да, занятно, – отвечаю я, нервно покачивая ногой.
– Люди теперь так делают, когда стригутся?
– Как делают, папа?
– Оставляют такси дожидаться их.
– Я не знаю.
Он пересаживается на край сиденья и наклоняется ближе к водителю:
– Я говорю, Джек, люди, что, так теперь делают, когда идут к цирюльнику?
– Как так?
– Они просят таксистов дожидаться их на улице?
– Меня никогда раньше не просили, – вежливо объясняет водитель.
Папа удовлетворенно откидывается на сиденье:
– Так я и думал, Грейси.
– Меня зовут Джойс, – огрызаюсь я.
– Джойс. Это совпадение. А ты знаешь, что говорят о совпадениях?
– Ага.
Мы доезжаем до моей улицы, и желудок у меня переворачивается.
– Что совпадений не существует, – заканчивает папа, хотя я уже сказала «да». – Конечно нет, – говорит он самому себе. – Не существует. Вон идет Патрик, – машет он. – Надеюсь, он не будет махать в ответ. – Папа смотрит на своего друга из клуба по понедельникам, который опирается обеими руками на ходунки. – И Дэвид со своей собакой. – Он снова машет, хотя Дэвид останавливается, чтобы дать собаке покакать, и смотрит в другую сторону.
У меня складывается ощущение, что в такси папа чувствует себя довольно важной персоной. Он редко на нем ездит, так как это слишком дорого, а во все места, куда ему нужно, он может добраться пешком или немного проехать на автобусе.
– Дом, милый дом, – объявляет он. – Сколько я тебе должен, Джек? – Он снова наклоняется вперед. Достает из кармана две банкноты по пять евро.
– Боюсь, должен вас огорчить… двадцать евро, пожалуйста.
– Сколько? – Папа в ужасе поднимает глаза.
– Папа, я заплачу, убери свои деньги. – Я даю водителю двадцать пять евро и говорю, чтобы он оставил сдачу себе. Папа смотрит на меня так, как будто я только что взяла у него кружку пива и вылила его в канаву.
Мы с Конором живем в Фисборо в таунхаусе из красного кирпича с тех самых пор, как поженились десять лет назад. Эти дома были построены в сороковые, и мы годами вкладывали деньги в модернизацию своего жилища. Наконец дом стал таким, каким мы хотели, то есть он был таким до этой недели. Черная изгородь окружает маленький палисадник перед домом – царство розовых кустов, посаженных моей матерью. Папа живет в двух улицах от нас, точно в таком же доме, я в нем выросла, и, хотя мы никогда не перестаем расти, когда я оказываюсь там, то снова возвращаюсь в свою молодость.
Входная дверь моего дома открывается в тот момент, когда такси отъезжает. Фрэн, папина соседка, улыбается мне, стоя на пороге. Она странно смотрит на нас, избегая встречаться со мной взглядом. Мне придется к этому привыкнуть.
– Ой, твои волосы! – восклицает она, но спохватывается. – Прости, дорогая, я собиралась уйти до вашего приезда. – Она широко распахивает дверь и вывозит за собой клетчатую сумку на колесах. На ее правой руке резиновая перчатка.
Папа заметно нервничает и отводит глаза.
– Фрэн, что ты здесь делала? Как ты вообще попала в мой дом? – Я пытаюсь быть предельно вежливой, но вид человека, находящегося в доме без моего разрешения, одновременно поражает меня и приводит в ярость.
Она краснеет и смотрит на папу. Папа смотрит на ее руку и покашливает. Она опускает глаза, нервно хихикает и стаскивает с руки перчатку.
– А твой папа дал мне ключ. Я подумала, что… в общем, я положила для тебя в прихожей симпатичный коврик. Надеюсь, тебе он понравится.
Я смотрю на нее в полном замешательстве.
– Не важно, я уже ухожу. – Фрэн подходит ко мне, берет за руку и сильно сжимает ее, все еще не в силах взглянуть на меня. – Держись, дорогая. – Она идет вниз по дороге, волоча за собой сумку на колесах, чулки закрутились вокруг ее толстых лодыжек.
– Папа! – Я сердито смотрю на него. – Что это, черт возьми, такое? – Я врываюсь в дом и вижу отвратительный пыльный ковер, лежащий на моем бежевом ковровом покрытии. – Почему ты даешь совершенно незнакомой тетке ключи от моего дома, чтобы она могла войти и оставить здесь ковер? Я не нуждаюсь ни в чьей благотворительности!
Он снимает кепку и мнет ее в руках:
– Дорогая, она не чужой человек. Она знает тебя с того дня, когда тебя привезли домой из роддома…
Это не та история, которую стоит сейчас рассказывать, и папа осекается.
– Мне все равно! – шиплю я. – Это мой дом, не твой! Ты не вправе так поступать. Мне противен этот дерьмовый ковер! – Я поднимаю один конец грязной уродины, вытаскиваю ее на улицу и захлопываю дверь. Вне себя от злости я поворачиваюсь к папе, чтобы снова на него накричать. Лицо у него побледнело, плечи вздрагивают, он, не отрываясь, смотрит на пол. Мои глаза следуют за его взглядом.
Выцветшие пятна разнообразных оттенков коричневого разбрызганы по бежевому ковровому покрытию. В некоторых местах они счищены, но приглаженные в другую сторону ворсинки выдают, что на них что-то было. Моя кровь.
Я закрываю лицо руками.
Папа говорит тихим обиженным голосом:
– Я считал, лучше тебе этого не видеть, когда ты вернешься домой.
– Ох, папа!
– Фрэн приходила сюда ненадолго каждый день и пробовала разные чистящие средства. Это я предложил закрыть все ковром, – говорит он еще тише. – Ты не можешь обвинять в этом ее.
Я презираю себя.
– Знаю, ты любишь, чтобы в твоем доме были красивые, подходящие друг к другу вещи. – Он оглядывается вокруг. – Но ни у Фрэн, ни у меня таких нет.
– Папа, прости меня. Я не знаю, что на меня нашло. Прости, что я накричала на тебя. Ты ведь только и делал, что помогал мне всю эту неделю. Я… я как-нибудь позвоню Фрэн и должным образом поблагодарю ее.
– Хорошо, – кивает он. – Теперь я, пожалуй, пойду. Я отнесу ковер обратно Фрэн, не хочу, чтобы кто-нибудь из соседей увидел его на улице, а потом рассказал ей.
– Нет, я положу его туда, где он лежал. Он слишком тяжел для тебя. Я пока оставлю его тут и скоро ей верну. – Я открываю дверь, поднимаю ковер с дорожки, затаскиваю в дом без прежней ненависти и кладу так, чтобы он закрыл место, где я потеряла своего ребенка.
– Папа, прости меня, пожалуйста.
– Не переживай. – Хромая, он подходит ко мне и похлопывает по плечу. – Я понимаю, у тебя сейчас трудные времена. Если я тебе понадоблюсь, я прямо за углом.
Резкое движение запястьем – кепка снова у него на голове. Я смотрю, как он – влево-вправо, влево-вправо – идет по дороге. Это зрелище привычное и успокаивающее, как морской прилив. Он исчезает за углом, и я закрываю дверь. Одна. В тишине. Только я и дом. Жизнь продолжается, как будто ничего не произошло.
Мне кажется, я ощущаю, как детская наверху вибрирует, – сквозь стены и пол доносится: тук-тук, тук-тук. Как будто сердце дома гонит кровь, пока она не потечет вниз по ступеням, по коридорам, не достигнет каждого крошечного уголка, каждой трещинки. Я ухожу прочь от лестницы, места преступления, и бесцельно брожу по комнатам. Вроде бы все точно так же, как было, хотя, присмотревшись, я вижу, что Фрэн навела порядок. Чашка с чаем, который я пила, исчезла с журнального столика в гостиной. Из небольшой кухни доносится жужжание посудомоечной машины, которую включила Фрэн. Краны и сушилка блестят, поверхности сияют. Дверь из кухни ведет прямо в сад за домом. Розовые кусты моей мамы тянутся вдоль задней стены. Из земли выглядывает папина герань.
Детская наверху все еще пульсирует.
Я замечаю, что в холле мигает красный огонек автоответчика. Четыре сообщения. Просматриваю список звонивших и узнаю номера друзей. Оставляю автоответчик в покое: пока я еще не в состоянии слушать их соболезнования. Потом замираю. Иду назад. Снова просматриваю список. Вот оно. Вечер понедельника. В 7:10 вечера. Потом опять в 7:12. Мой второй шанс ответить на звонок. Звонок, ради которого я так глупо бросилась вниз по лестнице и пожертвовала жизнью своего ребенка.
Они оставили сообщение. Дрожащими пальцами я нажимаю на кнопку «Прослушать».
– Здравствуйте, вам звонят из отделения «Экстра-вижн» в Фисборо по поводу ди-ви-ди «Рождественский гимн Маппет-шоу». Наша система сообщает, что его нужно было сдать еще неделю назад. Мы будем очень признательны, если вы сделаете это как можно быстрее.
Я делаю резкий вдох. На глаза наворачиваются слезы. Чего я ожидала? Какого телефонного звонка? Чего-то настолько срочного и важного, что умерило бы мою вину, послужило бы оправданием моей потери?
Меня трясет от ярости и потрясения. Прерывисто дыша, я иду в гостиную. Вот проигрыватель для DVD. На нем лежит диск, который я взяла напрокат, пока присматривала за своей крестной дочерью. Я тянусь за диском, крепко сжимаю его пальцами, словно хочу придушить. Потом бросаю со всей силы через комнату. Он сшибает коллекцию фотографий, стоящую на пианино, раскалывает стекло нашей свадебной фотографии, отбивает кусочек серебристой рамки другого фото.
Я открываю рот. И кричу. Кричу во весь голос, так громко, как только могу. Крик глубокий и низкий, он полон боли. Я снова кричу и не замолкаю, пока не выбиваюсь из сил. Один за другим крики вырываются из горла, из глубин моего сердца. Я испускаю низкие завывания, в них слышатся разочарование и полуистерический смех. Я кричу, кричу, пока не начинаю задыхаться, а горло не перехватывает судорогой боли.
Детская наверху продолжает вибрировать: тук-тук, тук-тук. Сердце дома, бешено стуча, зовет меня. Я иду к лестнице, переступаю через ковер и становлюсь на нижнюю ступеньку. Хватаюсь за перила, чувствуя себя слишком слабой, чтобы оторвать ноги от земли. Я тяну себя наверх. Биение становится все громче и громче с каждой ступенькой, пока я не добираюсь до самого верха и не встаю перед дверью в детскую. Сердце дома перестает биться. Теперь все стихло.
Я провожу по двери пальцем, прижимаюсь к ней щекой, желая, чтобы все, что случилось, было неправдой. Берусь за ручку и открываю дверь.
Меня приветствует стена, наполовину выкрашенная в цвет «мечта лютика». Нежный пастельный оттенок. Сладкие запахи. Кроватка, над которой висит погремушка-мобиль с маленькими желтыми утятами. Ящик для игрушек с огромными буквами алфавита. На маленькой вешалке висят два детских комбинезончика. Маленькие ботиночки на комоде.
В кроватке наготове сидит кролик. Он глупо улыбается мне. Я закрываю за собой дверь. Она не издает ни звука. Снимаю ботинки и ступаю босиком по мягкому ковру с длинным ворсом, пытаясь погрузиться в этот мир. Поднимаю кролика и несу его с собой по комнате, прикасаясь руками к блестящей новой мебели, одежде и игрушкам. Открываю музыкальную шкатулку и смотрю, как маленькая мышка внутри начинает бегать по кругу в погоне за кусочком сыра под гипнотизирующую звенящую мелодию.
– Прости меня, Шон, – шепчу я, и слова застревают у меня в горле. – Пожалуйста, прости.
Я опускаюсь на мягкий пол, подтягиваю к себе ноги и обнимаю кролика, пребывающего в счастливом неведении. И снова смотрю на маленькую мышку, все существование которой вращается вокруг вечного преследования кусочка сыра, который она никогда не сможет догнать, не говоря уже о том, чтобы съесть.
Я захлопываю шкатулку, музыка смолкает, и я остаюсь в тишине.
Глава девятая
– Я не могу найти в квартире никакой еды, так что нам придется заказать доставку! – кричит в сторону гостиной, роясь в шкафах на кухне, Дорис, невестка Джастина.
– Так что, возможно, ты знаешь эту женщину.
Эл, младший брат Джастина, сидит на пластиковом садовом стуле в наполовину обставленной гостиной.
– Нет, понимаешь, это как раз то, что я пытаюсь объяснить. Я ее как будто знаю, но в то же время не знаю совсем.
– Ты ее узнал.
– Да. То есть нет. – Что-то вроде.
– И ты не знаешь ее имени.
– Нет, я точно не знаю ее имени.
– Эй! Меня кто-нибудь там слушает, или я разговариваю сама с собой? – снова прерывает их Дорис. – Я сказала, что тут нет никакой еды, так что нам придется заказать доставку.
– Да, милая, конечно, – машинально отвечает ей Эл. – Может быть, она твоя студентка или приходила на одну из твоих лекций. Ты обычно запоминаешь людей, которым читаешь лекции?
– На лекциях одновременно бывают сотни людей, – пожимает плечами Джастин. – И обычно они сидят в темноте.
– То есть не запоминаешь. – Эл потирает подбородок.
– Про доставку тоже забудьте! – кричит Дорис. – У тебя нет ни тарелок, ни приборов, так что нам придется сходить куда-нибудь поесть.
– И вот что странно, Эл. Когда я говорю «узнал», то имею в виду, что на самом деле я не знал ее лица.
Эл хмурится.
– Просто у меня возникло ощущение, – продолжает Джастин. – Как будто она была мне знакома. – Да, точно, она казалась знакомой.
– Может быть, она похожа на человека, которого ты знаешь?
Может быть.
– Ау! Меня кто-нибудь слышит? – прерывает их Дорис, появляясь в дверях гостиной; руки с леопардовыми ногтями длиной в дюйм упираются в обтянутые кожаными брюками бока.
Дорис тридцать пять лет, по происхождению она италоамериканка и имеет привычку говорить быстро и эмоционально. Она уже десять лет замужем за Элом, и Джастин воспринимает ее как милую, но надоедливую младшую сестру. В ней нет ни грамма лишнего веса, и все, что она надевает, выглядит так, как будто взято из шкафа героини мюзикла «Бриолин» Сэнди, после того как та сменила имидж.
– Да, милая, конечно, – снова говорит Эл, не отводя глаз от Джастина. – Может быть, это была та штука, которая называется дежа вю.
– Да! – Джастин щелкает пальцами. – Или, возможно, дежа весю или дежа санти. – Задумавшись, он потирает подбородок. – Или дежа визите.
– Это еще что за чертовщина? – спрашивает Эл, пока Дорис передвигает картонную коробку с книгами, чтобы сесть на нее рядом с ними.
– Дежа вю по-французски значит «уже виденное». При этом психологическом состоянии человеку кажется, что он уже видел или переживал раньше ситуацию, которая для него нова. Этот термин был введен французским психологом Эмилем Буараком и подробно исследован в эссе, которое он написал, работая в Чикагском университете.
– Вперед, Бордовые[3]! – Эл поднимает в воздух старый призовой кубок Джастина, в который налито пиво, и быстро опорожняет его.
Дорис смотрит на него с презрением:
– Джастин, пожалуйста, рассказывай дальше.
– Ну, состояние дежа вю обычно сопровождается непреодолимым ощущением узнавания, а также ощущением чего-то жуткого или странного. Считается, что подобное состояние чаще всего подготовлено подсознанием, в частности снами, хотя в некоторых случаях люди бывают твердо уверены в том, что это переживание действительно имело место в прошлом. Бергсон определяет дежа вю как «воспоминание о настоящем».
– Ничего себе! – с придыханием говорит Дорис.
– Так что ты хочешь сказать, братишка? – интересуется Эл, рыгая.
– Не думаю, что вчерашнее происшествие можно расценить как дежа вю. – Джастин хмурится и вздыхает.
– Почему нет?
– Потому что дежа вю связано только со зрением, а я почувствовал… ох, я не знаю, как объяснить. Термин дежа весю переводится как «уже пережитое» и объясняет ощущение, которое включает в себя не только зрение, но и необъяснимое знание того, что произойдет дальше. Дежа санти означает «уже почувствованное», являясь исключительно ментальным явлением, а дежа визите включает в себя сверхъестественное знание нового места, но оно не так распространено. Нет. – Джастин качает головой. – Я точно не чувствовал, что раньше уже бывал в этой парикмахерской.
Все замолкают.
Эл прерывает молчание:
– Ну, это точно дежа-что-то. Ты уверен, что раньше с ней не спал?
– Эл! – Дорис хлопает мужа по руке. – Джастин, почему ты не дал мне себя постричь, и вообще, о ком мы говорим?
– Ты же хозяйка парикмахерской для собак, – морщится Джастин.
– У собак тоже есть волосы, – пожимает она плечами.
– Давай я попробую тебе объяснить, Дорис, – начинает Эл. – Вчера в дублинской парикмахерской Джастин увидел женщину, и он считает, что узнал ее, но при этом никогда не видел раньше ее лица, и он почувствовал, что они знакомы, хотя на самом деле – ничего подобного! – Он театрально закатывает глаза, пока Джастин не видит.
– О го-осподи, – выпевает Дорис. – Я знаю, что это такое.
– Что же? – спрашивает Джастин, делая глоток из стаканчика для зубных щеток.
– Это же очевидно. – Она поднимает руки вверх и переводит взгляд с одного брата на другого для большего драматизма. – Это пришло из твоей прошлой жизни! – Лицо Дорис озаряется. – Ты знал эту женщину в про-ошлой жи-изни. – Она с удовольствием растягивает слова. – Я видела что-то в этом роде на шоу Опры Уинфри. – Она кивает и широко распахивает глаза.
– Дорис, прекрати нести эту чушь! – снисходительно бросает Эл. – От нее теперь прямо спасу нет! Посмотрит что-то по телевизору и все уши прожужжит. Пока летели из Чикаго, только и слушал такую вот лабуду!
– Я не думаю, что это связано с прошлой жизнью, Дорис, но все равно спасибо.
Дорис неодобрительно качает головой:
– Вам обоим хорошо бы задуматься над явлениями такого рода. Вы невосприимчивы, а ведь никогда не знаешь…
– Вот именно, ты никогда не знаешь, – парирует Эл.
– Да ладно вам, ребята. Эта женщина была мне знакома – вот и все. Может быть, она просто выглядела как кто-то, кого я знал дома. Ничего особенного. – Забудь об этом и живи дальше.
– Ну ты же сам начал рассказывать про свою дежа штуку, – раздражается Дорис. – Как ты это объяснишь?
Он пожимает плечами:
– Теорией задержки прохождения оптического сигнала.
Они оба непонимающе смотрят на него.
– Есть теория, согласно которой один глаз может регистрировать то, что видит, чуть быстрее, чем другой, создавая тем самым сильное ощущение воспоминания той же сцены, когда через миллисекунды ее видит второй глаз. По существу, это результат задержанного оптического входного сигнала от одного глаза, за которым почти сразу же следует входной сигнал от второго глаза. Это сбивает сознательное восприятие и приводит к ощущению знакомства с ситуацией, которого не должно быть.
Тишина.
Джастин прочищает горло.
– Веришь или нет, дорогая, но я предпочитаю твою версию про прошлую жизнь, – фыркает Эл и выцеживает остатки пива.
– Спасибо, милый! – Дорис потрясенно прикладывает руки к груди. – А теперь напомню вам, о чем я разговаривала сама с собой на кухне: здесь нет ни еды, ни приборов, ни посуды, так что нам придется сегодня вечером пойти куда-нибудь поесть. Посмотри, как ты живешь, Джастин. Я беспокоюсь о тебе. – Дорис с отвращением оглядывает комнату, поворачивая голову с выкрашенными в ярко-красный цвет, зачесанными назад и налакированными волосами. – Ты переехал в эту страну с пустыми руками, у тебя нет ничего, кроме садовой мебели и нераспакованных коробок. А сама квартира! Такую халупу только студентам сдавать! Очевидно, при разделе имущества Дженнифер, в числе прочего, достался и вкус.
– Этот дом – шедевр викторианской архитектуры, Дорис. Мне посчастливилось найти единственное место, где хоть немного чувствуется история и арендная плата по карману. Лондон – дорогой город.
– Уверена, несколько сотен лет назад дом и вправду был просто конфетка, но теперь у меня от него мурашки бегут по спине. Так и кажется, что его бывший хозяин до сих пор бродит по этим комнатам. Я чувствую, как он наблюдает за мной! – Дорис вздрагивает.
– Не льсти себе! – Эл закатывает глаза.
– Немного внимания и заботы – и это будет дивное местечко, – говорит Джастин, стараясь не поддаваться бесплодным сожалениям о квартире в богатом историческом районе Старого Чикаго, которую он любил и недавно вынужден был продать.
– Внимание и забота – как раз по моей части. – Дорис весело хлопает в ладоши.
– Отлично. – Джастин натянуто улыбается. – А теперь давайте пойдем поужинаем. Мне захотелось съесть стейк.
– Джойс, ты же вегетарианка! – Конор смотрит на меня так, как будто я сошла с ума. А может, действительно сошла? Не помню, когда в последний раз ела говядину, однако сейчас, когда мы сели за столик в ресторане, у меня неожиданно возникло желание это сделать.
– Конор, я не вегетарианка. Я просто не люблю говядину.
– Но ты только что заказала стейк с кровью!
– Знаю. – Я пожимаю плечами. – Я просто сумасшедшая.
Он улыбается, как будто вспоминая, что и во мне когда-то была чертовщинка. Мы похожи на двух друзей, встретившихся после многолетней разлуки. Нам нужно о многом поговорить, но совершенно непонятно, с чего начать.
– Вы уже выбрали вино? – спрашивает Конора официант.
Я быстро хватаю меню:
– Вообще-то я бы хотела заказать вот это. – И показываю официанту название.
– Сансер тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Прекрасный выбор, мадам.
– Спасибо. – Не имею ни малейшего представления, почему остановилась именно на этом сансере.
Конор смеется:
– Ты воспользовалась считалочкой?
Я улыбаюсь, хотя на самом деле очень волнуюсь. Я не знаю, почему выбрала это вино. Оно слишком дорогое, и обычно я пью белое, но веду себя как ни в чем не бывало, потому что не хочу, чтобы Конор решил, что я спятила. Он уже подумал, что я сошла с ума, когда увидел, что я отстригла волосы. Он должен понимать, что с головой у меня все в порядке, чтобы я смогла сообщить то, что собираюсь сказать этим вечером.
Официант возвращается с бутылкой вина.
– Ты можешь произвести дегустацию, – говорит Эл Джастину. – Раз уж ты его выбрал.
Джастин поднимает бокал с вином, опускает в него нос и глубоко вдыхает.
Я делаю глубокий вдох, потом покачиваю вино в бокале, наблюдая за тем, как оно поднимается и омывает края. Делаю глоток и, задерживая его на языке, позволяю вину жечь мой рот изнутри. Превосходно!
– Замечательно. Спасибо. – И ставлю бокал на стол.
Бокал Конора еще не тронут.
– Это прекрасное вино. – Я начинаю рассказывать ему историю.
– Меня оно покорило, когда мы с Дженнифер много лет назад ездили во Францию, – объясняет Джастин. – Она там выступала с оркестром на Фестивале соборов Пикардии. Незабываемые впечатления! В Версале мы останавливались в «Отель де Берри», элегантном особняке, построенном в тысяча шестьсот тридцать четвертом году и обставленном мебелью того времени. Это был практически музей истории региона, – мы же, кажется, про него уже говорили. Как бы то ни было, в один из ее свободных вечеров мы нашли в Париже чудесный рыбный ресторанчик, притаившийся на одной из мощеных улочек Монмартра. Мы заказали дежурное блюдо, морского окуня, но ни для кого не секрет, насколько я люблю красное вино – я его пью даже с рыбой, так что официант предложил нам взять сансер. А мне, честно говоря, раньше представлялось, что сансер – это белое вино, ведь оно знаменито тем, что его делают из винограда сорта совиньон, но оказалось, что при изготовлении в вино добавляют также немного пино нуар. Результат потрясающий: красный сансер можно пить охлажденным до двенадцати градусов, как обычно охлаждают белые вина, скажем, белый сансер. А в неохлажденном виде его хорошо сочетать с мясом. Чин-чин! – Джастин пьет за здоровье брата и невестки.
Конор смотрит на меня с окаменевшим лицом:
– Монмартр? Джойс, ты же никогда не была в Париже. Откуда ты так много знаешь об этом вине? И кто, черт возьми, эта Дженнифер?
Я делаю паузу, выхожу из транса и неожиданно слышу слова истории, которую только что рассказала. И делаю единственное, что могу в данных обстоятельствах, – начинаю смеяться:
– Попался!
– Попался? – хмурится он.
– Это слова из фильма, который я недавно смотрела.
– А! – По его лицу проходит волна облегчения, и он расслабляется. – Джойс, ну ты меня и напугала! Я подумал, что кто-то вселился в твое тело, – улыбается он. – Из какого это фильма?
– Ох, я и не помню, – отмахиваюсь я, не понимая, что со мной творится, и пытаясь вспомнить, смотрела ли я на прошлой неделе по вечерам телевизор.
– Ты разлюбила анчоусы? – Конор прерывает мои размышления и смотрит на небольшую кучку анчоусов, которую я собрала на краю тарелки.
– Отдай их мне, братишка, – говорит Эл, придвигая свою тарелку поближе к тарелке Джастина. – Я их обожаю. Как ты можешь есть салат «Цезарь» без анчоусов, выше моего понимания. Ничего, если я съем анчоусы, Дорис? – с сарказмом спрашивает он. – Док не говорил, что анчоусы могут меня убить, правда?
– Нет, если только кто-то насильно не запихнет тебе их в глотку, что вполне возможно, – сквозь зубы отвечает Дорис.
– Мне тридцать девять лет, а со мной обращаются как с ребенком. – Эл тоскливо смотрит на кучку анчоусов.
– Мне тридцать пять лет, а мой единственный ребенок – это мой муж, – огрызается Дорис, подцепляет вилкой один анчоус и пробует его на вкус. Сморщив нос, она оглядывает ресторан. – И они называют это итальянской кухней? Моя мать и ее семья перевернулись бы в гробах, если бы узнали об этом! – Она быстро крестится. – Джастин, лучше расскажи нам о своей девушке.
Джастин хмурится:
– Дорис, не надо делать из мухи слона, я же сказал, что мне просто показалось, что я ее знаю. – А она выглядела так, будто ей показалось, что она тоже меня знает.
– Нет, не об этой, – громко говорит Эл с набитым анчоусами ртом. – Она говорит о женщине, с которой ты недавно переспал.
– Эл! – Еда застревает у Джастина в горле.
– Джойс! С тобой все в порядке? – с тревогой спрашивает Конор.
Слезы наворачиваются мне на глаза, пока я пытаюсь отдышаться после кашля.
– Вот, выпей воды. – Он протягивает мне стакан.
Люди вокруг с беспокойством смотрят на нас.
Я кашляю так сильно, что даже не могу перевести дыхание, чтобы сделать глоток воды. Конор огибает стол и подходит ко мне. Он похлопывает меня по спине, но я сбрасываю его руку, все еще кашляя, по моему лицу текут слезы. В панике я вскакиваю, опрокидывая при этом стул.
– Эл, Эл! Сделай что-нибудь. О Святая Мадонна! – в ужасе кричит Дорис. – Он синеет.
Эл вытаскивает из-за воротника салфетку и неторопливо кладет ее на стол. Поднимается, встает за спиной брата и, обхватив его руками вокруг талии, с силой нажимает на живот.
На втором толчке застрявший кусок вылетает у Джастина изо рта.
Когда уже третий человек бежит, чтобы помочь мне, а вернее, для того чтобы присоединиться к встревоженному обсуждению необходимости решиться на прием Геймлиха[4], я неожиданно перестаю кашлять. Три пары глаз с удивлением взирают на меня, пока я в замешательстве потираю горло.
– Отдышалась? – спрашивает Конор, продолжая похлопывать меня по спине.
– Да, – шепчу я, смущенная всеобщим вниманием. – Все прошло, спасибо. Огромное спасибо вам за помощь.
Люди медленно расходятся.
– Пожалуйста, успокойтесь и наслаждайтесь ужином. Я в порядке, честное слово. Спасибо. – Я быстро сажусь и вытираю с глаз потекшую тушь, пытаясь не обращать внимания на взгляды окружающих. – Господи, какая неловкость!
– Не неловкость, а странность, потому что ты даже ничего не съела. Ты просто говорила, а потом – бац! Начала кашлять.
Я пожимаю плечами и потираю горло:
– Видимо, что-то попало, когда я вдохнула.
Подходит официант, чтобы убрать наши тарелки:
– Вам уже лучше, мадам?
– Да, спасибо, все хорошо.
Я чувствую толчок сзади, когда сосед наклоняется к нашему столику:
– Знаете, мне сначала показалось, что вы собрались рожать, ха-ха! Правда, Маргарет?! – Он смотрит на свою жену и смеется.
– Нет, – говорит Маргарет, ее улыбка быстро гаснет, а лицо краснеет. – Нет, Пэт.
– А? – Он в замешательстве. – Во всяком случае, я так подумал. Поздравляю, Конор. – Он подмигивает внезапно побледневшему Конору. – На следующие двадцать лет о сне можно было бы забыть, вы уж мне поверьте. Наслаждайтесь ужином. – Он поворачивается к своему столику, и мы слышим, как они с женой вполголоса переругиваются.
Конор меняется в лице, он тянется через стол и берет меня за руку:
– Пожалуйста, не обращай внимания!
– Не все еще знают, что со мной произошло, – говорю я и безотчетно кладу руку на свой плоский живот. – Я практически ни разу не смотрела на себя в зеркало, с тех пор как вернулась домой. У меня нет сил смотреть.
Конор издает соответствующие ситуации утешительные звуки, я слышу слова «красивая», «привлекательная» и останавливаю его. Он должен меня выслушать. Я хочу, чтобы он знал: я не пытаюсь быть привлекательной или красивой, а в виде исключения хочу выглядеть такой, какая я есть. Хочу рассказать ему, что чувствую, когда заставляю себя взглянуть в зеркало и рассмотреть свое тело, которое теперь ощущаю как пустую скорлупу.
– О Джойс! – Он сильнее сжимает мою руку, пока я говорю, обручальное кольцо, впиваясь в кожу, причиняет боль.
Обручальное кольцо есть, а брака нет.
Я поворачиваю запястье, чтобы он понял, что нужно ослабить хватку. А он вместо этого отпускает мою руку. Знак.
– Конор, – произношу я, бросаю на него взгляд и понимаю, что он знает, что я собираюсь сказать. Он уже видел этот взгляд раньше.
– Нет, нет, нет и нет, Джойс, не надо сейчас заводить этот разговор. – Он поднимает руку, словно защищаясь. – Ты – мы – и так через многое прошли за эту неделю.
– Конор, давай не будем больше закрывать на это глаза. – Я наклоняюсь вперед, мой голос настойчив. – Нам нужно разобраться с нашими отношениями сейчас, или мы и не заметим, как пройдет десять лет, и каждый день нашей несчастливой жизни мы будем представлять себе, как все могло бы быть.
В течение последних пяти лет мы столько раз обсуждали наши отношения, что я и теперь жду от Конора привычных возражений типа: никто и не говорит, что в браке должно быть легко, и не надо ожидать, что так будет, мы дали друг другу клятву, брак – это на всю жизнь, и он намерен работать над этим. Спасайте то, что можно спасти, – вот какую идею проповедует мой странствующий супруг. Я разглядываю отражение люстры в своей десертной ложке в ожидании его обычных комментариев. Через несколько минут понимаю, что они так и не прозвучали. Я поднимаю глаза и вижу, что он борется со слезами и кивает, похоже, соглашаясь со мной.
Я перевожу дыхание. Вот и все.
Джастин внимательно изучает меню десертов.
– Тебе этого нельзя, Эл. – Дорис вырывает меню из рук мужа и захлопывает его.
– Почему? Мне что, даже прочитать его нельзя?
– У тебя холестерин повышается от одного только чтения.
Пока они препираются, Джастин погружается в свои мысли. Ему тоже не стоит есть десерт. После развода он позволил себе расслабиться и вместо привычной ежедневной зарядки использовал еду как утешение. Да, действительно не стоит есть сладкое, однако его глаза замирают на одном из названий в меню как хищник при виде добычи.
– Вы будете десерт, сэр? – спрашивает официант.
Давай же.
– Да, я буду…
– Бананово-карамельный торт, пожалуйста, – выпаливаю я официанту, совершенно неожиданно для себя.
У Конора от удивления открывается рот.
О господи! Мой брак только что распался, а я заказываю десерт. Я закусываю губу и пытаюсь сдержать нервную улыбку.
Съем кусок торта и произнесу тост: за начало чего-то нового!
Чем бы оно ни оказалось.
Глава десятая
Заливистый звон дверного колокольчика приветствует меня в скромном доме моего отца. Громкий звук плохо соответствует небольшому домику с двумя комнатами внизу и двумя наверху, да и отцу как-то не подходит.
Этот звук отбрасывает меня назад в прошлое, когда я ребенком жила в этих стенах. Тогда я определяла посетителей по тому, как они звонят в дверь. Короткие пронзительные звуки говорили мне, что мои приятели, не доросшие до того, чтобы дотянуться рукой, подпрыгивают, пытаясь нажать на кнопку. Быстрые и слабые трели предупреждали, что на улице жмутся мои ухажеры, испуганные тем, что объявили о факте своего существования, не говоря уже о своем приходе, моему отцу. Неравномерные бесчисленные звонки, раздававшиеся поздно ночью, означали, что папа вернулся из паба без ключей. Радостные игривые мелодии сопровождали визиты родственников по праздникам, а короткие громкие и многократно повторяющиеся сигналы, напоминающие пулеметную очередь, предупреждали нас о приходе коммивояжеров. Я еще раз нажимаю на кнопку, но не только потому, что в десять часов утра дом безмолвен и в нем не заметно движения, – я хочу знать, как звучит мой звонок.
Извиняющийся, короткий и невыразительный. Как будто ему неловко, что кому-то придется его услышать. Мой звонок говорит: «Прости, папа, прости, что беспокою тебя. Прости, что твоя тридцатитрехлетняя дочь, от которой, как ты думал, ты уже давно избавился, вернулась домой после того, как развалился ее брак».
Наконец я слышу какие-то звуки и вижу сквозь искривляющее стекло, как папа, похожий на зловещую тень, хромая, приближается к двери.
– Прости, дорогая, – говорит он, открывая. – В первый раз я не услышал тебя.
– Если ты не слышал, то откуда знаешь, что я звонила?
Он безучастно смотрит на меня, затем вниз, на чемоданы у моих ног:
– Что это?
– Но ведь… ты же сказал, что я могу какое-то время побыть здесь.
– Я думал, ты имеешь в виду – до конца этой телеигры «Обратный отсчет».
– Ох… Вообще-то я надеялась остаться немного дольше.
– Судя по всему, ты будешь здесь еще долго после того, как я умру. – Он осматривает чемоданы. – Входи, входи. А где Конор? Что-то случилось с домом? У вас опять завелись мыши, да? Сейчас для них самый сезон, так что вы должны были держать двери и окна закрытыми. Закрываю все отверстия, вот что я делаю. Я покажу тебе, когда мы войдем и устроимся. И Конору нужно показать.
– Папа, я никогда не приезжала сюда пожить из-за мышей.
– Все когда-то случается в первый раз. Твоя мать обычно так делала. Она их ненавидела. Переезжала на несколько дней к твоей бабушке, пока я бегал здесь, как тот кот из мультика, пытаясь их поймать. Его звали Том или Джерри, да? – Он сильно зажмуривается, вспоминая, затем снова открывает глаза. – Не помню. Никогда не знал, кто из них кто, но, черт возьми, мыши это знали, когда я бегал за ними. – Подняв вверх кулак, он застывает на несколько мгновений с отважным видом, захваченный этой мыслью, потом неожиданно опускает руку и вносит мои чемоданы в прихожую.
– Папа, – разочарованно говорю я, – я думала, ты меня понял, когда мы говорили по телефону. Мы с Конором разошлись.
– Разо… что?
– Разошлись.
– С кем?
– Друг с другом.
– Что ты такое говоришь, Грейси?
– Джойс. Мы больше не вместе. Мы расстались.
Он ставит чемоданы у завешанной фотографиями стены, которая должна представить любому посетителю, переступившему порог, краткий курс истории семьи Конвей. Папа в детстве, мама в детстве, папа с мамой, когда они начали встречаться, свадьба, мои крестины, причастие, бал дебютанток и свадьба. Поймай мгновение, вложи в рамку и выстави на всеобщее обозрение – таков образ мыслей моих родителей. Интересно, какие критерии люди выбирают, чтобы решить, какое мгновение значит больше, чем все остальные? Ведь вся жизнь состоит из мгновений! Мне нравится думать, что лучшие моменты моей жизни из головы текут по моей крови в свое собственное хранилище памяти, где их никто не сможет увидеть, кроме меня.
Папа не реагирует на упоминание о моем распавшемся браке. Он проходит на кухню и спрашивает оттуда:
– Чаю?
Я стою в прихожей, глядя на фотографии вокруг, и вдыхаю этот запах. Запах, который каждый день носит за собой папа, как улитка носит свой дом. Я всегда думала, что это запах маминой готовки, разнесшийся по комнатам и проникший во все вокруг, включая обои, но после ее смерти прошло уже десять лет. Может быть, этим запахом была она, может быть, это все еще она.
– Скажи на милость, зачем ты нюхаешь стены?
Я подпрыгиваю, испуганная и смущенная тем, что меня застукали, и прохожу на кухню. Она не изменилась с тех пор, как я здесь жила: такая же чистая, как и в тот день, когда мама покинула ее, ничто не передвинуто, даже ради удобства. Я смотрю, как папа медленно передвигается по ней, опирается на правую ногу, чтобы залезть в нижний шкаф, а потом использует лишние дюймы своей левой ноги как персональную скамеечку, чтобы достать что-то сверху. Чайник шумит, закипая, слишком громко, делая разговоры невозможными, и я рада этому, потому что папа сжимает ручку так сильно, что у него белеют костяшки пальцев. В левой руке, которой он упирается в бок, зажата чайная ложка, и это напоминает мне, как раньше он так же держал сигарету, прикрывая ее рукой, покрытой желтыми никотиновыми пятнами. Он смотрит в свой идеальный сад и скрежещет зубами. Он зол, и я снова чувствую себя подростком, ожидающим выговора.
– О чем ты думаешь, папа? – спрашиваю я, лишь только чайник перестает подпрыгивать, как фанаты на переполненных трибунах стадиона Крок-парк во время финала чемпионата Ирландии по футболу.
– О саде, – отвечает он, стискивая зубы.
– О саде?
– Эта проклятая соседская кошка все время писает на розы твоей матери. – Он сердито трясет головой. – Пушистик! – Он вскидывает вверх руки. – Так она его зовет. Что ж, Пушистик не будет таким пушистым, когда попадет мне в руки. Я буду носить одну из тех красивых меховых шапок, которые носят русские, и станцую гопак перед домом миссис Хендерсон, пока она в спальне будет заворачивать дрожащего Лысика в одеяло.
– Ты действительно думаешь об этом? – недоверчиво спрашиваю я.
– Ну, не только, дорогая, – признается он, успокаиваясь. – Об этом и о нарциссах. Недолго осталось до времени весенних посадок. И немного крокусов. Мне нужно достать несколько луковиц.
Приятно сознавать, что конец моего брака не стоит для моего отца на первом месте. Как и на втором. В списке он после крокусов.
– И подснежники тоже, – добавляет он.
Я редко бываю в этом районе в столь ранний час. Обычно в это время я на работе, показываю здания в городе. Сейчас, когда все на службе, здесь так тихо, и мне интересно, чем папа может заниматься в этой тишине.
– Что ты делал до того, как я появилась?
– Тридцать три года назад или сегодня?
– Сегодня. – Я стараюсь не улыбаться, потому что знаю, что он говорит серьезно.
– Кроссворд разгадывал. – Он кивает на кухонный стол, где лежит газетный лист, полный головоломок и загадок. Половина уже решена. – Я застрял на шестом. Посмотри на него. – Он приносит на стол чашки чая, умудряясь не пролить ни капли. Всегда устойчивый.
– Кто из влиятельных критиков сказал про одну из опер Моцарта, что в ней «слишком много нот»? – читаю я вслух.
– Моцарт! – Папа пожимает плечами. – Вообще про этого парня ничего не знаю.
– Император Иосиф второй, – говорю я.
– Ничего себе! – Папины брови-гусеницы от удивления поднимаются вверх. – Откуда ты это знаешь?
Я хмурюсь:
– Наверное, слышала об этом где-нибу… это дымом пахнет?
Он выпрямляется и нюхает воздух, как ищейка:
– Тост подгорел. Поставил на слишком сильный нагрев и сжег его. А больше хлеба нет.
– Вот незадача! – Я качаю головой. – Где мамина фотография из прихожей?
– Которая? Там тридцать ее фотографий.
– Ты считал? – смеюсь я.
– Я же их все прибивал! Всего сорок четыре фотографии, так что мне нужны были сорок четыре гвоздя. Я пошел в скобяную лавку и купил пачку гвоздей. В ней было сорок гвоздей. Они заставили меня купить вторую пачку всего из-за четырех лишних гвоздей. – Он поднимает вверх четыре пальца и качает головой. – У меня до сих пор лежат оставшиеся тридцать шесть в коробке с инструментами. Куда, куда катится этот мир?..
Забудьте про терроризм, преступность и глобальное потепление. Доказательство крушения мира, по его мнению, заключается в тридцати шести гвоздях в коробке с инструментами. Возможно, в этом он прав.
– Так где она?
– Там, где и всегда, – говорит он неубедительно.
Мы оба смотрим на закрытую дверь кухни. Я встаю, чтобы пойти в прихожую и проверить. Такие вещи делаешь, когда в твоем распоряжении много свободного времени.
– Стой! – Он резко протягивает ко мне дрожащую руку. – Садись, я сам проверю. – Он закрывает за собой дверь кухни, чтобы я не видела, что за ней происходит. – С ней все в порядке! – кричит он мне. – Привет, Грейси, твоя дочь беспокоилась о тебе. Думала, что не видит тебя, но ведь ты же была все время тут, наблюдая за тем, как она нюхает стены и подозревает, что в доме пахнет сгоревшей бумагой. Она совсем с ума сошла – оставила мужа и отказалась от работы.
Я ничего не сказала об уходе с работы, значит, Конор говорил с ним, значит, папа знал, с какой целью я приехала сюда, знал с той самой минуты, когда в первый раз услышал дверной звонок. Я должна отдать ему должное, он прекрасно прикидывается дурачком. Он возвращается в кухню, и я успеваю увидеть кусочек фотографии на столике в прихожей.
– Ой! – Он с тревогой смотрит на свои часы. – Почти половина одиннадцатого! Быстро пошли в комнату! – Давно я не видела, чтобы он передвигался так стремительно, хватая телепрограмму и свою чашку чая на пути в гостиную.
– Что мы смотрим? – Я иду за папой в гостиную, с изумлением наблюдая за ним.
– «Она написала убийство», знаешь этот сериал?
– Никогда не видела.
– Сейчас увидишь, Грейси. Эта Джессика Флетчер – мастер по ловле убийц. Потом по другому каналу мы посмотрим «Диагноз: убийство», где танцор раскрывает преступления. – Папа берет ручку и обводит этот сериал в программе.
Папино волнение увлекает меня. Он в нос подпевает идущей заставке.
– Иди сюда и ложись на диван, я накрою тебя вот этим. – Папа поднимает шотландский плед, лежащий на спинке зеленого бархатного дивана, и осторожно укрывает меня им, подтыкая его так плотно, что я не могу пошевелить руками. Это тот же самый плед, на котором я лежала младенцем, тот же плед, которым они накрывали меня, когда я школьницей болела и мне разрешалось смотреть телевизор на диване. Я с любовью смотрю на папу, вспоминая нежность, которую он всегда проявлял ко мне, когда я была ребенком, чувствуя себя вернувшейся в детство.
До того момента, пока он не садится на край дивана прямо на мои ноги.
Глава одиннадцатая
– Как ты думаешь, Грейси, в конце передачи Бетти станет миллионершей?
За последние несколько дней я высидела бесконечную череду получасовых утренних передач, и теперь мы смотрим «Антиквариат под носом».
Бетти из Уорикшира семьдесят лет, и сейчас она с нетерпением ждет, пока эксперт пытается оценить старый заварочный чайник, который она привезла с собой.
Я вижу, как эксперт осторожно осматривает чайник, и знакомое чувство уверенности переполняет меня.
– Прости, Бетти, – говорю я телевизору, – но это реплика[5] французского фарфора восемнадцатого века. Чайник сделан в начале двадцатого. Это видно по форме ручки. Грубая работа.
– Правда? – Папа с интересом смотрит на меня.
Мы сосредоточенно пялимся в экран и слушаем, как эксперт повторяет мои замечания. Бедная Бетти просто убита этим известием, но пытается сделать вид, что чайник в любом случае слишком дорогой подарок от ее бабушки, чтобы она могла его продать.
– Лгунья! – восклицает папа. – Продавать она его не хотела! А сама уже забронировала билеты в круиз и купила бикини. Откуда ты все это знаешь про чайники и французов, Грейси? Может, прочла в какой-то книге?
– Может быть. – Я в полном недоумении. У меня болит голова от мыслей об этом недавно приобретенном знании.
Папа успевает заметить выражение моего лица.
– Может, позвонишь подруге или кому-нибудь еще? Поболтали бы.
Я не хочу, но знаю, что должна.
– Наверное, я должна позвонить Кейт.
– Широкоплечей девице? Той, что накачала тебя виски, когда тебе было шестнадцать?
– Да, этой Кейт, – смеюсь я. Он так ей этого и не простил.
– Что это вообще за имя такое? Эта девица была ходячей неприятностью. Она хоть чего-нибудь достигла в жизни?
– Нет, совсем ничего. Она просто продала свой магазин за два миллиона, чтобы стать неработающей матерью. – Я пытаюсь не улыбнуться потрясенному выражению его лица.
Он говорит заинтересованно:
– Конечно, позвони ей. Поболтаете. Вы, женщины, любите это делать. Это хорошо для души, как говаривала мама. Твоя мама обожала чесать языком, всегда с кем-то о чем-то болтала.
– Интересно, откуда в ней это? – спрашиваю вполголоса, но, как по волшебству, уши отца вытягиваются в мою сторону, не пропуская ни слова.
– От ее знака зодиака, вот откуда. Телец. Несла кучу чуши.
– Папа!
– Что? Думаешь, это признание в том, что я ее ненавидел? Нет. Ничего подобного. Я любил ее всем сердцем, но эта женщина несла кучу чуши. Ей было недостаточно просто рассказать что-то. Я должен был также выслушать, что она по этому поводу чувствует. Десять раз подряд.
– Ты же не веришь в знаки зодиака. – Я толкаю его локтем.
– Еще как верю. Мой знак – Весы. – Он покачивается из стороны в сторону. – Видишь, как я прекрасно сбалансирован.
Я смеюсь и иду в свою комнату, чтобы позвонить Кейт. Вхожу в спальню, практически не изменившуюся с того дня, как я отсюда уехала. Несмотря на редких гостей, приезжавших после моего отъезда, родители так и не убрали оставшиеся после меня вещи. Наклейки группы «Кьюэ» так и остались на двери, кусочки обоев оторваны вместе со скотчем, державшим на стене плакаты. В виде наказания за порчу стен папа заставил меня стричь траву в саду за домом, но в процессе я проехала газонокосилкой по какому-то кустику. Он не разговаривал со мной до конца дня. Оказалось, что в том году куст расцвел в первый раз с тех пор, как он его посадил. Тогда я не могла понять его печали, но после многих лет, потраченных на тяжкий труд выращивания брака, в результате чего он только завял и умер, вполне понимаю его состояние. В одном я уверена: он не испытывал облегчения, которое сейчас чувствую я.
Моя крошечная спальня вмещала только кровать и шкаф, но для меня это был целый мир. Личное пространство, где я могла думать и мечтать, плакать и смеяться и ждать, когда стану достаточно взрослой, чтобы делать все те вещи, которые мне делать не разрешали. Мое единственное место на земле тогда и – тридцать три года спустя – мое единственное место теперь. Кто мог знать, что я снова окажусь здесь, не обретя ничего, о чем мечтала и, что еще хуже, мечтаю до сих пор? Я не стала членом группы «Кьюэ», не вышла замуж за ее лидера Роберта Смита, да и никакого другого мужа у меня нет. Как нет и ребенка. Обои покрыты диким цветочным рисунком, совершенно не располагающим к отдыху и покою. Миллионы крошечных коричневых цветочков на крошечных выцветших зеленых стебельках. Ничего удивительного, что я закрыла их плакатами. Коричневый ковер со светло-коричневыми завитушками покрыт пятнами от пролитых духов и косметики. Новые предметы в комнате – старые и выцветшие кожаные чемоданы, лежащие на шкафу и собирающие пыль со времени смерти мамы. Папа никогда никуда не ездит: он давно решил, что жизнь без мамы для него – само по себе путешествие.
Последнее приобретение – новое покрывало. Новое в том смысле, что мама купила его, когда моя комната стала гостевой, а это уж больше, чем десять лет назад. Мы с Кейт решили вместе снимать квартиру, и за год до маминой смерти я съехала. Сколько раз потом я жалела об этом! Я сама у себя отняла все эти бесценные дни, когда не просыпалась под ее долгие зевки, похожие на песни, не слышала ее бормотания себе под нос, когда она обсуждала планы на день, пока на заднем фоне звучало радио-шоу Гея Берна. Мама обожала Гея Берна, ее единственным желанием было познакомиться с ним. Она сумела приблизиться к исполнению этой мечты, когда они с папой достали билеты в зрительный зал на «Позднее-позднее шоу», и она многие годы рассказывала об этом. Думаю, она была немножко в него влюблена. Папа его ненавидел. Вероятно, он знал о ее влюбленности.
Правда, теперь папа слушает все программы Гея Берна. Он напоминает папе о драгоценном времени, проведенном с мамой, как будто, пока слышится голос Гея Берна, он слышит мамин голос. Когда она умерла, он окружил себя всем тем, что она обожала. Каждое утро слушал по радио Гея, смотрел мамины телепередачи, во время еженедельного похода за покупками покупал ее любимое печенье, хотя никогда его не ел. Ему нравилось видеть его на полке, когда он открывал шкаф, любил видеть ее журналы рядом со своей газетой. Любил, чтобы ее тапочки стояли рядом с ее креслом у камина. Папа постоянно напоминал себе, что его мир не рухнул. Не важно, к каким средствам он для этого прибегал.
В шестьдесят пять лет он был слишком молод, чтобы потерять жену. В двадцать три года я была слишком молода, чтобы потерять мать. В пятьдесят пять она не должна была потерять свою жизнь, но рак, похититель секунд, обнаруженный слишком поздно, украл эту жизнь у нее и у всех нас. Папа женился по тем временам довольно поздно, и ему было уже сорок два года, когда появилась я. Мне кажется, в юности какая-то девушка разбила его сердце, но он никогда не говорил об этом, а я не спрашивала. Зато он неоднократно повторял, что провел больше дней своей жизни в ожидании мамы, чем вместе с ней, но что каждая секунда, проведенная в поисках ее, а после – в воспоминаниях о ней, стоила вечности.
Мама так и не познакомилась с Конором, и я не знаю, понравился бы он ей или нет. Даже если бы и не понравился, она была слишком вежливой, чтобы это показать. Мама любила всех людей, но особенно веселых и энергичных, людей, которые жили взахлеб и чем-то отличались от всех остальных. Конор милый. Бурное проявление чувств ему не свойственно. «Милый» – всего лишь еще один синоним слова «приятный». Замужество с приятным человеком дает вам приятный брак, но ничего больше. Быть приятным неплохо, но лишь когда это качество – одно из многих, а не единственное в человеке.