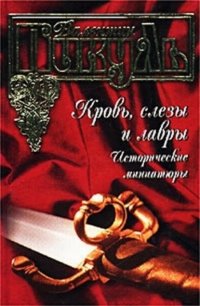
Читать онлайн Кровь, слезы и лавры. Исторические миниатюры бесплатно
- Все книги автора: Валентин Пикуль
ОТ АВТОРА
Определение жанра – дело непростое. До сих пор не пойму, чем длинный рассказ отличается от короткой повести. Хотя разница между повестью и романом более ощутима, и роман, мне кажется, оставляет больше простора для читательских размышлений и домыслов, нежели повесть. Впрочем, еще никто не возражал Гоголю, который нарек свои “Мертвые души” поэмой…
Не берусь точно определить жанр предлагаемых мною исторических очерков, которые не рискну называть историческими рассказами. Я всегда называл их миниатюрами, и смею думать, что вряд ли ошибался. Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной.
Она – интимна, к ней надо приглядываться, как к книжному петиту. Были такие миниатюристы на Руси, которые укладывали портрет в размер пуговицы или перстня, изображая человека разноцветными точками. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется. Но она сразу оживает, если взять ее в руки; наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека…
На этом, наверное, я мог бы и прервать свое авторское вступление. Но чувствую надобность рассказать, как и когда я, писавший большие исторические романы, вдруг пришел к жанру исторической миниатюры.
Это случилось давно, еще в пору моей литературной молодости. Все мои попытки сочинять рассказы кончались неудачей, ибо рассказы получались очень плохими. И вот, неожиданно для себя, я написал первую из своих миниатюр по названию “Шарман, шарман, шарман!” – о странной и стремительной карьере офицера А. Н. Николаева. Читателям она понравилась, и я тогда же решил испытать свои силы в этом новом для меня жанре.
По сути дела, изучая материалы о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы “роман” сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все мало существенное, я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.
Для меня, автора, каждая миниатюра – это тот же исторический роман, только спрессованный до самого малого количества страниц. Писание миниатюр – процесс утомительный, берущий много времени и немало кропотливого труда. Так, например, миниатюру о художнике Иване Мясоедове в 15 машинописных страниц я писал 15 долгих лет, буквально по крупицам собирая материал об этом странном человеке, о котором в нашей печати упоминалось лишь изредка.
Позволю себе еще одно авторское примечание.
Собрав свои миниатюры под одной обложкой, я не желал бы представить перед читателем только героику нашего прошлого, ибо в жизни не все люди герои; картина былой жизни была бы однобокой и неполной, если бы я не отразил и людей, живших не ради свершения подвигов, а… просто живших.
Хорошая жена и мать – разве она недостойна того, чтобы ее имя сохранилось в нашей памяти? Наконец, разве мало в нашей истории заведомых негодяев, мерзавцев или взяточников? Эти отрицательные персонажи тоже имеют право на то, чтобы их имена сохранились в грандиозном Пантеоне нашей истории…
Я человек счастливый, ибо прожил не только свою жизнь, настоящую, но и прожил судьбы многих героев прошлого.
О великом значении истории в духовной жизни народа издревле было сказано очень много, и здесь я напомню лишь слова знаменитого Цицерона:
НЕ ЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДО ТОГО, КАК ТЫ РОДИЛСЯ, ЗНАЧИТ НАВСЕГДА ОСТАТЬСЯ НЕРАЗВИТЫМ РЕБЕНКОМ.
Это веское мнение знаменитого оратора древности я мог бы подкрепить многочисленными афоризмами русских мыслителей, но из великого множества их высказываний напомню лишь слова нашего славного историка В. О. Ключевского: “История – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого…”
Итак, перед нами сборник исторических миниатюр.
Все они расположены в хронологическом порядке.
А этот порядок для читателя – самый удобный.
Дорогой Ричарда Ченслера
Не спорю, что многие впечатления юности теперь померкли в моей памяти, но иногда, как в мелькающих кинокадрах, освещаются краткие мгновения: атаки подводных лодок, завывания вражеских пикировщиков, а вровень с нашими эсминцами Северного флота шли конвойные корветы британского флота; рядом с нашими вымпелами развевались тогда и флаги королевского флота Великобритании. Только потом, уже на склоне лет, анализируя минувшее, я начал понимать, что мы шли путем, который в давние времена проложил Ричард Ченслер…
С чего же начать? Пожалуй, с Шекспира!
Шекспироведы давно обратили внимание на одну фразу из комедии “Двенадцатая ночь” – фразу, которую с упреком произносит слуга Оливии сэру Эгчику: “Во мнении графини вы поплыли на север, где и будете болтаться, как ледяная сосулька на бороде голландца…” Ясно, что этим голландцем мог быть только Виллиам Баренц, переживший трагическую зимовку на островах Новой Земли. Но Шекспир наверняка знал о том, что в XVI веке Англия верила в существование загадочной Полярной империи; король Эдуард VI даже составлял послания к властелину сказочной страны, которой никогда не существовало…
Будем считать, что предисловие закончено.
Впрочем, мы начинаем рассказ как раз с того времени, когда до рождения Шекспира оставался всего десяток лет.
– Да, – рассуждал Кабот, – стоит только пробиться через льды, и мы сразу попадем в царство вечной весны, которое освещено незакатным солнцем, люди там не знают, что они ходят по земле, наполненной золотом и драгоценными камнями…
Себастьян Кабот был уже стар. В жизни этого человека, картографа и мореплавателя, было все – и даже тюремные цепи, в которые его, как и Христофора Колумба, заковывали испанские короли. Кабот много плавал – там, где европейцы еще не плавали. Навестив холодные воды Ньюфаундленда, кишащие жирной треской, он дал беднякам Европы вкусную дешевую рыбу, а сам ошибочно решил, что открыл… Китай! Впрочем, и Колумб, открывший Америку, твердо верил, что попал в… Индию!
Познание мира давалось человечеству с трудом.
Ныне платье Кабота украшал пышный мех, на груди его висела тяжелая золотая цепь. Пылкий уроженец Италии, он служил королям Англии, которая еще не стала могучей морской державой, а лондонские купцы алчно завидовали испанцам, этим вездесущим идальго, отличным морякам и кровожадным конкистадорам. Кабот преподавал космографию юному Эдуарду VI, он стучал драгоценным перстнем по мифическим картам, где все было еще неясно, туманно, таинственно.
– Вашему величеству, – утверждал он, – следует искать новые пути на Восток, куда еще не успели забраться пропахшие чесноком испанцы, пронырливые, будто корабельные крысы.
Король соглашался, что треска вкуснее селедок:
– Но я не откажусь от золота, мехов и алмазов…
Лондонские негоцианты образовали компанию, для которой купили три корабля. Наслушавшись пламенных речей Кабота, утверждавшего, что через льды Севера можно достичь Индии, купцы посетили королевские конюшни, где за лошадьми ухаживали два татарина. Их спрашивали: какие дороги ведут в Татарию и какие в “Китай” (Катай), где расположен легендарный город “Камбалук” (Пекин)? Но татары-конюхи успели в Лондоне спиться, в чем они весело и сознались:
– От пьянства мы позабыли все, что знали раньше…
В начальники экспедиции был выбран Хуго Уиллоуби – за его большой рост, а пилотом (штурманом) эскадры назначили Ричарда Ченслера – за его большой ум. Себастьян Кабот лично составил инструкцию, в которой просил моряков не обижать жителей, какие встретятся в странах неизвестных, не издеваться над чуждыми обычаями и нравами, а привлекать “дикарей” ласковым обращением. По тем временам, когда язычники убивали всех подряд, уничтожая древние цивилизации, инструкция Кабота казалась шедевром гуманности. Не были забыты и экипажи кораблей: “Не должны быть терпимы сквернословие, непристойные рассказы, равно как игра в кости, карты и иные дьявольские игры… Библию и толкования ее следует читать с благочестивым христианским смирением”, – наставлял моряков Кабот.
В мае 1553 года Лондон прощался с кораблями сэра Уиллоуби, матросы были обряжены в голубые костюмы, береговые трактиры на Темзе чествовали всех дармовой выпивкой, народ кричал хвалу смельчакам, возле Гринвича корабли салютовали дворцу короля, придворные дамы махали им платками из окон.
…Прошел один год, и русские поморы, ловившие рыбу у берегов Мурмана, случайно зашли в устье речки Варзины: здесь они увидели два корабля, стоящих на якорях. Но никто не вылез из люков на палубы, из печей камбузов не курился дым, не пролаяли корабельные спаниели. Поморы спустились внутрь кораблей, где хранились товары. Среди свертков сукна и бочек с мылом лежали закостеневшие в стуже мертвецы, а в салоне сидел высокорослый Хуго Уиллоуби – тоже мертвый; перед ним лежал раскрытый журнал, из которого стало ясно – в январе 1554 года все они были еще живы и надеялись на лучшее… Их погубил не голод, ибо в трюмах оставалось много всякой еды; их истребили тоска, морозы, безлюдье.
Поморы поступили очень благородно.
– Робяты! – велел старик кормщик. – Ни единого листочка не шевельни, никоего покойничка не колыхни. И на товары чужие не зарься: от краденого добра и добра не бывает…
В объятиях стужи законсервировались лишь два корабля. Но средь них не было третьего – “Бонавентуре”, на котором плыл умный и энергичный сэр Ричард Ченслер (пилот эскадры). “Бонавентуре” в переводе на русский означает “Добрая удача”.
Сильный шторм возле Лафонтенов разлучил “Бонавентуре” с кораблями Уиллоуби; в норвежской крепости Вардегауз, что принадлежала короне датского короля, была заранее предусмотрена встреча кораблей после бури. Но Ченслер напрасно томился тут целую неделю, потом сказал штурману судна:
– Барроу! Я думаю, купцы Сити не затем же вкладывали деньги в наши товары, чтобы мы берегли свои паруса.
– Я такого же мнения о купцах, – согласился Барроу. – Вперед же, сэр, а рваные паруса – признак смелости…
Мясо давно загнило, насыщая трюмы зловонием, а течь в бортах корабля совпала с течью из бочек, из которых вытекали вино и пиво. Ветер трепал длиннющую бороду Ченслера, и он спрятал ее за воротник рубашки. Справа по борту открылся неширокий пролив, через который англичане вошли в Белое море (ничего не ведая о нем, ибо на картах Себастьяна Кабота здесь была показана пустота). Плыли дальше, пока матрос из мачтовой “бочки” не прогорланил:
– Люди! Я вижу людей, эти люди похожи на нас…
“Двинская летопись” бесстрастно отметила для нашей истории: “Прииде корабль с моря на устье Двины реки и обославься: приехали на Холмогоры в малых судах от английского короля Эдварда посол Рыцарт, а с ним гости”. Был август 1553 года. Архангельска еще не существовало, но близ Холмогор дымили деревни, на зеленых пожнях паслись тучные стада, голосили по утрам петухи, а кошки поморов признавали только одну рыбку – перламутровую семгу. В сенях крестьянских изб стояли жбаны с квасами и сливочным маслом; завернутые в полотенца, под иконами свято береглись рукописные книги “древлего благочестия” (признак грамотности поморов).
Для англичан все это казалось сказкой.
– Как велика ваша страна и где же ее пределы, каковы богатства и кто у вас королем? – спрашивали они.
Поморы отвечали, что страна их называется Русью, или Московией, у нее нет пределов, а правит ими царь Иван Васильевич. Ченслер, обращаясь с русскими, вел себя очень любезно, предлагая для торга товары: грубое сукно, башмаки из кожи, мыло и восковые свечи. Ассортимент невелик, и русские могли бы предложить ему своих товаров – побольше и побогаче. Они обкормили экипаж “Бонавентуре” блинами, сметаной и пирогами с тресковой печенью, однако торговать опасались:
– Нам, батюшка, без указа Москвы того делать нельзя…
Воевода уже послал гонца к царю. Ричард Ченслер убеждал воеводу, что король Эдуард VI направил его для искания дружбы с царем московским. Очевидно, он поступал вполне разумно, самозванно выдавая себя за посла Англии.
– Я должен видеть вашего короля Иоанна в Москве! – твердил он воеводе. – Не задерживайте меня, иначе сам поеду…
Укрытый от мороза шубами, Ченслер покатил в Москву санным “поездом”, все замечая на своем пути. Между Вологдой и Ярославлем его поразило множество селений, “которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засевается хлебом, жители везут его в Москву в таком громадном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро можно встретить до 800 саней, едущих с хлебом, а некоторые с рыбой… Сама же Москва очень велика! Я считаю, что этот город в целом больше Лондона с его предместьями”.
Понимал ли Ченслер, что делает он, въезжая в Москву самозванцем? Вряд ли. Но так уж получилось, что, служа интересам Сити, он – как бы невольно! – обратил свою торговую экспедицию в политическую. Ченслер стал первым англичанином, увидевшим Москву, которую и описал с посвящением: “Моему единственному дяде. Господину Кристофору Фротсингейму отдайте это. Сэр, прочтите и будьте моим корректором, ибо велики дефекты”. Корабли, найденные поморами, вскоре были отправлены обратно в Англию вместе с прахом погибших. Но они пропали безвестно, как пропадали и тысячи других… Таково было время!
Иван Грозный еще не был… грозным! Страна его, как верно заметил Ченслер, была исполнена довольства, города провинции процветали, народ еще не познал ужасов опричнины.
После разрушения Казанского ханства следовало завершить поход на Астрахань, дабы все течение Волги обратить на пользу молодого, растущего государства: в уме Ивана IV уже зарождалась война с Ливонией – ради открытия портов балтийских. Россия тогда задыхалась в торговой и политической изоляции; с юга старинные шляхи перекрыли кордонами крымские татары, а древние ганзейские пути Балтики стерегли ливонцы и шведы… Потому-то, узнав о прибытии к Холмогорам английского корабля, царь обрадовался:
– Товары аглицкие покупать, свои продавать… Посла же брата моего, короля Эдварда, встретить желательно!
Ченслер застал Москву деревянной, всю в рощах и садах, осыпанных хрустким инеем. Из слюдяных окошек терема видел, как в прорубях полощут белье бабы, топятся по берегам дымные бани, возле лавок толчется гуляющий народ, каменная громада Кремля была преобильно насыщена кудрявыми луковицами храмов, висячими галереями, с богато изукрашенных крылечек пологие лестницы вели в палаты хором царских.
Иван IV принял Ченслера на престоле, в одеждах, покрытых золотом, с короною на голове, с жезлом в правой руке. Он взял от “пилота” грамоту, в которой Эдуард VI просил покровительства для своих мореплавателей.
– Здоров ли брат мой, король Эдвард? – был его вопрос (а “братьями” тогда величали друг друга все монархи мира).
Ченслер отвечал, что в Гринвиче король не вышел из дворца проститься с моряками, ибо недужил, но, вернувшись в Лондон, они надеются застать его в добром здравии.
– Я стану писать ему, – кивнул Иван Васильевич…
После чего посла звали к застолью; “число обедавших, – сообщал Ченслер, – было около двухсот, и каждому подавали на золотой посуде”. Даже кости, что оставались для собак, бояре кидали на золотые подносы, убранные драгоценными камнями. Иван IV сидел на престольном возвышении во главе стола, зорко всех озирал, каждого из двухсот гостей точно называл по имени. Ченслеру, как и другим, был подан ломоть ржаного хлеба, при этом ему было сказано:
– Иван Васильевич, царь Русский и великий князь Московский, жалует тебя хлебом из ручек своих…
Кубки осушались единым махом, но, выпив, бояре тут же крестили свои грешные уста, заросшие широкими бородищами. А борода Ченслера была узкой и длинной, как у волшебного кудесника. Пир завершился ночью, и царь, по словам Ченслера, возлюбил его “за ум и длинную бороду”.
Ранней весной он сказал ему:
– Езжай до короля своего и скажи, что я рад дружбу с ним иметь. Пусть купцов шлет – для торга, пусть рудознатцы едут – железа искати, да живописцы разные… Всех приму!
Ченслер отплыл на родину. Уже в виду берегов Англии на “Бонавентуре” напали фламандские пираты. С воплями они вцепились в корабль абордажными крючьями и вмиг разграбили все русские товары, расхитили подарки от русского царя – спасибо, что хоть в живых оставили… На родине англичан ждали перемены: Эдуард VI умер, на престол взошла Мария Тюдор (“Кровавая”) со своим мужем – Филиппом II, королем испанским. В стране началась католическая реакция: протестантам рубили головы, людей нещадно сжигали на кострах.
Россия, стиснутая между татарами и ливонцами, еще оставалась для Европы terra incognita (загадочной землей), и Филипп II не совсем-то верил рассказам Ченслера:
– Мы лучше знаем могучую Ливонию, но у нас темно в глазах от ужаса, когда мы слышим о варварской Московии.
– Так ли уж богата Русь? – спрашивала королева. – Стоит ли нам связывать себя с нею альянсом дружественным, если торговых иметь не будем?..
Ченслер поклонился, бородою коснувшись пола.
– О, превосходнейшая королева! – отвечал он. – Мнение Европы о Московии ошибочно, это удивительная страна, где люди рожают много детей, у них обильная конница и грозные пушки. Правда, там не знают того, что знаем мы, но зато мы не знаем того, что знают они, русские. Если бы Московия осознала свое могущество, никому бы в мире с нею не совладать.
Коронованные изуверы рассудили здраво: Англия вела войну с Францией, а Россия ополчается на войну с Ливонией, – в этом случае Англии полезно дружить с Россией, а торговые сделки купцов всегда скрепляли узы политические. Себастьян Кабот тоже понимал это, и поэтому почтенный старец не слишком-то огорчился от того, что вместо легендарного “Камбалука” (Пекина) Ченслера занесло в Москву:
– Если плыть по Волге, там, за Астраханью, недалеко до Персии, страны чудес и шелка. Тогда от персидской Испагании до Лондона протянется великая “шелковая дорога”.
– Осмелюсь вспомнить, – льстиво улыбнулся Ченслер, – что от Персии совсем недалеко и до Индии…
Королевской хартией в феврале 1555 года Мария Тюдор образовала “МОСКОВСКУЮ КОМПАНИЮ”, которую стал возглавлять Себастьян Кабот. Старику было уже больше восьмидесяти лет, но, когда Ричард Ченслер грузил корабли для нового рейса в Россию, Кабот крепко подвыпил в трактире с матросами. На зеленой лужайке он даже пустился в пляс, и золотая цепь венецианского патриция болталась на его шее, как маятник.
…Здесь я напомню, что русские уже тогда не страшились зимовать на Новой Земле и на далеком Шпицбергене, о чем Шекспир, наверное, не знал. Корабли поморов, внешне неказистые, были лучше британских, они легче взбегали на гребень волны; к удивлению англичан, они опережали в скорости их каравеллы и пинассы… Не тогда ли, я думаю, англичане и переняли многое для себя из опыта русского кораблестроения?
На этот раз Ченслер прибыл в Москву уже не самозванцем, а персоной официальной, его сопровождали агенты “Московской компании”, вооруженные королевской хартией с правом торговать, где им вздумается… Иван IV был рад снова увидеть Ченслера, а его свиту “торжественно провели по Москве в сопровождении дворян и привезли в замок (Кремль), наполненный народом… они (англичане) прошли разные комнаты, где были собраны напоказ престарелые лица важного вида, все в длинных одеждах, разных цветов, в золоте, в парче и пурпуре. Это оказались не придворные, а почтенные московитяне, местные жители и уважаемые купцы…”
Англичан именовали так: “гости корабельские”.
Гость – какое хорошее русское слово!
После угощения светлым хмельным медом царь взял Ричарда Ченслера за бороду и показал ее митрополиту всея Руси:
– Во борода-то какова! Видал ли еще где такую?
– Борода – дар божий, – смиренно отвечал владыка…
Бороду Ченслера тогда же измерили: она была в 5 футов и 2 дюйма (если кому хочется, пусть сам переведет эти футы и дюймы в привычные сантиметры). Иван IV велел негоциантам вступить в торги с купцами русскими, а Ченслеру сказал:
– За морями бурными и студеными, за лесами дремучими и топями непролазными – пусть всяк ведает! – живет народ добрый и ласковый, едино лишь о союзах верных печется… С тобою вместе я теперь посла своего отправлю в королевство аглицкое, уж ты, рыцарь Ченслер, в море-то его побереги.
Посла звали Осип Григорьевич по прозванию Непея, он был вологжанин, а моря никогда не видывал. Посол плакал:
– Да не умею плавать-то я… боюсь!
– Все не умеют. Однако плавают, – рассудил царь.
Ричард Ченслер утешал посла московского:
– Смотрите на меня: дома я оставил молодую жену и двух малолетних сыновей. Я не хочу иметь свою жену вдовою, а детей сиротами… Со мною вам разве можно чего бояться?
Буря уничтожила три его корабля, а возле берегов Шотландии на корабль Ченслера обрушился свирепый шквал. Это случилось 10 ноября 1556 года возле залива Петтислиго.
“Бонавентуре” жестоко разбило на острых камнях.
Ченслер, отличный пловец, нашел смерть в море.
Осип Непея, совсем не умевший плавать, спасся…
Местные жители сняли с камней полузахлебнувшегося посла.
– Теперь-то вы дома, – утешали они “московита”.
– Это вы дома, – отвечал Непея, – а мне-то до родимого дома вдругорядь плыть надо, и пощады от морей нету…
С большим почетом он был принят в Вестминстерском дворце. Довольная льготами, что дали в России английским негоциантам, королева предоставила такие же льготы в Англии и для русских “гостей”: в Лондоне им отвели обширные амбары, избавили от пошлин, обещали охрану от расхищения товаров.
Осип Непея отплыл на родину в обществе английских мастеров, аптекарей, художников и рудознатцев, пожелавших жить в России и трудиться ради ее пользы и украшения.
Скоро возникли консульские конторы в Холмогорах, в Вологде, в Ярославле и Новгороде, в Казани и Астрахани: торговые флотилии англичан приплывали в Россию по весне, а осенью уплывали обратно с товарами. По велению времени возник новый славный город – Архангельск, без которого теперь мы уже не мыслим существования нашего обширного Государства.
Дорога Ричарда Ченслера открыта и поныне – для всех, кто плывет к нашим берегам, чтобы торговать с нами, и я уверен, что мирный обмен товарами – это ведь тоже Большая Политика, ибо товар, проданный и купленный, пусть незримо, зато основательно скрепляет дружеские связи народов…
Осталось сказать последнее. Целых полтора столетия зыбкая дорога между Лондоном и Архангельском была единственной коммуникацией, связывающей Россию с Европой.
Так длилось до Петра I, открывшего “окно” в Европу со стороны хмурой Балтики. “Московская компания”, основанная в 1555 году, просуществовала до 1917 года, когда наша страна вступила в новую эпоху…
На путях Ричарда Ченслера, случайно открывшего Россию со стороны севера, до сих пор иногда возникают торжественные “минуты молчания”. В такие минуты, насыщенные пением корабельных горнов, опускаются траурные венки на волны, под которыми навеки уснули на дне Полярного океана, как в общей братской могиле, наши и британские моряки. Можно не помнить о подвиге жизни Ричарда Ченслера, но стоило бы почаще вспоминать о боевом содружестве двух великих наций в общей борьбе против фашизма.
“Пляска смерти” Гольбейна
В конце 1543 года старшина цеха живописцев и маляров города Базеля велел писцу раскрыть цеховые книги:
– Говорят, в Лондоне была чума, и, кажется, умер Ганс Гольбейн, сын Ганса Гольбейна из Аугсбурга.
Писец быстро отыскал его имя в цеховых книгах:
– Вот он, бродяга! Так что нам делать? Ставить крест на нем или подождем других известий из Лондона?
– Ставьте крест на Гольбейне, – решил цеховой старшина. – Наверное, он уже отплясывает со своим скелетом…
…“Пляска смерти” Гольбейна была слишком известна в Германии; гравюрные листы с этим сюжетом украшали покои королей и лачуги бедняков, ибо смерть для всех одинакова. Каждый, едва появясь на свет, уже вовлечен в чудовищную пляску со своим же скелетом. Гордая принцесса выступает в церемонии, а смерть учтивым жестом приглашает ее в могилу. Она срывает тиару и с папы, сидящего на римском престоле. В жуткую “пляску смерти” вовлечены все – судья, обвиняющий людей, купец, подсчитывающий выручку, врач, принимающий больного, и невеста, спешащая к венцу. Пусть коварный любовник увлекает знатную даму – смерть уже стучит в барабан, празднуя свою победу. Но Гольбейн иногда бывал и снисходительным. Вот бедняга-землепашец тащится за плугом, но скелет даже помогает ему, нахлестывая лошадей. Смерть обходит стороной и нищего, сидящего на куче всякого хлама… Не в этом ли великий смысл? Да и что иного можно ожидать от живописца, если вся его жизнь была “пляской смерти” – в обнимку со своим палачом.
Пока не погрузишься в эпоху Гольбейна, до тех пор портреты его кажутся лишь бесплотными иллюстрациями времени. Но стоит окунуться в эпоху (на срезе средневековья и Возрождения), когда кубок вина ценился дороже головы человека, а вопли сгорающих на кострах чередовались с самой грязной похабщиной королей и фрейлин, тогда станет жутко при мысли: как мог художник жить и творить в том чудовищном времени?
Европа! Старые скрипучие корабли, древние города, пронизанные крысиным визгом, полумертвые храмы с погостами, дряхлеющие королевства… Вдали смутно забрезжили берега Англии.
Гольбейн разделял каюту с ганзейским негоциантом Георгом Гизе, плывущим в Лондон по торговым делам.
– Вам не страшно ехать в страну, где сегодня сжигают протестантов, а завтра будут топить в Темзе католиков?
– От купцов требуют хороших товаров, но в Ганзе не спрашивают, поклоняемся ли мы престолу Римскому или внимаем разгневанным речам Лютера… Ну а вы-то? – спросил Гизе, поблескивая живыми глазами умного и бывалого человека. – Не лучше ли было бы вам, Гольбейн, оставаться в Германии, как остался в ней и Альбрехт Дюрер?
Гольбейн сказал, что Базель уже спохватился, не желая терять своего живописца, но обещали платить в год только 30 гульденов, а прожить трудно даже на восемьдесят.
– Я обижен Германией, – скорбел Гольбейн. – Мои картины выбрасывали из церквей, их жгли на кострах, как сатанинские. Однажды на продольном полотне я распластал труп утопленника, я открыл впадину его рта, но моя жестокая правда смерти вызвала злобную ярость всех, всех, всех…
– Неужели всех? – со смехом спросил Гизе.
– Да. Мне пришлось обмакнуть кисть в красную краску, обозначив на теле раны, и мой утопленник превратился в “Христа”. Так люди отвергли правду человеческой смерти, зато ее приняли под видом страданий Спасителя нашего…
Качка затихала – корабль уже входил в Темзу.
…Английский король Генрих VIII (из династии Тюдоров) напрасно зазывал в свои владения Тициана и Рафаэля – никто из них не оставил благодатную Италию, и королю пришлось второй раз приглашать немца Ганса Гольбейна, которого в Аугсбурге заставляли красить уличные заборы.
Была мерзкая, дождливая осень 1532 года…
– Спасибо королю, знающему мне цену. Я не забуду, как лорд Норфолк при дамах щелкнул меня по носу, но тут же был сражен оплеухой короля. “Эй ты, невежа! – сказал король. – Из дюжины простаков я всегда наделаю дюжину милордов, но из дюжины милордов не сделать мне даже одного Гольбейна…”
С двумя учениками Гольбейн ехал в графство Гардфортское, где в замке Гундсона кардинал Уоллслей обещал ему дать прибыльную работу. Дороги раскисли, лошади тяжело ступали по слякоти.
– Не боюсь даже малярных трудов, – говорил мастер. – Мне же не раз приходилось расписывать алтари в Люцерне и вывески для колбасных лавок в Базеле, я красил даже крыши в Аугсбурге, но страсть моя – портреты. К сожалению, – горестно завздыхал Гольбейн, – люди уверены, что изобразить человека так же легко, как портняжке выкроить ножницами знамя. Однако если бы наше искусство было всем доступно, то, наверное, Англия имела бы целый легион своих живописцев. А где же они? Пока что их у вас нету… Вы, британцы, неспособны провести на бумаге волнистую линию, ваше ухо законопачено бараньим жиром, а потому оно закрыто и для нежной мелодии.
– Зато у нас, – гордо отвечали ученики, – немало кораблей и шерсти. Наконец, в нашем королевстве не переводится выпивка, а каждый британец знает, что для него где-то уже пасется овца: придет время, и он эту овцу сожрет!
Мокрые стебли овсов, растущих по обочинам, запутывались в колесах. Гольбейн, озябнув, окружил свою шею мехом.
– У меня на родине сейчас царят метафизика и жажда идеалов, а вы, англичане, желаете лишь суетной любви и насыщения мясом, плохо проваренным. Если же какой-либо милорд и жертвует один грош на искусство, он совершает это с таким важным видом, будто уговорил дикаря прочесть святое Евангелие… Впрочем, – осторожно добавил Гольбейн, – я не впадаю в осуждение страны, приютившей меня, и король которой охотно создает мне хорошую репутацию и богатство.
Прибыв в Гундсон, они остановились у “Черного Быка”, заказали два кувшина вина. Гольбейн просил хозяина зажарить для них индейку пожирнее. Ученики спешили напиться:
– Мастер, у нас бокалы уже кипят от нетерпения!
– У меня тоже, – отвечал Гольбейн. – Но я вижу, что нашу индейку отнесли на стол к какому-то уроду… Эй, хозяин! Кто эта скотина? Я ведь любимый художник вашего короля.
Трактирщик надменно ответил:
– Твою индейку съест человек, талант которого король возлюбил пуще твоего таланта. Это… палач короля, и ты бы только видел, как ловко отрубает он головы грешникам!
Дождь кончился. Стадо мокрых овец, нежно блея, возвращалось с далеких пастбищ. В окне трактира виднелся замок и обширный огород, на котором издавна выращивали зелень для стола британской королевы Екатерины Арагонской.
– А когда я был в Англии первый раз, – заметил Гольбейн, – то бедная королева, желая полакомиться свежими овощами, прежде посылала курьера за салатом или спаржей через канал – во Францию!
Палач со вкусом разодрал индейку за ноги, он алчно рвал зубами сочное мясо. Профаны старались пить намного больше своего учителя, обглоданные кости они швыряли в раскрытые двери трактира, где их подхватывали забегавшие с улицы собаки.
– Скоро с этого огорода, – шепнул ученик, – все ягодки достанутся другой… Говорят, наш король жить не может от безумной любви к фрейлине Анне Болейн. Старая королева сама и виновата, что, посылая за салатами, заодно с травой прихватила из Парижа в Лондон и эту смазливую девку.
– А я слышал, – сказал второй ученик, звучно высасывая мозги из кости, – что эта девчонка заколачивает двери спальни гвоздями и она не уступит королю, пока папа римский не даст Его Величеству согласия на развод с его первой женой.
Палач уничтожил индейку. И подмигнул Гольбейну.
– Тише, тише, – испугался Гольбейн. – Я лишь бедный художник в чужой стране, и мне ли судить о делах вашего короля?
Палач вышел и вернулся с огорода, держа в руке цветок, который он с поклоном и вручил Гольбейну:
– Я догадался, кто вы… Гольбейн! Я слишком уважаю вас. Если вам не очень-то повезет при дворе нашего славного короля, я обещаю не доставить вам лишних переживаний. Поверьте, я свое дело знаю так же хорошо, как и вы свое дело.
– Благодарю, – учтиво отвечал Гольбейн. – Ваши добрые слова доставили мне искреннее удовольствие…
А в сумрачной галерее Гундсонского замка пылали огромные камины, музыканты тихо наигрывали на гобоях. Ближе к ночи кардиналу Уоллслею доложили о приезде знатных гостей. Во–шли тринадцать мужчин в масках, они просили сразу начинать танцы. Один из них сорвал маску, открыв большое белое лицо с рыжей бородой – это был сам король Генрих VIII, который смелой поступью направился к молодым фрейлинам. Камергер сказал Гольбейну, чтобы убирался отсюда прочь – на антресоли, куда и проводили художника лакеи. Скоро на антресолях появился Генрих, ведя за руку смущенную девушку с гладкой прической, из-под которой торчали непомерно громадные бледные уши.
– Посмотри, Гольбейн! – воскликнул король, жирной дланью, унизанной перстнями, поглаживая нежный девичий затылок. – Скажи, где ты видел еще такую красоту? Я хочу иметь портрет моей драгоценной курочки Анны Болейн… На, получи!
Генрих VIII отстегнул от пояса один из множества кошельков, украшавших его, и швырнул кошелек мастеру, который и поймал деньги на лету, невольно вспомнив собак в трактире, хватавших обглоданные кости. Анна Болейн скромно ему улыбалась…
Ганс Гольбейн вернулся к своим ученикам:
– Пора растирать краски, время готовить холсты… Будем трудиться ради сохранения примет своего времени. Потомки да знают, как выглядели брюхатые короли и тощие нищие, как одевались фрейлины и проститутки… Что там за складка возле губ Анны Болейн? Ах, оказывается, его королевское величество слишком сегодня строг… Запечатлеем и это!
Есть отличный рисунок с Анны Болейн, которую художник изобразил павшей на колени. Что-то жалкое, что-то вымученное, что-то безобразное, но только не молитвенное чудится в этой женщине, уже с юности вовлеченной в “пляску смерти” художника. Гольбейн создал очень много, но осталось после него очень мало. Время, беспощадное к людям, не пощадило и его творений. Наверное, он мог бы поведать о себе далекому потомству:
– Жизнь моя останется для вас загадочна и таинственна, как и дебри Америки, зато мои портреты сберегут для вас всю жестокую правду времени, в котором я имел несчастие жить и страдать со всеми людьми… как художник! как человек!
А ведь миновало всего 40 лет с того момента, когда Колумб открыл Америку. Лондон имел в ту пору уже около ста тысяч жителей, его улицы кишмя кишели ворами, попрошайками, нищими и сиротами. В моду входил строительный кирпич, оконное стекло перестало удивлять людей. У всех тогда были ложки, но вилок еще не знали. Мужчины пили вино, оставляя пиво для детей и женщин. Замужние англичанки одевались скромно, но девушки имели привычку обнажать грудь. Полно было всяких колдуний и знахарок, обещавших любое уродство превратить в волшебную красоту. Казни для англичан были столь же привычны, как и карнавалы для жителей Венеции. Головы казненных подолгу еще висели на шестах, пока их не срывал ветер, как пустые горшки с забора, и они, гонимые ветром, катились по мостовым, развеваясь длинными волосами и никого уже не пугая впадинами пустых глазниц. Прохожий просто отпихивал голову ногой и продолжал свой путь дальше – по обыденным делам…
Климент VII, папа римский (из рода знатных Медичи), получил письмо от Генриха VIII: король умолял его как можно скорее разлучить его со старой женой, ибо уже нет сил выносить страсть к молодой Анне Болейн… Папа был вне себя от гнева:
– Этот чувственный олух решил схватить меня, как свинью, за два уха сразу, чтобы тащить на заклание! Но он забыл, что Екатерина Арагонская – племянница германского императора Карла, под скипетром которого почти вся вселенная…
Гнев папы имел основания. Совсем недавно ему пришлось бежать из Ватикана, когда в Рим ворвались оголтелые войска Карла V; они вырезали половину жителей вечного города, Тибр был завален трупами, дворцы сгорали в пламени, разбойники оскверняли не только женщин, но даже детей, все женские монастыри подвергли массовому изнасилованию, ландскнехты Карла V жгли людей над кострами, расшибали камнями людские черепа, римлянкам отрезали носы, отрывали уши клещами, а глаза выжигали раскаленными вертелами… Папа рассуждал далее:
– Если теперь дозволить английскому королю развестись с племянницей Карла V, император вернется сюда с мечом, а Риму не вынести второе нашествие испано-германских вандалов…
Папа припугнул Генриха VIII буллой, в которой грозил отлучением от церкви, если будет и далее настаивать на разводе с женой… Король зачитал эту буллу перед парламентом:
– Ответ мой папе таков – в Каноссу не пойдем!
Случилось невероятное: маленькая вертлявая девица отрывала Англию от католической церкви. Желая примирить католицизм с протестантством, король объявил о создании новой церкви в Англии – англиканской! Главою этой церкви король сделал самого себя, а буллу от папы разодрал в клочья. Свой плотский, низменный эгоизм он возводил в степень государственной политики… Канцлер Томас Мор предупредил Генриха:
– Ваше величество решили играть с огнем?
Автору “Утопии” король отвечал диким хохотом:
– Что делать, Том, если я люблю погреться у огня…
Гольбейн поселился среди своих земляков – в лондонском квартале “Стальной Двор”, который давно облюбовали для своей биржи ганзейские купцы, много знающие, оборотистые, дальновидные, как пророки. Здесь художник снова встретил негоцианта Георга Гизе, портрет которого он теперь и писал в деловито-сложном интерьере его торговой конторы. Живая натура и живописец, изображающий эту натуру, редко делаются друзьями: между ними порою возникает бездна, и тот, кого портретируют, силится навязать художнику свою волю, свои истины, даже свои вкусы… Проницательный Гизе рассуждал:
– Я слышал в Любеке, что вы когда-то разукрасили поля “Похвалы глупости” Эразма Роттердамского своими забавными рисунками. Но какие рисунки вы приложили бы к философ–ской “Утопии” английского лорда-канцлера Томаса Мора?
На вопрос негоцианта мастер ответил:
– О-о, его “Утопия” – это ведь только утопия!
– Вряд ли… – Гизе, подойдя к дверям, выглянул на улицу и вернулся за стол. – Нас никто не слышит, – сказал он, распечатывая пакет из Гамбурга с ценами на щетину и мыло. – А я спрошу: кто рекомендовал вас королю?
– Не королю, а канцлеру Томасу Мору меня рекомендовал Эразм Роттердамский… они ведь друзья, и я счастлив, что моя жизнь озарена доверием ко мне этих великих мыслителей.
– Так ли уверен Мор после истории с Болейн?
– Вы боитесь за судьбу Томаса Мора?
– Но связанную с вашей судьбой… Сможете ли вы работать в стране, где даже канцлеры не знают, где они будут сегодня ночевать – у себя дома или в темницах Тауэра? Английский король считает преданными ему лишь тех, кто в нем, тупом и безжалостном деспоте, разглядит силу ума и его величие… Так не лучше ли возвратиться в Германию, чтобы красить заборы?
Вскоре Генрих VIII обвенчался с Анной Болейн, а прежнюю жену заточил в замке; дочь от нее, Мария Тюдор, была признана им незаконнорожденной, тем более что Анна Болейн уже не скрывала от публики свой выпирающий живот…
– Я присягал только королю, – заявил Мор, – но я не присягал двоеженцу, ставшему антипапой!
Генрих VIII в таких случаях долго не думал:
– И сгоришь на костре… как еретик.
– Выходит, мы оба любим играть с огнем.
Великий гуманист был отдан на расправу “Звездной Палате”; его приговорили: отрубить руки и ноги, извлечь внутренности, бросить их в костер, после чего можно лишать головы. Перед казнью пьяный король навестил своего бывшего канцлера.
– Каково? – спросил. – Только мои негодяи-лорды и могли придумать такую муку. Но я добрее: отрубим голову – и все.
После казни Гольбейн встретился с Георгом Гизе.
– Так что осталось от вашего покровителя?
– “Утопия” Мора и мои портреты Мора. Разве этого мало?..
Список портретов Гольбейна – страшный синодик затравленных, сожженных, обезглавленных… за что? Едва ли от Гольбейна осталась даже треть его наследия. Где уничтожено пожаром, где руками злых и глупых тупиц. Но иногда люди срывали со стен старые обои, а под ними яркими красками снова вспыхивала забытая, но бессмертная живопись Гольбейна… Портретам великого гуманиста Томаса Мора повезло – они уцелели!
Спорные вопросы религии лишь маскировали королевский деспотизм. Сегодня отрубали головы католикам, завтра вешали протестантов. Но в любом случае содержимое их кошельков исправно поступало в копилку короля. В бойкой распродаже конфискованных земель богачи наживались, а бедняки нищали.
В сентябре 1533 года Анна Болейн родила дочь Елизавету, и король уже не скрывал своего отвращения к жене:
– Будь я проклят, до чего она мне опостылела!
Женщину, снова беременную, он жестоко избил, истоптав ее ногами, и Анна Болейн выкинула мертвый плод. Королю снова понадобился Гольбейн, который не замедлил явиться. Подле Генриха улыбалась художнику наглая красавица Дженни Сеймур.
Король бросил Гольбейну кошелек с золотом:
– Теперь все стало проще, ибо никакой папа из Рима уже не может помешать нам. Давай-ка берись за кисти, сделай портрет моей ласковой курочки Джен… Ах, как она хороша!
Генеральный викарий Томас Кромвель громил монастыри Англии, но, кстати, не удержался от упрека королю:
– Нельзя же менять жен – это вам не перчатки.
Генрих VIII ответил, что Анна Болейн… неверна ему:
– Потому я выбрал Дженни Сеймур.
– Каковы же признаки прелюбодеяния Анны Болейн?
– Спросите Дженни Сеймур, она все видела…
– Что могла видеть эта чертовка?
– Она застала непристойную сцену: Анна Болейн лежала в постели, на которой сидел этот выродок – лорд Рошфор.
– Но он же ее брат! – воскликнул Кромвель.
– Это все равно, – ответил король, и белое плоское лицо его сделалось розовым, как свежая ветчина. – Скажу большее. Во время рыцарского турнира Анна бросила платок Генри Норрису; вы бы видели, Кромвель, с каким изящным благоговением он прижал этот платок к своему развращенному сердцу.
– Не он ли победил на турнире всех рыцарей Англии? Наконец, платок ему бросила не торговка селедками на базаре.
– Да, королева! Тем хуже для нее…
Анну Болейн разлучили с дочерью, вместе с Норрисом и Рошфором заточили в Тауэре. Король в эти дни охотился на оленей, сочинял любовные баллады, распевая их перед Дженни Сеймур, он играл ей на лютне… Дженни говорила ему:
– Ваша страсть ко мне бесподобна, но я удовлетворю вас только в том случае, если принесете мне голову этой грязной потаскушки Анны Болейн… Успокойте меня!
В ясный майский день, держа в руке белый цветок, Анна Болейн взошла на эшафот. В Лондоне были закрыты все лавки, театры левого берега Темзы пустовали, народ волновался и ждал, что скажет “прелюбодейка” на прощание.
– Спасибо великодушному королю, который прибавил еще одну ступень к лестнице моего случайного возвышения!
Несчастная женщина, она ведь публично льстила извергу, боясь, что топор коснется не только ее, но и маленькой дочери. Измерив свою шею руками, Болейн сказала палачу:
– Кажется, я не доставлю вам особых хлопот.
– Шея у вас лебединая, – согласился палач. – Не волнуйтесь, миледи, еще никто из моих клиентов не посылал жалоб и проклятий на меня с того беспечального света…
На следующий день Генрих VIII объявил дочь Елизавету незаконнорожденной и празднично обвенчался с Дженни Сеймур. Он объявил Ганса Гольбейна своим придворным живописцем:
– А чтобы мои лакеи не давали тебе пинков под зад, вот тебе и ключ моего камергера. Тебя могут отволтузить в моем дворце с палитрой, но кто тронет тебя, придворного?
Ученики хором поздравили мастера с камергерством:
– Не выпить ли всем нам по такому случаю?
– Пейте сами, бездарные бараны…
Вскоре Генрих VIII, озабоченно-хмурый, снова позвал Гольбейна и громко хлопнул себя по громадному чреву, заявив:
– Что-то опять у меня не так… не то, что хотелось бы! Эта потливая Джен воняет по ночам в постели, как хорек. Я дам тебе кучу денег. Поезжай-ка на материк с ящиком красок. Говорят, овдовела шестнадцатилетняя Христина, дочь датского короля, что была за герцогом Миланским. Привези портрет этой девчонки-вдовы в траурном платье. Может, она-то как раз то, что мне надо! Я буду ждать тебя с нетерпением.
В поиски невесты вмешался и Томас Кромвель; он советовал Генриху VIII связать свою жизнь с принцессой Клеве, впавшей в лютеранскую “ересь”, дабы этим браком примирить церковь англиканскую с учением всей европейской Реформации.
– А куда я дену Дженни Сеймур? Чувствую, что при таком короле, как я, Гольбейну не придется сидеть без дела…
Генрих VIII не просто убивал. Прежде чем казнить, он свои жертвы ласкал, нежно задурманивая их королевским вниманием. Кажется, погибель Кромвеля уже была предрешена, когда король присвоил ему титул графа Эссекса… Кромвель настаивал:
– Велите Гольбейну исполнить портрет с принцессы Анны Клеве – протестантки… Ее красота бесподобна!
“Пляска смерти” продолжалась. Король спрашивал:
– Боже, когда я избавлюсь от потеющей Джен?
Дженни Сеймур родила сына (будущего короля Эдуарда VI) и умерла, избавленная от смерти на эшафоте. Кромвель сказал, что теперь, когда престол Англии обеспечен наследником, можно признать законность рождения Марии Тюдор от Екатерины Арагонской, умершей в заточении, и можно признать законность Елизаветы, рожденной от Анны Болейн, лишенной головы…
Король подумал. Вздохнул. Улыбнулся:
– Не хватает еще одной головы…
– Чьей?
– А ты потрогай свою…
Кромвель был умен, но не догадался. Он напомнил королю, что в Германии свято хранит свою непорочность прекрасная принцесса Анна Клеве, а посол уже выслал в Лондон ее портрет, написанный Гансом Гольбейном:
– Почему бы вам не взглянуть на него?
Анна Клеве была представлена Гольбейном поколенно; строгая, она смотрела с холста в упор, ее красивые руки были покорно сложены на животе. Король обрадовался:
– Какая нежная курочка, так и хочется ее скушать с пучком крепкого лука… Ах, соблазнитель Гольбейн! Как он умеет вызывать во мне страсть своей превосходной кистью…
Генриха VIII охватило такое брачное нетерпение, что он даже выехал в Рочестер – навстречу невесте. Две кареты встретились посреди дороги. Из одной выбрался король, из другой, осклабясь гнилыми зубами, вылезла худосочная карга.
– Откуда взялась эта немецкая кляча?
– Это и есть ваша невеста – Анна Клеве.
– На портрете Гольбейна она выглядела иначе…
В квартале “Стального Двора” появился королевский палач и снова поднес Гольбейну красную гвоздику.
– Не смею не уважать вас, – сказал он. – Но вы, кажется, попали в немилость… Помните, что в моем лице вы имеете друга, а мое искусство не позволит вам долго мучиться.
– Почему вы так добры ко мне? – удивился Гольбейн.
– Я был маляром, как и вы когда-то. Теперь мы оба мастера в своем деле, а художники всегда поймут один другого…
Именно в это время на родине Гольбейна уже продавались на базарах листы его “Пляски смерти”, исполненные в гравюрах Лютценбургера. Кто не знал имени Гольбейна, тот узнал по этим политипажам. Начиналась слава – бессмертная, и “Пляски смерти” Гольбейна дошли до нас – не только в гравюрах, но даже в будущей музыке Листа, Сен-Санса и других композиторов. Но до чего же чудовищны кастаньетные перестуки костей у скелетов, пляшущих среди могил в лунные ночи!..
В день свадьбы король спросил Кромвеля:
– Подумай, чего не хватает для веселья?
– Неужели эшафота? – ужаснулся викарий.
– Ты догадлив, приятель. Не старайся разжиреть, чтобы не возиться с твоей шеей, похожей на бревно для корабельной мачты. Впрочем, не бойся… я ведь большой шутник!
Свадьба была 6 января 1540 года, а на следующий день король отплевывался, выбираясь из спальни:
– Ну удружил мне Кромвель! Вовек не забуду такой услуги. Черт меня дернул связаться с этой лютеранкой, которая ни слова не знает по-английски, а я не понимаю немецкого…
Утром Кромвель еще заседал в парламенте, а после обеда уже был обвинен в измене королю… Генрих VIII сказал:
– Если обвинение состряпано, какой умник скажет, что обвиненный не виноват? Такого в моем королевстве не бывает.
Голова Кромвеля слетела с плахи. Король ликовал:
– Готовьте посольство в Неаполь, и пусть мне подыщут принцессу без недостатков. Хватит перебирать этих малокровных северянок, у которых не осталось волос на макушках…
Посольство ответило, что невесту нашли. Принцесса неаполитанская – стройная, фигура ее идеальна, бюст возвышенный и располагающий к приятным сновидениям, волосы у нее как пламя, ножки крохотные, она часто хохочет, характер покладистый и зовущий к радости… Генрих VIII прервал секретаря:
– Годится! Читай же главное – что там в конце?
– В конце послы сообщают, что принцесса из Неаполя будет идеальной супругой, но у нее есть маленький недостаток.
– Какой же? – насторожился король.
– Она слишком упряма. И вот эта упрямица вбила себе в голову, что скорее помрет, чем станет женою вашего королев–ского бесподобия. А во всем остальном она имеет все достоинства, нужные для супружеского счастья…
Генрих VIII долго не шевелился на троне.
– Да, – сказал он, медленно оживая. – Упрямство – недостаток серьезный. А я, кажется, начинаю стареть…
Анна Клеве не стала возражать против развода. Король был так удивлен безропотностью этого уродливого создания природы, что провозгласил ее сестрой:
– И пусть она живет сколько ей влезет…
Гольбейну пришлось писать портрет новой королевы – Екатерины Говард; это была закоснелая католичка, и потому, чтобы угодить жене, Генрих VIII с новой силой обрушился на протестантов. Англиканская церковь стала каким-то безобразным чистилищем, где не знаешь, каким алтарям поклоняться: всюду таилась смерть… Генриху VIII представили список любовников Екатерины Говард, и это его заметно огорчило:
– Как не везет! Ну ладно. Всех этих молодцов, что угодили в список королевы, я быстро перевешаю…
Екатерина Говард была обезглавлена. “Пляска смерти” продолжалась. Весной 1543 года король снова пригласил Гольбейна:
– Сейчас ты увидишь женщину, перед которой невозможно устоять даже таким королям, как я. Правда, черт ее дернул уж дважды остаться вдовою, но кто же не любит вишен, надклеванных птицами? Сейчас будешь писать ее портрет…
Портрет последней жены Генриха VIII стал для художника, кажется, последним. Осенью Лондон навестила чума. Безобразной гостьей она явилась и в дом Гольбейна. Зловещие мортусы в черных одеждах, воняющих дегтем, подцепили его тело крючьями и поволокли на погост, даже не зная, кого они тащат.
– Дорогу! – орали мортусы. – Все расступитесь прочь и даже не смотрите на эту падаль… Плюньте, сотворите святую молитву и ступайте дальше по своим делам…
Англия свято сберегла могилу короля-палача, но она кощунственно затоптала могилу Ганса Гольбейна.
Трудно найти конец для такой страшной истории…
Германия, породив Гольбейна, свои права на Гольбейна как бы добровольно уступила Англии, и англичане со временем стали гордиться им, будто Гольбейн был англичанином. Все его наследие было давно растеряно, частью попросту уничтожено, но – век за веком! – Гольбейна канонизировали в святости мастеров Возрождения, и цена на любой клочок бумаги с его рисунком быстро возрастала. Наконец в 1909 году именно из-за Гольбейна в Англии возник даже громкий публичный скандал.
Случилось это так. В галерее герцога Норфолка находился портрет Христины Миланской, который англичане привыкли считать национальной собственностью. И вдруг стало известно, что американский миллионер Фрик покупает его за 72 000 фунтов стерлингов, а герцог охотно продает… нет, вернее, уже продал! Газеты позорили дирекцию Национальной галереи в Лондоне, которая не удосужилась еще раньше приобрести этот портрет работы Гольбейна. Между тем богатый американец грозил Норфолку, что больше месяца ждать не собирается:
– Деньги на бочку – и картина моя!
Англия, затаив дыхание, следила за перипетиями небывалой битвы – напряженной, как баталия при Ватерлоо. Спешно объявили добровольный сбор денег, дабы перекупить картину Гольбейна у Фрика. До срока оставалось четыре дня, а богатейшая страна не могла собрать и половины нужной суммы. Наконец настал роковой день, когда портрет Гольбейна вот-вот должен механически перейти в собственность “богатого дядюшки” из США… Люди следили за полетом времени, отсчитывая последние часы. Не уплывет ли Гольбейн за океан, как уплыли из Европы уже многие уникальные шедевры искусства?
– Гип, гип, ура! – послышались крики на улицах…
Нашелся некий патриот-аноним, в самый последний момент внесший в банк сразу 40 000 фунтов, и картина не покинула Англии. Случай отчасти даже смешной, но с трагическим привкусом. При этом я вспомнил королевского палача, который с цветком в руках говорил Гольбейну, что лишит его головы быстро и безболезненно.
Я уверен: до тех пор, пока люди будут ценить искусство, они будут высоко чтить и подвиг жизни Гольбейна – великого гуманиста, подобного его друзьям: Эразму Роттердамскому в Базеле и Томасу Мору в Лондоне…
Нашей стране на Гольбейна не повезло! О нем много пишут, но в каталогах музеев не встретишь его произведений. Однако не будем терять надежды, что где-нибудь в глухой русской провинции, под спудом заброшенных холстов, вдруг отыщут его утраченное произведение – как это случилось уже с “Мадонной” Леонардо да Винчи, как это случилось с “Евангелистами” Франса Хальса…
Закрытие русской “лавочки”
Старая королевна (не королева!) Анна Ягеллонка ехала из Кракова в свои владения. Скупо поджав морщинистые губы, она перебирала четки, изредка поглядывая в окно кареты. Вокруг было пустынно и одичало. Где-то на дорогах древней Мазовии ей встретилось одинокое засохшее дерево. На его сучьях болтались два удавленника, а под деревом – с обрывком петли на шее – сидел босоногий монах с изможденным лицом:
– Слава Иисусу! Моя веревка лопнула.
– Кто ты сам и кто эти повешенные люди?
– Мы не люди – мы псы Господни. Нас послал великий Рим, с благословения папы мы несем бремя ордена Иисуса Сладчайшего, дабы внушать страх еретикам, дабы содрогнулся мир безбожия и прозрели души, заблудшие во мраке ереси.
Анна Ягеллонка догадалась, кто он такой:
– Ступай же далее путем праведным, в Варшаве для вас хватит дела, будешь лаять на отступников божьих…
Так появились в Польше первые иезуиты; проникновение в любую страну они называли “открытием лавочки” (конгрегации). Но за католической Польшей лежала загадочная Русь, а Ватикан давно желал покорить ее духовно, подчинить себе народы – русских, украинцев и белорусов. Вслед за первыми “псами Господними” скоро появятся и другие, ловкие и бесстрашные, средь них будет и Антонио Поссевино. Об этом человеке очень много писали до революции, не забывают его и сейчас. Я бы сказал, что имя Поссевино три столетья подряд тянется через всю Европу, оставляя нечистый след в летописи нашего многострадального государства. Но что мы знаем о нем?
Был 1534 год, когда в семье бедного бондаря из Мантуи, под стук сколачиваемых винных бочек, раздался первый крик новорожденного, и бондарь в гневе отпихнул ногой бочку:
– Еще один! Чем я буду кормить этого заморыша?..
Но “заморыш”, вступив в пору юности, оказался чертовски умен, пронырлив и талантлив, почему кардинал Геркулес Гонзаго сделал его своим личным секретарем. Отправляя племянников в Падуанский университет, он наказал Поссевино:
– Ты поедешь с ними, дабы следить за их нравственностью, заодно укрепи себя в науках – теологии, истории, философии…
Падуя всегда славилась отчаянным вольнодумством, в будущих патерах римского престола не было и тени святости. Всюду следуя за племянниками кардинала, Поссевино не препятствовал их безобразным оргиям, терпеливо выслушивал непотребные анекдоты о женских монастырях. Общение с проститутками заменяло богословам священную мессу, а пьянство – святое причастие. Побаиваясь насмешек, Поссевино посещал храмы тайно, в частной жизни он строго следовал заветам аскетизма…
На это обратили внимание в ордене иезуитов.
– Что главное ты видишь в булавке? – спросили его.
– Острие.
– Что примечательно в алмазе?
– Сияние.
– Но впредь ты должен ценить в алмазе не сияние, а лишь его бесподобную твердость, какой станешь обладать сам, и ты сделаешься острее булавки, дабы проникать в сокровенное душ… Скажи честно, ты хочешь повелевать людским стадом?
– Хочу! – бестрепетно отвечал Поссевино…
Впоследствии нунций Болоньетти писал о нем: “Платит клеветой за дружбу… проявляет жадность к деньгам и подаркам. Страшно любопытен и пронырлив, всюду стараясь пронюхать чужие дела, умело влезет в чужую душу”. Беспощадная машина иезуитов обработала Поссевино как следует. Орден, созданный Игнацио Лойолой, всегда отвергал услуги людей хилых, робких или медленно соображающих. “Пес Господень” обязан быть вынослив, словно ишак на горной тропе, терпелив, как узник, осужденный на вечное заточение, изворотлив, будто гад ползучий. Шла постоянная тренировка воображения, логики в мыслях и поступках. Поссевино учили запоминать лица и одежды, повадки и характеры, имена и даты, события и цитаты древних авторов. Поссевино терзали бессонницей, ему не давали есть, голодный, он с утра до ночи перегружал тяжкие камни с места на место; при этом его утешали суровые наставники-менторы:
– Помни: чем лучше, тем хуже, и чем хуже для всех, тем лучше для нас. Не бойся смерти: она ведь неизбежна! Но будь спокоен. Ведя с человеком беседу, не подымай глаз выше его подбородка. Даже услышав выстрел из пушки, поворачивай голову с величавым достоинством… В этом проклятом мире ты всегда будешь прав, а другие останутся всегда виноваты.
По свидетельству его биографов, Антонио Поссевино обладал “очаровательной внешностью”, его организм не ведал усталости. Он мог обходиться без еды и даже без сна в долгой дороге, а по ночам писал, чтобы на рассвете продолжить свой путь. С каждого своего письма он привык снимать копию. Ему исполнилось 25 лет, когда его приняли в “Общество Иисуса”. Поссевино воспринял как должное прочтенные ему слова пророчества от Исайи, которые иезуиты относили лично к себе:
– Цари и царицы будут кланяться тебе до земли и будут облизывать прах ног твоих. Будешь насыщаться молоком народов земных и груди царские сосать станешь. И люди твои наследуют землю, яко состояние твое…
Поссевино готовили для заговоров и пропаганды. Ему внушали, что пропаганда никогда не ведется снизу – только с высоты престолов: иезуиту нет дела до того, что думают народы, они обязаны управлять народами через волю монархов.
– А когда не можете действовать – наблюдайте!
– Наблюдая, вмешиваться ли мне в события?
– Затем мы и созданы, чтобы с престолов королей, униженных нами, унизить народы, и только одни мы будем возвышены над миром. Презирайте врагов: способные отражать нападения мечом, враги бессильны и жалки перед клеветой и сплетнями…
Антонио был порождением своей эпохи – прекрасной и в то же время страшной! Европа еще не выбралась из потемок средневековья, когда Италия осветилась блеском Возрождения, Германия уже преподнесла миру образцы Реформации, а со стороны Испании еще клубился дым костров инквизиции. Церковь Рима не знала пощады: были такие города в Европе, где сжигали на поленницах дров по десять еретиков ежедневно; в Трире и его окрестностях остались живы только две женщины, остальные, не выдержав пыток, сознались, что они ведьмы (их, конечно, сожгли!). Человеческая жизнь в ту эпоху была слишком коротка, потому люди спешили жить – они рвались в битву, пропадали в таинственных странах, их привлекали авантюры в политике и славная смерть на рыцарских турнирах за “перчатку дамы”. Реформация породила лютеранство, а протестанты стали главным врагом воинственного католицизма…
– Испытайте себя в Савойе, – было велено Поссевино.
“Испытание” прошло блестяще: город был охвачен враждой, на улицах возникла резня, всюду валялись трупы протестантов, убитых католиками, а все имущество мертвецов Поссевино перевел в кассу ордена Иисуса Сладчайшего.
– Великолепно, – одобрили его. – А теперь…
Теперь пришел черед Франции. Когда в иезуитской коллегии Авиньона появился молодой и красивый богослов, читающий лекции, никто не думал о нем плохо. Даже когда в Тулузе убили пять тысяч гугенотов (протестантов), студенты не догадывались, что это дело рук их спокойного, вежливого профессора, который со слезами говорил о погибших “еретиках”. Не знали они и того, что по ночам Поссевино работает над планом поголовного уничтожения гугенотов во Франции. Поссевино навестил и Париж, где быстро нашел отмычки к сердцу королевы Екатерины Медичи. Ночь на 24 августа 1572 года вошла в историю Европы как “Варфоломеевская”: всего во Франции было тогда зарезано триста тысяч гугенотов…
Поссевино сделали ректором Авиньонской академии!
В 1573 году, вызванный в Рим, он стал секретарем всего “Общества Иисуса”; неутомимый, он много писал, прославив себя страстной полемикой с лютеранами. В это время на престол наместника Божия воссел папа Григорий XIII:
– Кажется, я образумил людское стадо. В Риме даже евреи и магометане раз в неделю обязаны прослушать христианскую проповедь. Но сейчас мои взоры устремлены на Восток.
– Ваше святейшество, не пора ли нам поторговать в польской “лавочке”? – склонился Антонио Поссевино перед папой.
– Пора! Но прежде мы образумим Швецию…
Швеция казалась Ватикану уже потерянной для католицизма, даже ее король Иоанн III принял лютеранскую веру. Поссевино скинул с себя нищенскую рясу и появился в Стокгольме, облаченный в изящный костюм аристократа. Шведские аристократки были очарованы жгучим красавцем. Прирожденный актер, он пленял их галантной учтивостью, всегда готовый любить и наслаждаться. Принятый при дворе, Поссевино в своем духе воздействовал на королеву, в которой возбудил фанатическую веру католички, но при этом перессорил в Стокгольме жен с мужьями, низы с верхами, взбаламутил все общество. Поссевино верно учитывал в людях их сильные стороны, старательно выискивал их слабости, чтобы затем играть на струнах тщеславия, ревности, жадности или соперничества.
– Мне очень смешно! – без тени улыбки на лице говорил Поссевино своим коллегам. – Даже сворой бездомных собак, наверное, управлять труднее, нежели этой стаей двуногих… О, как трусливы мужчины, грозно бряцающие оружием! О, как омерзительны женские натуры, алчущие радостей для своей плоти!..
Римская курия назначила его тайным “викарием всего севера”. Твердый как алмаз в своих убеждениях, Поссевино сделался острием той булавки, на которую следовало “наколоть” во–едино, словно бумажки, три страны: Швецию, Польшу и Московию, дабы – верные теперь одному Риму! – они в интересах Ватикана сражались с Турцией. Конечно, могущество Руси будет подорвано, а тогда царю можно предложить свою помощь.
– Но в ответ на мою помощь, – рассуждал папа, – Русь обязана принять Флорентийскую унию, дабы подчиниться моему святейшеству, как дети малые подчиняются отцу разумному…
Все варианты Ватикана были продуманы Поссевино, в руках этого оборотня вдруг оказалась полнота гигантской власти над странами, над народами, над каждым человеком – отдельно. Сейчас его планам мешала Ливонская война, которую вел Иван Грозный в Прибалтике, а совсем недавно крымский хан Девлет-Гирей дошел до Москвы и спалил ее. Все удачи Иван Грозный приписывал лично себе, зато на каждую неудачу отвечал лавиной террора. Русский народ, народ мужества и отваги, объяли страх и подозрительность, люди боялись друг друга. Как указывал Ф. Энгельс, террор – “это господство людей, которые сами запуганы. Террор – это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают ужас…”
Настал 1576 год. Чем насытим мы эту дату? Иван Грозный по-прежнему лютовал и, юродствуя, сажал на русский престол касимовского татарина Симеона Бекбулатовича; своего личного врача Елисея Бомелия царь изжарил на вертеле, его вращали над пламенем костра, словно индюшку; тогда же царь сыскал себе шестую жену, Василису Мелентьевну. При дворе Екатерины Медичи кавалеры и дамы учились танцевать вальс, только что изобретенный. В возрасте ста лет скончался великий Тициан, но он жил бы и дольше, если бы его не погубила чума. Наконец, в этом году закончилось “безкрулевье” в Польше…
Последнее событие – самое важное для России!
Короли на улицах не валяются. В разброде шляхетских мнений магнаты договорились до того, что хотели призвать на престол даже Ивана Грозного. Наконец шляхта сообразила:
– Да чего там искать? Есть же у нас старая королевна Анна Ягеллонка, вот пусть и станет королевой польскою.
Анне Ягеллонке уже пошел седьмой десяток лет:
– Но какая ж я королева, если у меня нет короля? Сначала найдите мне мужа, а потом делайте что хотите…
Мужа для нее сыскали в соседней Трансильвании, это был вое–вода Стефан Баторий, которого иезуиты опутали еще в юности, когда он учился в Падуе. Сами же поляки не жаловали свирепого мадьяра, и на это у них были причины. Стефан был зверски жесток, особенно когда выпьет лишнего, а сестра его, чтобы иметь нежную кожу, делала себе “косметические” ванны из крови маленьких девочек, и об этом в Польше давно знали по слухам. Но, втайне поддержанный иезуитами, Стефан Баторий все-таки воздел на себя древнюю корону Пястов, приняв условие шляхты: взять в жены престарелую Ягеллонку. Однако ему было не до любви, он видел себя покорителем Москвы.
– Если Девлет-Гирей только спалил ее, как дрова, так мы сделаем своей вотчиной, и Рим всегда благословит нас…
Ватикан уже не снимал руки с пульса буйной Варшавы.
– Баторий для нас – вестник божий! – провозгласил Антонио Поссевино. – Пусть скорее обрушивает меч на головы варваров, погрязших в давней византийской схизме…
Сами же поляки, уже по горло сытые вечными войнами и раздорами, идти походом на Русь не желали, как не хотели они и оплачивать войну нового короля. Баторий набрал в Европе всякой швали – наемников, и поляки терялись в массе немецких ландскнехтов, шотландцев, французов, литовцев и швейцарцев; увы, в армии Батория были и… русские! Дабы управлять этим сбродом, прежде следовало внушить наемникам надежды на богатую поживу и веру в счастливую звезду каждого.
Помог папа Григорий XIII, переславший в дар Баторию золотой шлем и оружие, освященные им в ночь на Рождество Христово, и вся авантюра обрела в глазах наемников облик “святости”. А прежние интриги Поссевино в Стокгольме дали зловещий результат: Швеция вступила в союз с Баторием – против Москвы! Вот тогда, тихо и незаметно, в Польшу въехал сам Поссевино, и, бесшумный как тень, бесплотный как дух, он предстал перед “крулем” со взором, опущенным долу:
– Начиная войну с отступниками от истинной веры, вы свершаете богоугодное дело. У престола Божия мыслят одинаково с вами: покорение схизматов-московитов сейчас для церкви значит гораздо больше, нежели изгнание турок из Европы…
Баторий уже титуловал себя “государем Ливонии”, а войска Ивана Грозного давно хозяйничали в Прибалтике, не в силах овладеть только Ригой и Ревелем. Беседуя с Поссевино, король не скрывал от него своих вероломных замыслов:
– Если война с Русью угодна Богу, то к делам во имя Христа, Спасителя нашего, я согласен привлечь хана крымского и султана турецкого. Прошу заверить его святейшество, что не сделаю ни единого шага, прежде не сверив его с мнением Рима!
В своих отчетах Ватикану Поссевино отметил и “детское послушание” короля. Он раскатал упругий свиток карты, сказав главное, давно продуманное в тишине римской кельи:
– Не сделайте ошибки, король! Зачем начинать войну в самой Ливонии, опустошенной долгой бранью и пожарами, если перст свыше указывает вам совсем иной путь.
– Куда? – хмуро глянул в карту Баторий.
– Ведите войско сразу на Русь, берите Полоцк, Великие Луки и Псков, после чего армия царя Ивана, оставшись в голодной Ливонии, не сможет вернуться назад – в Москву.
– Приемлю мудрое указание перста с высот горних!
– Взяв русские крепости, – упоенно продолжал Поссевино, – вы сразу откроете себе путь на Москву, заставив московитов убраться в Азию, где в дремучих лесах эти варвары разделят свою трапезу с дикими зверями, сами уподобясь зверям…
Советский историк Л. Вишневский писал по этому поводу: “Интересно, что этим же планом иезуитского ордена впоследствии руководствовался Наполеон. Этот план считал откровением своего таланта и Гитлер!” Итак, война началась… Тайные агенты Батория и перебежчики докладывали королю, что царь Иван Грозный засел с малым войском во Пскове и, часто приходя в гнев, избивает своего сына Ивана палкою по телесам.
– Пусть, – хохотал Баторий, – царь лупит царевича, а я стану бить самого царя во славу истинной веры…
Иван Грозный, сидючи во Пскове, получил от него послание: “Если хочешь мира, отдай мне Новгород, Псков и Великие Луки со всеми землями Витебска и Полоцка, а также всю Ливонию…” Царь, мнивший о себе, что Рюриковичи ведут свой род от Августа, императора римского, считал Батория просто ничтожным “хамом”. Плохо ориентируясь в том, что творится на белом свете, и посылая обратных гонцов к Баторию, он требовал для себя даже… польской короны Пястов (с головы Батория!).
– Но корона – не горшок с кухни, – отвечал король.
Полоцк пал. Но прежде его жители – от мала до велика – явили захватчикам такие образцы отваги, что сам Стефан Баторий был поражен и отмахнулся от поздравлений Поссевино.
– Я много воевал, я немало пролил крови, – сказал он. – Но русские показали, что в бою они превосходят иные народы. Впрочем, комплименты Рима приемлю, ибо разделил мою радость: ворота, ведущие на Русь, мною взорваны…
Иван Грозный трусливо бежал в Москву, слал гонца за гонцом к Баторию, униженно вымаливая себе мира, словно нищий, который просит богача не отказать ему в хлебе. Баторий принимал послов, даже не сняв перед ними шляпы, а послы имели наказ от царя: терпеть все, даже если их станут… бить! Одновременно шведы высадили десант в Ревеле, осаждали Нарву, а с юга нападали на Русь, терзая ее окраины, крымские ханы. Баторий, распахнув кунтуш и держа кубок с венгерским вином, попросту издевался над послами царя:
– Может, ваш царь даст мне четыреста тысяч золотых дукатов? Тогда я перестану сердиться, а на эти деньги буду отливать новые пушки для извержения на Москву ядер…
В августе 1580 года король осадил Великие Луки; крепость эта считалась тыловой, никто не думал о ней, бревенчатые стены давно обветшали. Иван Грозный в письмах к Баторию упрекал его в жестокости за то, что его войска стреляли раскаленными пулями. Сам же он в это время в седьмой раз женился – на Марии Нагой, а заодно начал свататься к английской королеве Елизавете, прося у нее убежища в Англии на тот случай, если придется убегать из России. Пока он там брачевался, великолукцы геройски отбили атаки Батория, сделали вылазку и захватили даже личное знамя короля – прапор.
– Так раскалим пушечные ядра докрасна! – разъярился Баторий, и, когда город запылал, он смотрел, как из пламени улиц выбегают его защитники с детьми и женами. – Зарежьте всех мужчин, – повелел король. – Не щадите пленных…
Россия находилась в политической изоляции: если Батория поддерживала вся Европа, то у русских не оказалось союзников – такова-то была “мудрейшая” политика Ивана Грозного, слишком уверенного в своих “талантах”. Города и деревни на Руси стояли впусте, напоминая кладбища, все разбежались от репрессий и поборов, воевать стало некому, дворяне скрывались в лесах, ютились за стенами монастырей, принимая схиму, чтобы не служить царю-извергу. Не стало в стране ни богатых, ни бедных – все, дворяне и крестьяне, сделались нищими…
Что еще напомнить из примет того гиблого времени? В 1580 году из алжирского плена был выкуплен изможденный однорукий бедняга, мало озабоченный славой в потомстве, – это был Сервантес, думавший о будущих подвигах Дон Кихота. А “генералом” ордена иезуитов стал молодой и напористый Клавдий Аквавива, который издалека упрекал своего легата Поссевино:
– Ваша лавочка в Польше плохо торгует! Шире раскидывайте свои сети, чтобы в них сама лезла глупая рыба…
На самом же деле “лавочка” Поссевино “торговала” с большим доходом: повсюду, словно поганки после дождя, появлялись иезуитские коллегии, и главная из них – в Вильне, где готовили “псов Господних”. Аквавива создал в Риме особую коллегию “Руссикум”, в нее завлекали православных и даже пленных, дабы обратить их в проповедников идей Ватикана.
…В августе 1581 года король Стефан Баторий начал осаду Пскова! У нас часто репродуцируют знаменитую картину Яна Матейко “Стефан Баторий под Псковом”. Вспомните, как в тени шатра сидит мрачный и грузный король, возле него, жестикулируя гибкими пальцами, словно фокусник, стоит зловещий Поссевино, а подле – в униженных позах – согнулись раболепные фигуры русских, умоляющих короля о пощаде. Картина выполнена блестяще, но исторически несправедливо. В ней все верно – и мрачный король, и Поссевино, строящий злые козни, но только никто из защитников Пскова не сгибался перед ними в дугу, как это представил Матейко… Сколько лет прошло с той поры, сколько подвигов вписал русский человек в летопись нашей боевой славы, но и по сей день оборона Пскова осталась в памяти России самой блестящей, самой непорочной страницей народного мужества!
Баторий привел под стены Пскова, наверное, около ста тысяч рати, собранной из подонков Европы, желающих добычи от грабежа. Под ударами мощных ядер рушились здания, в воротах города остервенело рубились мечами. Враги, устремляясь в проломы, овладели Свиной башней, чтобы с ее высоты удобнее обстреливать город. Но башня была взорвана подкопом, и в небе кувыркались кровавые ошметки вражеских тел. Русские сами перешли в наступление, смяли ближние полки врагов, волокли за волосы в город пленных. Баторий отрядил своих гайдуков с кирками разбить стены, но, проделав дырки в стенах Пскова, гайдуки из этих “дырок” живыми так и не выбрались. Псковитяне отбивали штурм за штурмом, и германские ландскнехты первыми ударились в бегство… Поссевино писал: “Русские решительно защищают свои города, их женщины сражаются рядом с мужчинами, никто из них не щадит ни сил, ни крови; они согласны умереть с голоду, но они никогда не сдаются…” Наконец Баторию удалось поджечь город.
– Воды, воды, воды! – кричали славные витязи.
От реки бежали бабы с бадьями, падали под пулями, но их бадьи подхватывали старухи и даже дети. Воины, опустив мечи, жадно хлебали воду и, отерев бороды, снова кидались в кровавую сечу. Баторий осаду Пскова превратил в его блокаду. Воеводе Яну Замойскому он признался:
– Связавшись с Псковом, я уподобился человеку, который схватил волка за уши, а теперь сам не знает, что ему делать дальше: отпустить нельзя, но и далее держать его опасно…
Псков не сдавался! Начались заморозки, рать Батория таяла на глазах, и король, оставив Замойского под стенами Пскова, сел в сани и бежал в Варшаву, как в будущем побежит и Наполеон, бросивший на произвол судьбы свою “великую армию”.
Рим был оповещен обо всем: там знали, что Россия истощена, но у Батория тоже не осталось резервов. Потому-то Ватикан охотно принял посла Истому Шевригина, в его честь с фасов замка святого Ангела палили из пушек. Москва сама пошла на поклон к престолу Римскому; Истома приятно обнадежил папу, что Россия согласна вступить в антитурецкую лигу, но прежде Рим пусть покончит с войной, которую развязал Баторий.
Пушки салютовали не зря! Григорию XIII и синклиту его кардиналов казалось, что пробил вожделенный час – Русь, взывая о помощи, уже склоняет голову, покорно согласная подставить шею под ярмо папской власти. Академик Н. П. Лихачев еще в 1900 году высветил все подробности этого бесподобно дерзкого, но глубоко осмысленного шага русской дипломатии. Истома Шевригин пробыл в Риме целый месяц и – на удивление папы – не смущался посещать католические храмы, хотя не восхитился гармонией музыки Палестрины; он невозмутимо прослушал и пение Сикстинской капеллы. Посол “варварской” страны показал себя отличным и выдержанным дипломатом, ибо сумел выразить главное – веротерпимость! Но это дало Ватикану повод для надежд на то, что сейчас исполняются его давние упования…
Папа Григорий XIII созвал консисторию кардиналов:
– Русский царь пишет мне, что Стефан Баторий, сведя дружбу с ханом крымским, подрывает будущий союз христианской лиги, которую Русь не отвергает, согласная помочь Европе в ее давней борьбе с магометанским насилием. Я повелеваю легату Антонио Поссевино оставить короля польского и спешно ехать в Москву, дабы говорить с царем от моего имени…
Стефан Баторий отпустил Поссевино с гневом:
– Стоило этим русским варварам постучать пальцем в двери Рима, и папа предал меня ради союза с Москвою.
На этот раз Поссевино пренебрег обычаем иезуитов и, никогда не подымая глаз выше кадыка собеседника, вдруг пронзил короля своим острейшим взором, будто стрелами:
– Я везу в подарок царю список Флорентийской унии, и когда царь подпишет ее, вам не придется проливать кровь на стенах неприступного Пскова, ибо ваши пределы сами вторгнутся в глубину России, только не мечом, а – крестом… Рим не предал тронных надежд, он лишь расширил власть моих полномочий!
Первый раз Поссевино увидел царя в Старице; в окнах хором виделось близкое зарево пожаров. Иван Грозный прежде–временно состарился, изнуренный блудом и жестокостями; историки указывают, что он пребывал в прогрессирующем угасании духа и воли. Его безмерная гордыня чередовалась с ненормальным смирением. Псков еще отбивал штурмы Батория, но царь уже осознал, что Ливонская война им проиграна. Он лишь едко усмехнулся, когда ему зачитали послание папы, желавшего крепкого здоровья его жене Анастасии, умершей двадцать лет назад. Поссевино вручил ему книгу о Флорентийской унии, богато украшенную золотыми буквицами, и этим подарком сразу дал понять, что все беды России легко исправимы, если русские не погнушаются принять унию, целуя туфлю с ноги папы римского.
Иван Грозный ответил уклончиво, что вопросы о вере истинной сейчас не суть главные, коли война продлевается:
– Сначала Руси моей замирение надобно…
Переговоры о мире Поссевино вел с боярами в деревне Киверова Гора близ Яма Запольского, что южнее Пскова. Напичканный цитатами латинских классиков, главный идеолог Ватикана, высохший от сухоядения и молитвенных бдений, ютился в курной избушке, где сам топил печку. Его тщеславие было возбуждено до невыносимых пределов: он, сын жалкого бондаря из Мантуи, достиг таких непомерных высот, что сейчас решает вопросы войны и мира в странах, столь далеких от его родины. Но переговоры с русскими обычно кончались скандалами и угрозами. В одном эпизоде Поссевино заявил боярам:
– Если вы, не уступая мне в Ливонии, боитесь за свои головы, то я сам готов за вас отдать свою голову.
На это ему ответили:
– Эх, дурень! Да будь у нас даже по десять голов, царь срубил бы их все с плеч наших, ежели уступим в Ливонии…
Но бояре сплоховали в истории, и Поссевино, знаток древности, указывал им, что в хронологии мира они смещают события даже на 500 лет – к своей выгоде. Унижая и оскорбляя друг друга, обе стороны долго препирались, пока не согласились на перемирие сроком на 10 лет. Ям-Запольский мир – это скорбная страница русской политики, это трагедия для русских людей, рыдавших над покидаемыми могилами своих родичей, которые сложили кости на Ливонской земле, и потомки этих изгоев вернутся сюда уже с барабанным боем – в иной эпохе…
Поссевино исполнил роль миролюбца. Но зато проиграл в самом главном, ради чего и посылали его в Россию: не был решен вопрос об унии двух церквей. Иезуит поспешил в Москву, куда и прибыл сразу после похорон царевича Ивана, убитого в припадке гнева отцом. Куда пришелся удар царского посоха, в висок или в ухо царевича, – это не столь уж важно, если важно другое: династия Рюриковичей, рожденная в крови, в крови и сдыхала. Поссевино, дотошный, как и положено “псу Господню”, тщательно анализировал материалы о последнем злодействе Ивана Грозного, идя, как следователь, по горячим следам преступления, за что ему благодарны позднейшие историки, тем более что русские источники об убийстве царем своего сына говорят очень глухо и невнятно.
Поссевино продолжил беседу с царем, начатую еще в Старице, и царь, едва отмыв руки от сыновьей крови, согласился на дискуссию о религии. Однако вопрос о принятии католической веры завершился легендарными словами Ивана Грозного:
– Твой папа – волк, а совсем не пастырь людской…
“И посол Антоней, – записано в протоколе беседы, – престал говорити; коли дей уж папа волк, и мне чего уж говорити?..” В памятной записке Поссевино оставил иезуитам наказ на будущее: с русскими в прения лучше не вступать, ибо любая дискуссия с ними может закончиться дракой. Я, автор, удивляюсь физической выносливости Поссевино: из Москвы он сопроводил до Рима русского посла, потом вернулся в Польшу, его видели в Трансильвании на диспутах с лютеранами, его влияние обнаружилось в Молдавии, где он заманивал людей в свои тенета, и, наконец, Поссевино возглавил работу иезуитской коллегии в Браунсберге (подле прусского Кенигсберга), куда он собирал шведских, эстонских и русских студентов… Какие расстояния преодолевал он! Ему казалось, еще не все потеряно:
– Я ведь еще не закрыл свою русскую “лавочку”!
Поссевино написал книгу “Московия”, которая выдержала несколько изданий подряд. Ему легко было писать, ибо (как стало известно позже) он имел при себе целый мешок с перепиской между царем и королем Баторием, и этот “мешок” ценнейших документов доныне хранится в архивах Ватикана, недоступных историкам. Между тем Стефан Баторий зверствовал в Польше; если царь душил своих бояр, то король свирепо рубил головы своим магнатам; если бояре, убоясь казней, раньше спасались в Польше, то теперь знатные ляхи убегали в Запорожскую Сечь, становясь там казаками. Полония при Баторий покрылась иезуитскими школами: искусные диалектики, иезуиты из любой “овцы” стада Христова делали “пса Господня”. Народ безмолвствовал, и только Рига ответила иезуитам восстанием…
Наконец Иван Грозный умер; анализ его останков, проделанный уже советскими специалистами, показал наличие в костях царя большого количества ртути, – так что царь опочил не своим духом. Смерть его оживила былые чаяния Батория, а Поссевино твердил королю, что московиты невыносимы в научных диспутах, их легче всего убеждать кнутом или мечом. Молодой папа Сикст V посулил Баторию 25 тысяч золотых скудо “для столь великого предприятия, каково было завоевание Москвы”. Тогда же Рим указал Поссевино снова ехать в Москву, где стараться всеми силами подчинить слабоумного царя Федора. Но по дороге из Браунсберга он узнал от гонца, что Стефан Баторий скоропостижно скончался в Гродно, и тогда Поссевино велел задержать лошадей, задумчивый, он выбрался из кареты.
– Стоило умереть царю Ивану Грозному, – сказал он, – и последнюю царицу Марию Нагую вместе с сыном ее царевичем Дмитрием сослали в Углич… не странно ли?
Свита папского посла выжидала, куда повернут кони: в Варшаву? в Москву? или… в Углич? Но Поссевино молчал. Потом долго натягивал на озябшие пальцы черные перчатки, сшитые из змеиной шкуры, и не спеша забрался обратно в карету:
– Поворачивай обратно – на Браунсберг!
Окончание нашей проклятущей истории лучше всего поискать в 1606 году, когда во Флоренции вдруг появилась загадочная книжонка о “чудесном юноше” Дмитрии, который чудом спасся от наемных убийц в городе Угличе, дабы по праву наследства занять московский престол. Брошюра эта, как доказано историками, была чуть ли не последним сочинением Антонио Поссевино – он делал роковой и решительный шаг перед могилой, выдвигая из потемок небытия авантюрную, почти непредсказуемую фигуру самозванца. Книжка о нем скоро была перетолмачена на все европейские языки, и тогда же Лжедмитрий сделался едва ли не самой популярной личностью в католической Европе.
К тому времени иезуитская коллегия в Браунсберге уже подготовила целую армию молодых и пылких проповедников, чтобы они – в обозах шайки Лжедмитрия – въехали в Москву. Все это время самозванцем руководил сам Поссевино, засыпавший его советами, как вести себя в России, что говорить, о чем молчать… У престола папы римского ликовали:
– Наша “лавочка” в России снова открывается для выгодной торговли, и глупая рыба сама лезет в наши сети…
Сам папа благословил самозванца, который отписывал в Римскую курию буквально так: “А мы сами, с божьей милостью, соединение (церквей) сами приняли, и станем теперь накрепко промышлять, чтобы все государство московское в одну веру рим–скую всех привесть и костелы римские устроить…”
…Антонио Поссевино скончался в Ферраре в 1611 году – как раз в том страшном году, когда интервенты сожгли Москву. Но уже поднималась возмущенная Русь, и народное ополчение Минина и Пожарского спасло честь отечества. Через три столетия, в канун нападения гитлеровского вермахта на СССР, римские наследники Антонио Поссевино массовым тиражом отпечатали молитвенники на русском языке. Наверное, им казалось, что они последуют за танками Гудериана и Клейста, как когда-то волоклись на Русь по следам Батория и Лжедмитрия.
Но русская “лавочка” была для них закрыта…
Последние из Ягеллонов
Б а р и… Я не знаю, посещают ли этот город в Калабрии наши туристы. Но до революции русские паломники ежегодно бывали в Бари, чтобы поклониться его христианским святыням; из Одессы их доставлял в Италию пароход “Палестинского общества”, а билеты богомольцам продавали по заниженным ценам. Наши бабушки и дедушки, даже деревенские, хорошо знали этот город с его храмом Николая Чудотворца, и неудивительно, что в ту пору многие жители Бари владели русским языком. Наконец в 1944 году в Бари по-хозяйски базировались наши самолеты и жили наши летчики, которые, совместно с американскими, обслуживали в горах Югославии армию маршала Тито.
Конечно, во все времена древняя базилика Николая охотно посещалась людьми, в числе ее памятников всех поражала беломраморной помпезностью усыпальница Боны Сфорца, которая была женою польского короля Сигизмунда Старого… Тут я вынужден остановиться, чтобы напомнить: Польша – наша старинная соседка, иногда скандальная и крикливая, но с которой нам все равно никогда не расстаться; сама же история Польши столь тесно переплетена с нашей, что не знать прошлого поляков – хотя бы в общих чертах! – просто непозволительно.
Но однажды я заметил, что мой приятель (человек вроде бы достаточно образованный) небрежно перелистал красочный альбом картин знаменитого Яна Матейко и… зевнул.
– Зеваешь? Не любишь этого художника?
– Люблю, – скромно сознался приятель. – Но, к сожалению, смысл его исторических полотен теряется в бездне моего незнания. Вот тут некая Сфорца принимает лекарство от врача, а вот какая-то Барбара Радзивилл… красивая бабенка! Помилуй, откуда нам знать эти имена, если мы и свои-то растеряли, за–учив со школьной скамьи лишь такие “светлые” личности, как Иван Грозный да Петр Первый, которые клещами палачей да легендарными дубинами прививали европейский лоск нашим достославным предкам, желавшим едино лишь сытости и покоя…
Мне осталось только вздохнуть. Что сказать в ответ, если читатели иногда спрашивают меня – откуда взялась на Руси принцесса Анна Леопольдовна, сына которой благополучно зарезали, почему вызвали из Голштинии сумасбродного Петра III, своих, что ли, дураков не хватало?.. Грустно все это. Но одной грустью делу просвещения не поможешь. Тем более что рассказ о Боне Сфорца я уже начал. Она овдовела в 1548 году, когда скончался ее муж Сигизмунд Старый, сын Ягеллончика…
Катафалк с телом усопшего стоял в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове; суровые рыцари в боевых доспехах склонили хорунжи (знамена) Краковии, Подолии, Мазовии, Познани, Вольши, Померании, Пруссии и прочих земель польских.
Жалобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли свечи к знаменам, и они разом вспыхнули, сгорая в буйном и жарком пламени. Тут раздался цокот копыт – по ступеням лестницы прямо в собор въехал на лошади воевода Ян Тарло в панцире; поверх его шлема торчала большая черная свеча, коптившая едким дымом.
В руке Тарло блеснул длинный меч:
– Да здравствует круль Сигизмунд-Август!
Имя нового короля, сына покойного, было названо, и канцлер с подскарбием разломали государственные печати – в знак того, что старое королевье кончилось. Сигизмунд-Август снял с алтаря отцовские регалии, и согласно обычаю он расшвырял их, как негодный хлам, по углам собора. В это же мгновение герцог Прусский и маркграф Бранденбургский (вассалы польские) вы–хватили из ножен свои мечи. С языческим упоением они сокрушали реликвии былой власти над ними. Громко зарыдали триста наемных плакальщиц. Над головами множества людей слоями перемещался угар тысяч свечей и дым сгоревших хорунжей.
Бона Сфорца вдруг резко шагнула вперед и алчно сорвала с груди покойного мужа золотую цепь с драгоценным крестом:
– Не отдам земле – это не ваше, а из рода Сфорца…
В дни траура король навестил мать в королевском замке.
Еще красивая, стройная женщина, она встретила сына стоя; ее надменный подбородок утопал в складках жесткой испанской фрезы. Молодой король приложился к руке матери, целуя ее поверх перчатки, украшенной гербами Сфорца, Борджиа и Медичи, близко родственных меж собою.
– Покойный отец мой, – начал он деловой разговор, – совсем недавно выплатил дань Гиреям крымским, чтобы они дали нам пожить спокойно. Но, получив дань, вероломные татары уже вторглись в наши южные “кресы”, угоняя в Крым многие тысячи пленников. Теперь, если выкупать их на рынках Кафы, нужны деньги, а наша казна пуста…
– Чего ты хочешь, глупец? – жестко спросила Бона.
– Я желаю знать: насколько справедливы те слухи, что вы, моя мать, отправили миллионы дукатов в Милан и в “золотую контору” аугсбургских банкиров Фуггеров?
Бона Сфорца безразлично смотрела в угол.
– Какие вести из Московии? – спросила отвлеченно.
– Иван Васильевич венчал себя царским титулом, а крым–ским ханством начал владеть кровожадный Девлет-Гирей. Но я… жду. Я жду ответа о казне Польши, бесследно пропавшей.
Скрип двери выдал гнусное любопытство врача Папагоди, но Бона сделала знак рукою, чтобы сейчас он не мешал.
– Я не только Сфорца, – отвечала мать, гневно дыша, – во мне течет кровь королей Арагонских, кровь благочестивых Медичи и Борджиа, и еще никто не осмеливался попрекать нас в воровстве… Ступай прочь! Зачем ты велел закладывать лошадей?
– Я отъезжаю в Вильно.
Боной Сфорца овладел яростный, дикий крик:
– Твое место в Кракове или в Варшаве… Или тебе так уж не терпится снова обнюхать свою сучку Барбару Радзивилл, которую всю измял бородатый верзила Гаштольд, даже в постели не снимавший шлема и панциря?
Король бледнел от страшных оскорблений матери.
– Но я люблю эту прекрасную женщину, – отвечал он тихо.
– Ах, эта любовь! – с издевкою произнесла Бона. – Меня за твоего отца сватал сам великий германский император Карл, и тебе надобно искать жену из рода могучих Габсбургов, пусть из Вены или из Толедо. Бери любую принцессу из баварских или пфальцских Виттельсбахов, по тебе тоскует вдовая герцогиня Пармская, наконец, вся Италия полна волшебных невест из Мантуи, Пьяченцы и Флоренции, а ты… Кого ты избрал?
– Я никогда не оставлю Барбару, – заявил сын.
– А-а-а, – снова закричала мать, – тебе милее всех эта дикарка из деревни Дубинки, где она расцвела заодно с горохом и вонючей капустой… Чем она прельстила тебя?
– Тем, что Барбара любит меня.
– Тебя любила и первая жена – Елизавета Австрийская.
– Да! – вспыхнул король, обозленный словами матери. – Да, любила… Но вы сначала разлучили меня с нею, а потом извели потаенным ядом из наследия благочестивых Борджиа.
Дверь распахнулась, вбежала Анна Ягеллонка, сестра молодого короля. Рухнула на колени между братом и матерью:
– Умоляю… не надо! Даже в комнатах фрауциммер слышно каждое ваше слово, и лакеи смеются… Сжальтесь! Не позорьте же перед холопами свое достоинство Ягеллонов…
– Хорошо, – согласился Сигизмунд-Август, нервно одернув на себе короткий литовский жупан. – Мертвых уже не вернуть из гробов, но еще можно вернуть те коронные деньги, что тайно погребены в сундуках аугсбургских Фуггеров.
Бона Сфорца злорадно расхохоталась в лицо сыну:
– Ты ничего не получишь. И пусть пропадет эта проклятая Польша, где холодный ветер задувает свечи в убогих каплицах и где полно еретиков, помешанных на ереси Лютера…
После отъезда сына она тоже велела закладывать лошадей. Ее сопровождали незамужние дочери – Анна и Екатерина Ягеллонки. Спины лошадей, потные, были накрыты шкурами леопардов.
– Едем в замок Визны, – сказала Сфорца; под полозьями саней отчаянно заскрипел подталый снег. – О, как я несчастна! Но вы, дочери, будете несчастнее своей матери… Я изнемогла вдали от солнца прекрасного Милана. Как жить в этой стране, если к востоку от нее – варварская Московия, а из германских княжеств наползает на Полонию лютеранская ересь. Я не пожалела бы и миллиона золотых дукатов, чтобы в городах моего королевства освещали мне путь костры святой инквизиции.
…Было время гуманизма и невежества, дыхание Ренессанса коснулось даже туманных болот Полесья, а ветры из Европы доносили дым костров папского изуверства. Правда, в Польше тоже разгорались костры: заживо сжигали колдуний, упырей, ворожеек и отравителей. Но казни еще не касались “еретиков” лютеранской веры, поляки тогда были веротерпимы, и Реформация быстро овладевала умами магнатов и “быдла”. Бона Сфорца сказала:
– Без псов Господних нам не обойтись…
“Псами Господними” называли себя иезуиты.
В каминах мрачного замка Визны жарко потрескивали дрова, но все равно было зябко. Бона Сфорца накрыла голову испан–ским беретом из черного бархата, ее платье – платье вдовы – было густо осыпано дождем ювелирных “слез”, отлитых при дворе испанского короля Филиппа II из чистого мексиканского серебра.
Махра Вогель, ее приемная дочь, тихо играла на лютне.
– Когда-то и я трогала эти струны, – сказала Бона, вычурно ступая на высоких котурнах. – Но все прошло… все, все, все! Теперь я жду гонца из Вильны, а он все не едет.
– Может, его убили в дороге, – подсказала Махра.
– Такое у нас бывает… часто, – согласилась Бона.
Она выглянула в окно: за рекою чернели подталые пашни, дремучие леса стыли за ними, незыблемые, как и величие древней Полонии. Наконец она дождалась гонца, который скакал пять суток подряд, скомканный вальтрап под его седлом был заляпан грязью, как и он сам. Гонец протянул пакет:
– Из Литвы, ваша королевская ясность.
– Кто послал тебя ко мне?
– Петр Кмит, маршал коронный.
– Что ты привез?
– То, о чем знают уже все. Король и ваш сын Сигизмунд-Август ввел Барбару Радзивилл в Виленский дворец, публично объявив ее своей женою и великой княгиней Литовской…
Нет, ничто не изменилось в лице Боны Сфорца.
– Ты устал? Ты хочешь спать? – пожалела она гонца.
– Да, устал. Хочу спать и – пить…
Сфорца перевернула на пальце перстень, сама наполнила бокал прохладной венджиной и протянула его гонцу:
– Пей. С вином ты уснешь крепко…
Потом из окна она проследила, как гонец, выйдя из замка, шел через двор. Ноги его вдруг подкосились – он рухнул и уже не двигался. В палатах появился маршалок замка:
– Гонец умер. Еще такой молодой… жалко!
– Но он ведь слишком утомился в дороге…
Перстень на ее пальце вдруг начал менять окраску, быстро темнея. Махра Вогель перестала играть на лютне:
– Что пишут из Литвы?
– Дурные вести – у нас будет молодая королева, и сам всевышний наказал гонца, прибывшего с этой вестью.
Теперь осталось дело за малым: возмутить шляхту и сейм, всегда алчных до золота, чтобы они не признавали брака ее сына. Петр Кмит был давним конфидентом Боны, по его почину быстро собрался сейм. Подкупленные шляхтичи требовали от Сигизмунда-Августа, чтобы он оставил Барбару Радзивилл.
– Эта паненка, – кричали ему, – уже брачевалась со старым Гаштольдом, что был воеводой в Трокае на Виленщине, так зачем нашему королю клевать вишни, уже надклеванные ястребом?
Сигизмунд оставался непреклонен в своем решении:
– Болтуны и пьяницы, замолчите! Я ведь не только последний внук Ягеллончика, но я еще и человек, как и все мы… грешные. А любовь – дело сердца и совести каждого христианина. И вы знайте: да, я безумно люблю Барбару…
Напрасно люблинский воевода Тарло рвал на себе кунтуш:
– Сегодня она только княгиня Литовская, а завтра ты назовешь ее нашею королевой… Пересчитай мои рубцы и шрамы, король! Я сражался за наши вольности с татарами, с германцами, с московитами, когда тебя еще не было на этом свете. Так мне ли, старому воину, кланяться твоей захудалой паненке?
Сигизмунд-Август усмехнулся с высоты престола:
– Воевода! Барбара достаточно умна и образованна, чтобы даже не замечать, если ты не удостоишь ее своим поклоном…
Во время этого “рокоша” Бона Сфорца сидела в ложе, укрывая за ширмою своего фаворита и врача Папагоди, который был поверенным всех ее тайн и всех ее страстей. Сейм уже расходился, и тогда Бона с кроткой улыбкой подошла к сыну.
– Я уважаю твое чувство к женщине, покорившей тебя, – сказала она, прослезясь. – Будь же так добр: навести меня вместе с Барбарой, я посмотрю на нее, и мы станем друзьями…
Здесь уместно сказать: при свиданиях с матерью король не снимал перчаток, ибо в перстнях ее таились тончайшие ядовитые шипы – достаточно одного незаметного укола, чтобы мать отправила на тот свет родного же сына. Сигизмунд-Август отвечал, что согласен навестить ее вместе с Барбарой:
– Но прошу вас не блистать перед ней перстнями…
Барбара, желая понравиться свекрови, украсила голову венком из ярких ягод красной калины – это был символ девственности и светлой любви. Бона расцеловала красавицу:
– Ах, как чудесны эти языческие прихоти древней сармат–ской жизни! А я начинаю верить, что ваша светлая любовь к моему сыну чиста и непорочна, – добавила Бона с усмешкою.
Стол был накрыт к угощению, в центре его лежала на золотом блюде жирная медвежья лапа, хорошо пропаренная в пчелином меду и в сливках. Но Барбара, предупрежденная мужем об искусстве врача Папагоди, всем яствам предпочла яблоко… только яблоко! Да, сегодня перстней на пальцах Боны не было. Бона взяла нож, разрезая яблоко надвое, и при этом мило сказала:
– Разделим его в знак нашей будущей дружбы…
Наследница заветов преступных Борджиа, она хорошо знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здоровой, съев свою половину яблока, а любимая Барбара Радзивилл вскоре же начала заживо разлагаться. Ее прекрасное лицо, ставшее сизо-багровым, отвратительно разбухло, губы безобразно раздвинулись, распухая; наконец, ее дивные лучистые глаза лопнули и стекли по щекам, как содержимое расколотых куриных яиц. От женщины исходило невыносимое зловоние, но король не покинул ее до самой смерти и потом всю долгую дорогу – от Кракова до Вильны – ехал верхом на лошади, сопровождая гроб с ее телом…
Барбара была отравлена в 1551 году, а вскоре Сигизмунд-Август, дважды овдовевший, прогнал от себя и третью жену Екатерину из дома венских Габсбургов, брак с которой силой навязала ему мать. Но вслед за изгнанием жены король – в жесточайших попреках! – начал изгонять из Польши и свою мать:
– Только не забудьте забрать и своего любимца Папагоди, которого лучше бы именовать не исцелителем, а могильщиком…
Заодно с любовником Бона Сфорца вывезла из Польши несметные богатства, награбленные еще при жизни Сигизмунда Старого. Семья миланских герцогов Сфорца не пожелала видеть экс-королеву в своем Милане, и Бона перебралась в Бари, где завела пышный двор. Близилось ее шестидесятилетие, но Бона еще мечтала об удовольствиях, для чего и заботилась о возвращении молодости, над секретом которой немало хлопотал Папагоди в своей тайной лаборатории. Вскоре, узнав о ее богатствах, испанский король Филипп II выпросил у нее в долг 420 000 золотых дукатов, и Бона охотно отдала их королю, зная, что эти деньги пойдут на искоренение “ереси”, чтобы жарче разгорались огни инквизиции.
– Мы распалим в Европе такие костры до небес, что даже у ангелов на небесах обуглятся их ноги! – восклицала она.
После этого, получив личное благословение папы римского, Бона Сфорца собралась нежиться на солнце еще много-много лет. Был уже конец 1557 года, когда врач Папагоди, веселый и красивый, поднес ей кубок с эликсиром для омоложения.
– Выпейте, – сказал он нежно. – Глупо принимать ванны из крови невинных девочек, как это делают некоторые знатные дамы, если вернуть живость юности можно через такой вот декокт, который я приготовил для вас по самым древним рецептам…
Это был отличный декокт – пополам с ядом. Как тут не воскликнуть: “О tempora, о mores!”
Смерть Боны Сфорца совпала с возникновением Ливонской войны, которую слишком рьяно повел Иван Грозный; но, вводя свои войска в земли Прибалтики, царь невольно затрагивал интересы и польской короны, а сама Польша – и даже ее воинственная шляхта – к войне с Россией никак не была готова.
Сигизмунд-Август отмахивался от разговоров о пушках:
– Увы, все пушки заряжаются не порохом, а деньгами…
Он почти слезно умолял банкиров Фуггеров (этих предтечей династии Ротшильдов), чтобы они, мерзавцы, вернули Польше деньги, вложенные в их банк его матерью, но Фуггеры нагло отрицали наличие вклада. Король обратился в Мадрид к Филиппу II, чтобы тот, благородный Габсбург, вернул долги матери…
Король Испании даже НЕ ответил королю Польши!
Ливонская война, столь опрометчиво затеянная русским царем, затянулась на многие годы, но Сигизмунд-Август не помышлял о победах. Отчаясь в жизни, презренный даже для самого себя, король ужасался при мысли, что остается последним Ягеллоном, и бросился в омут распутства; пьяный, он кричал по ночам:
– Умру, и… кому достанется Речь Посполитая?
Он окружил себя волхвами, кудесниками и магами. Знаменитый алхимик и чародей пан Твардовский (этот польский Фауст) окуривал короля синим дымом, и тогда перед ним возникал дух Барбары Радзивилл. Отделясь от стены, она, почти лучезарная, тянула к нему руки, и король, отбросив чашу с вином, кидался навстречу женщине, а потом скреб пальцами холодную стенку:
– Не мучай! Приди… еще хоть раз. Вернись…
Сигизмунд-Август скончался в 1572 году, и, как сообщает наш великолепный историк С. М. Соловьев, он умер в позорной нищете: “В казне его не нашлось денег, чтобы заплатить за похороны, не нашлось ни одной золотой цепи, ни одного даже кольца, которые должно было надеть на покойника”. После смерти последнего Ягеллона в Польше наступило опасное “бескрулевье”, в котором сразу появилось немало претендентов на его корону – в том числе хлопотал о ней и русский царь Иван Грозный, вожделевший “почати” от Екатерины Ягеллонки.
Но в короли поляки избрали парижского вертопраха Генриха Валуа, сына Екатерины Медичи, который, поразвратничав в Варшаве, однажды ночью бежал из Польши, и новое “бескрулевье” завершилось избранием в короли Стефана Батория, согласившегося жениться на беззубой старухе Анне Ягеллонке. А “невеста” русского царя – Екатерина Ягеллонка – стала женою шведского короля Юхана III, и вот они оба, мужья Ягеллонок, стали побеждать слабую армию Ивана Грозного…
Здесь мне желательно сказать о другом! Ровно через 26 лет после вырождения Ягеллонов безобразно выродилась на русском престоле и правящая династия Рюриковичей; но, согласитесь, есть что-то общее в том, что эти династии, когда-то могучие, завершали свой кровавый путь в презренном маразме слабо–умия, в пакости самого гнилостного разврата.
Не вернуться ли нам в древний городок Бари?
Может быть, теперь, когда в нашей стране верующие обретают свободу совести, может быть, повторяю, возобновятся поездки паломников по местам древнейших христианских святынь, и, может быть, они навестят и город Бари, где увидят Бону Сфорца, стоящую на коленях поверх гробницы со своими же костями.
В этом случае хотел бы предостеречь, что кланяться перед Боной Сфорца не надо – она не святая! Эта зловещая дама сделала все, чтобы на земле не осталось Ягеллонов…
История одного скелета
Историки Германии давно озадачены каверзным для их самолюбия вопросом: чем объяснить, что в прошлом немцы, попирая заветы патриотизма, толпами покидали свой “фатерлянд”, перебираясь в Россию? Зато вот русские люди, жившие гораздо хуже немцев, оставались верны своей отчизне, и никто из них даже не помышлял бежать в Германию. Эрик Амбургер, историк из ФРГ, справедливо писал по этому поводу: “Ни один русский даже мысли не допускал о выезде и поселении за границей, так как отрыв от родины и своих единоверных сограждан представлялся ему попросту невероятным…”
Да, невероятным! Русские по заграницам не бегали. Худо ли, бедно ли, но свою проклятую житуху они пытались налаживать у себя дома, а прелести иностранного бытия их не прельщали. Правда, известны случаи, когда русские сознательно покидали Россию или становились “невозвращенцами”, навсегда потерянные для отечества. Но это бывало в эпоху кровавого террора опричнины Ивана Грозного или в Смутное время, когда жизнь человека ценилась в копейку.
В далекие от нас времена, не выдержав насилия властей и жестокости поборов, крепостные спасались за Уралом, осваивали Сибирь и Алтай, но в подобных случаях их нельзя было считать эмигрантами или политическими отщепенцами: они не порывали связей с отчизной, а лишь расширяли ее пределы, как бы невольно становясь “колонизаторами” новых, еще не освоенных земель…
После такого предисловия, для автора необходимого, я желаю рассказать о человеке, который умышленно предал родину и бежал в Европу, где оставил на память европейцам свой скелет. Но прежде нам следует переключиться в царствование Екатерины II, когда имя предателя неожиданно всплыло наружу истории, сделавшись загадкою для потомства. Итак, читатель, кареты поданы – нам придется навестить Зимний дворец!
Шведский король Густав III и Екатерина II состояли в двоюродном родстве (что не мешало им воевать друг с другом). Конечно, брат и сестра встречались: Густав приезжал в Петербург, Екатерина ездила во Фридрихсгам для свидания с ним. В первом случае князь Потемкин-Таврический подарил гостю окровавленную перчатку с руки Карла XII, хранившуюся в кунсткамере, и вручил ему рецепт приготовления русского кваса, который произвел на короля сильное впечатление; во втором случае брат и сестра, беседуя о политике, договорились о необходимости обмена между Швецией и Россией старыми документами из их архивов.
Густав III знал о пристрастии кузины к собиранию старинных летописей, и в одном из писем король сообщил ей, что в архивах Упсальского университета издревле хранится подлинная рукопись некоего Г. К. Котошихина (Селецкого) о порядках на Руси во времена царя Алексея Михайловича. Императрица считала себя знатоком старины, но при этом имени она малость опешила.
– Котошихин? Кто таков? – всюду спрашивала она.
Никто из грамотеев при ее дворе Котошихина не знал. В ответном письме королю императрица сообщала, что подыщет чиновника, который в ближайшее время навестит Упсалу. “Я не замедлю, – добавляла она, – и уже приказала отправить туда (в Упсалу) человека, который будет избран с этою целью”, – ради снятия копии с рукописи загадочного для царицы Котошихина.
– А все-таки странно, – рассуждала Екатерина в кругу своих близких. – Кого ни спрошу, никто не ведает о писателе Котошихине. Думается мне таково: ежели он оставил после себя описание старой Руси и ее порядков, значит, сам хорошо знал их… Однако какой дьявол затащил его в Швецию?
Густав III вскоре сообщил, что помянутый им Котошихин осенью 1667 года был обезглавлен топором королевского палача, о чем в шведских архивах имеется соответствующая запись.
– Теперь я совсем ничего не понимаю, – весело рассмеялась императрица. – Если, боясь царского топора в России, бежал он в Швецию, так почему там под топор угодил? Может, поспрашивать на Москве старых бабок-ведуний – не помнят ли кого из фамилии Котошихиных? Мне было бы интересно…
Много позже русский академик Яков Карлович Грот, отличный историк-скандинавист, специально занимался перепиской короля Густава III с императрицей. Но он так и не выяснил, успела ли Екатерина получить копию записок Котошихина, тем более что вскоре (в 1788 году) Густав III всеми силами своего мощного флота обрушился на Россию в ее балтийских пределах, и два года подряд длилась ожесточенная война, истребившая остатки доверия русской “сестры” к ее шведскому “брату”.
Шло время. Густава III зарезали на маскараде, а затем Екатерина Великая “умерла, садясь на судно”. Начиналась новая эпоха истории, через всю Европу прокатилась громкая череда наполеоновских войн – России было не до Котошихина, его имя снова возникло лишь в 1840 году. Случилось это неожиданно. В ту пору был такой профессор Сергей Васильевич Соловьев (которого не следует путать с Сергеем Михайловичем, нашим знаменитым историком). С. В. Соловьев преподавал тогда русскую литературу в университете Гельсингфорса (Хельсинки). Человек любознательный, он во время каникул не раз навещал близкую Швецию, где обнаружил громадные архивы русских дел, вывезенных шведами из Новгорода еще в Смутное время. Поиски русских документов увлекли филолога. Наконец в королевском архиве Стокгольма он случайно нашел шведский перевод записок посольского дьяка Григория Карповича Котошихина…
Наверное, Сергей Васильевич тоже недоумевал:
– Черт возьми, откуда взялся тут Котошихин? Дальнейшие поиски привели его в древнюю Упсалу, где он и отыскал подлинник записок, написанный по-русски — это был тот самый подлинник, о котором король Густав III в свое время оповестил русскую императрицу. Соловьев тщательно – слово в слово – скопировал эти записки, которые впоследствии были изданы русской Археографической Комиссией как ценнейший исторический документ. Любители истории ликовали:
– Хотя об этом Соловьеве и говорят черт знает что, но все-таки… молодец! Он сделал для нас важное открытие… Ведь четыре недели не вставал со стула, переписывая!
Со временем стала проясняться и судьба самого Котошихина, но при этом открылась отвратная страница былого времени: автор записок о Московии оказался большим негодяем.
– Дамы и господа! – говорил своим гостям Яков Грот. – К великому сожалению, Котошихин заслужил в Швеции то, что заработал на русской службе: предатель был казнен!
– А можно ли верить мемуарам гнусного предателя? Яков Карлович Грот и сам разводил руками.
– К великому нашему счастью, – сказал он, – записки Котошихина отмечены большой точностью в описании событий, и в этом они не расходятся с самыми достоверными источниками.
Теперь, читатель, нам предстоит окунуться с головою в ту эпоху, когда жил Котошихин, как в черный омут.
Время на Руси в ту давнюю пору было неспокойное… Редактор вправе вычеркнуть эту фразу, заявив автору:
– Валентин Саввич, а когда оно бывало спокойным?..
Итак, продолжаю я, время было паршивое – так будет точнее и справедливее по отношению ко времени, когда на Руси правил второй царь из дома Романовых по имени Алексей Михайлович. Раньше историки о нем писали, что это был добродушный дядька, любивший пошутить с боярами, недаром его прозвали “тишайшим”. Возьмет “тишайший”, да и спихнет боярина с моста в речку, а сам сверху смотрит – как, мол? Сразу потонет или еще барахтается, сучий сын? Играл царь-батюшка с лакеями в шашки, а своего кота столь любил и жаловал, что заезжему художнику-французу велел исполнить котовский портрет:
– Чтобы вышел как есть натурально! Пусть и в Европах людишки ведают, что я добр и на своего кота печенок гусиных никогда не жалел… Гляди сам, морда-то у него сколь разъехалась! Одни усы-то чего стоят… До чего же хорош, каналья!
Теперь о царе Алексее рассказывают и другое: был он вероломен и подозрителен: бунты народные подавлял жестоко, всюду ему виделись заговоры, будто бабки дворовые хотели извести его наговорами, подкидывая к дверям комки шерсти или хлебный мякиш. Однажды заболевшему царю врач пустил кровь, и царь, восстав с ложа, указал врачу пустить кровь всем его боярам. Один только боярин Родион Стрешнев заартачился:
– На што мне эка морока? Я ить здоров, аки бык.
Тут царь избил здорового – до появления крови:
– Не желаешь ты моему величеству услужити…
Время, повторяю, было паршивое. Хотя царь и считался “тишайшим”, но тишину на Руси все время нарушали войны и народные возмущения. Именно при Алексее состоялось воссоединение Украины с Россией, русские и украинцы вели мучительные войны с соседями. Россия заявляла о себе миру не усами разжиревшего царского Кота Котофеича, а притязаниями на свое законное место в семье европейских народов… Во главе русской дипломатии трудился тогда худородный, зато на диво разумный боярин Ордин-Нащокин; он ведал Посольским приказом. Вряд ли он замечал подьячего Котошихина, пока тот сам не бухнулся ему в ноги.
– Чего тебе от меня? – спросил Нащокин.
Котошихин на судьбу шибко жалился, плакал тут перед ним, сказывая, что 13 рублей в год от казны получает, а на такие деньги ноги протянешь. Ордин-Нащокин отвечал:
– И всяка тварь мучается. Встань. Уж не пьян ли ты?
– Все пьют, и я не брезгаю, – сознался Котошихин.
– Оставь! Так и быть, возьму под Нарву тебя – со шведами замирение близится. За это прибавку получишь…
Переговоры велись в Валиссари под Нарвой, и Котошихин алчно наблюдал за повадками шведских комиссаров: как ест Густав Бьёльке, как пьет вино граф Бенгт Горн, а как красиво они отбрасывают с манжет брабантские кружева, дабы не запачкать их при писании протоколов… “Эх, мне бы таково выступать!” Успех переговоров со шведами царь приписывал лишь покровительству Тихвинской Богородицы, велел по всей Москве стрелять из пушек, а Гришка Котошихин получил прибавку к жалованью. Его престарелый отец даже расплакался.
– Служи, пес худой! – благословил он сына. – Старайся… вишь, кака деньга-то подперла. Гляди, не проворонь…
Но вскоре случилась беда. Сидя над перепиской казенной бумаги, Котошихин, с утра пораньше опохмелившись, пропустил слово “государь”, отчего последовал грозный указ “тишайшего” царя: “Где было надобно написать нас, великого государя, и написали великого, а государя не написано”, – великий, а… кто великий? Неясно. Котошихина выволокли на двор, растянули на мостовой, словно шкуру для просушки, и всыпали батогов для ясности. Ничего – не обиделся, благо тогда всех драли, не велика радость, но и особой беды нету.
В это время на престол Швеции вступил малолетний король Карл XI (отец Карла XII); Швеция уже изнемогала от бесконечных войн, и регенты, управлявшие страной от имени мальчика, пошли на мировую со своими недругами. Ордин-Нащокин велел Котошихину собираться в дальнюю дорогу – ради переговоров:
– Для писания казна отпустила нам бумаги и целый кувшин с чернилами… ты их береги! А сейчас едем в Дерпт…
Для переговоров выбрали эстонскую деревню Кардиса, что лежала по дороге на Ревель. Шведских послов на месте не обнаружили. Только зимою раздался могучий рев сигнальной трубы – это прибыл гонец, сообщивший, что граф Бенгт Горн уже в Ревеле и скоро приедет вести переговоры. Ордин-Нащокин указал Котошихину сопроводить трубача до Ревеля, чтобы поторопить шведского графа с прибытием. Подьячий охотно выехал навстречу шведам. Он умилился от беседы, которой его удостоил важный Бенгг Горн, а пуще всего радовался, что шведы поставили для него, жалкого подьячего, богатое угощение.
– Вот наши бы так! – радовался Котошихин, пьянея от французских ликеров и коньяков, от которых даже рыгалось совсем не так, как от родимой московской сивухи…
Вернулся он в Москву, и вскоре ему снова выпала большая удача: велели ехать в “Стекольну” (как называли тогда русские Стокгольм), чтобы доставить личное письмо царя Алексея к шведскому королю. Вестимо, от такой чести не отказываются. И уж совсем ошалел бедный подьячий от почестей, с какими встретили его шведы. Королевский переводчик по имени Даниил Анастазиус объявил московскому посланцу:
– Ведай же, что на прокорм особы твоей шведская казна полтыщи риксдалеров отсыпала. Да еще подарками наградят в путь обратный. Только будь к нам добрее…
Вот тут корыстолюбец наш и попался на крючок, словно карась! Комиссаром шведского подворья на Москве был в ту пору Адольф Эберс, который без лишних церемоний велел Котошихину докладывать о всех тайных делах в Посольском приказе.
– А чтобы тебе скучно не было, – заключил Эберс, – я на твою душу сорок рублей кладу… Того ты стоишь!
Выражаясь современным языком, Котошихин был “завербован иностранной разведкой”, а на русском языке того времени подобных людей называли “предавчиками”. К великой досаде Эберса, скоро он потерял своего информатора, купленного за сорок рублей со всеми потрохами, ибо весной 1664 года Котошихина послали под Смоленск, где велись мирные переговоры с поляками. Здесь изменник пробыл недолго и, захватив секретные дипломатические бумаги, переметнулся на сторону неприятеля. В прошении на имя польского короля Яна-Казимира “предавчик” обещал выдать все, что знал о замыслах московского правления. Ян-Казимир велел платить Котошихину по 100 рублей в год, указав ему состоять при литовском канцлере Христофоре Паце. Однако служение Пацам пришлось Котошихину не по нутру, из Литвы он бежал в Силезию. Наверное, до него уже дошло известие, что Москва ищет его, и Гришка Котошихин заметал свои следы.
История, наука беспощадная, доискалась, что он вдруг появился в Пруссии, откуда перебрался в вольный город Любек. Здесь случайно встретил тайного агента Москвы; ничего не зная о предательстве Котошихина, тот передал ему сверхсекретное сообщение о военных замыслах Стокгольма:
– Будешь в Москве, так отдай эти бумаги в Посольский приказ, яко дело наиважнейшее, государственное…
Котошихин сообразил, что с такими бумагами его ласково примут в Швеции, и он появился в городе Нарве, где владычил шведский губернатор Яков Таубе. Он сразу узнал Котошихина:
– Я помню вас, когда вы приезжали в Швецию… Свои бумаги оставьте у меня. О вашем прибытии я оповещу Стокгольм.
– Обносился я, – стал жаловаться Котошихин, – бос и наг, будто нищий. Уж вы не оставьте меня в своей милости…
Таубе отсчитал для него пять риксдалеров, нарядил беглеца в новый кафтан. Котошихин просил спрятать его:
– Ежели русские сыщут меня, то отрубят мне голову.
– Здесь, – отвечал Таубе, – ваша голова уцелеет…
Котошихин страшился не зря: в Нарву из Новгорода вдруг прискакал гонец – князь Иван Репнин с грамотой от воеводы.
– Ведомо стало, – заявил Репнин, – что у вас в городе скрывается подьячий Гришка Котошихин, учинивший воровство государю нашему ради служения польской короне. По договору в Кардисе, шведы, како и русские, обязаны выдавать всех беглых и пленных, дабы меж нами докуки не возникало.
Таубе не потерял хладнокровия:
– Да, Котошихин здесь. Сейчас я пошлю за ним…
Но посланные вернулись ни с чем: Котошихин, по их словам, съехал с квартиры, и в Нарве его не сыскали. В это время он сидел в тайном убежище и строчил доносы на своего бывшего начальника – Ордина-Нащокина, клевеща, будто тот затем и хлопочет о мире с поляками, чтобы затем учинить новую войну со шведами. В кармане новенького кафтана приятно позвякивали шведские риксдалеры, а большая бутыль с крепким ромом усиливала вдохновение “предавчика”. Пуще всего он страшился, что Таубе выдаст его обратно на Русь для растерзания, но шведы укрыли его от мести. В особом докладе к новгородскому воеводе Таубе сообщил, что Котошихин… бежал.
– Как только поймаем беглеца, так сразу же выдадим его России, дабы условия мира меж нами не пострадали…
“Грегори Котосикни”, как именовали его в шведских бумагах, укрылся под новым именем – Иоганна-Александра Селецкого. Весною 1666 года его тайно переправили в Швецию, а осенью уже вышел королевский декрет: Котошихину назначалось жалованье в 300 риксдалеров серебром, “поелику он нужен нам ради своих сведений о Русском государстве”. Со слезами благодарности “Котосикни” выслушал этот указ, клятвенно заверяя шведов, что будет служить их королю верой и правдой, а если изменит, то “будет достоин смертной казни безо всякой пощады…”.
Под этими словами он оставил свою личную подпись!
– Прошу службы короне шведской, – просил Котошихин, – а тако же квартиру с харчами, дабы мне жити и сыту бывати…
Пусть читатель не думает, что Котошихин предал родину, расплатившись с нею за те батоги, что отсыпали по спине за пропущенное слово “государь”. На святой Руси еще не так драли людей, но никто из них не предавал родины. Дело в другом – в непомерном корыстолюбии Котошихина, который заранее обдумал свое предательство, ибо надеялся иметь за границей больше благ и почестей, нежели имел у себя дома.
Чтобы Котошихин не скучал, шведы поместили его на жительство к переводчику Даниилу Анастазиусу, имевшему свой дом на южной окраине Стокгольма. Толмач любил выпить, а потому даже обрадовался нахлебнику, как своему сопитухе. В это время (после Кардисского мира) снова оживилась торговля России со шведами, в Стокгольме появилось немало русских купцов с товарами, и Анастазиус, помогавший купцам в заключении контрактов, имел от них немалую прибыль. Так что деньжата в его доме не переводились, по этой причине много пьянствовали оба – и сам хозяин, и его квартирант.
В периоды трезвости Котошихин усердно отрабатывал королевское жалованье, составляя для шведов подробное описание Московского государства; он описывал структуру его правления, быт и нравы народа, “медный бунт” и восстание москвичей, чему сам был свидетелем. Котошихин хорошо владел бесхитростным языком своего времени, иногда обогащая его сочной речью русского простонародья. Но однажды за выпивкой Даниил Анастазиус стал очень жалеть Котошихина.
– Ты теперь бойся! – сказал он ему. – На Москве прослышали, где ты затаился под чужим именем. В Стокгольме теперь ожидают приезда посла Ивана Леонтьева, который будет требовать твоей выдачи, чтобы на Лобной площади, посреди всей Москвы, тебе отрубили голову, яко предавчику.
– Нет уж! – отвечал Котошихин-Селецкий. – Мне обратной дороги нет, лучше я сопьюсь заодно с тобой, Данилушка…
Анастазиус был женат, а жена его Мария-Фалентина бушевала каждый раз, когда мужчины садились пьянствовать, отчего в доме не переводились скандалы – с битьем посуды и рыданиями. Но женщина не слишком-то огорчалась, когда молодой Котошихин гладил ее выпуклые бока и хватал за груди, выпиравшие из прорези тесного лифа. Анастазиус это приметил:
– Ты зачем мою Фалентину на кухню зовешь?
– Просил ее, чтобы суп варила пожирнее.
– Она тебе сварит… объешься!
Настала осень 1667 года. Мария-Фалентина сказала, что уходит из дома и, пока не прекратятся пьянки, обратно не вернется. Котошихину стало жаль, что лишается услуг податливой хозяйки. Он сказал королевскому переводчику:
– Данилушка, ты бы купил ей чего… Она, вишь ты, давно колечко золотое на мизинец хотела. Я бы и сам купил… ась?
– Пойдем и купим, – вдруг решил Анастазиус.
По дороге до лавки ювелира они стали ругаться.
– Стану я на нее тратиться, – говорил толмач, – ежели она на кухне вместе с тобой жирный суп варит…
Анастазиус плюнул и не пошел далее. Котошихин завернул в дом шведского капитана Свена Гэте, где его угостили. Пьяный, он вернулся домой, там застал Анастазиуса, тоже пьяного.
– Пошел вон из моего дома! – кричал Анастазиус, толкая Котошихина в двери. – Это из-за тебя ушла Фалентина. Я твоей хари видеть более не желаю… Убирайся!
Пьяные сцепились в драке, и Котошихин, более сильный, завалил хозяина на сундук. Анастазиус схватил квартиранта за глотку и начал его душить. Тогда Котошихин выхватил из-за пояса нож, отчего Анастазиус вмиг протрезвел:
– Так-то платишь ты за все мое добро к тебе?
– А много ль я добра от тебя видел?..
С этими словами и зарезал хозяина. Когда прибежали стражники, Котошихин отдался им без сопротивления.
– Ты зачем хозяина убил? – спросили его.
– Сам не знаю, – отвечал Котошихин. – Он был пьяный, я тоже пьян… вот и зарезал его, чтобы не дрался!
Дело слушалось в суде Стокгольма; на вопрос судей, кто он таков, Котошихин отвечал, что об этом им знать не положено, ибо о нем знает правду только король Карл XI.
– А ежели достоин я смерти, – было им сказано, – так велите казнить меня, ибо я смерти достоин…
Суд постановил, что “не может пощадить его и на основании законов Бога и Швеции присуждает к смерти”. В приговор вмешалась Мария-Фалентина, просившая отдать ей королевское жалованье осужденного, который совсем разорил ее:
– Ему хоть корыто с супом поставь, он, как свинья, все пожирал, и все ему было мало… Вконец разорил меня, бедную! У меня теперь не осталось денег даже на погребение любимого мужа, убитого этим извергом…
Стокгольм в эти дни с почестями принимал русского посла Ивана Леонтьева, который сразу потребовал выдачи в Москву изменника Котошихина. Беседовать на эту тему с дипломатом пришлось королевскому вельможе Перу Браге, потомку прославленного астронома Тихо Браге.
– Конечно, – заявил он Леонтьеву, – Стокгольм слишком дорожит миром с Россией, и мы не стали бы задерживать вашего предателя. Но он совершил преступление в Швеции, посему и будет лишен головы здесь же, на площади нашей столицы. После казни его тело будет анатомировано в клинике Упсалы.
– А это еще зачем? – обомлел русский посол.
– Для науки! Вашего предателя, – пояснил Пер Браге, – станут потрошить в присутствии студентов Упсальского университета, изучающих расположение внутренних органов человека.
Чтобы посол не подозревал их в обмане, шведы предложили ему присутствовать при казни. Вдова убитого получила хорошую пенсию, а Котошихин никогда не обрел могилы. По свидетельству Олафа Боргхаузена, “кости его до сих пор хранятся в Упсале, как некий документ, нанизанные на медные и стальные проволоки”. На медицинском факультете скелет Котошихина служил “наглядным пособием” для студентов, будущих врачей… Точка!
Дабы не случилось подвоха в истории, ученые Петербурга просили шведских коллег в Стокгольме переслать им подлинник рукописи Г. К. Котошихина. В русской столице была проделана почти криминальная экспертиза по изучению почерка Котошихина, который тщательно сличали с его же подписями в делах Посольского приказа, где он ежегодно расписывался в получении тринадцати рублей. Лишь после этого рукопись Котошихина была опубликована в России, как имеющая немалое историческое значение для всех желающих знать прошлое своего государства.
Конечно, 13 рублей в год – деньги невелики, жить на них даже в XVII веке было затруднительно. Котошихину захотелось денег иметь больше. Вот он их и получил!
Под золотым дождем
Князь Дмитрий Голицын, русский посол в Гааге и знаток искусств, сообщал в небывалом раздражении, что 1771 год стал для Эрмитажа горестным. Картины из собрания Гаррита Браамкампа, закупленные им недавно для императрицы, погибли заодно с кораблем, который на пути в Петербург разбило бурей у берегов финских. Голицын писал, что есть особая причина несчастья, увеличивающая его страдания: “Это – набожность! Да, именно набожность…
Море было бурное. Но когда настал час молитв, капитан все бросил и отправился орать свои псалмы с остальным экипажем. И в самый разгар его молитв корабль разбило о рифы… Причина несчастья, – заключал атеист Голицын, – столь великолепна, что доставляет мне удовольствие”.
По Европе блуждали слухи, будто Екатерина II послала водолазов-ныряльщиков на поиски погибшего корабля, чтобы спасти драгоценные полотна, но эти сплетни оказались ложными. Императрица отнеслась к потере сокровищ не так горячо, как ее безбожный дипломат. “Я не любительница, я просто жадная”, – откровенно говорила она о своем собрании Эрмитажа. О катастрофе с кораблем императрица известила Вольтера: “В подобных случаях, – писала она, – нет другого убежища, кроме того, как стараться забыть злополучия…” Но уже в январе 1772 года Вольтер отвечал императрице: “Позвольте сказать, что Вы непостижимы! Едва успело Балтийское море поглотить картины, купленные в Голландии на шестьдесят тысяч ефимков, а Вы уже приказываете привезти (картины) из Франции на четыреста пятьдесят тысяч ливров… Не знаю я, – непритворно удивлялся Вольтер, – откуда Вы берете столько денег?”
Деньги-то были казенные, а Эрмитаж создавался как личная коллекция императрицы. В собрание образцов искусства Екатерина II вкладывала громадный политический смысл: в пору народных смут и кровавых войн, неурожаев и стихийных бедствий, если она, владычица государства, бухает деньги на покупку картин, значит, в Европе станут думать: ого, дела Русской империи превосходны… Когда же Дени Дидро из Парижа подсказал о распродаже галереи умершего герцога Пьера Кроза, Екатерина еще колебалась. Но в Петербурге у нее был хороший советчик – граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Вот его она и спросила:
– Стоит ли тратить деньги на картины от Кроза?
Миних был автором первого научного каталога Эрмитажа: приятель Руссо, он собирал для Дидро материалы по экономике России; не доверять его знаниям и его вкусу царица не могла.
– Не ошибусь, – отвечал Миних, – если скажу, что после Орлеанской галереи частное собрание Кроза было лучшим в Париже. Так что платите не раздумывая! Там одного Рембрандта семь картин, там сразу две “Данаи” – Рембрандта и Тициана.
– Уж я-то их не провороню, – решила Екатерина…
…В июне 1985 года советские газеты оповестили читателей, что какой-то негодяй или безумец плеснул кислотой на рембрандтовскую “Данаю”. Что заставило его уродовать красоту женщины? Но тут же я вспомнил, что в 1976 году – не у нас, а в музее Амстердама! – некий мерзавец, бывший учитель истории, нанес 13 ножевых ран гениальной картине Рембрандта “Ночной дозор”. Заодно мне вспомнилось и то злодейское поругание, которому в залах Третьяковской галереи подверглась картина Ильи Репина – царь Иван Грозный убивает своего сына Ивана; в данном случае повинен спятивший богомаз Абрам Балашов. Но примечательно, что никто не обливал кислотой квадратики и кружочки на картинах Кандинского, никто не бросался с ножом на “шедевры” Шагала, у которого по небу летают коровы и женихи с невестами! Удары маньяков и недоумков всегда были направлены на гигантов – от Рембрандта до Репина. Великое и талантливое нас, нормальных людей, восхищает, но бездарности и психопаты ненавидят великое и талантливое…
Все это, вместе взятое, привело меня к мысли – поведать историю оскорбленной рембрандтовской “Данаи”, любимой самим ее создателем и всеми нами.
Рембрандт был влюблен. Рембрандт был еще беден.
Вот его дневной рацион: кусок сыра и селедка с хлебом.
– Достаточно, – говорил мастер. – Теперь работать…
Саския была из богатой семьи с претензиями на аристократизм, а Рембрандт сыном мельника, с которым семья Саскии не слишком-то хотела породниться. В гневе праведном на людскую пошлость художник написал картину на библейскую тему – как Самсон угрожал отцу возлюбленной. Рембрандт автопортретировал себя в виде Самсона, показывающего кулак. Но смысл был далек от легенд: “Отдайте мне Саскию!” – требовал он…
Саския вошла в его дом в 1633 году, когда имя Рембрандта в Голландии уже обрело весомую известность. Он был вполне обеспечен заказами, потому тысячи флоринов, принесенных Саскией в приданое, не обогатили его, а лишь закрепили его положение в чванном обществе бюргеров. Добившись любви патрицианки, художник окружал ее небывалой роскошью. Рембрандт любил Саскию очень сильно, он украшал ее земные прелести жемчугами и бриллиантами. Рисовал и писал с нее множество портретов, в каждом из них стараясь выявить все лучшее, что характерно для женщины, счастливой в упоении счастливого брака. Да, он ее очень любил…
Свой дом в Амстердаме живописец превратил в антикварную лавку редкостей; стены были обвешаны подлинниками величайших живописцев прошлого, шкафы он заполнил ценнейшими гравюрными увражами. Здесь было все, что нужно для возбуждения творческих порывов, и Рембрандт наслаждался лицезрением рыцарских доспехов, чучелами заморских птиц, узорами персидских ковров, раковинами с загадочных островов, его пальцы нежно касались японских ваз, он трогал поющие грани волшебного венецианского стекла, его ученики могли отдыхать, играя на музыкальных инструментах почти всех народов мира.
В этом чудесном доме искусств Саския оживляла быт мастера своим чарующим смехом. А через три года после свадьбы Рембрандт украсил мастерскую новым торжественным полотном.
Это и была наша “Даная”!
Казалось, и конца не будет семейному счастью, но все дети умирали в младенчестве. Саския несла в своем теле неизлечимую болезнь, и в 1642 году она родила Рембрандту последнего сына – Титуса… Титус выжил, но его мать умерла.
Траурная пелена загасила краски мира, былые радости погрузились в глубокую тень. Чья-то рука вдруг опустилась на плечо, и художник обернулся… Перед ним стояла Гертье Диркс – молодая, крепкая, здоровая. И протягивала бокал с вином.
– И это пройдет, мастер, – утешала она. – Пейте…
Рембрандт раньше не удостаивал служанку вниманием.
– Я выпью… Саския взяла тебя в няни Титуса, но я не знаю, кто ты и откуда пришла в мой дом?
– Я вдова корабельного трубача, который так усердно дул в свою трубу, пока не лопнул, как свиной пузырь… Э! Стоит ли мне жалеть об этом негоднике, прости его Боже…
Скоро друзья художника заметили, что Гертье отяготила свой пояс связкою домашних ключей, она держалась слишком уверенно, как хозяйка. В этой молодой женщине было что-то и подкупающее, иногда она казалась даже красивой. Как бы то ни было, но Рембрандт не тяготился ее любовью. Наверное, он был даже благодарен ей за то, что ласковой заботой она отвлекла его от страданий, вернула ему вдохновение, пальцы мастера снова потянулись к палитре.
Но практичная Гертье Диркс слишком настойчиво стучалась в сердце мастера, она разбудила в Рембрандте совсем иные творческие мотивы, ранее ему никак не свойственные. Так появились картины, в которых женская нагота пленительно засветилась с полотен. Вот она, эта Гертье: раздобревшая, словно кухарка, от хорошей жизни в чужом и богатом доме, толстая и плотная, она лежит в постели, отдергивая полог… Рембрандт обрел новый взгляд на женщину, изменился характер его творчества, и в 1646 году он переписал “Данаю”!
Впрочем, все складывалось хорошо, пока в доме Рембрандта не появилась новая служанка – Хендрикье Стоффельс.
– Я дочь простого сержанта, – поведала она о себе, – он служил на границе с Вестфалией… Не прогоняйте меня! Мне так уютно в вашем доме, наполненном сокровищами.
Рембрандт погладил ее по голове, как ребенка:
– Не бойся… если ты добра, буду и я добр к тебе.
Гертье Диркс, уже обвешав себя драгоценностями из шкатулки покойной Саскии, ощутила угрозу своему положению.
– Не пора ли нам идти под венец? – настаивала она…
В скромной опрятной служанке Гертье распознала свою соперницу. Ревность перешла в открытую злобу, от злобы недалеко и до подлой мести. Осенью 1649 года Рембрандта вызвали в “Камеру семейных ссор” (была в Амстердаме такая!), и здесь перед синклитом судей Гертье потребовала:
– Пусть он женится на мне, вот и кольцо от него, которое я всегда носила как обручальное. А если не может жениться, так пусть возьмет меня на свое содержание…
Суд постановил: Рембрандту следует выплачивать истице по 200 гульденов ежегодно. Но Гертье недолго злорадствовала: через год ее обвинили во многих грехах, и она оказалась в тюрьме. Утешительницей Рембрандта стала Хендрикье.
– Помни, – говорила она, – что бы ни случилось с тобою, я всегда буду рядом… В счастии и в беде, но – рядом!
Хендрикье заслуживала большой любви – честная, самоотверженная, она ничего не требовала для себя, зато отдавала Рембрандту все… Сюда никак не подходит слово “расплата”, но мне кажется, Рембрандт все-таки расплатился с нею галереей ее портретов, на которых она предстает то в одеждах из золотой парчи, то выступает из потемок в простом фартуке, зябко пряча в рукавах натруженные руки… Настал год 1654-й, когда Хендрикье принесла Рембрандту дочь – Корнелию!
Пуританская элита Амстердама, все эти юристы, антиквары, негоцианты, менялы, священники, бюргеры и банкиры, – все эти фарисеи (скажем точнее!) были возмущены.
Хендрикье вызвали в духовную консисторию:
– Распутница и прелюбодейка, соседи обходят тебя на улицах стороною, как чумную… Клянись же перед священным распятием, что покинешь дом Рембрандта, дабы никогда более не осквернять житейскую мораль своей грязной порочностью.
– Нет, не уйду! – гордо отвечала женщина…
Она вернулась к нему, шатаясь, падая от беды.
– Что сделали с тобою? – встревожился Рембрандт.
– Они сделали… отлучили меня от церковного причастия. Я теперь, как собака, не могу войти даже в церковь. Но они не могли лишить меня святого причастия к жизни Рембрандта…
Через все препоны, через свой женский позор чудесным откровением пришла Хендрикье к нам из прошлого мира и осталась навеки с нами – потрясающей “Вирсавией”, заманчивой “Купальщицей”, “Венерой, ласкающей амура”, – она, запечатленная на этих полотнах, обрела заслуженное бессмертие.
Но дела самого Рембрандта становились все хуже: фарисеи не прощали ему Хендрикье, им не нравилось, что их мещанским вкусам Рембрандт прививает свои вкусы. О нем стали болтать всякую ерунду, заказчики уже вмешивались в его работу:
– Почему вы не гладко кладете краски?
– Но я же не красильщик, а живописец, – бесился Рембрандт.
Его навестил сосед, богатейший сапожник.
– Что вам надо здесь? Что вы шляетесь по комнатам?
– Я куплю ваш дом. Мне он нравится.
– Кто вам сказал, что мой дом продается?
– Соседи. Они сказали, что вы в долгах…
Саскии выпала вся полнота семейного счастья, даже Гертье получила свою долю довольства, зато бедной Хендрикье выпало пережить самое тяжкое. В дом-музей ворвалась яростная и жадная толпа кредиторов, подкрепленная сворой юристов, и они беспощадно описывали имущество художника. Все растащили! Но самое гнусное, самое мерзкое было в том, что среди грабителей появилась и Гертье Диркс, хватавшаяся за испанские стулья, обитые голубым бархатом, за редкостные клинки из Дамаска, она утащила мраморный рукомойник, она вытряхивала белье Рембрандта из орехового комода… Она восторгалась:
– Не хотел быть моим мужем, мазилка! Теперь все мое…
Именно ее подпись стоит под документом, объявлявшим по всей стране о банкротстве Рембрандта. Его, великого голландца, Голландия выбросила из дома, который он создал; он, плачущий, вытащил узел с пожитками на улицу… Теперь в его дом въезжал торжествующий хам-сапожник! Но среди всех потерянных вещей навсегда ушла от взора Рембрандта и картина “Даная”. Наверное, он мог бы сказать ей:
– Прощай, любовь… прощай, молодость!
“Даная” ушла, и кисть мастера уже никогда ее не коснулась. Сложными путями картина переходила из рук в руки, пока из парижского собрания Кроза не оказалась в нашем Эрмитаже.
За окнами Зимнего дворца сиренево вечерело…
Картины от герцога Кроза сразу обогатили собрание Эрмитажа. Екатерина с графом Минихом обозревала покупки. Возле рембрандтовской “Данаи” она вскинула лорнет к глазам:
– Быть того не может! Не спорю – картина хороша, но… Где же золотой дождь, которым Зевс осыпал Данаю, после чего бедняжка сия и забрюхатела, вскорости породив героя – Персея!
Миних пожал плечами, неуверенно хмыкнув:
– Дождя нет, матушка. И сам не пойму, отчего Рембрандт, столь точный живописец, забыл о золотом дожде, проливающемся на узницу, жертву своего злого отца. Однако в коллекции Кроза эта “Даная” висела подле “Данаи” тициановской… Значит, у самого владельца таких сомнений не возникало!
Екатерина перевела лорнет на творение Тициана:
– Ну, тут все точно, – сказала она. – Червонцы так и сыпят с неба, будто Даная угодила под золотой ливень… Недаром ее служанка подставила под него свой большущий мешок!
Миних, близорукий, приблизился к полотну Рембрандта, он почти обнюхивал картину, и Екатерина расхохоталась:
– Что вы там еще обнаружили, граф?
– Странно! – отвечал Миних. – Даная должна бы смотреть кверху, обозревая золотой дождь, но ее взгляд на картине обращен прямо перед собой… Получается, матушка, так, что эта несчастная ожидает любви земной, а не небесной!
– Да, – согласилась императрица, посмеиваясь, – что-то чересчур странно ведет себя наша Даная…
Итак, стоило картине Рембрандта украсить залы Эрмитажа, как сразу начались загадки. А загадки перешли в раздел непроницаемой тайны, покров с которой не сорван до конца и поныне. На всякий случай я заглянул в популярную “Историю искусств” П. П. Гнедича, который писал, что Даная “представляет молоденькую (?), но почти безобразную (?) женщину, лежащую в кровати на левом боку. Старуха с большим мешком и связкою ключей отдергивает полог кровати, и через образовавшееся отверстие врывается солнечный луч, озаряя нагое тело лежащей… Все догадки знатоков о том, что это жена Товия или что это Даная, не имеют никакого серьезного значения…” Вот те на! Именно этот коварный вопрос – Даная, или не Даная? – больше всего и занимает исследователей, как прежде, так и теперь… К этому вопросу можно добавить и второй, весьма существенный: кто из женщин позировал живописцу для его “Данаи”?
Историки сначала как следует взялись за старуху, непонятно зачем отдергивающую кроватный полог:
– При чем здесь ключи, если служанка была заточена вместе с Данаей, а узница не могла иметь ключей… Наконец, если нет золотого дождя, то к чему она держит мешок?
XVIII век открыл полемику вокруг этой картины, а XIX век продолжил ее, но уже в более резкой форме. Требовали даже переменить название, в 1836 году из Англии поступило в Россию деловое предложение атрибутировать “Данаю” попроще – “В ожидании любовника”. Под конец века, и без того бурного, полемика обострилась. Если бы можно было прислушаться к разноголосице мнений, то, наверное, диалог выглядел бы так:
– Это кто угодно, только не Даная… Скорее, это Далила, ожидающая любовного визита Самсона.
– Или жена Пантефрия, ожидающая юного Иосифа.
– Вирсавия! Это Вирсавия ждет своего Давида.
– Дамы и господа! Вы все ошибаетесь: это просто грязная библейская девка Лия, которую обещал навестить Иаков, вот она и раскрылась заранее в трепетном ожидании.
– Постойте, коллега, а если это – Мессалина?
– Да нет, это библейская Агарь.
– А почему не обычная языческая Венера?
– Кем бы ни была эта женщина, но, простите, Даная без золотого дождя – это уже не Даная. И почему, я спрашиваю вас, золотой амурчик, прикованный к ее постели, горько рыдает, хотя ему надо бы радоваться…
Наконец обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки Данаи – обручальное кольцо. Тут уже все полетело кувырком: “Героиня картины – замужняя женщина. Можно ли представить себе, чтобы Рембрандт столь вольно трактовал тему Данаи? Это решительно немыслимо”, – писали историки искусств.
– Минуту внимания! – требовали у них знатоки. – В парижской коллекции Кроза картина уже именовалась “Данаей”, мало того, она висела над дверями подле “Данаи” тициановской… Не была ли прихоть владельца именно так назвать полотно Рембрандта, чтобы устроить приятный пандан к Тициану?
– Не забывайте о кольце, черт вас побери!
– А вы не забывайте о том, что при описи имущества Рембрандта была изъята картина по названию именно “Даная”.
– Так и что нам с того? Наверное, была у Рембрандта картина “Даная”, которая до нас просто не дошла…
– Да нет, дошла! Вот же она висит в Эрмитаже.
– А вы мне докажите, что это именно она…
Достойно удивления, что все эти долгие годы, невзирая на жестокие споры, возникавшие вокруг достоверности Данаи, Эрмитаж названия ее никогда не менял, продолжая называть картину тем именем, с каким она попала в собственность русской императрицы. Пожалуй, нет смысла излагать все версии, высказанные об этой картине, ибо любая из версий тут же опровергалась другой версией, которая казалась более убедительной…
Нашлись историки, судящие чересчур здраво:
– К чему споры? Не лучше ли согласиться с тем, что Рембрандт изобразил бытовую картинку… Ну, была женщина. Ну, долго не видела мужа. Ну, муж сейчас придет. Ну и что?
В новом времени появились новейшие возможности.
Юрий Иванович Кузнецов, советский искусствовед, решил высветить тайны и загадки Данаи лучами рентгена.
Рентгеноскопический анализ – минута почти сокровенная…
– Ну вот и просыпался золотой дождь! – разглядел Кузнецов. – Теперь ясно, ради чего служанка держит мешок…
Аппарат высветил лицо Данаи, и в ее чертах вдруг проступила сама… Саския. Неужели? Неужели опять она? Да, в лучах рентгена возникла прежняя Саския – мало похожая на ту женщину, которую мы привыкли видеть в эрмитажной “Данае”.
Рентген продолжал фиксировать сокрытое ранее:
– В первом варианте картины Даная имела прическу, какую мы видим и на портрете Саскии из Дрезденской галереи. А вот и ожерелье на шее, тоже известное по портретам Саскии!
Под рентгеном выявилось, что Даная-Саския раньше смотрела не прямо перед собой, а именно вверх – на золотой дождь.
Аппарат переместил свои лучи на ее руку:
– Положение руки совсем другое! В первоначальном варианте Даная держит руку ладонью вниз – жест прощания, а в картине, уже исправленной, ладонь обращена кверху – призывно…
Наконец, рентген определил важную деталь: раньше бедра Данаи были стыдливо прикрыты покрывалом, и это было понятно, ибо художник оберегал сокровенность своей Саскии.
– Когда же он “сорвал” с нее покрывало?
– Когда разделил одиночество с Гертье Диркс, тогда же изменил и черты лица Данаи, более близкие к типу лица той же Гертье… Амур рыдает, оплакивая счастливое прошлое!
Стало ясно: было две “Данаи” на одном полотне, как было и два чувства одного человека, одного художника.
Казалось бы, вопрос разрешен. Но выводы Ю. И. Кузнецова подверглись критике. В. Сложеникин так и озаглавил статью: “Все же это не Даная!” Он писал: “Перед нами не Даная, а жена Кандавла, ожидающая Гигеса…” Мне кажется, пусть Даная и далее возбуждает споры; в каждой тайне прошлого открывается стратегический простор для разгадок того, что давно и, кажется, уже безвозвратно потеряно…
Голландию эпохи Рембрандта принято считать свободной страной свободных граждан. Справедливее было бы именовать ее “купеческой республикой”, где младенцу еще в колыбели дарили копилку, дабы он с детства возлюбил накопление денег. Человек в такой торгашеской стране считался добропорядочным и благородным только в том случае, если его кошелек распирало от избытков в нем золотых гульденов. Рембрандт, уже обнищавший, превратился в отверженного. Но по-прежнему гордо и вызывающе звучат для нас его вещие слова:
– Знайте же, люди! Когда я хочу мыслить по-настоящему, я никогда не ищу почета, а только свободы. Только свободы…
Рядом с ним шествовала по жизни Хендрикье, и это его поддерживало. Но в 1663 году она умерла. Мы открываем самую печальную страницу бытия: Рембрандт продал надгробие любимой когда-то Саскии, чтобы оплатить могильщикам выкапывание могилы для любимой Хендрикье. Был долгий путь с кладбища…
– Что осталось теперь? Мне теперь ничего не осталось, кроме жизни, которая заканчивается для всех одинаково.
Горько! Титус женился, но после свадьбы умер и Титус; его вдова родила внучку Титию и тоже скончалась… Горько!
А ведь была жизнь, была слава, была любовь.
Ах, какая дивная была жизнь! И не страшился грозить кулаком он, еще молодой, жадным накопителям денег.
– Все было, но… все еще будет! – говорил Рембрандт.
После его кончины аккуратные нотариусы Амстердама не забыли составить подробную опись его имущества: в ней значились стулья и носовые платки. Против каждой вещи было написано слово оценщика: “дешево”! Теперь эту опись с небывалой гордостью показывают иностранным туристам.
– Наша национальная святыня! – хвастают гиды.
То, что стулья и носовые платки стоили очень дешево, это в Голландии знают, а вот показать могилу Рембрандта не могут.
– Зато в архивах Амстердама свято оберегается протокол о полном банкротстве Рембрандта… тоже святыня!
Люди, которые похваляются этим, наверное, далеки от понимания трагедии художника. В путеводителях по Амстердаму обязательно значится посещение “дома, в котором жил великий Рембрандт”. Но правильнее, на мой взгляд, писать иначе: “Дом, из которого выгнали великого Рембрандта!”
…После революции в голодном Переяславле наш замечательный мастер Д. Н. Кардовский читал молодежи лекции.
Это были возвышенные лекции о Рембрандте.
– Нам повезло! – говорил он. – Наша страна имеет большую литературу о Рембрандте, наши музеи и даже частные собрания хранят полотна бессмертного живописца…
Кардовский рассказывал о конце Рембрандта, который после смерти Хендрикье “остался совсем один, с седой головой…”. Он был оклеветан врагами и завистниками, он едва ли был утешен слабым сочувствием лицемерных друзей. Рембрандт, говорил Кардовский, “опустился, стал бродить по ночным кабакам и там напиваться до бесчувствия, наконец он умер в крайней нужде”.
Не пора ли, читатель, навестить в Эрмитаже его Данаю?
Теперь мы увидим в ней не только то, что видели раньше…
Будем беречь ее! Она стоит любого золотого дождя…
Аввакум в пещи огненной
“Боишься пещи той? Дерзай, плюнь на нее – не бойся! До пещи той страх. А егда в нее вошел, тогда и забыл вся…”
Из темной глуби XVII столетия, словно из пропасти, нам уже давно светят, притягательно и загадочно, пронзительные глаза протопопа Аввакума – писателя, которого мы высоко чтим.
В самом деле, не будь Аввакума – и наша литература не имела бы, кажется, того прочного фундамента, на котором она уже три столетия незыблемо зиждется. Российская словесность началась именно с Аввакума, который первым на Руси заговорил горячим и образным языком – не церковным, а народным.
“Только раз в омертвелую словесность, как буря, ворвался живой, полнокровный голос. Это было гениальное “Житие” неистового протопопа Аввакума. Речь его – вся на жесте, а канон разрушен вдребезги!” – так говорил Алексей Толстой.
Реализм, точный и беспощадный реализм, убивающий врага наповал, этот реализм нашей великой литературы был порожден “Житием протопопа Аввакума”.
Первый публицист России, он был предтечею Герцена!
А кто он? Откуда пришел? И где пропал?..
“Житие” его включено в хрестоматию, и каждый грамотный человек должен хоть единожды в жизни прикоснуться к этому чудовищному вулкану – этому русскому Везувию, извергавшему в народ раскаленную лаву афоризмов и гипербол, брани и ласки, образов и метафор, ума и злости, таланта и самобытности.
Нельзя знать русскую литературу, не зная Аввакума!
Скоморохи спускались с горы… Текла внизу матушка-Волга, а под горой лежало село Лопатищи; солнце пекло нещадно, день был работный. Еще загодя скоморохи напялили “хари” козлиные, загудели в сопелки, дурачась, забили в бубны, дабы народ сбегался на игры. А впереди дудочников и раешников два медведя плясали (один в сарафане бабьем, другой – как есть, ничем не украшен). Навстречу игрищу порскали от околиц ребятишки, кузнец отложил молот в кузне, из-под руки глядели на скоморохов бабы с граблями, перестав сено ворошить на полях; всем стало весело.
Но тут вышел поп лопатищенский – прозванием Аввакум.
Молод еще, борода черная, в завитках, а глаза – угли.
– Не пущу в село! – объявил забавщикам. – Неистовство ваше бесовское еси, оставьте пляски антихристовы…
Скоморохи на него – в драку.
– Ах так? – осатанел поп, рукава ряски закатывая…
Много их было, а он – один. Зато люто и толково бился поп. Как даст по зубам – кувырк, и пятки врозь. Побил всех скоморохов, а бубны и сопелки с “харями” разломал. Но забыл Аввакум про медведей; скоморохи науськали косолапых на попа, и тут попу стало худо. Без ружья и рогатины, голыми руками – как медведей осилить? А звери уже лезли в драку, и тот, ученый, что в сарафан был одет, он на двух лапах шел; видел Аввакум его пасть серо-розовую с клыками желтыми, а из пасти той попахивало – нехорошо и муторно.
– Владычица, помози! – взмолился Аввакум и хрястнул медведя кулаком в ухо: зашатался тот, обмяк в сарафане и лег…
Второго мишку (который еще неучен был) прижал поп к себе, и стали они ухаживаться по кругу – кто кого свалит? Аввакум силищи непомерной – так стиснул медведя, что у того в шее что-то хрустнуло, взревел зверь и, оставляя после себя на траве след болезненный, дунул к лесу, а скоморохи – за ним…
Шатаясь, вернулся Аввакум в село, прошел в избу.
– Водицы мне, Марковна, – сказал жене и над порогом умылся от крови, полковшика испил “стомаху ради” и побрел на сеновал, где неделю отлеживался от медвежьих объятий…
Вот неспокойный поп! Ни с кем не ладил – ни с паствою, ни с боярством. Однако к службе церковной был весьма рачителен, за что его возвели в сан протопопа – стал Аввакум владыкою в соборе города Юрьевца. Здесь его из ризницы выволокли, “среди улицы били батожьем и топтали; и бабы били с рычагами. Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол…” Хотели горожане его в ров кинуть, чтобы там протопопа собаки бездомные съели, но тут воевода с пушкарями набежали – спасли владыку.
Таковы дела прошлые – дела святые, богоугодные…
Марковна всю ночь не спала – мужу лапти плела. Надел он лапти новые и спасался из Юрьевца до Костромы, а там, в Костроме, народ уже бил протопопа Данилу – таким же смертным боем, каким намедни били протопопа Аввакума, и побежал Аввакум далее.
Был год 1652-й – на Москве дышалось пожарами и смутами.
Царь Алексей Михайлович к Аввакуму благоволил. Ночью они на молитве потаенной встретились, царь вопросил строжайше:
– Ты почто с Юрьевца бежал, людей без бога оставил?
– Великия шатания на Руси зачались, осударь… А меня в Юрьевце били, оттого и бежал. Протопопица с детьми малыми в лесу осталась – неведомо, живы или побиты?
В том году в патриархи Руси избрали властолюбивого Никона, который церковные дела на новый лад переиначивал. А пуще прежнего стал Никон царя и власть царскую возвеличивать.
– Вот срам-то где! – ярился Аввакум. – Царь уж нынеча и такой, и сякой, и намазанный… Властью пьян патриарх, толсторожи все, едят вкусно, прелестники никонианские! Деды наши ранее поборов не платили, а теперь откуда их царь выдумал?
– Молчи, – внушали ему друзья. – Иначе распнут тебя да все члены повыдергивают на Болоте Козьем… Эка мука-то египетска!
Но был Аввакум крепок в убеждениях своих.
– Никого не боюся! – возвещал открыто. – Ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни самого диавола…
Патриарху всея Руси он прямо в рожу харкал:
– Ишь, боров! Идешь коли, так брюхо-то у тебя, бодто гора какая, колеблется. Отъелся на объедках царевых, за то и царя похваливаешь! То романеи тебе шлют, то горшочек мазули с шафраном, то от арбуза полоску отрежут… Блюда царские ловок облизывать!
Про царя “тишайшего” Алексея говаривал Аввакум:
– Тоже кровосос… все они крови нашей алчут!
– Какова же вера твоя, протопоп? – спрашивал его царь.
– Самая праведная! И вернее нашей мужицкой веры нет…
Начались аресты расколоучителей, взяли и Аввакума. “Во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, сиречь есть захотел… На утро архимарит з братьей пришли и вывели меня; журят мне: “Что патриарху не покорисся?” А я от Писания его браню да лаю… велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, а под бока толкают, и за чеп трогают, и в глаза плюют… Сидел тут я четыре недели”.
Водили его на двор патриарший, где истязали всячески.
– Смирись, олух царя небесного! – кричал Никон и жезлом бил по спине, по рукам, по голове – куда придется…
– Покорности моей не узришь ты, лютер собачий!
Повезли Аввакума в собор, где и царь был, чтобы “расстричь” его в наказание. Царь “тишайший” за него тут вступился:
– Не надобно стричь дурака. Еще одумается…
С женою и детьми выслали Аввакума в Сибирь. “Протопопица младенца родила – больную в телеге и повезли до Тоболь–ска; три тысящи верст недель в тринатцеть волокли телегами, и водою, и санми половину пути…” Приехали. И года не прожили, а уже пять доносов на Аввакума в Москву прибыли: мол, злодеен сей протопоп, на власть божию огнем лютым пышет. Указано Аввакуму из Тобольска далее ехать – в Даурский отряд боярина Афанасия Пашкова, а тому Пашкову повелели из Москвы протопопа умучить.
“О, горе стало! – вспоминал Аввакум. – Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменной яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову! В горах тех обретаются змеи великия; в них же витают гуси и утицы – перие красное, вороны черныя, а гальки серыя… во очию нашу, и взять нельзя! На те горы выбивал меня Пашков – со зверми и со змиями, и со птицами витать”.
Аввакум начальнику своему говорил так-то:
– За што ты, аспид окаянный, людей жжешь и мучишь?
Пашков свалил протопопа наземь, чеканом железным стучал по спине крепко, велел плетьми стегать, покуда пощады просить не станет. Аввакум всю лавку под собой зубами изгрыз… Пашков при этом похаживал да порыкивал:
– Взмолись о милости, иначе насмерть забью.
– Не щади мя! – отвечал Аввакум. – Не взмолюсь… Кто здесь человек, так аз грешный, а ты – зверь. Что ж, губи!
Всего в крови, сковали его в цепи и под ночной ливень выкинули: пущай валяется!
Настали морозы ядреные, сибирские, бороды казаков закуржавели от инея. Привезли Аввакума в Братский острог, “и сидел до Филиппова поста в студеной башне… Что собачка в соломе лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьей бил, – и батожка не дадут, дурачки? Все на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много…” Выжил. Вытерпел. Весны дождался. А жена с детьми была от Братского острога подалее отослана, чтобы по мужу не плакалась.
Отряд Пашкова двигался на страну Даурию – больше волоком, через реки великие, через пороги высокие. Аввакум, как бурлак (точнее – как лошадь), был впряжен в бурлацкую лямку и в воде по грудь, заодно с казаками, тянул бечевой лодки пашковского каравана. Вокруг него умирали люди, а он тащил и тащил караван. (“У меня, – писал он потом, – ноги и живот синь были”.) А когда реки кончались, через горы перетаскивал корабли по суше…
Велика сила была в этом человеке!
А годы текли – как вода Ангары, Нерчи и Шилки…
Аввакум казаков уже не раз на бунт подмачивал:
– Вишь ты, каких хороших воевод царь на Сибирь высылает! Эвон, и Пашков наш, дай ему Бог здоровьица: много он вашему брату ребер сломал и кнутом бил, одного сжег до смерти на костре, двух повесил, а других послал – голыми! – за реку, гнусу таежному на съедение… Ну, до чего же хорош воевода у нас!
В 1658 году экспедиция Пашкова заложила Нерчинский острог (нынешний город Нерчинск), где воевода “переморил больше пяти сот человек голодною смертию… озяблых ели волков… сам я, грешный, волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим, звериным и птичьим мясам…”. С Нерчи-реки возвращался протопоп с женою и с детьми нартами – сами пеши по льду. Иной раз протопопица падала на лед, не в силах идти.
– Долго ль муки сия, протопоп, будет? – спрашивала.
А что он мог ей ответить? И отвечал в утешение:
– До самыя до смерти, Марковна…
Ох, и крепкая же была жена – под стать мужу.
– Добро, Петрович, ино ишо побредем…
Сибирь, Сибирь – край непочатый, пулями Ермака просвистанный, золотая страна и дивная. Зорко запоминал Аввакум богатства сибирские, лук да чеснок дикие пробовал, какие рыбы в реках живут, какие звери сигают – все примечал поп! В жестоком времени порожденный, сам будучи жесток, душевно Аввакум был мягок и все живое любил… Была у него курица, детишкам его яйца носившая. Случайно – при езде в нартах – придавили ее. “И нынеча мне жаль курочки той, как на разум приидет… нас кормила, а сама с нами кашку сосновую ис котла тут же клевала, или и рыбки прилучиться, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала”.
Одиннадцать лет ссылки закончились.
Аввакум отъехал на Москву, где его поджидал царь, убежденный, что дух протопопа сломлен лишениями…
Теперь можно явить его пред светлые царские очи!
Мы не станем, читатель, вдаваться в подробности религиозных распрей того времени. Для нас важно другое: Аввакум вроде бы выступал против патриарха Никона и реформ церковных, но тяжелая артиллерия его проповедей – заодно уж! – громила и царские хоромы; ядра брани неистового протопопа летели прямо в головы бояр, воевод и придворной челяди… Потому и страшен был протопоп!
“А кого Бог и народ бережет, – писал он в те дни, – того ни царь, ни свинья не пошевелит”. В народе сохранилось предание, как свиделись царь Алексей Михайлович с Аввакумом.
– Горе всему народу русскому выпало, – возвестил царю Аввакум. – Стрельцы твои завсе мужиков обобрали, чем же дальше-то россияне свои животы держать станут?
Царь будто побагровел от гнева и рявкнул:
– На колени пади, пес!
Но не так-то легко поставить Аввакума на колени.
– От пола твоих хором до моих ушей далеко, – отвечал он. – Так-то, стоя перед тобою, мне тебя лучше слыхать.
“Тишайший” царь грозил, что закует его в цепи.
– Меня заковать легко, а вот народ-то все чепи с себя посрывает да на тебя их водрузит, каково тогда будет?
Царь посохом ударил протопопа в лицо и выбил ему зубы.
Аввакум с кровью выплюнул их в лицо царю.
– Боисся ты меня! – сказал он. – Оттого и лютуешь…
Недолго погостил Аввакум в белокаменной, и в 1664 году сослали его в Мезень – опять с протопопицей и с детьми, кои в ссылках да тюрьмах произрастали. На Москве оставил протопоп не только врагов, но и сторонников (а средь них знаменитую боярыню Феодосию Морозову).
Через два года из Мезени опять в цепях потащили протопопа на Русь. Сообщал он: “И бороду враги божии отрезали у меня… Оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу. Везли не дорогою в монастырь – болотами да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят: омрачил дьявол…”
К тому времени многих сторонников Аввакума уже задавили в петле, удушили дымом в банях, казнили их всяко, измучили. Хотели и протопопа удавить, да царица его пред царем отстояла, отчего в семье царской “великое нестроение” случилось. Аввакума, в цепи закованного, все время увещевали. Таскали, бедного, из одной тюрьмы в другую темницу и пытались его покорить. В 1667 году поставили Аввакума на суде перед патриархами. “Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились. Человек их с сорок, чаю, было – велико войско собралось!”
Нет! Не покорился протопоп синклиту духовному…
А народ не безмолвствовал. Царю докладывали, что “от Аввакума всенародный мятеж происходит”. Протопоп возвещал открыто:
– Народ – что море: разволнуется – не уймешь!
- Распалилась мужицкая дума!
- Чу: засеченных смертный крик!
- Брызжут искры костра Аввакума,
- Слышу Разина грозный рык!
По Волге уже бродили буйные ватаги Стеньки Разина, и власть царская ощутила некую потаенную связь между бунтами казацкими и волнениями раскольников на Москве… Аввакума с его друзьями, Епифанием и Лазарем, увезли на этот раз далеко – в Пустозерск, что погибал в снегах и песках на краю света, близ Студеного моря… Холодно там, голодно там! В земле промерзлой выкопали стрельцы яму глубокую, обложили ее изнутри срубом, вроде колодца, и в яму эту спустили Аввакума с его соратниками. Сверху еду и питье, как собакам, бросали.
Здесь под визги полярной метели протопоп Аввакум создает капитальное произведение русской литературы – “Житие протопопа Аввакума”. Отсюда, из пустозерской темницы, он рассылает по Руси “подметные” письма – обличающие, негодующие, к бунту зовущие.
Это был кремень, а не человек!..
В 1669 году умерла старая царица Мария Милославская, а на Волге уже полыхало пламя крестьянской войны; голытьба кричала: “Сарынь, на кичку!”1– и тряслась толстомясая боярская Русь. Дряхлый царь женился на молоденькой Наталье Нарышкиной, которая вскоре принесла ему сына – будущего императора Петра I. В ночь на 16 января взяли на Москве “духовную дочь” Аввакума, боярыню Морозову, и везли ее в стужу на санях, и взывала она к народу, двумя перстами грозя, – и такой запомнил ее народ, и такой она вошла в наше сознание, навеки закрепленная на холсте кистью Сурикова… Морозову хотели сжечь, уже и сруб был приготовлен, “да бояре не потянули”. В 1675 году, умирая от голода в темнице, Морозова просила стражника: “Помилуй мя, даждь ми калачика!” Он же рече ей: “Ни, госпоже, боюся”. Тогда попросила она его выстирать для нее сорочку – и он эту просьбу исполнил.
Так и умерла! А вскоре умер и царь Алексей Михайлович – на престол воссел его слабоумный сын Федор.
– Аввакума-распопа, заблудша в ереси, – велел он, – с его товарыщми в огонь ставить и в огне том жечь…
Был апрель 1682 года. Полярный океан задувал над юдолью Пустозерска широко и протяжно. Собрался на площади народ и снял шапки… Дрова подожгли – замолчали все, только слышался треск жарких сучьев да шипение бересты.
Аввакум, стоя на костре, говорил народу, чтобы колоколов московских не слушали, а властям царским не покорялись.
– А коли покоритесь, – грозил он, – вовек погибнете, и городок ваш занесет песком до крыш самых…
Огонь охватил казнимых, и один из них (Лазарь или Епифаний – то неизвестно) закричал от страшной боли.
Аввакум наклонился к нему и стал увещевать:
– Боишься пещи сей? Дерзай, плюнь на нее…
Так и сгорел.
А через несколько дней после казни Аввакума на престол московский взошел малолетний царь Петр I, и на Руси начиналась совсем другая эпоха – тоже жестокая, но с иными людьми, с иными проблемами…
В 1856 году Пустозерск посетил известный исследователь народного быта писатель С. В. Максимов. Пустозерск уже наполовину занесен песками, а другая половина города похилилась среди болотных кочек и непролазной грязи. Максимов поговорил со стариками, и один из них сказал ему:
– Протопоп чуял, что быть-де мне во огни. И распорядок такой сделал: свои книги роздал! Народ, пустозерский и стрельцы, кои приставлены были, советовали бежать, да Аввакум не согласился, милостей не принял, советов не слушался: велел себя жечь и вошел в пещь, будто в рай…
Здесь примечательна фраза, что перед казнью Аввакум “свои книги роздал” пустозерцам. Ведь его “Житие” не дошло до нас в подлиннике – оно известно лишь в списках-копиях…
Вся лучшая наша литература была заражена “аввакумовщиной”.
Тургенев всю жизнь, даже за рубежом, не расставался с “Житием протопопа Аввакума”, он говорил друзьям: “Вот книга! Каждому писателю надо ей изучать…”
Лев Толстой в кругу семьи часто читал вслух “Житие”.
В мыслях о судьбах родины Максим Горький не оставлял тяжких раздумий о протопопе Аввакуме, которого он относил к числу виднейших прогрессивных писателей мира.
Достоевский, Гончаров, Чернышевский, Лесков, Гаршин, Бунин, Леонов, Пришвин, Федин – никто не прошел равнодушно мимо писаний Аввакума… На Первом съезде советских писателей имя протопопа Аввакума упоминалось как имя писателя-бойца, который способствовал развитию гражданских мотивов в нашей литературе.
Героический образ Аввакума был сродни и русским революционерам: его стойкое мученичество помогало узникам царизма выносить тюрьмы и ссылки. Наконец, в тяжкие дни ленинград–ской блокады образ Аввакума вошел в стихи Ольги Берггольц:
- Ты – русская дыханьем, кровью, думой,
- В тебе соединились не вчера
- Мужицкое терпенье Аввакума
- И царская неистовость Петра.
На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось, а возле него вырос новый культурный центр – Нарьян-Мар. В 1964 году общественность Москвы, Ленинграда и Архангельска подняла вопрос об увековечении того места, где когда-то шумела суровая и трудная русская жизнь. Посреди тундряной пустоши был открыт памятник-обелиск. На торжество открытия памятника съехались нарьянмарцы, колхозники из окрестных деревень, печорские рыбаки, школьники и учителя – все они были потомками тех пустозерцев, которые знали когда-то Аввакума…
На мраморной плите памятника золотом было оттиснуто имя протопопа Аввакума, сожженного за “великие на царский дом хулы”. Советская печать отметила это важное событие: “Проезжающие на лодках мимо памятника бывшие жители Пустозерска всегда снимают шапки, как перед самой дорогой святыней…”
Факт, конечно, поразительный!
И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту пустозерскую глушь. Что они ищут там? Крестьянин русского Севера не знал крепостного права, он был грамотен, ученость в людях чтил и высоко ценил слово писаное. Не исключено, что в сундуке какой-нибудь ветхой бабки, под ворохом старинных сарафанов и складней, еще лежит заветный подлинник “Жития протопопа Аввакума”…
Романтики не теряют надежды найти его!
“Вечный мир” Яна Собеского
Летний сад в Ленинграде – не до конца прочитанная книга истории. Конечно, многое нам известно, но чаще мы блуждаем в аллеях, даже не вникнув в символику тех скульптур, что расставлены в саду задолго до нас, дабы потомки призадумались.
Здесь мы встретим и бюст Яна Собеского, а подле него королеву Марию-Казимиру, прозванную Марысинкой. Среди город–ского шума, окруженные новой и чуждой для них жизнью, они глядят на нас из былого, в котором все было другим, все было иначе, да и этого города на Неве не существовало…
В 1986 году исполнилось 300-летие с того времени, когда Ян Собеский утвердил “вечный мир” Польши с Россией. Кажется, это достаточный повод, чтобы помянуть героя былой эпохи и ту его любовь, которая достойна нашей памяти.
Европа считала поляков самым воинственным народом. Почти не ведая передышек от войн, польские рыцари умели спать на голой земле, намотав на руки поводья боевых коней, чтобы ринуться в новую битву по первому сигналу трубы. Ведя генеалогию от дикого племени сарматов, они порою и вели себя подобно скифам… Речь Посполитая жила еще в дремучих лесах; волки, медведи и злобные рыси стерегли неосторожного путника. Паны измеряли время водяными часами – “клепсидрами”. На дворах усадеб паслись фазаны, гагакали жирные гуси. Шляхта щеголяла в жупанах и кунтушах, стойко удерживалась древняя мода на меха (лисьи, куньи, собольи), а мещане носили шубы из шкур волчьих. Молодые паненки украшали прически венками из свежих роз. Ясновельможные славились скандалами, буйством, обжорством и пьянством. Садились за стол утром и падали под стол к ночи. Пили из особых “кулявок” (бокалов без ножек), которые невозможно поставить, прежде не опорожнив. По усам панов текли меды волынские, золотистый дубняк и рыжая свирепая старка. Со времен королевы Боны Сфорца поляки тяготели к Италии и потому, сказав фразу по-польски, считали своим долгом украсить ее латинской цитатой.
– Польша сильна рокошами! – орали задиры…
Страна изнемогла от “рокошей” (раздоров шляхетских), ее “кресы” (окраины) были истерзаны набегами османлисов и кочевников, а Версаль навязывал полякам своих королей и королев. Герцог Анжуйский, сын Екатерины Медичи, уже “потаскал” корону Пястов, бежав из Польши ночью, как воришка из чужого дома; Владислав IV взял в жены Марию Гонзаго, дочь герцога Наваррского; живописцы изображали эту даму сидящей у ворот Варшавы на барабане, она руководила стрельбой из пушек… Если раньше шляхтич набирался знаний у профессоров Болоньи иль Падуи, теперь его приманивали соблазны Парижа, откуда он возвращался в Краковию или Мазовию, отягощенный париком, долгами и сплетнями.
Ян Собеский тоже провел молодость в Париже, но средь множества развлечений усердно штудировал Паскаля и Декарта; в особой “красной гвардии” Людовика XIV он служил вместе с великим пересмешником Сирано де Бержераком… На родине он, богатый и знатный, сразу стал коронным хорунжим. Польша отстаивала свои “кресы” от шведов, пруссаков и крымцев, в каждой из битв она восхваляла молодого Яна Собеского.
Европа нарекла Собеского именем “Гроза турок”:
Он воевал и с русскими, которых уважал:
– Видя их обширные косматые бороды, я невольно испытываю почтение, будто мне встретились мои же предки…
Против него отважно сражался киевский воевода Василий Шереметев, о доблести которого знали в Париже и Вене. Когда же ляхи предательски выдали его татарам, один лишь Собеский, благородно-возмущенный, вступился за своего противника:
– Нельзя делать того! Я сейчас подниму свои хорунжи, весь регимент приведу в лагерь князя Барятинского, вместе с русскими врежусь в татар, дабы избавить Шереметева от плена!
Из рук коронного хорунжего выбили саблю:
– Стоит ли твоя слава жизни одного москаля? Эй, хлопы, не спите! Налейте ему еще одну кулявку…
Собеский не был женат. А когда Мария Гонзаго покидала Францию ради польской короны, она вывезла в Варшаву девочку, дочь гувернантки, по имени Мария Гранж д’Аркьен, обещая матери устроить ее судьбу. Вряд ли королева думала, что безвестная девчонка, воплощенная в каррарском мраморе, будет потом красоваться в парке русской столицы… Собеский встретил ее, когда она была женою сандомирского воеводы Яна Замойского.
Собеский в ту пору назывался уже гетманом. Он предстал перед женщиной в обличье “homo militaris” (военного человека). Грудь воина покрывала жесткая карацена – кольчуга, как у древнего римлянина; длинный плащ из пунцового бархата широко стекал с могучего плеча, словно струя горного водопада…
Глаза Марысинки вспыхнули – почти алчно.
– Люди не лгут, – сказала она, кокетничая. – Вы совершенны во всем, как совершенна и ваша отчизна, от которой уже нельзя ничего убавить, но вряд ли стоит что-либо добавлять…
Библиотека Собеского считалась тогда лучшей в Варшаве, о ней ходила молва во всех образованных странах Европы.
– Однако, – отвечал он красавице, – жизнь любого мужчины похожа на библиотеку, в которой всегда будет недоставать одного тома – самого редкостного… Счастлив же пан Замойский, слабыми пальцами перелистывая такую прекрасную книгу!
Марысинка была умна: она сразу все поняла.
– Не мучайся сам и не мучай меня, – шептала она гетману наедине, – мой воевода уже стар, нам недолго до счастья…
Любовники переписывались, как изощренные шпионы: тайным шифром. Собеский и Марысинка оставили для потомков ценнейший эпистолярный памятник эпохи, в котором виден человек того сумбурного века – с его страстями и подозрениями, с его знаниями и пределами этих знаний. Отныне в жизни Собеского не было такого момента, когда бы он не думал о своей Марысинке. Он повергал врагов отчизны с ее именем на устах. Кратко изложив перипетии минувшей битвы, израненный, он писал: “Ну, довольно этих пустяков, как мои раны…” – и далее изливал на женщину каскады горячей, нетерпеливой нежности. Сандомирский воевода еще не умер, когда Ян Собеский тайно обручился с его женою!
Русь в ту пору переживала тяжкие времена: измены гетманов на Украине, бунты казаков на Дону заставили ее поспешить с миром. Русские удержали за собою Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Заднепровье, по договору в Андрусове они обещали полякам вернуть им Киев через два года…
– Нельзя верить москалям! – негодовали ляхи.
Чело гетмана избороздили морщины печальных раздумий:
– Поляки, как и москали, имеют общего врага – это султаны турецкие, это ханы крымские… Если разобщить усилия Москвы и Варшавы, наши древние храмы станут мечетями, а наши прекрасные жены будут загублены в заточении гаремов…
После смерти Марии Гонзаго король Ян-Казимир отрекся от престола. Но перед тем, как навсегда покинуть Польшу, он произнес перед сеймом пророческие слова: “Придет время, и Московия захватит Литву, Бранденбургия овладеет Пруссией и Познанью, Австрии достанется вся Краковия, если вы, панство посполитое, не перестанете посвящать время межусобной брани. Каждое из этих трех государств пожелает непременно видеть Польшу, разделенную между ними, и вряд ли сыщется охотник, чтобы владеть ею полностью…” Король уехал, а Польша снова вскипела “рокошами”, каждая “магнатерия” пушками и звоном мечей утверждала на престоле своего кандидата. На элекционном сейме бедный шляхтич Михаил Вишневецкий, ночуя в грязной корчме под лавкой, видел сон – будто над Польшею летит гигантский рой золотых пчел. Вишневёцкого схватили за ворот жупана и потащили на выборное коло, как агнца на заклание:
– Вот наш круль… А пчелы – хорошая примета!
Вишневецкий стал королем. Марысинка сказала:
– Новый круль, сын Гризельды Замойской, племянник моего старого воеводы. Но мне уже мало быть лишь теткою короля, я сама хочу стать польскою королевой…
Собеский был уже великим коронным гетманом!
Султан Магомет IV двинул армию против Польши: Львов выдержал осаду татар и ногаев, но крепость Каменей пала. На кресах польских все было черно от пожарищ, небо вдоль горизонта багровело от пламени… Тысячи, многие тысячи поляков угоняли в полон! Татары на глазах мужей бесчестили их жен, на глазах матерей они совершали обрезание мальчикам…
В 1672 году в галицейском городишке Бучаче был подписан унизительный мир: Польша отдавала султану всю Правобережную Украину, всю Подолию, она отсчитала для султана колоссальную контрибуцию, обязавшись платить ему ежегодную дань.
– Стыд выел мне глаза! – говорил Собеский Марысинке. – И пусть жалкий круль тешится миром в Бучаче, но я, гетман коронный, разрушу мир… Где посол москальский? Я скажу ему, что Днепр отныне – граница между Россией и Турцией. Если даже мне страшно, так пусть и русские придут в ужас!
Султан собрал войска в гигантский лагерь под стенами неприступного Хотина, куда Собеский под осень и привел своих воинов. Он обнажил боевой меч со словами:
– Мы пришли сюда по высшему ордонансу…
Стрелы татарские летели дальше пуль, а раны от них были страшнее ружейных. Польские “хузары” носили за плечами громадные крылья из перьев орла, покрытые золотом. Началась сеча, и она, кровавая, длилась до тех пор, пока к ногам Собеского не швырнули Зеленое знамя пророка – святыню султанов. Мост через Днестр рухнул под бегущими, толпы потонувших османов завершили страшное и небывалое их поражение.
– Не платить нам дани этим поганцам, – заявил Собеский, указав отправить Зеленое знамя в подарок Риму…
Михаил Вишневецкий умер, и снова возник “рокош”: кому быть крулем? Франция и Австрия толкали к престолу варшав–скому своих кандидатов, а Марысинка встретила мужа наказом:
– Выводи войско на коло… с пушками! Кто осмелится пойти против тебя, избавившего страну от мира позорного?
Против Собеского стенкой вставала литовская “магнатерия” с братьями Пацами – пузатыми, пьяными, бритоголовыми:
– Не хотим Пяста, а хотим немца или француза!
Пестрело в глазах от лошадиных попон, пошитых из шкур пантер, леопардов и барсов. Пушки были заряжены. Жужжали пули. В рядах избирателей то здесь, то там падали убитые. Собеский галопом подскакал к послу Людовика XIV и сказал, что такая элекция может завершиться избранием сразу двух королей, после чего в Польше возникнет гражданская война.
– Откажитесь от своего кандидата, выдвинутого Версалем, а с кандидатом Вены я всегда могу потягаться славою…
Франции было важно избавить Варшаву от влияния венских Габсбургов, и потому посол быстро согласился:
– Но с одним условием: вы не забудете услуг Версаля.
– Их учтет моя жена… – отвечал гетман.
Воевода Яблоновский, посинев от натуги, уже истошно вы–крикивал имя победителя под Хотином, и все подхватили:
– Желаем Пяста… Виват Ян Собеский!
Когда элекция закончилась его торжеством, французский посол из-за плеча Собеского нашептал ему, чтобы он не забывал добрых услуг Версаля. Марысинка – уже королева! – величаво обернулась к послу, произнеся надменно:
– Нет, мы не забудем Версаля, но при одном условии, посол: если Версаль возвысит моего отца герцогским титулом.
Собеский показал себя настоящим патриотом: он отказался ехать в Краков на коронацию, пока от границ Польши не отражена угроза нового нашествия. Магомет IV уже стронул свои несметные орды против России, а Собеский вторгся в Подолию, изгоняя пашей султана за Днестр, он выбивал их войска из пределов Червонной Руси. В боях под Журавино он принудил турок к заключению мира, выгодного для славян. Москва прислала в Варшаву своего опытного посла – Василия Тяпкина, и Ян Собеский, взяв его за руку, вывел дипломата в расцветающий сад.
– Не пора ли забыть прошлое, дабы стать нам союзными? – искренне заговорил он. – Отчего московское величество держит меня в подозрении, если я не раз оказывал вашей стране доброжелательство? Вспомните: когда под Чудновом поляки поступили гадко, отдав крымцам Василия Шереметева, я не только бранился с гетманами, но и сам хотел идти на выручку… Знаю, что обид у Москвы на Варшаву много, но время ли обидам? Османы всегда охотно подписывают мир, ибо для них мир значит лишь перемирие, дающее передышку перед новым нападением…
Тяпкин докладывал в Москву: “Тут Собеский ударил себя в грудь и сказал: “Пан резидент! Пиши все мои слова, чтоб цар–ское величество не подозревал меня ни в каком лукавстве… Нечего ему на то смотреть, что теперь у меня заключен мир с турками. Мир этот недолог, и не сладок он мне: принужден я к нему страшными силами поганскими…”
Беспокойство поляков было понятно. Магомет IV не скрывал своих планов, мечтая смерчем пройти через германские страны, чтобы дать своим ордам отдых на виноградных берегах Рейна, а там и Франция, там и Париж, переполненный сокровищами… Пока же султан покорял славян, обращая земли Правобережной Украины в свои пашалыки. Украинцы, никак не желая влачить на себе турецкое ярмо, толпами отхлынули на Левобережную (русскую) Украину, а после них оставались пустыни, трупы, пожарища, бедствия…
Марысинка нарожала Собескому 12 детей. В 1679 году король выбрал под Варшавою место, где и начал сооружать свою резиденцию “Вилла нова” (Виланово). Собеский своими руками сажал деревья, собирал картинную галерею. Версаль не удостоил отца Марысинки титула герцога, и это дало ей повод к мести:
– Если король Франции отказал мне, польской королеве, в таком пустяке, я накажу Версаль тем, что Польша отвернется от Франции, обратясь светлым лицом к венским Габсбургам…
Есть древнее правило: что муж задумает днем, жена ночью все переделает. Герой на поле брани, Собеский в дни мира становился мечтательным сибаритом. Марысинка, ловкая интриганка, вертела им, как пряха веретеном. Ослепленный любовью, он не раз выводил ее перед народом, при всех целовал ее руки:
– Добрая жена – винная гроздь, сулящая сладкие ягоды…
Уступая ее ночным нашептываниям, Ян Собеский вступил в союз с Веною, монархи договорились о совместной борьбе с султаном. Не всем полякам пришелся по нутру этот альянс, Собе–ский высидел перед разъяренной толпой шляхтичей; осыпаемый оскорблениями, он лениво думал о том, какие дубы и какие тополя вырастут в Виланове… после него!
Гетмана Яблоновского он потом спрашивал:
– Какой табор может собрать султан Магомет?
– Османлисы – словно песок, их силы неисчислимы. Думаю, в поле султан выставит не меньше трехсот тысяч воинов.
– А кто их считал? – отмахнулся Собеский…
Для устрашения Европы султан собирал в табуны верблюдов, велел готовить в поход боевых слонов. Собеского мучили боли в почках. Врачи говорили, чтобы исключил из меню все жирное. К столу короля подавали бобровые хвосты с вареным тестом, в громадном кубке ченстоховского пива плавали гренки из ржаного хлеба. На десерт был творог с кислым вареньем.
– Что слышно из Бахчисарая? – часто спрашивал он…
Василий Тяпкин отъехал в Крым; истощенная в неравной борьбе, Россия согласилась на мир с султаном; Днепр по-прежнему разделял непримиримых врагов, но Киев оставался за нами…
Петр I родился за девять лет до Бахчисарайского мира.
Если польский король славился ученым библиофильством, то его союзник, австрийский император Леопольд, был знаменит как нумизмат и мракобес. Все недостатки династии Габсбургов воплотились в этом хилом и гадостном создании природы. Леопольд был очень слаб в ногах, а потому всегда шатался, как маятник. Челюсть торчала крючком, из впадины рта высовывались редкие зубы, говорил он с трудом, больше рычал. На молитве он казался окоченелым, как труп, выстаивая по 80 служб кряду, словно заведенный. Из окна дворца он любил наблюдать, как живьем жарят “еретиков”. Еще он любил лепить красивые свечи, которые и раздаривал по монастырям. Всюду, где бы Леопольд ни явился, за ним – неслышно, словно бесплотные тени, – следовали мрачные иезуиты, берегущие свое безобразное “дитя” в духовной изоляции. Единственное было достоинство в этом выродке: он никогда не волновался. Когда молния вонзилась в окно его обеденного зала, разбросав по углам посуду со стола, Леопольд даже глазом не моргнул: “Сам Господь Бог указывает нам, чтобы мы сегодня постились”, – сказал он придворным…
Зима 1683 года выдалась дождливая, к весне едва подсохли дороги. Великий визирь Кара-Мустафа собрал под своим бунчуком 260 000 регулярных войск, которые были отозваны в Европу даже из Африки, даже из далекой Месопотамии. От Адриа–нополя до Белграда “табор” визиря сопровождал сам Магомет IV, за ним ехали больше ста повозок с одалыками (любимыми женами) и невольницами гарема, жующими пастилу и орехи. Жутко ревели верблюды, влача по рытвинам тяжелую артиллерию. Наконец рать султана вторглась в пределы империи Габсбургов: “Она зажигала дома, рубила деревья, убивала людей, забирала для продажи девиц и детей. Столбы дыма и пламени обозначили ее путь…”
Первые дезертиры появились на улицах и базарах Вены, крича в свое оправдание, что гарнизоны уже вырезаны, все крепости сдались, с верблюдами и слонами никому не совладать.
Леопольд I разомкнул свои скверные уста.
– Что мне теперь делать? – спросил он иезуитов.
– Спасать свое императорское величество…
Карета повелителя первой въехала на мост через Дунай, за нею покатили кареты венской аристократии и царедворцев. Бегство началось в 8 часов вечера, а закончилось только глубокой ночью. Затем Вену оставили богатые люди, доверив оборону столицы гарнизону и голодранцам, которым нечего было спасать, кроме рубахи да штанов на себе… Вена, всегда мрачная, стала попросту страшной при общем безлюдье. Только в храмах еще светились окна: там молились. Через день вдруг раздались звуки труб и громы литавр: в Вену входил отряд французского генерала, принца Карла Лотарингского… Его встретил у ворот бургомистр Либенберг со связкой ключей от города.
– Куда их девать? – спросил он растерянно.
– Запихни их себе под хвост, – отвечал принц.
Принц Карл построил гарнизон и, пересчитав солдат по головам, словно горшки, впал в отчаяние: 21 963 человека – вот и все, что он имел. Но тут появились 700 венских студентов во главе с ректором; выстроились мясники, пивовары, дунайские рыбаки, трактирщики и бездомные бродяги, ветер с Дуная развевал над ними цеховые знамена с изображениями мясных туш, сапог, рыбин и пивных бочек – так возникло народное ополчение.
Карл Лотарингский обвел рукою вокруг себя:
– Видите? Всюду пламя пожаров указывает нам, что Вена окружена, и… успеет ли прийти король Собеский?
12 июля с крепостных стен венцы увидели врагов, которые на горячем пепле выжженных форштадтов сооружали осадный лагерь. Несуразным дворцом средь кибиток возвышался зеленый шатер визиря Кара-Мустафы; внутри этого шатра-монстра были размещены спальни, молельни, комнаты для совещаний и курения трубок; посреди же комнат “струились фонтаны, были в шатре ванны, даже зверинец и быстро разбитый сад”. Вена оставалась последним барьером, обрушив который великий визирь надеялся выйти со своим “табором” в срединную – Центральную Европу, к богатствам ее древних городов. Турецкие пушки молотили в стены австрийской столицы, вызывали в домах пожары. 26 августа сорок янычар ворвались через пролом в улицы Вены, рубя все живое кривыми ятаганами, но их тут же перебили студенты и ремесленники. С колокольни собора св. Стефана жители напрасно озирали окрестности:
– Где же поляки? Почему не идет Собеский?
За успешное бегство из Вены Леопольд I получил от Ватикана титул “Великого”. Сидя в тыловой тиши Линца, он заводил часы, перебирал монеты и лепил свечи из воска. Ему доложили, что Вена почти разрушена, а Собеский не подошел на выручку.
– Очень хорошо, – отвечал выродок. – Если бы Собе–ский победил турок, мне бы пришлось исполнить статью договора с Польшей, выдав венскую эрцгерцогиню за сына короля – Якова…
Между тем дело спасения Вены стало всеобщим делом всех европейцев. Даже из далекой Испании шагали в Австрию добровольцы, Германия поставляла своих ландскнехтов, закованных в железо доспехов. И только Англия с Голландией, поглощенные заботами о наживе, отказались спасать Европу от нашествия. Но тут к ногам Карла Лотарингского бросили, как мешок, турецкого янычара, избитого до потери сознания.
– Я не янычар, – сказал он, выплевывая зубы. – Я пан Кольшуцкий, знаю турецкий… меня прислал король! Он уже перешел Дунай, а сейчас преодолевает высокие горы Виннервальда.
– Как узнать мне его храброе войско?
– Знамя у нас красное, а на нем крест – белый… Король не один: он ведет в битву и своего любимого сына Якова.
11 сентября венцы увидели знамя Собеского: в армии поляков были украинцы, белорусы, были и русские казаки. Средь позлащенных рыцарских панцирей мелькали медвежьи шкуры на плечах копьеносцев. Утром 12 сентября, когда распался туман, взору пришедших спасителей Вены открылась страшная панорама разрушений, хаоса и лабиринтов траншей. В громадных загонах турки пасли стада быков и баранов, обреченных на съедение в полдень… Собеский опустил подзорную трубу:
– Вряд ли османлисам придется сегодня обедать!
Битва началась. Впереди шли польские эскадроны, развевая хорунжи, сверкая панцирями, с крыльями за плечами – подобно ангелам смерти; драгуны и уланы завершали избиение врагов. Кара-Мустафа держался лишь полчаса, а потом был вовлечен в общий поток бегущих, и… блестящий полководец Собеский вложил меч в ножны:
– Победителям даю один день – на разграбление!
В истории тех лет сказано: “Золота, серебра, всяких драгоценностей было брошено турками такое изобилие, что победители не могли взять всего и раздали его жителям Вены”. Собеский оставил для себя только сказочные шатры Кара-Мустафы, где нашел массу оружия и 500 христианских мальчиков, которых муллы визиря не успели подвергнуть обрезанию. Нашли множество мешков с кофе. Его было у турок так много, что Собеский вызвал пана Кольшуцкого с выбитыми зубами, сказал ему:
– Вари это свинячье пойло для всех, и пусть пьют.
– Да кому это дерьмо нужно? Пиво-то лучше.
– Вари! Открой кофейню. Налакаются и привыкнут…
С этого года Вена стала привыкать к кофе. Леопольд вернулся в столицу, ему внушали, что спасением Вены он обязан лично Собескому, которого надобно благодарить. Габсбург с трудом разлепил глаза, склеившиеся от нагноения:
– Вену избавили от врагов силы всевышние, а не пьяные ватаги из Польши. Я на престоле избранник Божий, а Яна Собеского избрали королем варшавские крикуны. Свиданием с этим мужланом разве я не потеряю свое императорское достоинство?
Перед массивным богатырем Собеским, сидевшим на коне, возник зябко дрожащий уродец в шляпе с черным пером, а чулки на его ногах были красные, будто Леопольд только что вы–брался из крови. Собескому сказали, что он имеет право приблизиться к этому “сокровищу” не более чем на восемь шагов.
– Но я проделал миллионы шагов, торопясь спасти его Вену, а теперь от меня требуют, чтобы я соблюдал этот мизер…
Марысинке он сообщил: “Я сказал ему несколько слов по-латыни, но коротко; в ответ получил заученные фразы… причем император даже и не подумал поднять руку к шляпе”. Марысинка звала его домой… Нагнав бегущих турок, Собеский еще раз устроил им избиение, после чего повернул на Варшаву.
В дороге он сказал своему сыну королевичу Якову:
– Русские, конечно, очень хитрые люди. Но если бы я пришел спасать их Москву, они бы отдали за тебя любую царевну…
Через три года сложилась коалиция государств, ведущих совместную борьбу с турецкой агрессией: к союзу примкнула и Россия. После долгих переговоров в Москве был заключен ВЕЧНЫЙ МИР Польши с Россией – Киев отныне и навсегда оставался в пределах Русского государства. Договор немедленно вступил в силу, и князь Василий Голицын, куртизан царевны Софьи, совершил два похода на Крым (оба они были неудачными). Собеского удивило возвышение Ивана Мазепы, который сделался гетманом Левобережной Украины… И невольно растревожилась память:
– Я ведь знал этого бабника! Помню, еще при дворе Яна-Казимира гоноровый пан Пассек спустил Мазепу с лестницы…
Петр I возмужал, он сверг царевну Софью, устранил князя Голицына, сам в 1695 году пошел брать Азов у турок, но взял только две сторожевые каланчи… Наступали новые времена.
– Польша сильна рокошами! – продолжались вопли ляхов.
Погружаясь в апатию, Собеский гнушался дел:
– Ах, что мне с того, если чужие волы сожрут всю траву?..
Король умирал в недостроенном замке Виланове, а в саду зеленели деревья, им посаженные. Страшная судьба у этого человека: “Блестящий полководец, он не обладал государственным умом; его победы не принесли Польше выгод; сделав так много для славы отечества, Собеский ничего не сделал для его пользы”. Теперь он умирал, испытывая лишь отвращение к людям, которые столько раз обманывали и оскорбляли его:
– Лучше уж общаться с книгами, нежели с мерзавцами…
Много рожавшая, уже немолодая, но еще красивая, одна лишь Марысинка оставалась для него самой дивной женщиной на свете. Любовь старого воина парила на тех же недоступных другим высотах, на какие он поднял свое чувство еще в молодости, когда увидел ее впервые. Ян Собеский умер 17 июня 1696 года в Виланове, а ровно через месяц Петр I взял Азов приступом. Новое время стучалось и в старинные ворота Варшавы…
Семья Собеских распалась – в раздорах, в ненависти.
Марысинка покинула Варшаву, проклинаемая народом:
– Это ты во всем виновата… старая карга, убирайся!
Вдовая королева провела в Риме 15 лет (не тогда ли, я думаю, и был исполнен ее бюст, оказавшийся затем в Летнем саду новой русской столицы?). Несмотря на годы и болезни, Марысинка веселилась в окружении самой беспутной молодежи. Наконец она перебралась во французский Блуа, где в 1716 году и свела счеты с бурной жизнью. Польша о ней забыла. А прах короля Собеского временно покоился в одном из варшавских монастырей. Однажды была очень темная осенняя ночь, когда привратник обители проснулся, встревоженный стуком калитки. Он засветил фонарь и вышел наружу, освещая темный сад, в котором ветви шумели под ветром. Возле усыпальницы Собеского стоял… гроб. Мучимый страхом и тайной, привратник открыл его. В гробу лежала королева Марысинка, уже высохшая, как мумия, страшная в своем безобразии. Кто привез ее прах из Блуа – осталось вечной тайной. Но, видимо, это сделал человек, знавший о бессмертной любви Собеского, который любил ее в красоте молодости и, наверное, любил бы ее даже сейчас – в этом гробу…
Теперь их тайная переписка расшифрована, сердца любовников обнажены. Историки изучают последствия “вечного мира” Яна Собеского, а романисты ПНР давно работают над темой большой любви Яна Собеского, которая могла бы восславить его ничуть не меньше, нежели все его громкие победы…
“Железная башка” после Полтавы
Король был прост. Сначала имел сервиз из серебра, потом цинковый, а под Полтавой ел из жестяной миски. Академик Е. В. Тарле пишет: “Он был очень вынослив физически, молчаливо выносил долгое отсутствие привычной пищи и даже свежей, не пахнущей болотом воды. Его воздержанность, суровый, спартанский образ жизни, недоступность соблазнам – все это внушало к нему уважение”. Карл XII питался хлебом с маслом, поджаренное на сковородке сало было для него уже лакомством. Когда он мерзнул, в палатку к нему приносили раскаленные ядра. Вина не употреблял (после того, как в молодости однажды напился и наболтал глупостей). Женщин король сторонился. “Любовь испортит любого героя”, – утверждал он. Годами не менял одежды, в которой и спал, и сражался, редко снимал ботфорты и забывал мыть потные ноги.
У нас хорошо знают, что было до Полтавы и что было под Полтавой, но, кажется, не всем известно, что было после Полтавы… Накануне битвы король ввязался в дурацкую перестрелку с казаками и был ранен: пуля вонзилась в пятку и, пройдя через ступню, застряла между пальцев. Король сказал:
– Не в голову же! Вырежем пулю на славу…
Пока хирург извлекал пулю, слуга Гультман читал его величеству XV песнь из “Саги о Фритьофе”: “Рана – прибыль твоя: на челе, на груди то прямая украса мужам; ты чрез сутки, не прежде, ее повяжи…” Карл видел, как шведские флаги не раз уже были сброшены с валов Полтавы жителями города.
— Уж не сошли ли русские с ума, осмеливаясь сопротивляться лично мне и атакам моих непобедимых драбантов?
Рёншильда спрашивали, ради чего шведская армия торчит под этим городишком, фельдмаршал отвечал с раздражением:
– Королю скучно – Полтава для него развлечение…
А гетман Мазепа мрачно увещевал запорожцев:
– Потерпите, панове! Что там шведы? Скоро и татары из Крыма явятся. Тогда мы так Москвою тряхнем, что из нее все деньги сразу посыпятся, только успевай подставлять шапки…
В близости татар не сомневались: в лагере Карла XII явились от хана Девлет-Гирея миндаль, изюм, виноградное вино, пастила. Полтавское сражение открылось 8 июля 1709 года; битва исторического значения не была долгой – в два часа все было уже решено. Русское ядро разбило паланкин, в котором лежал король, а носильщиков изранило. Карла XII вбросили в седло убитого драгуна, настегнули под ним лошадь. Он кричал:
– Только не плен! Лучше подохнуть в Турции…
Вровень с ним скакал ясновельможный гетман Мазепа – изможденный старик в богатом жупане. Стаи птиц с криком пролетали над всадниками. Их нагнал храбрый генерал Спарре, которого Карл XII прочил в московские губернаторы.
– Русский царь не пойдет на мир, пока мы не выдадим ему этого плута! – И плетью он указал на гетмана.
Мазепа, пригнувшись, вонзил длинные испанские шпоры в бока лошади. Пять суток подряд мчались в безлюдном шатании трав и ковылей, устилая разбитый шлях трупами, людскими и конскими. На берегах Буга с трудом нашли одну лишь лодку, в которую внесли Карла XII, на шаткое днище попрыгали самые проворные, в том числе и гетман. Шведов настигла русская кавалерия, король издали видел, как русские вяжут его отважных драбантов. Дырявая лодка тонула, и король безжалостно повы–брасывал за борт бочонки с золотом, принадлежавшие Мазепе.
Беглецы остановились в Вендорах, где для короля был раскинут шатер. Петр I настойчиво требовал от Турции выдачи ему изменника Мазепы, и на ясновельможного, погруженного в ужас расплаты, вдруг напали вши! Мазепа выл и скребся, отряхивал вшей горстями, но они возникали вновь с такой непостижимой быстротой, будто организм старца сам порождал эту нечисть. Согласно легендам, Мазепа был буквально заеден вшами, отчего и умер, а Карл XII сказал:
– Достойная смерть великого человека! Вши заели и рим–ского диктатора Суллу, они загрызли иудейского царя Ирода, а испанского короля Филиппа Второго вши не покинули даже в гробу.
Мазепу увезли в румынский Галац, там и закопали. Но янычары в поисках золота отрыли труп гетмана, обобрали с него одежды и швырнули в Дунай. Далее, по словам шведского историка, началось “фантастическое приключение в духе средневековых рыцарских романов”. Главным героем романа стал Карл XII, которого за упрямство турки прозвали “железной башкой”.
В год Полтавы королю было всего 27 лет.
По мусульманским понятиям, гостя в своем доме обидеть нельзя, а Карл XII остался в турецких владениях на правах гостя. Но даже историки, восхвалявшие короля, невольно оказывались в тупике беспочвенных догадок, не в силах толково объяснить, почему Карл XII “загостился” в Бендерах на пять долгих лет в то самое время, когда Швеция вымирала от бескормицы и жестоких налогов, а Петр I штурмовал Выборг и Кексгольм, вступил в Ревель, отвоевывал у шведов Финляндию, спешно отстраивал Петербург, утверждая господство русского флота на берегах Балтики. До нас дошла надменная фраза Карла XII: “Пусть он строит. Я вернусь – все разрушу…”
“Железная башка” после Полтавы не потерял даже малой толики самоуверенности и держался с видом победителя, завоевав особую любовь турецких головорезов. Раскинув лагерь неподалеку от Бендер, король выбрал неудачное место, затопляемое водами Днестра, на что и указали ему янычары. Но Карл XII не перенес лагерь на возвышенность, и весною, когда все спасались от половодья, он остался в своем шатре, стоя по колено в бурлящей воде. Этим он вызвал восхищение янычар.
Вот железная башка! Ну какая упрямая башка!
Объяснять долгое пребывание Карла XII в Бендерах ущемленным самолюбием или патологическим упрямством никак нельзя. На путях в Валгаллу он не выронил меча из длани и, неплохо разбираясь в политике Европы, отлично понимал, что военная коалиция Швеции, Польши и Турции с Крымом вместе – это не выдумка, а трезвая реальность, не учитывать которой не может и Петр I, требующий от султана изгнания шведского короля из бессарабских провинций. Выстроив в своем лагере дом для себя и свиты, Карл XII из этого дома сплетал паутину интриг, в ней он ловко запутал Австрию с Францией, которые через своих послов воздействовали на султана Ахмеда III, и своего добился: Турция неожиданно объявила войну России! Карл XII, горя отмщением за Полтаву, домогался получить под свое начало всю турецкую армию, но великий визирь Мехмед-паша отказал ему в этом:
– Король! Не подобает тебе, христианину, руководить правоверными мусульманами… Я сам поведу войско!
Петр I с русскою армией был окружен на Пруте громадными таборами янычар и крымских татар. Положение критическое. Порох и ядра кончались, фураж истреблен. Люди не имели пищи, кони бродили от дерева к дереву, обгрызали кору и поедали стебли. Но два штурма янычар все же отбили с успехом, и янычары, боясь поражения, уже буянили перед шатром визиря:
– Больше не пойдем на гауров! Иди сам или добудь мир!
Карл XII предавался ликованию. “Я каждую минуту, – писал он, – ожидал известия, что враг сдался, и уже представлял себе, с какой неописанной радостью увижу я Петра, лежащего у ног моих…” Петр приказал сжигать обозы и багаж армии. У него развилась страшная мигрень, он ушел в шатер и стал плакать от бессилия. Множество русских дам, сопровождавших армию в походе, генералы и офицеры последовали примеру Екатерины, догадавшейся отказаться от драгоценностей, и Мехмед-паша принял очень большую взятку в золоте и бриллиантах, после чего дозволил русским выйти из окружения с музыкой и развернутыми знаменами… Карл XII, узнав об этом, закричал:
– Коня! – и, запрыгнув в седло, помчался к Пруту…
Переправы через реку не было. Король шенкелями загнал лошадь в воду, а форсировав Прут, нечаянно угодил в самый центр русского лагеря. Вот бы его здесь и хватать голыми руками! Но ведь никто не думал, что Карл XII способен на подобную дерзость, да и трудно было признать короля Швеции в этом мокром и бледном всаднике, который, выбравшись на берег, галопом проскакал словно бешеный через весь русский компонент в сторону бивуаков турецкой армии. Великого визиря он стал гневно упрекать – как тот осмелился заключить мир без его, высококоролевского, ведома:
– Дай мне хотя бы десять пушек, и я обещаю тебе, глупец, повернуть назад всю историю варварской России…
Бывший дровосек, волею аллаха ставший великим визирем Оттоманской империи, невозмутимо покуривал янтарную трубку.
– Войну вел я, а не ты! Наши законы, – отвечал он королю, – повелевают мириться с неприятелем, который устал и просит о мире. Ты под Полтавой испытал гнев русских, мы их тоже знаем достаточно. Если тебе не хватает драки, бери своих поваров, писарей и лакеев, воюй хоть с утра до ночи.
– Но ведь одно усилие, и ты можешь стать велик, пленив не только армию, но и самого русского царя.
В ответе Мехмед-паши обнаружился юмор:
– Кто же станет управлять Россией, если я пленю русского царя? Каждый цезарь должен проживать у себя дома…
Это было уже оскорбление. Вольтер пишет, что Карл XII сел на диван рядом с визирем, долго смотрел на старика в упор, потом задрал ногу и острой шпорой распорол одежду Мехмед-паши, затем удалился в молчаливой ярости. Ахмет III прислал в Бендеры 30 арабских скакунов и мешки с деньгами, деликатно давая понять королю, что пора бы и честь знать – не побывать ли ему дома, где шведы забыли, как выглядит их король!
Но король на подобные намеки не обращал внимания, а деньги, которые слали ему на дорогу, он транжирил на свои надобности. И даже Франция, и даже Австрия не могли убедить “железную башку”, чтобы из бендерского захолустья он возвратился в отечество, где его присутствие крайне необходимо. Наконец султан лично заверил Карла XII в том, что русские войска не станут мешать его проезду через польские пределы. Ахмет III соглашался выделить конвой в 10 000 турецких спагов для безопасности. Карл XII требовал 50 000 всадников (а столько же татар обещал дать ему Девлет-Гирей, хан крымский). Под видом конвоя он задумал набрать армию в 100 000 человек, пустить же его в Польшу – как козла в огород с капустой! Ясно же, что “железная башка” снова откроет войну с Россией…
Терпение турок истощилось, и в феврале 1713 года в Бендерах произошел знаменитый на всю Европу “калабалик”. Это турецкое выражение сейчас переводят как “ссора”, а раньше переводили более замысловато: “игра или возня со львом”! Шведы же объясняют его проще: “свалка, куча мала, потасовка, драка”…
Не зная, как выжить короля, султан снова прислал ему подарки, лошадей, богатую карету и мешки с золотом. По подсчетам историков, король в общей сумме вытянул из казны султана один миллион “ефимков” (рейхсталеров). Он просил еще 600 кисетов с золотом, чтобы расплатиться с долгами.
Бендерский сераскер настаивал на скором отъезде.
– Иначе, – пригрозил он, – падишах повелит мне принудить тебя к путешествию до своего дома, а мне бы не хотелось применять насилие, всегда связанное с бесчестьем.
Ответ Карла XII сохранился для истории:
– На вашу силу отвечу собственной силой… В этот период при короле в Вендорах насчитывалось около 700 человек, включая прислугу и свиту. Сераскер запретил доставку продовольствия в шведский лагерь. Карл XII зарядил пистолеты и перестрелял арабских скакунов – дар султана:
– Если нет корма, зачем мне эти лошади?
Сераскер приказал блокировать шведский лагерь.
На это Карл ответил сооружением баррикад, а свой дом обставил палисадом из заостренных бревен. Наконец припасы у шведов кончились, люди начали голодать, и тогда “железная башка” открыл военные действия против страны, которая дала ему приют, терпела всяческие его капризы и воздавала ему почести, согласно древнему принципу: кесарю кесарево! Карл XII объявил:
– Когда на войне недостает фуража, войско добывает его через реквизиции у противника…
Султан переправил в Бендеры суровый “хаттишериф”: Карла отправить силой в греческие Салоники, откуда французы морем доставят его в Марсель; “…если же король погибнет, смерть его не должна ставиться в вину мусульманам”. Была обнародована духовная “хетва” к правоверным, разрешающая нарушить законы Корана, а убийство “гостей” никому в вину не ставить. Короля навестил евангелический пастор и, пав на колени, умолял Карла XII не губить в Бендерах жалкие остатки той великой армии, что смогла уцелеть после Полтавы. Король топнул ботфортом:
– Для проповедей избери себе иное место, а здесь сейчас разгорится новая кровавая битва… Уходи!
Турки имели 12 пушек, а всего сераскер собрал 14 000 войска (по иным сведениям, его численность превышала 30 000 человек). Пушки уже громили баррикады, когда янычары стали горланить, что “хаттишериф” подложный и на приступ шведского лагеря они не пойдут. Сераскер схватил зачинщиков бунта, утопил их в Днестре, затем показал янычарам личные печати султана:
– Если вам так уж по сердцу шведский король, можете сами уговорить его исполнить повеление нашего падишаха…
Взяв в руки белые палочки (знак миролюбия), янычары без оружия явились в шведский лагерь, истошно крича, что не дадут в обиду Карла XII, но пусть он только доверится им, янычарам, и они доставят его хоть на край света. Карл XII высунулся из окна второго этажа, крикнув своим друзьям:
– Пошли все вон! Иначе я спалю ваши бороды.
Янычары, огорченно покачивая головами, говорили:
– Ну какая железная башка! Где еще найдешь такую?
В ставке короля вооружились все до последнего поваренка с кухни. Голштинский посол Фабриций писал, что король нарочно обострил обстановку “лишь для того, чтобы представить миру образец боя, который бы казался потомству попросту невероятным”. Атака янычар началась в воскресенье – как раз во время духовной проповеди. Оборона шведов была сломлена, турки взяли баррикады и рассыпали их, как мусор. Напрасно Карл XII взывал к мужеству своих верных сподвижников – офицеры не пожелали участвовать в его авантюре, а старый генерал Дальдорф разорвал на себе мундир, обнажая незажившие раны:
– Король! Неужели одной Полтавы тебе еще мало?..
Вокруг Карла XII остались лишь драбанты и слуги человек тридцать, не больше. С трудом он пробился к своему дому. Одноглазый янычар схватил его за краги перчаток. Но король вы–рвался с такой силой, что упал на землю, а другой турок выстрелил: пуля прошла насквозь, задев нос и бровь короля. Карл хотел ринуться врукопашную, но драбанты удержали его за поясной ремень сзади. Король, освобождаясь, расстегнул пряжку спереди, бросаясь в свалку, но его силой затворили в доме. Шведы забились в одну из комнат, а дом уже принадлежал туркам, грабившим все подряд. Карл XII ударом ноги распахнул двери в соседнюю комнату, уколами шпаги заставил турок отступить – кого выбил в двери, а кто сам повыпрыгивал через окна.
– Драбанты, честь дороже всего! – призывал король…
Столовая зала была переполнена янычарами, разбиравшими посуду. Трое из них кинулись на Карла XII, желая пленить его. Король двоих заколол, а третий начал рубить короля саблей. За–крываясь левой рукой, Карл XII чуть не лишился пальцев. Началась невообразимая драка – в лязге клинков, в криках и воплях, в звоне битой посуды Карл XII был схвачен за глотку и прижат спиною к горячей кухонной плите.
– Драбанты! – позвал он на помощь.
Повар выстрелом в голову поверг турка, душившего короля. С боем Карл XII повел шведов на штурм спальни. Там все уже было разграблено и вынесено. Но два янычара еще стояли в углу, один спиною прикрыл грудь второго, и оба они держали перед собой пистолеты, готовые выпалить разом.
– Получайте сразу оба! – воскликнул Карл XII.
Рубака опытный, он пронзил обоих, нанизав турок на свой длинный клинок, будто букашек.
– Горим! – раздались крики с лестницы. Крыша гудела от попаданий ядер. В стены здания впивались татарские стрелы с комками горящей пакли, янычары подбегали к дому короля, бросая в окна охапки горящего сена. Карл XII велел обыскать всех убитых в поисках патронташей и оружия.
– Драбанты, – сказал Карл XII, – отныне вы все полковники.
– Крыша уже в пламени, – отвечали ему.
На чердаке пытались избавиться от горящих балок. Воды не было, пожар тушили болгарской водкой небывалой крепости, отчего пламя разгорелось еще сильнее. Карл XII и его свита спустились с чердака, когда лестница уже пылала. Потолки рушились.
– Пора уходить из дома, – доказывали Карлу XII.
– До тех пор, – возражал король, – пока на нас еще не загорелись одежды, я не вижу никакой опасности…
Наконец люди стали забивать пламя на своих одеждах.
– Король, – сказали они, – не лучше ли нам пробиться с боем до канцелярии, которая еще не горит?
– Отличный повод показать храбрость, – согласился Карл XII.
С пистолетом в левой руке, держа шпагу в правой, он выскочил на крыльцо перед изумленными турками. Но не сделал и пяти шагов, как его гигантские шпоры зацепились за кусты и король рухнул в обгоревшую траву. Тут его и схватили. Европа никак не ожидала такого финала: шведский король сделался пленником турок! Его отвезли в замок Демюрташ, где король выразил протест тем, что сразу же улегся в постель.
– Я не болен, но больше не встану, – сказал он.
Будучи в полном здравии, Карл XII умудрился целый год провести в постели. В самом деле, надо иметь “железную башку”, чтобы обречь молодой организм на годичное существование в лежачем положении. Но весною 1714 года Карл XII испытал нервное возбуждение. Швеция еще держала крепость Штральзунд – последний оплот своего владычества в Померании, до короля дошли из Стокгольма слухи, что сестра собирается вступить на трон. Осенью он тронулся в путь. Всегда остригавший голову ножницами “под солдата”, на этот раз Карл XII накрылся пышным париком, чтобы его не узнали. Сопровождал короля в пути через всю Европу лакей. В одну из ночей в воротах Штральзунда возникла тревога: кто-то ломился в крепость, требуя, чтобы его впустили.
– А кто он таков? – спросили его с фасов.
– Открывайте! Это я – ваш король…
Карл XII проскакал через Европу за шестнадцать суток…
Он сам возглавил оборону крепости, осажденной датчанами, и два месяца спал на земле перед воротами, особо опасными на случай штурма. Настала зима, лед сковал каналы, ведущие к морю. Не стало дров и хлеба. Претерпевая голод и стужу, Карл XII из Штральзунда диктовал приказы. Бомба взорвалась в соседней комнате, секретарь выронил перо.
– Отчего не пишешь далее? – спросил король.
– Но, ваше величество, бомба… бомба!
– Не понимаю, какое отношение к письму имеет бомба…
Наконец даже он осознал, что Штральзунд не удержать, и велел пробить во льду фарватер. Ночью, закутавшись в плащ солдата, он прыгнул в шлюпку, матросы навалились на весла, датчане открыли стрельбу, раня людей свиты. Под парусом пересекли море. Карл XII высадился на берегу Швеции, проведя ночь под скалой, защищавшей его от ветра, а когда рассвело, он узнал то самое место, которое покинул пятнадцать лет назад, чтобы вступить в единоборство с молодою Россией… А что было со Швецией, когда-то цветущей? Что застал он на родине после долгого отсутствия? Неурожаи, эпидемия чумы, войны и набеги выкосили население, а лучшие здоровые силы нации, оторванные от хлебных полей и железных рудников, погибали на полях битв, в снегах Сибири или на венецианских галерах…
– Зато я принес вам славу, – объявил он в Стокгольме.
Но шведы насытились славой по горло. В окружении короля вызрела оппозиция его правлению, возник заговор. Невзирая на все тяготы народа, Карл XII осенью 1718 года открыл новую кампанию – он вторгся в Норвегию, принадлежавшую тогда датчанам. Норвежская крепость Фредриксхальда напоминала орлиное гнездо в горах. В ночь на 30 ноября Карл XII осматривал саперные работы в траншеях. Он взобрался на вал и лег, подпирая голову левой рукою, желая лучше рассмотреть крепость в потемках. Его адъютант Яган Каульбарс, оставшись в траншее со свитою, постучал кулаком в подошвы ботфортов:
– Король, не пора ли подумать о голове?
– Оставь меня в покое, Яган, я должен все видеть сам…
Вслед за этим раздался странный плещущий звук (“будто в болото упал камень”). Каульбарс за ноги стащил короля обратно в траншею. Карл XII был мертв. Протокола о смерти не составили. Придворный врач Мельхиор Нейман объявил, что пуля, убившая короля, прилетела из крепости – в левый висок. Но саперы, уносившие короля, утверждали, что рана в правом виске – выстрел сделан из траншеи. Настораживала очень большая сила удара пули, разрушившей череп, что возможно при вы–стреле с ближайшей дистанции. Хоронили Карла XII с подозрительной поспешностью. Швеция наполнялась мрачными слухами… Дабы пресечь их, в 1746 году Карла XII вынули из гроба. Выяснилось, что Мельхиор Нейман исказил истину: пуля пробила череп с правой стороны. Значит, стреляли в короля из траншеи. (А ведь Карл XII считал врача своим личным другом.) В 1859 году профессор истории Фриксель устроил повторную аутопсию Карла XII в присутствии членов королевской династии, но сомнения не разрешились. Пробовали стрелять из старинных ружей с фасов норвежской крепости по мишеням, которые втыкали в землю на том же месте, где лежал Карл XII, и – к удивлению криминалистов – пули с большою силой пробивали мишень насквозь. Шведский историк Ингвар Андерсон заключает главу о Карле XII словами: “Вопрос о том, погиб ли Карл XII от шальной пули из окопов или от пули тайного убийцы, не решен и сейчас”.
Карл XII, эта неисправимая “железная башка”, прожил всего лишь 35 лет, большую часть жизни проведя в походах вдали от родины. Сейчас наши историки пришли к выводу, что подлинный Карл XII “весьма далек от вольтеровско-пушкинского Карла. Величие петровской победы (при Полтаве) становится от этого еще ощутимее”. Е. В. Тарле прав: тяжкое историческое возмездие постигло Швецию за ее попытку поработить русский народ.
После Карла XII правители Стокгольма трижды в истории жаждали реванша, но все их попытки кончались крахом, и лишь в 1809 году, когда русская кавалерия загарцевала в предместьях Стокгольма, шведы твердо решили: “Пусть эта война с Россией будет для нас войною последней!”
…На поле Полтавской битвы поставлен памятник “Шведам от россиян”, и на нем можно прочесть благородные слова: “Вечная память храбрым шведским воинам…”
Книга о скудости и богатстве
Наконец историки обнаружили и такую запись:
“1726 году февраля в 1 день содержащейся в Тайной розыскных дел канцелярии под караулом колодник… Иван Тихонов сын Посошков против помянутого числа пополудни в девятом часу умре. И мертвое ево тело погребсти у церкви Самсона Странноприимца”.
Умершему было 73 года – вельми ветх годами…
Саманиевская церковь в Ленинграде уцелела и поныне; строенная в честь виктории под Полтавой, она оберегается государством как памятник старины; могилу Посошкова давно затоптало время, а внутри собора – доска с надписью: “На кладбище этой церкви погребено тело поборника русского просвещения…”
Мимо исчезнувших могил проносится сейчас новая жизнь. Совсем новая. И настолько не похожая на прежнюю, что их даже никак нельзя сравнивать. И мало кто догадывается, что здесь, в этой церкви, покоится прах первого политэкономиста России!
Согласен, что политэкономия – наука не из веселых.
- Теория, мой друг, суха,
- Но зеленеет древо жизни…
“Древо жизни” Посошкова зазеленело в 1652 году. Там, где сейчас гудят станции московского метро “Бауманская” и “Электрозаводская”, там вытекала из дремучего леса звонкоструйная Яуза, которую издревле облюбовали деловитые бобры (а бобров облюбовали себе на шапки московские бояре). Москва неторопливо изгадила чистую Яузу, окраинными фабриками раздавила село Покровское, жители которого подчинялись Оружейной палате.
Посошков вышел из семьи работящих крестьян-ювелиров, а соседями его были “бобровники”, ловившие бобров на шапки боярам. Покровское утопало в садах, и пахло там яблоками, малиной да берсенем – чистым, как виноград. Гудели мохнатые пчелы, запутываясь в волосах крестьянок, а зимой выходили на околицы села волки и, поджав под себя тощие промерзлые хвосты, тоскливо обвывали окошки изб…
Иван Тихонович смолоду изведал Русь в поездках дальних, кистенями дрался с разбойниками в лесах муромских; был он грамотей и знаток механики; жарился возле горнов заводских, где ядра пушечные отливали; друзей имел разночинных – купцов и мытарей, монахов и подьячих, дворян и нищих, сыщиков и жуликов, стрельцов и банщиков. У кого что болит – тот о том и вопит! А вопили на Руси всяко, и никому ладно не было. Начиналась эпоха Петра I, которого оценило потомство, но современники его мало жаловали.
“Зверь лютый! Саморучно огнем пожигает, – говорили тогда. – Время проводит средь склянниц винных, а друзей набрал себе из Немецкой слободы – вот и куролесят, на беду нашу…”
Нелегко давались народу русскому новшества да войны, что прошлись по мужицким сусекам, словно помелом, повыбили скотинку, отняли лошадок ради дел ратных. Русь быстро, как никогда, скудела. Деревни стояли впусте, заброшены, жители разбегались от тягостей податных, налогов грабительских. А в городах вырастал зверь тихий, но ядовитый – бюрократиус! Чиновников расплодилось, будто клопов в паршивой перине, и всюду, куда ни придешь, везде они пишут, а за все писаное взятки хватают… Игумен Авраамий приятельски сказал Посошкову за трапезой нескоромной:
– Аз грешный тоже пишу! Пишу осударю, что тако Русью править нельзя. Где ране един боярин сиживал, ныне царь усадил велик огород из семя крапивного. А молоденьки подьячи, коим стульев не хватило, даже стоя пишут – сам видел! И каждый прыщ мзды алчет. Не наберись царь порядков чужих, мы бы такого прискорбия не ведали… Ой-ой, беда – писаря власть над народом взяли! Авраамия за слова такие огнем пытали и впредь велели чернил с бумагою не иметь. Посошков тоже едва не угодил под плети. Но изобрел он некий “бой огненный на колесах” (первобытный прообраз будущего танка), и Петр I за этот “бой” Посошкова миловал. Иван Тихонович и сам понимал, что мало где правды сыщется, но мыслил обо всем шире Авраамия — не кляузно, а экономически:
– Опять же что деется? Была ране деньга мерою в половину копейки. Богатому неудобна, ибо три рубли в мешок сложишь – ажно нести тяжко. А бедному деньга-то как раз! Теперь же озабочены чеканкою мер новых: копеек, гривен, полтин да рублевиков… Где ж теперь бедняку на базаре с такими мерами оборачиваться?
Софья Родионовна, жена его, бывало, рукою машет:
– Да восхвали ты Бога, что сам не скуден. Всех нищих на Руси не умаслишь, а всех бояр не обскачешь. Что за язык у тя такой: где бы радоваться, что не стоишь на паперти с рукою протянутой, так – нет: все, знай себе, о бедных поминаешь, Иванушко!
– Не о бедных, – отвечал Посошков жене. – О богатых сужу, коль страна богата. А вот откуда в ней рвань умножается – того взять в толк не могу. Хочу думать…
Финансисты XVIII века приметили, что самые крупные расходы казны происходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на создание флота или постройку города – и останешься богат, а разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного государства сравнивали с кошельком франтихи: на шпильки, булавки, мушки, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо больше, нежели на самое нарядное платье. Посошков был такого же мнения. Состоя при Дворе монетном, он в каждой денежке видел силу великую, силу народную, кою следует тратить с разумностью. Расходовать деньги – это дело, а кидать их попусту – мотовство… Пришел как-то в Оружейную палату иноземный мастер, принес ложе ружейное – без выдумки выструганное: нет резьбы, нет инкрустаций. Волынился с ним четыре месяца, а получил он, супостат, за свое барахло шестьдесят рублей. Посошков показал это ложе мастерам русским:
– Сколь долго трудиться надобно ради ложа такого?
– Ну, день. Больше – стыдно.
– А сколь платят вам за изделие таково?
– Эге! На кружку кваса хватит…
– Вот то-то! – сказал Посошков. – И тужусь я: на што осударь бездельников на Русь тащит, казну на них просыпая даром?..
В канун Северной войны Петр I для чеканки медных денег назвал в Москву мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, а дела от них не было. Посошков обозлился и сам изобрел чеканные станы, наладил их. Заухали с высоты цехов “бабы” плющильные, посыпалась деньга, еще раскаленная, в ящики – только считать поспевай! “И я им, иноземцам, – писал Иван Тихонович, – в том ащче и учинил пакость, обаче мне шкоды ни какой не было, а ныне нельзя их не опасатца, понеже их множество, и за поносное на них слово не учинил бы мне какой пакости!” Страшное признание: русский мастер в своей же стране боялся мести иноземцев только потому, что выполнил работу, какой они исполнить не могли.
– Слишком нижайше стали мы Европам кланяться, – говорил он. – Люди русские до сего жили и дурнями себя не считали. А теперь дожили, ажио срамно стало… Дабы жизнь на Руси улучшить, дабы неправды всякие уничтожить, надобно не иноземцев созывать отовсюду, а своих человеков разбудить!
К мысли о необходимости реформ Посошков пришел раньше Петра I и теперь даже с некоторой завистью наблюдал, как царь свершает “великое устройство великого неустройства”. Сомнений в правомочности власти монаршей у него еще не возникало: он жил надеждой, что придет царь-гений, царь-труженик, царь-правовед, мудрый и справедливый, и он устранит все неправды. Когда под Нарвою шведы разбили наши полки, Иван Тихонович всей душою хотел царю помочь. Послал он ему “Доношение о ратном поведении”, где толково и разумно вскрыл все изъяны русской армии, а подписался так: “Писавый Ивашко Посошков главу свою под ноги твоя подносит”.
Вряд ли нашли бы мы счастливых людей в том времени… Тогдашняя служба в армии была особенно тяжела – даже офицеру. Послужные списки читаешь, как “страсти Господни”. На первобытных телегах, а где и пешком русские воители покрывали гигантские просторы. Если прочертить на карте все пути-дороги наших воинов, то получится сложная сетка современных авиалиний, какие мы видим в кассах аэропортов. Из гарнизона Азова – под Нарву, из Нарвы – в Дорогобуж, из Москвы – в Ямбург, опять в Нарву, оттуда в Ригу, потом на Дон, с Дона – в пекло Полтавы, затем в Архангельск, и вот он – капитан! Капитана вызвали в Петербург на смотр, там посмотрели на него и сказали, что пусть будет капитан… прапорщиком! Начинай все сначала, а прапорщику уже пятьдесят четыре годочка. Тут бы не начинать, а кончать уже надо. Плачь не плачь – никто не пожалеет. Отношение к людям было хуже, чем к скотине, – самое безжалостное, и правды нигде не было.
Во главе всех правд и неправд стоял император!
Это он вкоренил в сознание россиян понятие безоговорочного самодержавия, которое, подобно молоту, расплющит любого, несогласного с ним: “Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен!” Именно так и было им заявлено… Живописцы, изображавшие Петра I в рыцарских латах, украшенных хвостиками горностаев, придавали ему позы благородного величия. Алексей Толстой несколько снизил этот стародавний пафос: он писал о круглом лице кота с непотребными усишками, глаза навыкате, а рот царя собран в куриную гузку. Герцен ненавидел Петра I как палача народного. Пушкин сначала пропел ему панегирик, а после смерти поэта в его архивах обнаружили ворох записей, обличавших Петра I в неслыханном деспотизме… Из художников лучше всех понял царя великий Валентин Серов, создавший целую серию картин из Петpoвской эпохи. Академик Игорь Грабарь записал для нас слова Серова:
“Он был страшный: длинный, на слабых тоненьких ножках и с такой малюсенькой головкой, что больше должен бы походить на какое-то чучело. В лице у него – постоянный тик, и он вечно “кроил рожи”: мигал, дергал ртом, водил носом. При этом шагал огромными шагами. Воображаю, каким чудовищем казался этот человек… Идет такое страшилище с беспрестанно дергающейся головой. Увидит его рабочий – хлоп в ноги! Петр тут же его дубиной по голове ошарашит: “Будешь знать, как кланяться, вместо того чтобы работать!” У того и дух вон. Идет дальше. А другой рабочий, не будь дурак, смекнул, что и виду не надо подавать, будто царя видишь, и не отрывается от дела. Петр дубиной укладывает и этого на месте: “Будешь знать, как царя не признавать”. Страшный человек…”
Руками этого страшного человека воссоздавалась новая Россия, ставшая империей, и нам, оценившим заслуги Петра I как преобразователя, никогда не следует забывать о том, что он был сатрапом своего народа, беспощадным угнетателем, ничего и никогда не щадившим ради исполнения своих грандиозных замыслов. Только совместив воедино образ преобразователя и образ деспота, мы получим истинного Петра I, каким он был. За многое ему благодарны в истории нашего прошлого, любить его мы никак не можем!
Посошков вошел в царствование Петра I человеком зрелым, уже многое осознавшим. Россия двигалась вперед, сотрясаясь деревнями и городами, кораблями и заводами; активное время требовало активности от людей. Иван Тихонович не сидел сложа руки: искал нефть под Казанью, варил краски, завел серные прииски, хотел основать фабрику игральных карт. Когда что требовалось, завозили из-за границы, а у себя не искали. “Мне сие вельми дивно, – писал он, – земля наша российская, чаю, что будет пространством не меньше немецких, и места всякие в ней есть… годом всего не изъехать, а никакие вещи у нас потребные не сыскано”. Смешно сказать – гоняли корабли из Архангельска в Европу даже за пуговицами, даже за посудой стеклянной, даже за чулками. Посошков считал, что все это барахло можно и дома производить.
– Ладно, – отвечали ему. – А вот шелку где взять?
– Про лен забыли… разве шелка хужее? – спрашивал он.
Полтава укрепила Россию на берегах Невы, центр русской жизни передвинулся к северу – и Посошков тоже променял Москву на Новгород (куда, кажется, бежал… от долгов)! Здесь он обзавелся домом и садом, малость разбогател, содержа остерию с пивным залом. Здесь же его, старого человека, тиранили воеводы, а полковник Порецкий “бранил меня всякою скверною бранью и… похвалялся посадить меня на шпагу”! Правды в суде мастер не сыскал и пошел домой, к деткам своим, огорченный:
– А ще не последний человек, а как же правды сыскать тому жителю, который меня мизернее будет?..
Из Новгорода до Петербурга – рукой подать, и не хочешь, да побываешь, паче того, любопытно знать: что натворил там великий осударь? В Петровом “парадизе” (по-русски это “рай” означает) Посошков узрел нищету народную, спесь временщиков, рвань и грязь работников, созидавших столицу; полно было могил, скрипели по ночам виселицы. На Мытной площади, где базар шевелился, Иван Тихонович солдата встретил, ветерана полтавского, с лицом, синим от пороха. Сей солдат разулся, из сапога денежку вынул и на денежку сторговал для себя кусочек говяжьей дохлятины – кошка и та сыта не будет! Завернул мясо в тряпицу и заплакал:
– Хоша бы для заговенья мяском оскоромиться! Почитай, с месяц пошел, как, кроме хлебца, не ел ничего… Сольцы бы еще!
“А егда голоден и холоден и ходит скорчася, то он какой воин, что служба воет!” – записал Посошков, тужа о несчастиях народных. Близился кризис жизни: не стало веры в царя-гения, в царя-правдолюбца, а в душе уже согревалась книга, которую он напишет, – “Книга о скудости и богатстве”. Весь опыт жизни, красочной и трудной, хотел Иван Тихонович закрепить на бумаге. С фасов крепости стреляла полуденная пушка, от храма Самсония звонили колокола, работный люд пошабашил к часу обеденному, гулящие да чиновные, промеж офицерами флотскими, шагали в остерии да фартины; за зданием Двенадцати коллегий крутились крылья ветряных мельниц, на лужайках блеяли тощие козы; босые драгуны вели к Неве своих коней – на водопой…
Посошков придвинул к себе чернила, выбрал перо.
– Стану и правды всенародной желателем. Жизнь пройдена, дети выросли… Жалеть ли мне себя, ежели за правду умучают?
На склоне лет он пришел к мысли, что царская власть не способна сделать народ счастливым, а страну сильной и зажиточной. Наверное, старику нелегко дался вывод: “весь народ” должен стоять у кормила власти, “народосоветие” “самым вольным голосом” должно решать нужды своего государства. Основная мысль экономиста проста: богатство неизбежно связано с понятием правды в устройстве государства; народ будет иметь достаток только в том случае, если общественный строй станет на службу народа; богатство оценить можно не по числу “царских сокровищ”, а лишь по благополучию самого народа, которому безразличны бриллианты в короне и скипетре, ибо народу важно, что сегодня на обед, что носить в будни и что надеть в праздник…
Два человека, два современника, прошли по земле русской – император и крестьянин. Оба они стремились к величию России, но путями разными. Петр I думал о стране, в которой он, самодержец, главный, а народ пусть трепещет пред ним. Посошков думал о народе, почитая народ главною силой в стране, и пусть сама власть трепещет перед народом. Там, где Петр I действовал дубиной, Посошков хотел видеть закон, обязательный для всех, будь то сенатор или землепашец. Каждый из них по-своему прав: Посошков – по-народному, а царь – по-царски!
24 февраля 1724 года Посошков закончил “Книгу о скудости и богатстве”, желая подбросить ее на стол императора, а там – будь что будет. 28 января 1725 года Петр I скончался в ужасных мучениях, крича на весь дворец от нестерпимых болей:
– Зрите и ведайте, сколь слаб человек…
Историки так и не выяснили, успел ли царь прочесть сочинение Посошкова; кажется, нет! На престоле воссела Екатерина I.
А на базаре люди не молчали – они разговаривали:
– Нам от бабы и выеденного яйца не видать.
– Откуда взялась эта царица – бес ее знает…
Когда она склонилась над гробом царя, целуя его, архимандрит Феодосии Яновский, писатель и вития, покрыл императрицу нещадной бранью. Феофан Прокопович (тоже писатель и тоже вития) уцепился за эту брань как за повод для погубления соперника в делах синодальных и послал на Яновского донос… 26 августа 1725 года к Посошкову пришли солдаты и отвезли его в крепость!
Историки еще многого не знают, но о многом догадываются.
В библиотеке Феодосия Яновского нашли экземпляр “Книги о скудости и богатстве”, пытками у людей вырывали признания – читали ли они эту книгу? Один из читателей Посошкова был отведен на эшафот, где ему отрубили голову… Советский ученый Б. Б. Кафенгауз, много лет положивший на изучение Посошкова, отыскал в делах царского кабинета бумагу, а в ней сказано: “Купецкой человек Иван Посошков содержится по важному секретному государственному делу”. Да он и сам предвидел конец свой: “Не попустят мне на свете ни малого времени жить, но прекратят живот мой!”
Его запытали…
А конец миниатюры мог бы стать и ее началом. Санкт-Петербург, 1840 год – николаевская эпоха… Аукцион в разгаре – шла бойкая распродажа собрания библиофила Лаптева. На столе появилась рукопись в переплете из свиной кожи, и аукционер с трудом прочитал ее название – тяжкое и громоздкое, будто автор свалял его из громадных замшелых валунов:
– “Книга о скудости и богатстве, си есть изъявление от чего приключается напрасная скудость и от чего гобзовитое богатство умножается”… Продается! Кто желает приобрести?
Не успели выкликнуть цену, как некто Большаков, матерый спекулянт-перекупщик, уже протиснулся вперед и алчно тронул переплет из свиной кожи – кусачей, как наждак.
– Беру… Сколь надо – столь и дадим!
Сам-то он в этой книге ни бельмеса не смыслил, но зато ценил ее как старинную реликвию. Привез он книгу в Москву, где с лихвой перепродал профессору истории Погодину, а тот сразу понял, какая уникальная находка попала ему в руки. Ученый провел над “Книгою о скудости и богатстве” всю ночь и над нею же встретил он розовый рассвет. Автор – из тьмы веков – настаивал перед царями на раскрепощении крестьян, и напротив этого места Погодин (сам бывший крепостной) с чувством отметил: “Целую руку твою!” Вот и последняя страница книги, подпись: “Правды всеусердный желатель ИВАН ПОСОШКОВ”. Погодин записал в дневнике: “Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого человека в святилище русской истории”. Но оказалось, что ввести Посошкова в пантеон российской историографии не так-то легко… Министр просвещения граф Уваров заявил Погодину:
– Михаила Петрович, хотя его императорскому величеству и благоугодно было на вашем прошении об издании труда Посошкова начертать слово “согласен”, я, со своей стороны, советую вам, голубчик, воздержаться от публикования сей книги…
Погодин чуть не зарыдал – в отчаянии:
– Не губите меня, ваше сиятельство! Я ведь сплю и вижу сочинение Ивана Тихоныча на прилавках книготорговцев россий–ских.
– В любом случае, – продолжал граф Уваров, – вам при издании не следует утверждать, что автор происходил из подлого состояния. Трудно поверить, чтобы мужик, подобно Адаму Смиту, мог бы разбираться в тонкостях экономики. Скорее всего, книгу сочинил кто-либо из вельмож Петра, но, боясь расплаты за дерзкие мысли, он тишайше спрятался за крестьянским псевдонимом.
– Значит, нельзя печатать? – понурился Погодин.
– Советую воздержаться…
Но историческая наука “воздержания” не терпит, и Посошков буквально протаранил стены царской цензуры. Россия в 1842 году узнала, что в дебрях ее былой жизни существовал писатель Иван Тихонович Посошков – страдающий, ликующий, негодующий, правды ищущий, неправду отрицающий…
После окончания романа “Война и мир” Лев Толстой вознамерился писать о Петровской эпохе, желая сделать Посошкова главным своим героем. Лев Толстой был, кажется, немало удивлен, когда узнал, что его главного героя замучил начальник Тайной канцелярии граф П. А. Толстой, который приходился великому романисту родным прапрадедом…
Ястреб гнезда Петрова
Петр Андреевич Толстой… Его праправнук Лев Толстой сказал о нем: “Широкий, умный, как Тютчев блестящ. По-итальян–ски отлично”. А современник писал, что сей человек “зело острый и великого пронырства и мрачного зла втайне исполненный”.
Но история ценит не столько мнения, сколько факты!
Москва, 15 мая 1682 года. На лошадях, по брюхо заляпанных грязью, неслись вдоль стрелецких полков два горячих всадника – Толстой да Милославский.
– Нарышкины извели царя Федора! – кричал Толстой.
– Травят и царя Иоанна! – вторил ему Милославский.
Был день первого стрелецкого бунта. Стрельцы сбросили кафтаны – облачились в кумачовые рубахи. Рукава засучили. Кремль они замкнули в осаде. Первым метнули с крыльца Долгорукого, и старик с криком упал на частокол пик, воздетых под ним. В лохмотья растерзали и боярина Матвеева. “Хотим еще!” – кричали, а Толстой с Милославским подбадривали: “Любо нам… любо!” Три дня подряд шла резня. В таких случаях не спрашивают: кто виноват? Важно знать: кому выгодно? А выгодно было царевне Софье, она забрала власть над страной, в Голландии заказали тогда курьезный двойной трон для царей-мальчиков – Петра и Иоанна… Толстой был вассалом Софьи, но, когда подросший Петр обрел силу, он безжалостно покинул царевну, переметнувшись в лагерь Петра; царь его принял, однако услал от себя подальше – воеводствовать на Устюге.
Вот и новые времена! Учреждались “кумпанства”, над Воронежем ветер развевал флаги, а названия у кораблей такие, что вовек не забудешь: “Скорпион”, “Растворенные ворота”, “Стул”, “На столе три рюмки”, “Перинная тягота”, “Заячий бег”, “После слез приходит радость” и прочие. Был канун второго стрелецкого бунта! Шестьдесят стольников собирались в “Европския христианския государства для науки” – приучаться к флотской жизни. Ехать не хотели – им и дома жилось неплохо! Тут и отличился Петр Толстой: по своему хотению сам просился в службу на галеры венецианские. А ведь было ему 52 года.
– У меня уже детки с бородами, – говорил он…
Поехали! Сразу же за Смоленском – рубеж России, от речки Ивати начинались вотчины панства. Покружив по землям шляхетским, переплыли Днепр на пароме, ночевали в Могилеве, дивясь, что улицы выстланы камнем; от Минска ехали Литвою, в землях пана Браницкого повстречался Толстому обтрепанный Дон-Кихот на тощем Росинанте; на шею себе, словно бусы, надел он немало колец краковской колбасы, которой и кормился в дороге. Толстой спрашивал путника, кто таков и куда путь держит.
– Я благородный рыцарь из земель Ангальтских, пробираюсь на Русь искать счастья и славы. Говорят, ныне молодой царь принимает всех из Европы, кто желает служить его короне.
– Ну-ну! Езжай, – ухмыльнулся Петр Андреевич…
На перевозах через Вислу рубились на саблях пьяные ляхи с потными чубами. Будучи в “мыльне” с фонтанами, убранной морскими раковинами и зеркалами, русские стольники с опаскою пили кофе (невкусно!). Толстой похвалил удобства варшавской жизни, а в дневнике разругал полячек за то, что при виде мужчин за углы не прячутся, глядят на всех без страха и “в зазор себе того не ставят”. Польша кончилась – кони ступили в болото, за коим начиналась “Шленская Земля” (Силезия), владения австрийского императора – кесаря! Замелькали острокрышие города, пестрые одежды народов, харчевни и постоялые дворы – стольники въехали в Вену, где их поразили шестиэтажные дома и обилие фонарей (“от тех фонарей в Вене по вся ночи бывает по улицам великая светлость”). Далее путь лежал через Альпы, лошади боялись пропастей – в повозки впрягли флегматичных быков. Толстой кратко записывал: “Шел пеш, имея страх смертный пред очима”. С гор спустились в цветущие долины Италии: “отсюда пошли многая винограды, лимоны, померанцы и иные”. Молодежь дурачилась, пила вино в дорожных тратториях, а Толстой (самый старый!) все примечал зорко и ненасытно – как народ живет, что сеют, что едят, каковы цены… Республика Венеция радушно отворила ворота перед русскими школярами. Здесь малость онемели от диковинки: вместо улиц текли каналы, всяк плавает куда хочет; печей нет – камины. Образованный дож Валжер и красавица догаресса Квирини любезно приняли русских стольников во дворце.
Начиналась учеба флотская! А чужая жизнь увлекала безмерно. Толстой отметил, что республиканцы живут трезво, пьют больше “лимонатисы, симады, чекулаты (то есть какао), с которых пьяну никак быть не мочно; очень любят сидеть в лавках (то есть в кафе), где забавляются питьем и конфектами”. Бывали русские в опере учились играть в мяч, воздухом надутый, бросая его через сетку, над площадью растянутую. Но средь приятных забав виделось Толстому и другое: “Всегда в Венеции увеселяются и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страху никто не имеет, всяк делает по своей воле, кто что хочет… и живут Венецияне в покое, без страху и без обиды, без тягостных податей”. Не писал ли он эти слова с оглядкою на отчизну, где мало веселья, но зато множество податей, где никто не спешил в оперу, зато многих тащили на плаху. Был как раз год, когда в Москве на Красной площади Петр I рубил головы стрельцам…
Страшные бури носили галеры от берегов Далмации до Бари, гремели пушки у берегов Сицилии; побывал Толстой и на Мальте, где его чествовали угрюмые мальтийские рыцари в белых плащах с крестами. Он освоил итальянский язык, познал и славянские наречия. Капитан галеры Иван Лазаревич выдал Толстому диплом, в коем восхвалил его знания навигации, скромность и мужество. Это правда: Толстой учился прилежно, и хотя ему, старику, было особенно тяжело, но трудов флотских он не чуждался.
1700 год он встретил уже дома – в кругу семьи. Петр I сразу оценил в Толстом трезвость, красноречие, бритое лицо, пышный парик и поразительную трудоспособность. Царь в это время неустанно нахваливал чистенькую Голландию, а Толстой – Италию, за что и был однажды свирепо наказан царем, повелевшим:
– Эй, влейте в мощи ему три бокала флинту!
Флинт подавался горячим. Это была смесь пива с коньяком, в которую выжимали лимон. После русских медов и квасов флинт воспринимался с трудом. Петра Андреевича замертво вынесли из покоев царских… Ну что ж! Пора начинать карьеру.
XVIII век открывался великой Северной войной: Россия выходила на большую дорогу истории, но эта дорога длиною в 21 год обошлась россиянам в одну пятую часть населения – убитых, казненных, сожженных, утопленных и просто разбежавшихся по белу свету. Россия не имела своей воды… Правда, на севере был Архангельск, а на юге отвоеван Азов, но в Черное море турки русские корабли не пропустили; они говорили так:
– Черное море – дом наш внутренний, куда никого, как в гарем, не допустим. Станете плавать – войну начнем. Или пролив у Керчи весь камнями закидаем: даже щепка не проплывет!
Итальянский язык в ту пору был официальным языком турецкой дипломатии, и это решило судьбу Толстого: он стал первым постоянным послом России у порога Блистательной Порты… Годы шли вдали от родины, от семьи. Петр I денег не давал, а платил соболями, которые в Турции не раскупались. Громы пушек на севере Европы отдавались борьбою в передних султана; визирь Али-паша сказал однажды Толстому с кривою усмешкою:
– Когда враг по пояс в воде, можно подать ему руку; если он залез в воду по грудь, лучше не замечать его; а когда враг стоит по горло – лучше топить его без жалости!
– К чему сии грозные слова, великий визирь?
– Скоро поймете сами, – отвечал хитрый Али-паша…
В 1709 году грянула Полтава. Карл XII бежал во владения султана, Петр I требовал его выдачи, но русских курьеров турки перехитрили, – война объявлена! Петра Андреевича янычары повели в Семибашенный замок через пресловутые Красные ворота, которые (ради устрашения) накануне покрасили свежей человеческой кровью. Всю ночь послу России показывали орудия пыток.
– Меня-то этим не устрашишь, – ответил старик…
Али-паша скоро навестил его в темнице.
– Мне вас жаль, – сказал визирь. – Ваш император зачем-то взял с собою ливонскую девку Катерину и пошел с этой девкой воевать против нас. Сейчас мы окружили вашу армию на Пруте.
Визирь развязал платок и показал женские украшения:
– Вот и серьги из ушей Екатерины…
– Что значит нелепость сия? – в ужасе закричал Толстой.
– Это значит, что царь сдал нам не только пушки, не только Азов и Таганрог, но даже серьги из ушей своей куртизанки…
Так и было! Прутский поход закончился катастрофой. Россия потеряла Азов и Таганрог, сожгли Азовскую флотилию. В 1712 году турки пихнули в темницу еще двух дипломатов – Шафирова и Шереметева… Толстой, тряся бородою, спрашивал их:
– Робята, а вас-то какой бес сюда наслал?
– А мы… мир приехали заключать. Вот и попались.
Войны не было. Но мира тоже не стало.
Только в 1714 году Толстой вырвался из этого ада…
Вернулся домой и не узнал России: столица в Петербурге, русская армия гуляла по берегам Балтики, вместо воеводств учреждены губернии, заседал Сенат, при дворе крутилась масса иностранцев, а близ Петра I стояли люди, Толстому неведомые, – Алексашка Меншиков (дука Ижорский) да “ливонская девка” Катерина… Тьфу ты! Опять всю карьеру надо начинать заново.
Сына своего, рожденного от Авдотьи Лопухиной, Петр I насильно привенчал к худосочной Шарлотте Вольффенбюттель–ской, родная сестра которой была супругою австрийского кесаря Карла VI, – царь нуждался в альянсе венского и петербургского дворов: политика определила этот никудышный брак. Царевич сплетничал с монахами, врагами отца, и не столько сам пил, сколько его дальновидно спаивали. Слабый здоровьем, измученный церковными постами и непосильным пьянством, Алексей со слезами умолял денщиков царя-батюшки:
– Умру ведь я. Господи! Сжальтесь надо мною.
– Пей давай… чего уж там! – отвечал Меншиков и, разжав зубы царевичу, вливал в него громадную чару с перцовкой, которая была такой крепости, что свечу поднеси – вспыхивала!
Сбитый с толку монахами, задерганный отцом, страдающий за свою мать, живущую в тюрьме, царевич еще в молодости перенес то, что сейчас принято называть инсультом. Шарлотта родила ему сына (будущего императора Петра II), но Алексей, по примеру отца, завел себе “чухонскую девку” Евфросинью, а жена вскорости умерла. Но тут родила и “ливонская девка” Екатерина – тоже сына и тоже Петра по имени. Царь встал перед роковым выбором: кому оставлять престол? Или бездельнику Алексею – нелюбимому сыну от нелюбимой жены, или Петру – любимому сыночку от любимой женщины. Возник сложный династический вопрос…
Был поздний осенний вечер, по крышам венского дворца стучал сильный дождь, вице-канцлер Шенборн собирался ложиться спать, когда в двери стали ломиться, требуя с ним свидания. Это был царевич Алексей, бежавший из России!
– Мне нужен император – мой свояк, – потребовал он.
Шенборн кликнул секретаря с перьями, и потому бессвязная речь Алексея в венском дворце дошла до нас. Крича, царевич бегал по комнате, задевая стулья, наконец захотел пива.
– Я должен похмелиться. Дайте пива!
– Пива нет. Но я могу налить вам мозельвейну…
Алексей выпил мозельского и зарыдал.
– Я слабый человек, – записывал его слова секретарь, – меня споили нарочно, чтобы расстроить мое здоровье. Я не хотел искать спасения ни во Франции, ни в Швеции, ибо там враги отца моего. Я передаю себя в защиту кесаря, умоляю не выдавать меня отцу. Он ни во что не ценит человеческую кровь, всегда и гневен, и мстителен, ничего не щадит – ни денег, ни крови, потому что он тиран и враг народа русского. Я изнемог…
До кесаря его не допустили. Беглеца с Евфросиньей отправили по Дунаю в Тироль, где заключили в замок Эренберг, стоящий на вершине неприступной скалы. А по Европе уже скакали русские сыщики: бегство царевича грозило России смутами. Венский посол Плейер сообщал кесарю из Петербурга: “Слухи о бегстве царевича возбудили в народе всеобщую радость. Здесь все готово к бунту…” Местопребывание Алексея открыл Румянцев, после чего “Толстой навестил царя, склонившись перед ним столь низко, что букли парика коснулись паркетов:
– Ваше величество, доверьте дело мне, рабу своему.
– Что тебе надо для этого, Андреевич? – спросил царь.
– Червонцев… как можно больше червонцев!
По решению кесаря, Алексея с Евфросиньей отвезли в Неаполь, а там их укрыли в замке Сент-Альмо, возвышавшемся над городом. А за коляскою с беглецами скакал неутомимый Румянцев… Толстой, прибыв в Вену, просил Карла VI выдать царевича. Кесарь отвечал, что пусть он сам разбирается с царевичем и его пажом (Евфросинья носила мужскую одежду). 24 сентября 1717 года Петр Андреевич встретился с Румянцевым в Неаполе.
– Ах, Синька, Синька! – вздохнул старик. – Молод ты, быстро по Европам скачешь. Ну-к, ладно. Идем до царевича!
Он вручил Алексею письмо царя, который упрекал сына за бегство, просил во всем слушаться Толстого и заключал: “Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе…”
– Не верю! – разрыдался Алексей. – Я стану писать кесарю, чтобы не отдавал меня отцу… Боюсь лютости его!
Толстой выждал паузу. Веско заговорил:
– Кесарь – протектор плохой. Ежели отец двинет армию к рубежам его, кесарь выдаст тебя с головой. Но тогда будешь судим яко изменник отечеству. Нет, кесарь ссориться с Россией не пожелает! А мне велено не удаляться отселе, прежде чем не возьму тебя. Помни: куда б тебя ни везли, где бы ни спрятали – я буду, аки сатана или ангел, всегда рядом с тобою…
Толстой повидал и Евфросинью; он понял сразу, что эта девка в штанах сговорчива. Речи повел он ласковые:
– Евфросиньюшка, ах краса-то какова… будто писана! Послушь-ка, золотко, что я тебе на ушко поведаю…
И поклялся (!) “девке чухонской”, что пусть уговорит царевича вернуться домой, а тогда он выдаст ее замуж за своего сына, да в придачу даст им тысячу крестьянских дворов.
– Заживешь как барыня! Именья-то мои каковы: там и лес, и телята, и малина, и сметаны полно…
От Евфросиньи он вернулся к царевичу – с угрозой:
– Если не вернешься, разлучим тебя с Евфросиньей…
Алексей сдался! Но поставил условие:
– Жить мне частным лицом в Москве на Воздвиженке и чтоб не дергали меня боле, а с Евфросиньюшкой не разлучали…
Царевича везли на Русь через Вену; Евфросинья (беременная) ехала на Русь через Берлин; в Москве сына поджидал царь:
– Сразу откажись от всяких прав на престолонаследие и назови всех, кто шептался с тобой…
Третьего февраля 1718 года Алексея доставили в Успенский собор; положив руку на Евангелие, он всенародно поклялся, что никогда не станет искать престола российского, а будет признавать наследником престола сводного брата Петра Петровича (“Шишечку”). В тот же день царь манифестом оповестил страну, что царевич от службы отлынивал, жену Шарлотту замучил, а время проводил праздно с Евфросиньей (которая поминалась в манифесте как “бездельная и работная девка”). Алексей выдал единомышленников. Началась полоса пыток и казней. Дело царевича Алексея – вроде бы семейное! – стало делом общегосударственным.
Весною двор перебрался в Петербург. Евфросинью заперли в Петропавловской крепости: там она родила ребенка, судьба которого неизвестна. На картине художника Николая Ге “Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе” запечатлен как раз тот важный момент, когда царь – именно со слов Евфросиньи! – предъявил сыну жестокие обвинения… Палец царя на листе допроса:
– Ехиднин сын! Гляди сам, что писано… Когда говорили тебе, что в столице тихо, отвечал ты словами вражьими: “Тишина недаром: либо отец умрет, либо в народе бунт объявится…”
В эти дни на мызе близ Петербурга отрубили головы крестьянам – Рубцову, Поропилову, Леонтьеву. Вина их была только в том, что они видели, как царевича затащили в сарай, откуда скоро раздались истошные вопли. И хотя Алексей ежедневно обедал за одним столом с отцом, его уже подвергали пыткам. Суд в составе 127 персон вынес ему смертный приговор. Не подписался под ним только один человек – не потому, что был слишком смелый, а потому, что был слишком безграмотный.
В манифесте о смерти царевича Петр I объявил народу, что Алексей скончался от апоплексии. В честь этого была отчеканена медаль, на которой – корона царская в лучах солнца и надпись: ГОРИЗОНТ ПРОЯСНЕНИЯ. На самом же деле царевич принял смерть жестокую. Румянцев, Бутурлин, Ушаков и Толстой (наш герой) вошли в камеру, где сидел Алексей, и сообща задавили его подушками! Эта сцена убийства не испортила Петру I хорошего настроения, тем более что был праздник – годовщина Полтавской баталии. Царь со вкусом обедал в Летнем саду подле Екатерины, вечером был пышный фейерверк над Невою, веселый пир длился до глубокой ночи. Толстой, как главный виновник торжества, сиживал возле царя. Токарь Андрей Нартов записал как очевидец, что в разгар пира царь, “снявши с Толстого парик и колотя его по плешине, говаривал: “Эх, голова ты, голова! Кабы не была так умна, так давно бы отрубил ее…” Память подсказала царю горячий день стрелецкого возмущения, когда Толстой был “маткою бунта”. Нет, царь все помнил и ничего не прощал! А погубив царевича Алексея, Толстой, естественно, сделался сторонником Екатерины…
Это было ему нужно, ибо Петр I уже был не жилец на свете. Петр Андреевич заранее (вкупе с Меншиковым) сколачивал будущее царствование, как корабль, чтобы плыть на нем далее. В мае 1724 года он получил титул графа. В конце Петрова царствования Толстой был главным инквизитором в Тайной канцелярии, созданной в помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали рубить людям головы. Толстой лично руководил пытками и казнями, но свидетельств о его жестокости не сохранилось: очевидно, граф не был столь кровожаден, как другие инквизиторы той мрачной эпохи… Петр I перед смертью предупреждал близких, что Толстой “человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, нужно держать камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, если он захочет кусаться!”
После смерти Петра I ближайшие его соратники оказались и главными критиками былого царствования; император еще лежал в гробу, когда они стали разворачивать Россию назад – к старым порядкам. Мало того, птенцы гнезда Петрова стали ястребами, клевавшими один другого так, что пух и перья кружились над великим наследством великого императора. Судьи царевича Алексея хотели, чтобы императрицей стала Екатерина! Но ведь существовал и законный наследник престола – Петр Алексеевич, сын умерщвленного царевича. Толстой и Меншиков больше всего боялись, что этот мальчик, возмужав, спросит: а кто моего отца сгубил? – и потому они теперь кричали громче других:
– Хотим только матушку Катерину… пресветлую!
И вечно пьяную, кстати сказать. При избрании этой женщины в императрицы несколько человек зарезали возле престола, а несколько человек пришлось выкинуть со второго этажа.
Но ни Толстому, ни Меншикову не довелось умереть на сундуках с награбленным добром. Меншиков возжелал женить на своей дочери Петра, сына казненного царевича, – тогда и волки сыты и овцы целы останутся… Но Толстой пришел в ужас.
– Конешно, – сказал он сыну, – ежели Алексашка Меншиков станет тестем императора Руси, он свою шкуру погладит, а вот наши шкуры, толстовские, все будут в дырках великих…
С воплями кинулся старец к умирающей Екатерине I.
– Что мне теперь счастье и что мне несчастье? – сказал он. – Но вы, ваше величество, должны понять, какой удар ожидает ваших наследников… Вижу топор, занесенный над головой детей наших и над моей головой – тоже!
– Не кричи, Андреич, – отвечала императрица. – Я уже слово дала Алексашке: пущай дочку свою за Петра выдает… Мне все едино помирать вскорости, вы сами и решайте…
За шесть дней до ее кончины Меншиков объявил, что в покои Екатерины I больше никого не впустит, даже если в него будут стрелять. Екатерина I, целиком ему подчинившись, подписала указ об аресте Толстого и его конфидентов. Сколько людей отправил Толстой на тот свет, а теперь и сам попался.
– Для меня, – заявил он судьям, – все в этом мире давно постыло, и считаю свою участь более счастливою, нежели участь тех, кто будет после меня проживать…
Вместе с сыном его отправили на Соловки, где заточили в подземную темницу – без света. Там они куску хлеба радовались. В возрасте 84 лет Толстой умер в день 30 января 1729 года. Но перед смертью ему выпала горькая доля – выкопать могилу для своего сына, который скончался раньше отца.
Так закончилась эта яркая, грубая, сочная и удивительно сложная жизнь. Надгробная плита над прахом сохранила от давних времен лишь два слова: “Граф Петр…” – и все!
Лев Толстой задумал роман о жизни Петра I, в котором главным героем стал бы его пращур. “Если Бог даст, – писал он тетке, – я нынешнее лето хочу съездить в Соловки”. На Соловецкие острова он не поехал, а роман забросил.
Позднее и сам признавался в неудаче:
– Трудно проникнуть в души тогдашних людей – до того они не похожи на нас… Царь Петр был для меня очень далек!
“Императрикс” – слово звериное
Время Анны Иоанновны, будь оно трижды проклято…
Чиновник костромской консистории, Семен Косогоров (волосом сив, на затылке косица, вроде мышиного хвостика, на лбу бородавка – отмета Божия), с утра пораньше строчил перышком. Мутно оплывала свеча в лубяном стакане. За окном светлело. В прихожей, со стороны входной лестницы, копились просители и челобитчики – попы да дьяконы, монахи да псаломщики.
– Эй, – позвал. – Кто нуждит за дверьми? Войди до меня…
Вошел священник уездный. В полушубке, ниже которого ряска по полу волоклась – старенькая. Низко кланялся консисторскому. На стол горшочек с медком ставил. Затем и гуся предъявил. Косогоров липовый медок на палец брал и с пальца задумчиво пробовал – вкусен ли? Гуся презентованного держал за шею рукою властною, огузок ему прощупывая, – жирен ли? И гуся того с горшком под стол себе укладывал, где уже немало даров скопилось.
Спрашивал:
– Кою нужду до власти духовной имеешь? И как зовешься?
На что отвечал ему священник так-то:
– Зовусь я Алексеем, по батюшке Васильевым. Нужды до власти не имею по смиренности характера, от кляуз дабы подалее. Но прошу тебя, господин ласковый, ссуди ты меня бумагой для писания. Совсем плохо в деревне – негде бумажки взять.
– Бумажка, – намекнул Косогоров, – ныне в красных сапожках бегает. А… много ль тебе листиков? И на што бумага?
– По нежности душевной, – признался Алексей Васильевич, – имею обык такой – вирши да песни в народе сбирать. Для того и тужусь по бумажке, чтобы охота моя к тому не ослаблялась. Ибо на память трудно надеяться: с годами всех песен не упомнить…
Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву:
– Друг ты мой! Я и сам до песен разных охоч. Много ль их у тебя собрано? Канты какие новые не ведаешь ли? Священник тут же (по памяти) один кант ему начертал:
- Да здравствует днесь императрикс Анна,
- На престол седша увенчанна.
- Восприимем с радости полные стаканы,
- Восплещем громко и руками,
- Заскачем весело ногами,
- Мы – верные гражданы…
- То-то есть прямая царица!
- То-то бодра императрица!
– Чьи вирши столь усладительны? – возрадовался Косогоров.
– Того не упомню. С десятых рук переписывал…
И священник, добыв бумажки, отъехал на приход свой – в провинцию. А консисторский чин вирши новые решил в тетрадку перебелить, дабы затем по праздникам распевать их – жене в радость, а детишкам в назидание. Поскреб перо об загривок сивый, через дверь крикнул просителям, что никого более сей день принимать не станет. Начал он первый стих пером выводить и сразу споткнулся на слове “ИМПЕРАТРИКС”.
– Нет ли худа тут? – заробел Косогоров. – Слово какое-то звериное… Может, зложелательство в титле этом?
И – заболел. Думал, на печи лежа: “Уж не подослан ли сей Васильев из Тайной канцелярии? Нарочито со словом звериным, чтобы меня, бедного, в сомнение привесть. Может, пока я тут на печке валяюсь, враги-то не дремлют…” На службу не ходил, предчуя гоненья и пытки великие. От страха стал водку кушать. Потом в горячке на улицы выбежал и заорал:
– Ведаю за собою “слово и дело” государево! Берите меня…
По законам тогдашним всех, кто “слово и дело” кричал, отводили под арест. Вспомнил тут Косогоров мудрость народную, коя гласила, что доводчику – первый кнут, но было поздно…
Из-под кнута, весь в крови, он показал палачам:
– К слову “императрикс” непричастен! А ведает о нем священник Алексей Васильев, злодейски на титул царицы умысливший…
Взяли из деревни любителя фольклора, стали его пытать.
– Слово “императрикс”, – отвечал Васильев, – не мною придумано. А списывал кант у дьяка Савельева из Нерехты…
Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от страха дьяка Савельева, и тот показал допытчикам, не затаясь:
– Слово “императрикс” с кантов чужих списывал, а сам кантов не сочинял. Но был на пасху в гостях у кума своего, прапорщика Жуляковского, а там много мы разных кантов распевали…
Взяли и Жуляковского-прапорщика – повесили на дыбу.
– Слова “императрикс” не ведаю, – отвечал прапорщик. – Но был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именинницы Матрены Игнатьевны, отчего-де мне, прапорщику, уже тогда сомнительно казалось – почто-де сперва за бабу вино пьют, а не за ея царское величество…
Взяли купецкого человека Пупкина – туда же подвесили.
– Слова “императрикс” не говаривал никогда, – показал он с огня. – А недавно был в гостях у человека торгового, прозванием Осип Кудашкин. И тот Кудашкин, шибко весел, выражал слова зазорные. Мол, государыня наша столь широка тельцем стала, как бы, гляди, не лопнула: тогда нам-де хорошо будет…
Взяли именинницу Матрену Игнатьевну и поехали брать Кудашкина. Но сей Кудашкин оказался горазд умудрен житейским опытом и потому заранее через огороды задворные бежал в роковую пропащность. Решил воевода, пока Кудашкин не сыщется, тряхнуть на дыбе Матрену Игнатьевну.
– Охти мне! – отвечала баба на розыске. – Пива много пила, ничего не упомню. Может, экое слово “императрикс” и говаривал кто из гостей, но я знать не знаю, ведать не ведаю…
Отложили ее на лавку, вдругорядь принялись за Пупкина.
– А в гостях у Осипа Кудашкина, каюсь, бывал. Когда о ея величестве зашла речь высокая, то, помню, подьячий Семен Панфилов отвечал Кудашкину: мол, там не один герцог Бирон, много-де всякой сволочи понаехало из Европ разных…
Во субботу, день ненастный, вышепомянутого Панфилова взяли прямо из бани, где он парился, как положено православному во дни субботни. Подвесили его, чисто вымытого, под самый потолок на дыбе и стали коптить на огне.
– Слово “императрикс” от вас впервой слышу, – говорил несчастный. – И сколь в жизни бумаг исписал по долгу чиновному, а такого слова еще не встречалось. При оговоре моем прошу судей праведных учесть, что ране в штрафах и провинностях не сыскан. У святого причастия бываю исправно, что и духовный отец, Пантелей Грешилов, завсегда подтвердить может…
– Взять и Пантелея Грешилова! – распорядился воевода.
Означенный Грешилов у самого порога пытошной канцелярии не выдержал страха и помер. Всех арестованных по “звериному” слову заковали в железа, повезли в Москву – прямо на Лубянку, где размещалась Тайная канцелярия под командой губернатора Семена Салтыкова, и оный Салтыков, сатрап бывый, отписывал в Санкт-Петербург – “главному инквизитору империи” Ушакову:
“…явилась песня печатна, сочиненна в Гамбурге, в которой в титле ея императорьскаго величества явилось печатано не по форме. И признавается, что она напечатана в Санкт-Питербурхе при Наук академии, того ради не соизволите ль, ваше превосходительство, приказать ону в печати свидетельствовать…”
Между Костромою и Москвою, между Москвою и Петербургом скакали курьеры. На звериное слово “императрикс” было заведено дело – наисекретнейшее!
“…буттобы”, – написал Тредиаковский.
– Будто бы, – произнес поэт вслух, написание проверяя, и хотел уже далее сочинительство продолжить, но его прервали…
Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на Первой линии Васильевского острова, в котором проживал бедный поэт, и, подбоченясь, вопрошала жильца могучим басом:
– Ты почто сам с собой разговариваешь? Или порчу на мой дом накликать желаешь? Смотри, я законы всякие знаю!
– Сам с собой говорю, ибо стих требует ясности.
– А ночью зачем эдак-то дерзко вскрикиваешь?
– От радости пиитической, княгинюшка.
– Ты эти радости мне оставь. Не то велю дворне своей тебя бить и на двор более не пущать. Потому как ты мужчина опасный: на службу не ходишь, по ночам, будто крыса, бумагой шуршишь…
Василий Кириллович, губу толстую закусив, смотрел в оконце. А там – белым-бело, ярится чухонский морозец, пух да пушок на древесах. Вот завернула на Первую линию карета – никак в Кадетский корпус начальство приехало? Нет, сюда едут. Остановились.
– Матушка-княгинюшка, – сказал Тредиаковский, чтобы от глупой бабы отвязаться, – к вашей милости гости жалуют…
Барон Корф, президент Российской Академии наук, волоча по ступеням лисьи шубы, зубами стянул с пальцев перчатку, пошитую из шкур змеиных. Перед важным вельможей неуклюже присела домовладелица; щеки у ней – яблоками, брови насурьмлены (еще по старинной моде), и вся она будто слеплена из пышных караваев.
– Хотелось бы видеть, – сказал Корф, – знатного од слагателя и почтенного автора переложений идиллических с Поля Тальмана.
– А таких здесь не водится, – отвечала Троекурова. – Может, в соседнем доме кто и завелся почтенный, только не у меня!
– Как же так? А вот поэт Василий Тредиаковский…
– Он! – сказала княгиня. – Такой содержится.
Корф скинул шубы на руки выездного лакея.
– Не занят ли поэт? – спросил. – Каков он? Горяч?
Княгинюшка пред знатным гостем губы развесила:
– Горяч – верно: уже заговариваться стал. А вот знатности в нем не видится. Исподнее для себя сам в портомойне стирывает.
– Мадам, – отвечал барон учтиво, – все великие люди имеют странности.
Президента академии с поклонами провожали до дверей поэтического убежища. Тредиаковского барон застал за обедом. Поэт из горшка капусты кисленькой зацепит пясткой, голову запрокинет, в рот ему сами падают сочные лохмы…
– Простите, что обеспокоил, – начал Корф любезно (и бедности стараясь не замечать, дабы не оскорбить поэта). – Я хотел бы оказать вам свое внимание… Над чем изволите размышлять?
Корф был известен в Европе как страстный библиофил, знаток философии и музыки скрипичной; дерзкий атеист со склонностью к познанию тайн древней алхимии, он, не в пример другим придворным, благосклонно относился к Тредиаковскому.
– Размышляю я, сударь, о чистоте языка российского. О новых законах поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии – элоквенция! – суть души моей непраздной.
– Типография академии в моих руках, – отвечал ему Корф. – Отдам повеление печатать сразу, ибо все это необходимо…
Корф в сенях строго наказал Троекуровой:
– Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него в комнатах собак можно морозить. Да шуршать и разговаривать самому с собой не мешайте. Ныне его шуршание будет оплачиваться в триста шестьдесят рублей ежегодно: по рублю в день, княгиня! Он секретарь академический и меня русскому языку обучать станет…
Корф отъехал и поэта с собою увез; в академии Тредиаков–ский подписал конвенцию о службе. О языка русского очищении. О грамматики написании. О переводах с иноземного. И о прочем! А когда они отбыли, троекуровский дом сразу перевернулся.
– Митька! Васька! Степка! – кричала княгиня. – Быстро комнаты мужа покойного освободить. Да перины стели пышнее! Да печи топи жарче! Половик под ноги ему… Кувшин-рукомой да зеркало, то, что старенько, под рыло ему вешайте… О-о, Боженька! Откудова знать-то было, что о нем знатные персоны пекутся?
Скудные пожитки поэта перекидали в покои, протопленные столь жарко, что плюнь на печку – шипит! Вот вернется домой секретарь и обалдеет. Княгиня в хлопотах даже запарилась. Но тут – бряк! – колоколен под окнами дома, и ввалился хмельной Ванька Топильский, главный сыщик из Канцелярии тайной…
Страх в людях приметив, он кочевряжиться начал:
– Ну, толпа, принимай попа! Ныне я шумен да умен… Мне, княгинюшка, твой жилец надобен – Василий, сын Кирилла Тредиаковского, который в городе Астрахани священнодействовал.
– Мамыньки родные! – всплеснула княгиня руками. – Да его сей час президент Корф в своих санках на службу увез…
– Эва! – крякнул Топильский (и с комодов что-то в карман себе уложил). – С чего бы честь така Ваське? – спросил (и табакерочку с подоконника свистнул). Огляделся, что бы еще своровать, и сказал, страху добавив: – Ныне твой жилец, княгиня, в подозрениях пребывает… И мне их превосходительства Ушаковы-генералы велели доподлинно вызнать: по какому такому праву он титул ея царского величества писал “императрикс”?
– Как? Как он титуловал нашу пресветлую матушку?
– “Императрикс”… Ну что, княгиня? Спужались? Будешь теперь знать, как поэтов в свой дом пущать.
Троекурову даже в сторону повело. Думала: а ну, как и ее, сиротинку, трепать станут? Глаза закатила и отвернулась: пусть Топильский крадет что хочет, только б ее не тронули… Очнулась (Ваньки уже нет) и снова затрепетала:
– Санька! Мишка! Николка! Где вы?.. Тащи все обратно в боковушку евоную. Сымай перины, рукомой убери. И капусту, что на двор выкинули, поди собери снова. Чтоб он подавился, треклятый! Я давно за ним неладное примечаю. Ныне вот и сказалось в титле царском… “Императрикс” – голову сломать можно, а такого не выдумаешь. О Господи, до чего мы дожили… что будет?
Из академии поэт ехал в казенной карете, обтянутой снаружи черным коленкором, а окошки были задернуты, чтобы прохожие не могли видеть – кого везут. Карета уже не академическая, а розыскная: ее за поэтом кровожадный Ушаков прислал.
Кони пронырнули в ворота Петропавловской крепости.
Вот и Тайная канцелярия “императрикс”!
А вот и главный инквизитор империи – Андрей Иваныч…
Вроде бы, как поглядишь, добренький старикашка с паричком, съехавшим на ухо. Возле него – инструменты, служащие для отыскания подноготной истины: плети, клещи, шила, дробила… Ушаков по-стариковски грел зябнущие руки возле горна пытошного. Потом запустил под парик свои пальцы, долго скреботал лысину… Начал вести допрос по “слову и делу” государеву:
– Ты што же это, сволота паршивая, куда жрать ходишь, туда и гадить задумал? Или своя шкура тебе дешевой показалась?
Тредиаковский сказал, что вины за собой не ведает.
– А титул ея императорского величества, от Бога данный, ты зачем обозначил в стихах неправильно? Мы ее зовем полностью в три слова (ваше императорское величество), а ты, сучий сын, единым словцом, будто облаял ее… императрикс-тыкс… – и всё тут. Теперь сознавайся: нашто титул государыни уронил? И не было ли у тебя в мыслях какого-либо злоумышления?
Поэт понял, что “слово и дело” из пальца высосаны.
– Каждый кант, – отвечал он, – имеет размер особливый, от другого канта отличный. Слова: “ея императорское величество” – это проза презренная, так все говорят. И три эти слова во едину строку никак не запихиваются…
– А ты поднатужься да впихни! – умудрел инквизитор.
– Не впихнуть, – дерзко отвечал поэт. – Потому-то и вставил я сюда слово кратчайшее “императрикс”, высоты титула царского ронять не желая… А что делать, ежели таков размер в стихе?
Ушаков вынул из горна докрасна раскаленные клещи и от них раскурил простенькую солдатскую трубку.
– Размер? – спросил он, не веря поэту. – Ты размером никогда не смущайся. Чем длиннее восславишь титуя – тем больше славы тебе. А ныне вот, по твоей милости, любители кантов из Костромы на Москву… И драны. И пытаны. И трое уже причастились перед смертию. А все оттого, что слово “императрикс” есть зазорно для объявления ея величества. Осознал? Или припечь тебя?
Страшно стало! Опять толковал Тредиаковский великому инквизитору о законах стихосложения. Говорил, что при писании стихов слова не с потолка берутся, а трудом немалым изыскиваются. Что такое размер – объяснял, что такое рифма – тоже втемяшивал.
– Рифму я знаю, – мрачно сознался Ушаков, внимательно поэта слушая. – Рифма – это когда все складно и забавно получается. А насчет размера… не врешь ли ты, брат? Изложи-ка письменно!
Пришлось писать подробное изъяснение:
“Первый самый стих песени, в котором положено слово “императрикс”, есть пентаметр. Слово сие есть самое подлинное латинское и значит точно во всей своей высокости “императрица”… Употребил я сие латинское слово для того ради, что мера стиха того требовала”.
– Ой, и мудрено же ты пишешь! – удивился Ушаков, читая. – Ты проще будь, сыне поповский, а не то мы тебя со свету сживем… Иди домой и сиди, аки голубь ангельский. Писать пиши, коли служба у тебя такая, но чтобы никаких “императрикс” боле не было. Ступай прочь, вобла астраханска! Да, эвон, икону не прогляди. Возликуй пред ликом всевышнего за то, что я тебя отселе живым и нерваным выпущаю…
Пешком отправился великий поэт домой – на Первую линию.
Брел через Неву, льдами вздыбленную. Пуржило с моря, колко секло лицо. Спиною к ветру обратясь, шел Василий Кириллович, и было ему так горько, так обидно… хоть плачь! Он ли грамматики не составитель? Он ли од торжественных не слагатель? “Так что ж вы, людишки, меня-то, будто собаку бездомную, по кускам рвете? Тому не так. Этому не эдак. И любая гнида учит, как надо писать”.
– Кого учите? – спросил поэт у ночной тишины…
Тредиаковский остановился над прорубью. Черный омут, страшный-престрашный, а в глубине его – звезд отраженье.
- Внемли, о небо! – Изреку,
- Земля да слышит уст глаголы:
- Как дождь, я словом протеку,
- И снидут, как роса к цветку,
- Мои вещания на долы…
Впереди была долгая трудная жизнь. Клевета и забвение.
Вот она – слава! Но такой славе не позавидуешь.
Прошло ровно сто лет после этого случая со словом “императрикс”. В тенистой тишине старинных лип и вязов, за простым рабочим столом сидел директор училищ Тверской губернии Иван Лажечников и выводил Тредиаковского в большую литературу:
“О! По самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово “педант” – по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредиаковского. Он нес огромный фолиант под мышкой. И тут разгадать нетрудно, что он нес – то, что составляло с ним: я и он, он и я Монтаня, свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными крылами, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес “Тилемахиду”…
Давайте сразу же выбросим отсюда “Тилемахиду”, которую поэт никак не мог нести под мышкой, ибо поэма в ту пору, о какой говорит Лажечников, еще не была написана. Под пером Лажечникова поэт превратился в бездарного педанта, забитого и жалкого, который заранее обречен на тумаки и унижения. А между тем Н. И. Новиков писал: “Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия… Полезными своими трудами приобрел себе славу бессмертную!” И первым, кто вступился за честь поэта, был Пушкин: “За Василия Тредиаковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы, – писал он Лажечникову, – оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности”. В тон Пушкину позже вторил Белинский: “Бедный Тредиаковский! тебя до сих пор едят писаки и не нарадуются досыта, что в твоем лице нещадно бито было оплеухами и палками достоинство литератора, ученого и поэта!”
Мне всегда больно за Тредиаковского…
Оскорбляемый современниками, он был осмеян и потомками!
Лажечников, вольно или невольно, развил тему всеобщего презрения к поэту, начало которому положила императрица Екатерина II. На шутейных куртагах в Эрмитаже она, издеваясь над стихотворцем, заставляла провинившихся вельмож или выпить в наказание стакан воды, или прочесть наизусть строфу из “Тилемахиды”.
Чудище
обло,
озорно,
огромно,
стозевно
и лаяй!
Постепенно дурное отношение к Тредиаковскому обратилось в моду, и эта мода дотянулась до наших дней…
Тредиаковский для нас, читатель, отошел в давность. Порою нелегко продираться через столкновение кратких взрывчатых слов, не всегда понятных сегодня. Но иногда – словно открываешь чудесное окно в волшебный, благоухающий сад… Он, как и Маяковский, одновременно очень прост и очень сложен; именно от него и тянется заманчивая извилистая тропинка российской поэзии, уводящая всех нас в трепетные дали блоковских очарований.
Тредиаковского раньше не только читали – даже пели:
- Поют птички
- Со синички.
- Хвостом машут
- И лисички.
- Взрыты брозды,
- Свищут дрозды…
Скажите, а чем плохо? Картина весны.
Тредиаковский был кристально прозрачен для людей своего времени, которым был понятен язык поэта – язык жестокой эпохи, язык пожаров Бахчисарая и Хотина, язык курьезных свадеб шутов и мерзостных маскарадов Анны Кровавой… Все несчастье поэта в том, что он был только творцом, но не сумел стать бойцом за права писателя, какими сделались позже Ломоносов, Сумароков и Державин.
Страшная судьба! Всю жизнь работал как вол, а в награду получал палки и надругательства; он умер – и потомки его осмеяли! Это был мученик российской словесности… Радищев верил, что еще придет время, когда “Тредиаковского выроют из поросшей мхом забвения могилы… найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы!” Никто не требует восхищаться поэзией Тредиаковского, но мы должны уважать человека, который, даже оболганный, всеми отвергнутый, унижаемый страхом и подачками, все-таки не отложил пера в сторону…
Нет, он продолжал свое дело.
И он пережил всех “императрикс”!
Дуб Морица Саксонского
Я хотел было начать с рассуждений о пьесе Эжена Скриба “Андриенна Лекуврер”, которая пришла на русскую сцену с Элизой Рашель в заглавной роли, но потом передумал, решив начать с того, о чем мало извещен наш читатель…
Если забраться в самую гущу лесов Курляндии, то севернее речной долины Абавы мы выйдем к озеру Усмас, в котором есть райский островок Морицсала, еще в 1910 году объявленный заповедником. Посреди же острова, среди многих дерев, не ведавших топора, издревле растет дуб, возраст которого перевалил уже за 700 лет, а внутри дуба столь громадное дупло, что в нем легко умещаются десять человек. Местные жители называют этого великана “дубом Морица”.
Не стану восторгаться деревом – пусть оно живет хоть тысячу лет; я поведаю о Морице Саксонском, который в 1727 году прятался в дупле этого дуба. Надеюсь, читателю интересно – от кого же он прятался в этой курляндской глухомани?
К сожалению, легендарный Мориц хорошо укрылся и от нас, ибо наши историки если и вспоминают о нем, то прежде всего как об авторе всеобщей воинской повинности, за что все читатели и остаются крайне ему благодарны…
Начало – точно в духе той давней эпохи, словно фабула его нарочно придумана для романов Дюма, а суть ее такова.
Прослышав об убийстве брата, шведская графиня Аврора Кёнигсмарк появилась в Дрездене, бывшем тогда столицей Саксонии. Красавица была озабочена тем, чтобы немецкие банкиры вернули ей бриллианты убитого брата. С просьбой о помощи Аврора обратилась к Августу Сильному, который был курфюрстом саксонским. Свидание состоялось в замке Морицбурга; оценив красоту просительницы, курфюрст обещал ей свое могучее покровительство, в результате которого последовали неизбежная беременность графини и возвращение ей бриллиантов.
Осенью 1696 года родился мальчик, которого – в память о свидании в Морицбурге – нарекли Морицем. А через год Август Сильный был избран королем польским, сидя на двух престолах сразу – и в Дрездене (там он курфюрст) и в Варшаве (там он король). В 1700 году Аврора Кёнигсмарк удалилась в монастырь, а беспутный папенька увез сына в Варшаву, где мальчик и жил на птичьих правах бастарда (незаконнорожденного). В этом же году разгорелась Северная война, шведский король Карл XII жестоко истерзал Прибалтику, его драбанты топтали земли польские и саксонские. Август Сильный оказался тоже “на птичьих правах”, удирая от шведов то из Варшавы, то из Дрездена, а Мориц с детства изведал прелести бездомной кочевой жизни, которая ему – еще ребенку – безумно понравилась.
В коалиционной войне со шведами Август был невольным (а кстати, и неверным) союзником царя Петра I, и, утомленный постоянными ретирадами, он в 1702 году вызвал Аврору Кёнигсмарк из обители Кведлинбурга, велев ей приодеться наряднее.
– Если, – сказал он монахине, – плодом нашей встречи явился сын Мориц, то плодом вашей встречи, мадам, со шведским забиякой должен стать разумный мир, и тогда пусть русский царь сам разбирается в делах на Балтике… С меня хватит! Я уже набегался. Пусть теперь побегает русский царь…
Но даже греховная красота Авроры, появившейся в грязной палатке Карла XII, не произвела на “забияку” никакого впечатления, и война продолжалась. В 1709 году – в памятный год Полтавы! – Морицу исполнилось двенадцать лет, и он вступил под знамена польско-саксонской армии. Начиналась удивительная жизнь – на распутьях дорог, оснащенных виселицами, в боевом грохоте полковых барабанов, в громе рвущихся ядер.
– Замечательно! – восклицал мальчишка, радуясь…
Заискивая перед царем, Август послал его к Петру I, чтобы тот включил его в ряды своей армии, и летом 1710 года Морица видели в числе русских воинов, штурмовавших ворота Риги, доселе нерасторжимые. В свои пятнадцать лет он выглядел уже бравым офицером, на него стали посматривать невесты. Август Сильный имел сотни побочных детей, ни одного из бастардов не признавая своим. Но для Морица он сделал приятное исключение, признав себя его отцом, он даже присвоил ему титул графа Саксонского, обещая ежегодно выплачивать ему 10 000 талеров.
– Не сомневаюсь, сынок, – сказал Август, – этого вполне хватит тебе не только на вино, но даже на женщин…
Денег, увы, не хватало! Красивый, сообразительный и энергичный, граф Мориц Саксонский стал привлекательным женихом, но брачные узы его не соблазняли. Август, решив обуздать сына, повелел ему жениться на Виктории фон Лебен:
– Пойми! Богаче невесты, нежели Виктория, нет и не будет в моей Саксонии, так какого же черта тебе, балбес, еще надобно? Я бы на твоем месте долго не думал…
Женившись, Мориц так закутил, что скоро от богатейшего приданого жены остался, как говорят русские, “пшик на постном масле”. Слухи о мотовстве сына дошли до Кведлинбурга, где его мать замаливала грехи, и Аврора, выпрямившись от поклона, велела передать Августу, чтобы тот повлиял на сына.
Август Сильный принял жестокое решение:
– Мориц совсем распустился, а потому – ради исправления его нравственности – я желаю сослать его… в Париж!
Хорош же был Дрезден времен Августа, если даже Париж считался образцом благолепия. Между тем раздоры супругов стали притчею во языцех, и, застав мужа в близком соседстве со служанкой, Виктория потребовала развода.
Эта “неприятность” случилась в 1721 году, который завершился приговором суда. Морица развели с Викторией, и ей, как порядочной даме, судьи разрешили вступать во второй брак, а Мориц Саксонский, как изменник и прелюбодей, навсегда терял юридическое право жениться вторично. Впрочем, этот приговор не ужаснул Морица, который, приехав в Париж, всюду называл себя убежденным холостяком. Далее позволю себе процитировать: “При дворе и в салонах Парижа он оказался необыкновенно популярным: мужчины находили его в высшей степени порядочным и приятным человеком, а дамы были без ума от его внешности, от его военных и донжуанских подвигов”.
Конечно, он был представлен и королю Франции.
– Моя шпага, как и моя храбрость, – заявил он, – всегда к услугам вашего королевского величества…
Десять тысяч саксонских талеров обернулись для него жалованьем в десять тысяч французских ливров – Мориц был назначен в бригадные генералы версальской гвардии. Дамы парижского света, супруги изнеженных и слабосильных маркизов вскрикивали от восторга, когда он, блаженно улыбаясь, показывал им “русские фокусы”: разрывал пополам лошадиные подковы, а железные вертела для поджаривания дичи в каминах Мориц закручивал в штопор… “Разве же это трудно, мадам? Совсем нет!”
Но я, читатель, еще не сказал самого главного.
Полузакрыв глаза и призывно раскинув руки, к нему уже спешила радостная Андриенна Лекуврер, дочь башмачника и прачки, гениальная актриса из “Комеди Франсез”, всегда домогавшаяся только дружбы с мужчинами. Только дружбы, а теперь…
– Мой любимый Геракл, – шептала она, счастливая.
– Но обреченный служить тому обществу, в котором всегда не хватало Гераклов, – отвечал Мориц.
Не лишенная доли тщеславия, Андриенна полюбила его, а он полюбил ее, но об этой любви я расскажу позже. Позже, ибо три года подряд Мориц хранил верность одной Андриенне, а в 1726 году он жестоко разомкнул любовные объятия:
– Извини. Для полноты счастья мне сейчас не хватает сущего пустяка… всего лишь престола!
Ради такого пустяка дело за расходами не постоит, и потому Андриенна Лекуврер вручила ему свои драгоценности.
– Только вернись, – заклинала она Морица.
– Я обязан вернуться, чтобы не быть должным женщине…
Читатель может не сомневаться: Мориц сдержал слово.
В дороге Морица сопровождал его верный слуга Жан Бовэ, которому он доверял очень многое, как ближайшему другу.
– Кажется, – рассуждал Мориц в пути, – судьба подкинула мне такие козырные карты, с которыми было бы смешно не выиграть. Престол герцогов Курляндских, занимаемый династией Кетлеров, вассален Речи Посполитой, где королем мой отец. Сейчас в Митаве тоскует вдова Анна Иоанновна, а Курляндией правит из Гамбурга бездетный герцог Фердинанд, которого митавские рыцари ненавидят и ждут его смерти…
Прибыв в Варшаву, Мориц эти же доводы изложил перед отцом, а отец предупредил, что любовная “акция” с герцогиней Анной Иоанновной грозит вмешательством России и Пруссии.
– Но ты прав, что династия Кетлеров при последнем издыхании, и ты, сын мой, попробуй оживить ее своей любовью. Но – поторопись! – сказал Август Сильный. – Претендентов на шаткий престол в Митаве всегда найдется достаточно…
Верно! Историк Карнович писал, что Европа давно вожделела к Митаве: “Разные герцоги, принцы, маркграфы и ландграфы мечтали о том, как бы им попасть в герцоги курляндские, вследствие чего явилось в ту пору множество искателей руки и сердца Анны Иоанновны”. Всех перечислять я не стану, ибо только один Мориц Саксонский смело и решительно выступил в роли жениха, заявив отцу перед отъездом в Митаву:
– Эта вдовушка вряд ли устоит перед моим штурмом! Наконец, у меня есть на примете еще и российская цесаревна Елизавета, которая немало наслышана о моих достоинствах…
Из Петербурга саксонский посол Лефорт нахваливал ему Елизавету Петровну в таких выражениях: “У нее круглое, как у кошки, лицо, голубые глаза с поволокой и приятно возвышенный бюст… ей все равно, тепло или холодно, а живость ума делает ее ветреной… она рождена для Франции!” Описание достоинств цесаревны Лефорт заключал выводом, что Елизавета заочно влюблена в Морица, почему и ждет его на берегах Невы. Стоит напомнить, что на Руси царствовала тогда Екатерина I, а управлял ею всесильный князь Меншиков, и слово этого временщика было законом для всех и даже для нее, для самодержицы.
Жан Бовэ – по дороге в Митаву – пугался сам и пытался напугать своего любвеобильного суверена:
– Как бы этот “штурм” переспелой вдовицы не обошелся нам кровью, ибо давно известно, что Меншиков сам желает стать герцогом курляндским, согласный женить на Анне Иоанновне своего сынишку… Вы, граф, не боитесь могучего соперника?
– Я готов скрестить шпаги, – отвечал Мориц…
Вот и Митава! Анне Иоанновне страстно хотелось замуж, а потому она предстала перед женихом во всем своем многотелесном величии. Мориц поначалу даже обомлел: какая стать, какие бока, какой гигантский бюст, какие глазищи, какая рожа… Отношения меж ними определились, и бабище, изнывавшей во вдовстве, не стоило труда увериться в самой пылкой “любви” красавца. Между тем, чтобы время не пропадало даром, Мориц влюбил в себя и фрейлину герцогини Менгден – так что все складывалось прекрасно! Прекрасно еще и потому, что на сейме в Варшаве шляхта решила прибрать Курляндию к своим рукам, разделив ее на воеводства, что немало возмутило курляндских рыцарей.

