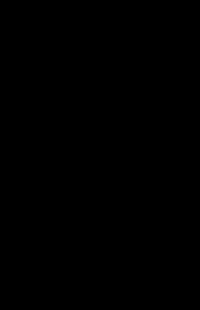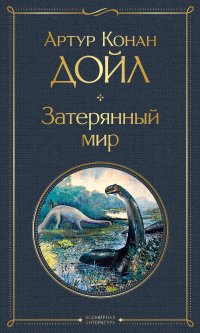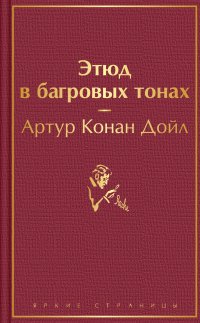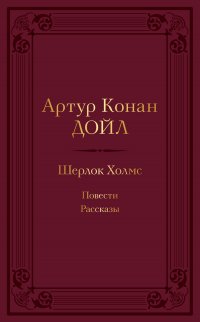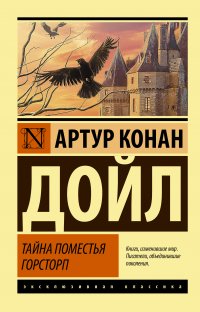
Читать онлайн Тайна поместья Горсторп бесплатно
- Все книги автора: Артур Конан Дойл
Кожаная воронка
Мой приятель Лионель д’Акр жил в Париже на авеню Ваграм, в том небольшом доме с чугунной оградой и зеленой лужайкой спереди, что стоит по левую сторону улицы, если идти от Триумфальной арки. По-моему, он стоял там задолго до того, как была проложена сама авеню Ваграм, поскольку его серые черепицы поросли лишайником, а стены выцвели от старости и покрылись плесенью. Со стороны улицы дом кажется небольшим – пять окон по фасаду, если мне не изменяет память, но он продолговат, и при этом всю его заднюю часть занимает одна большая вытянутая комната. Здесь, в этой комнате, д’Акр поместил свою замечательную библиотеку оккультной литературы и коллекцию диковинных старинных вещей, которую собирал ради собственного удовольствия и ради развлечения своих друзей. Богач, человек утонченных и эксцентричных вкусов, он потратил значительную часть своей жизни и состояния на создание совершенно уникального частного собрания талмудических, каббалистических и магических сочинений, по большей части редчайших и бесценных. Особенно привлекало его все непостижимое и чудовищное, и, как я слышал, его эксперименты в области неведомого переходили все границы благопристойности и приличия. Друзьям-англичанам он никогда не рассказывал об этих своих увлечениях, придерживаясь тона ученого и коллекционера-знатока, но один француз, чьи вкусы имели сходную направленность, уверял меня, что в этой просторной и высокой комнате, среди книг его библиотеки и диковинок музея, справлялись самые непотребные обряды черной мессы.
Внешность д’Акра с достаточной наглядностью свидетельствовала о том, что к этим тайнам психики он питал не духовный, а сугубо интеллектуальный интерес. В его полном лице не было ни намека на аскетичность, зато огромный купол черепа, который круто вздымался над оборкой редеющих локонов, как снежная вершина над кромкой елового леса, говорил о мощном интеллекте. Познания явно преобладали у него над мудростью, а сила способностей – над силой характера. Его маленькие, глубоко посаженные глаза, живые и блестящие, искрились умом и жадным любопытством к жизни, но это были глаза сластолюбца и самовлюбленного индивидуалиста. Впрочем, хватит о нем: бедняги уже нет в живых – он умер в тот блаженный миг, когда окончательно уверовал, что наконец-то открыл эликсир жизни. Речь у нас пойдет не о его сложной натуре, а об одном чрезвычайно странном и необъяснимом случае, который произошел, когда я гостил у него ранней весной 1882 года.
Познакомился я с д’Акром в Англии, когда занимался исследованиями в Ассирийском зале Британского музея, где тогда же работал и он, пытаясь разгадать тайный мистический смысл древних вавилонских письмен. Общность интересов сблизила нас. От обмена случайными фразами мы перешли к ежедневным беседам, и между нами завязалось некое подобие дружбы. Я пообещал наведаться к нему в следующий свой приезд в Париж. В тот раз, когда я, выполняя обещание, навестил его, я жил за городом, в Фонтенбло, а так как вечерние поезда отходили в неудобное время, он предложил мне остаться у него на ночь.
– У меня только одно свободное ложе, – сказал он, указывая на широкий диван в просторной комнате, служившей библиотекой и музеем, – надеюсь, вам здесь будет удобно.
Это была необычайная спальня, с высокими стенами из коричневых фолиантов, но для книжного червя вроде меня нет ничего милее такой мебели, как нет для моих ноздрей аромата приятнее едва уловимого тонкого запаха, исходящего от старинной книги. Я заверил его, что не мог бы и пожелать себе более восхитительной спальни и более подходящего антуража.
– Если эту обстановку и не назовешь удобной или обычной, то уж во всяком случае она дорогая, – проговорил он, окидывая взглядом полки. – На все то, что окружает вас здесь, я потратил, наверное, четверть миллиона. Книги, оружие, геммы[1], резные украшения, гобелены, статуэтки, чуть ли не каждая вещь тут имеет свою историю, и, как правило, достаточно интересную, чтобы ее рассказать.
Мы разговаривали, сидя у горящего камина: он – по одну сторону, я – по другую. Справа от него стоял стол для чтения в кружке яркого золотистого света от висевшей над ним сильной лампы. На столе лежал наполовину развернутый палимпсест[2], возле которого валялось много причудливых антикварных вещиц. Среди них была большая воронка, какими пользуются для заполнения винных бочек. Судя по ее виду, она была сделана из черного дерева и окаймлена ободками из потускневшей меди.
– Вот любопытная вещь, – заметил я. – Какова ее история?
– А! – воскликнул он. – У меня было основание задать себе этот же вопрос. Я бы много отдал, чтобы знать точный ответ. Возьмите-ка ее в руки и осмотрите как следует.
Повертев ее в руках, я обнаружил, что на самом деле она вовсе не из дерева, как мне показалось, а из кожи, только ссохшейся и затвердевшей от времени. Это была большая воронка, вмещавшая, вероятно, целую кварту. Медный ободок окаймлял ее широкий конец, но горлышко тоже имело металлический наконечник.
– Ну, что вы о ней скажете? – спросил д’Акр.
– По-моему, эта штука принадлежала какому-нибудь средневековому виноторговцу или солодовнику, – предположил я. – В Англии я видел высокие пивные кружки из просмоленной кожи, такие же твердые и черные, как эта воронка. Ими пользовались в семнадцатом веке.
– Пожалуй, она относится примерно к тому же времени, – сказал д’Акр, – и ею, несомненно, пользовались для вливания жидкости в сосуд. Однако, если мои подозрения верны, пользовался ею престранный виноторговец и заполнял он престранный сосуд. Вы ничего не замечаете необычного у горлышка воронки?
Поднеся ее к свету, я обратил внимание на то, что дюймах в пяти над медным наконечником узкое горлышко кожаной воронки как бы исцарапано и зазубрено, словно кто-то кромсал его тупым ножом. Только в этом месте гладкая черная поверхность имела шероховатый, неровный вид.
– Кто-то пытался отрезать горлышко.
– Разве это похоже на надрез?
– Кожа порвана и измочалена. Нужна была немалая сила, чтобы оставить следы на таком твердом материале, каким бы инструментом при этом ни пользовались. Но что вы-то об этом думаете? Я же вижу, что вы знаете больше, чем говорите.
Д’Акр улыбался, и его глазки знающе поблескивали.
– Входит ли в круг ваших ученых занятий психология сновидений? – спросил он.
– Я даже не подозревал о существовании такой психологии.
– Друг мой, вон та полка над шкафом с геммами сплошь заполнена томами, и томами, написанными исключительно на эту тему, начиная от сочинений Альберта Великого и далее. Это же целая наука.
– Наука шарлатанов.
– Шарлатан всегда первопроходец. Из астролога вышел астроном, из алхимика – химик, из гипнотизера – психолог-экспериментатор. Вчерашний знахарь – это завтрашний профессор. Даже такая тонкая и неуловимая субстанция, как сны, со временем будет систематизирована и упорядочена. И когда это время придет, изыскания наших друзей там, на полке, превратятся из забавы мистики в основы науки.
– Предположим, что так оно и будет, но какое отношение к науке о сновидениях имеет большая черная воронка с медным ободком?
– Сейчас скажу. Как вам известно, у меня есть агент, который постоянно охотится за редкими и антикварными вещами для моей коллекции. Несколько дней назад он прослышал, что антиквар, торгующий на одной из набережных, приобрел кое-какой старый хлам, найденный в чулане дома старинной постройки на задворках улицы Матюрен в Латинском квартале. Столовая в этом старинном доме украшена гербом в виде щита с шевронами и красными полосами на серебряном поле. Как выяснилось, это был герб Никола де Ларейни – вельможи, который занимал высокую государственную должность в правление короля Людовика XIV. Другие предметы, обнаруженные в чулане, относятся, как было с несомненностью установлено, к раннему периоду правления этого короля. Отсюда вывод: все эти вещи принадлежали упомянутому Никола де Ларейни, в обязанности которого, насколько я понимаю, входило обеспечивать соблюдение драконовских законов той эпохи и следить за их исполнением.
– И что из этого следует?
– Возьмите воронку в руки еще раз и внимательно рассмотрите верхний медный ободок. Не различаете ли вы на нем какой-нибудь надписи?
На медной поверхности и впрямь виднелись какие-то черточки, почти стертые временем. Общее впечатление было такое, что это несколько букв, из которых последняя несколько напоминала большую букву «Б».
– Вам не кажется, что это «Б»?
– Да.
– Мне тоже. Более того, я нисколько в этом не сомневаюсь.
– Но ведь у вельможи, о котором вы рассказывали, стоял бы другой инициал – «Л».
– Вот именно! В этом-то вся прелесть. Он был владельцем этой занятной вещицы, но притом пометил ее чужими инициалами. Почему?
– Понятия не имею. А вы?
– Может быть, догадываюсь. Вы не замечаете, подальше на ободке как будто что-то изображено?
– Похоже, корона.
– Корона, вне всякого сомнения. Однако если приглядитесь при хорошем освещении, то увидите, что это не совсем обычная корона. Это геральдическая корона – эмблема титула, а так как составляют ее четыре жемчужины, чередующиеся с земляничными листьями, это, безусловно, эмблема маркиза. Значит, человек, чьи инициалы заканчиваются на букву «Б», имел право носить такую корону.
– Так что же, выходит, эта обычная кожаная воронка принадлежала маркизу?
Д’Акр загадочно улыбнулся.
– Или кому-то из членов семьи маркиза, – сказал он. – Хоть это мы с достаточной определенностью вывели из надписи на ободке.
– Но какая же тут связь со снами?
Не знаю уж, то ли потому, что я уловил что-то такое в выражении лица д’Акра, то ли потому, что мне что-то передалось через его манеру речи, только, глядя на этот старый, покоробившийся кусок кожи, я вдруг почувствовал отвращение и безотчетный ужас.
– Из снов я не раз получал важную информацию, – заговорил мой собеседник наставительным тоном, так как питал слабость к поучениям. – Теперь, когда у меня возникают сомнения насчет каких-нибудь существенных моментов атрибуции, я, ложась спать, непременно кладу интересующий меня предмет рядом с собой в надежде что-то узнать о нем во сне. Мне этот процесс не кажется таким уж загадочным, хотя он и не получил еще благословения ортодоксальной науки. Согласно моей теории, любой предмет, оказавшийся тесно связанным с каким-нибудь крайним пароксизмом человеческого чувства, будь то боль или радость, запечатлевает и сохраняет определенную атмосферу или ассоциацию, которую он способен передать впечатлительному уму. Под впечатлительным умом я разумею не ненормально восприимчивый, а просто тренированный, образованный ум, как у нас с вами.
– Вы хотите сказать, что, если бы я, например, лег спать, положив рядом с собой вон ту старую шпагу, что висит на стене, мне могла бы присниться какая-нибудь кровавая переделка, в которой эта шпага была пущена в ход?
– Превосходный пример, потому что, сказать по правде, я уже проделал подобный опыт с этой шпагой и увидел во сне, как умер ее владелец, погибший в яростной схватке, которую я не смог опознать как какую-то известную в истории битву, но которая произошла во времена Фронды[3]. Некоторые народные обычаи, если задуматься, свидетельствуют о том, что этот факт уже признавался нашими предками, хотя мы, мнящие себя мудрецами, отнесли его к суевериям.
– Какие, например?
– Ну, скажем, обычай класть под подушку свадебный пирог, чтобы спящему приснились приятные сны. Этот и некоторые другие примеры вы найдете в брошюрке, которую я сам пишу сейчас на эту тему. Но ближе к делу. Однажды я положил перед сном рядом с собой эту воронку, и мне приснилось нечто такое, что, безусловно, пролило весьма любопытный свет на ее происхождение и способ применения.
– И что же вам приснилось?
– Мне приснилось… – Он вдруг замолчал, и на его дородном лице появилось выражение живейшего интереса. – Честное слово, это отличная мысль! – воскликнул он. – Мы с вами проведем чрезвычайно интересный психологический опыт. Вы наверняка легко поддаетесь психическому воздействию: ваши нервы должны чутко реагировать на всякое внешнее впечатление.
– Я никогда не проверял свои способности в этой области.
– Тогда мы проверим их этой же ночью. Могу я попросить вас об одном величайшем одолжении? Когда вы ляжете спать на этом диване, положите возле вашей подушки эту старую воронку, ладно?
Его просьба показалась мне нелепой, но моему многостороннему характеру тоже не чужда тяга ко всему причудливому и фантастическому. Я, конечно, не верил в теорию д’Акра и не думал, что эксперимент может удаться, но меня увлекла сама идея участия в подобной затее. Д’Акр с самым серьезным видом придвинул к изголовью моего дивана столик и положил на него воронку. Затем, перебросившись со мной еще несколькими фразами, он пожелал мне спокойной ночи и вышел.
Некоторое время, перед тем как лечь, я курил, сидя у догорающего камина, снова и снова возвращаясь мыслями к этому любопытному эксперименту и страшным снам, которые, может быть, мне приснятся. Впечатляющая уверенность, с какой говорил д’Акр, необычность всей окружающей обстановки, сама эта огромная комната со странными, сплошь и рядом зловещими предметами, развешанными по стенам, – все это, несмотря на мой скептицизм, создало у меня в душе серьезный настрой. Наконец я разделся и, потушив лампу, лег, но еще долго ворочался с боку на бок, пока не заснул. Постараюсь со всей точностью, на которую способен, описать сцену, привидевшуюся мне во сне. Она встает сейчас у меня в памяти более отчетливо, чем что бы то ни было, виденное мной наяву.
Дело происходило в комнате, похожей на склеп или подвал. От ее грубой сводчатой архитектуры, с крутым куполом потолка, веяло мощью. Это помещение явно было частью какого-то большого здания.
Трое мужчин в черном одеянии и черных бархатных головных уборах странной формы, расширяющихся кверху, сидели рядом на помосте, застеленном красным ковром. Лица их были чрезвычайно серьезны и скорбны. Слева стояли двое мужчин в длинных мантиях и с папками в руках; папки, судя по их виду, были набиты бумагами. Справа, лицом ко мне, стояла женщина маленького роста, светловолосая, с необыкновенными бледно-голубыми глазами ребенка. Была она не первой молодости, но и женщиной средних лет я бы ее не назвал. Ее фигура говорила о некоторой склонности к полноте, а осанка – о горделивой уверенности в себе. Лицо у нее было бледно, но невозмутимо спокойно. Странное впечатление производило это лицо: в его миловидных чертах проглядывало что-то хищное, кошачье, а в линиях маленького сильного рта с узкими губами и округлого подбородка угадывалась жестокость. Одета она была в какое-то подобие свободного белого платья. Сбоку от нее стоял священник, который что-то с жаром шептал ей на ухо, снова и снова поднося к ее глазам распятие. Она же отворачивала голову и продолжала пристально смотреть мимо распятия на тех троих мужчин в черном, которые, как я понял, были судьями.
Вот три судьи встали и что-то объявили; слов я не разобрал, хотя видел, что говорил тот из них, который был в центре. Затем они величественно удалились, а следом за ними – двое мужчин с бумагами. И в тот же миг в комнату поспешно вошли люди грубого обличья, в коротких мужских куртках из плотной материи, и сначала убрали красный ковер, а потом, разобрав помост, вынесли доски, так что освободилось все пространство комнаты. Теперь, когда помост, загораживавший глубину помещения, исчез, моему взору открылись весьма странные предметы обстановки. Один напоминал кровать с деревянными цилиндрами с обоих концов и рукояткой ворота для регулирования ее длины. Другой походил на деревянного гимнастического коня. Было там еще несколько диковинных предметов, а сверху свисали, раскачиваясь, тонкие веревки, перекинутые через блоки. Все вместе имело некоторое сходство с современным гимнастическим залом.
После того как из комнаты убрали все лишнее, появилось новое действующее лицо. Это был высокий сухопарый мужчина, одетый в черное, с худым и суровым лицом. При виде этого человека я невольно содрогнулся. Одежда его, сплошь покрытая грязными пятнами, жирно лоснилась. Он держал себя с медлительным и выразительным достоинством, как если бы с его приходом все здесь поступило в полное его распоряжение. Чувствовалось, что, несмотря на его грубую внешность и грязную одежду, теперь он хозяин в этой комнате, теперь он займется здесь своим делом, теперь он станет командовать. На согнутой левой руке у него висели связки тонких веревок. Женщина смерила его с ног до головы испытующим взглядом, но выражение ее лица не изменилось. Оно оставалось уверенным и даже вызывающим. Зато священник потерял всякое самообладание. Лицо его покрылось мертвенной бледностью, на высоком покатом лбу выступили капли пота. Воздев руки в молитве, он непрестанно наклонялся к уху женщины, бормоча какие-то отчаянные слова.
Человек в черном тем временем подошел и, сняв со сгиба локтя одну из веревок, связал женщине руки. Она сама протянула их и смиренно держала перед собой, пока он это делал. Затем, грубо взяв женщину за руку, он подвел ее к деревянному коню, который был в высоту ей по грудь. Ее подняли и положили на коня лицом к потолку, а священник, трясшийся от ужаса, бросился вон из комнаты. Губы женщины быстро зашевелились, и, хотя мне не было слышно ни слова, я понял, что она молится. Ноги ее свешивались с обеих сторон коня, и я увидел, что грубые мужланы-прислужники привязывают к ее лодыжкам веревки, прикрепляя их другим концом к железным кольцам, вделанным в каменный пол.
При виде этих зловещих приготовлений сердце у меня упало, и все же, загипнотизированный ужасом, я не мог оторвать глаз от странного зрелища. В комнату вошел человек с двумя полными ведрами. Другой внес следом за ним еще одно ведро. Ведра поставили возле деревянного коня. Второй из вошедших держал в свободной руке деревянный черпак с прямой ручкой. Черпак он отдал человеку в черном. В ту же минуту к лежащей приблизился прислужник с темным предметом в руке, который даже во сне показался мне смутно знакомым. Это была кожаная воронка. С огромной силой он просунул ее… но я больше не мог вынести этого кошмара! Волосы встали у меня дыбом. Я бился и метался, выбираясь из пут сна, пока с громким криком не вырвался к собственной своей жизни.
Очнувшись, я увидел, что лежу, дрожа от ужаса, в просторной библиотеке, через окно которой льется серебристый лунный свет, отбрасывая на противоположную стену причудливый переплетающийся узор из черных теней. О, каким блаженным облегчением было сознавать, что я вернулся в девятнадцатый век – вернулся из этого средневекового склепа в мир, где в груди у людей бьются человеческие сердца. Я сел на диване, ощущая дрожь во всех членах, и сознание мое раздиралось между счастливым чувством избавления и недавним ужасом. Страшно подумать, что подобные вещи когда-то совершались, что они могли совершаться, и рука Господня не разила злодеев на месте! Что это было: игра воображения или же реальный отзвук чего-то такого, что произошло в черные, жестокие времена мировой истории? Дрожащими руками я обхватил виски, в которых стучала кровь. И вдруг сердце остановилось у меня в груди. Объятый ужасом, я даже не мог вскрикнуть. Что-то приближалось ко мне из темноты комнаты.
Когда человек, не опомнившийся от пережитого ужаса, переживает его снова, это может сломить его дух. Не способный ни рассуждать, ни молиться, я сидел в немом оцепенении, глядя на темную фигуру, двигавшуюся ко мне через комнату. Но тут фигура попала в белую полосу лунного света, и я ожил. Это был д’Акр, и по его лицу я понял, что он испуган не меньше, чем я.
– Господи боже, что с вами? Что случилось? – спросил он хриплым голосом.
– О, д’Акр, как я рад вашему приходу! Я побывал в аду. Какой это ужас!
– Значит, это вы кричали?
– Наверное.
– Ваш крик переполошил весь дом. Все слуги до смерти перепуганы. – Он чиркнул спичкой и зажег лампу. – Попробуем-ка снова разжечь огонь, – добавил он, подбрасывая поленья в камин, где дотлевали последние красные угольки. – Боже мой, дружище, вы бледны как мел! У вас такой вид, будто вы видели призрака.
– Так оно и было – нескольких призраков.
– Выходит, эта кожаная воронка оказала-таки действие?
– Я больше не согласился бы спать рядом с этой чертовой штуковиной, предложи вы мне хоть все свое состояние!
Д’Акр хихикнул.
– Я так и думал, что вам предстоит рядом с ней веселенькая ночка, – сказал он. – Но и вы в долгу не остались: быть разбуженным в два часа ночи страшным криком – удовольствие маленькое! Насколько я понял из ваших слов, вы видели эту ужасную процедуру.
– Какую ужасную процедуру?
– Пытка водой – «допрос с пристрастием», как это называлось в славные времена «Короля-Солнце». Вы выдержали до самого конца?
– Нет, слава богу, проснулся, прежде чем к ней приступили.
– А! Тем лучше для вас. Я продержался до третьего ведра. Но ведь это очень старая история, ее участники давным-давно в могиле, так не все ли нам теперь равно, как они туда попали? Я полагаю, вы не имеете ясного представления о том, что видели?
– Пытали какую-то преступницу. Если тяжесть наказания соразмерна с тяжестью ее преступления, она должна была совершить поистине страшные злодеяния.
– Что ж, это маленькое утешение у нас есть, – проговорил д’Акр, кутаясь в халат и наклоняясь поближе к огню. – Ее преступления и впрямь были соразмерны наказанию. Конечно, если я правильно установил личность этой женщины.
– Но каким образом вы смогли узнать, кто она?
Д’Акр молча снял с полки старинный том в пергаментном переплете.
– Вот послушайте-ка, – сказал он. – Это написано на французском языке семнадцатого века, но я буду давать приблизительный перевод. А уж вы судите сами, удалось мне разгадать загадку или нет.
«Узница предстала перед судом Высшей палаты парламента по обвинению в убийстве мэтра Дре д’Обрэ, ее отца, и двух ее братьев, мэтров д’Обрэ, цивильного лейтенанта и советника парламента. Глядя на нее, трудно было поверить, что это и впрямь она совершила столь гнусные злодейства, поскольку при невеликом росте обладала она благообразной наружностью, кожу имела светлую, а глаза голубые. Однако же суд, найдя ее виновной, постановил подвергнуть ее допросу обычному и с пристрастием, дабы заставить ее назвать имена своих сообщников, после чего по приговору суда ее надлежало отвезти в повозке на Гревскую площадь, где и обезглавить, тело же сжечь и развеять пепел по ветру».
Эта запись сделана шестнадцатого июля тысяча шестьсот семьдесят шестого года.
– Очень интересно, – сказал я, – но неубедительно. Как вы докажете, что речь тут идет о той самой женщине?
– Я к этому подхожу. Дальше в этой книге рассказывается о поведении женщины во время допроса. «Когда палач приблизился к ней, она узнала его по веревкам, которые он держал, и тотчас же протянула руки, молча оглядев его с ног до головы». Что вы на это скажете?
– Да, все так и было.
– «Она и бровью не повела при виде деревянного коня и колец, при помощи которых было вывернуто столько членов и исторгнуто у страдальцев столько воплей и стенаний. Когда взор ее обратился на приготовленные для нее три ведра воды, она с улыбкой заметила: “Месье, как видно, вся эта вода принесена сюда для того, чтобы утопить меня. Надеюсь, вы не рассчитываете заставить проглотить столько воды такую малютку, как я?”» Дальше идет подробное описание пытки. Читать?
– Нет, ради бога, не надо!
– Вот фраза, которая наверняка уж докажет вам, что вы видели сегодня во сне ту самую сцену, которая описана здесь: «Добрейший аббат Пиро, будучи не в силах вынести зрелище мук своей подопечной, поспешил выйти из комнаты». Ну как, убедились?
– Полностью. Это, вне всякого сомнения, одно и то же событие. Но кто же была она, эта женщина, такая миловидная и так ужасно кончившая?
Вместо ответа д’Акр подошел ко мне и поставил лампу на столик, стоявший у изголовья моей постели. Взяв злополучную воронку, он поднес ее медным ободком близко к свету. В таком освещении гравировка казалась более отчетливой, чем вечером накануне.
– Мы с вами уже пришли к выводу, что это эмблема титула маркиза или маркизы, – сказал он. – Мы далее установили, что последняя буква – «Б».
– Несомненно, «Б».
– А теперь насчет других букв. Я думаю, что это, слева направо, «М», «М», «д», «О», «д» – и последняя – «Б».
– Да, вы, безусловно, правы. Я совершенно ясно различаю обе маленькие буквы «д».
– То, что я вам читал, – официальный протокол суда над Мари Мадлен д’Обрэ, маркизой де Брэнвилье, одной из знаменитейших отравительниц и убийц всех времен.
Я сидел молча, ошеломленный необычайностью происшедшего и доказательностью, с которой д’Акр раскрыл его истинный смысл. Мне смутно вспоминались некоторые подробности беспутной жизни этой женщины: разнузданный разврат, жестокое и длительное истязание больного отца, убийство братьев ради мелкой корысти. Вспомнилось мне и то, что мужество, с которым она встретила свой конец, каким-то образом искупило в глазах парижан те ужасы, каковые она творила при жизни, и что весь Париж сочувствовал ей в ее смертный час, благословляя ее как мученицу через каких-то несколько дней после того, как проклинал ее как убийцу. Лишь одно-единственное возражение пришло мне в голову.
– Как же могли попасть инициалы и эмблема ее титула на эту воронку? Ведь не доходило же средневековое преклонение перед знатностью до такой степени, чтобы украшать орудия пытки аристократическими титулами?
– Меня это тоже поставило в тупик, – признался д’Акр. – Но потом я нашел простое объяснение. Эта история вызывала к себе жгучий интерес современников, и нет ничего удивительного в том, что Ларейни, тогдашний начальник полиции, сохранил эту воронку в качестве жутковатого сувенира. Не так уж часто случалось, чтобы маркизу Франции подвергали допросу с пристрастием. И то, что он выгравировал на ободке ее инициалы для сведения других, было с его стороны совершенно естественным и обычным поступком.
– А что это? – спросил я, показывая на отметины на кожаном горлышке.
– Она была лютой тигрицей, – ответил д’Акр, отворачиваясь. – И, как всякая тигрица, очевидно, имела крепкие и острые зубы.
1902
Перевод В. Воронина
Серебряный топор
Доктор Отто фон Хопштайн, профессор сравнительной анатомии Будапештского университета и хранитель Академического музея, 3 декабря 1861 года был жестоко убит в двух шагах от ворот колледжа.
Высокое положение погибшего и популярность как среди студентов, так и среди жителей города были не единственными фактами, привлекшими к этому преступлению самое пристальное внимание всей Австро-Венгрии. На следующий день в газете «Пештер Абендблатт» была опубликована статья, с которой желающие могут ознакомиться и сегодня. Переведу из нее несколько отрывков, где кратко описаны обстоятельства убийства, включая особенности, поставившие в тупик венгерскую полицию.
«По всей видимости, – писало это почтенное издание, – профессор фон Хопштайн покинул университет около половины пятого пополудни, чтобы встретить поезд, прибывавший из Вены в три минуты шестого. Профессора сопровождал давний дорогой друг герр Вильгельм Шлессингер, младший хранитель музея и приват-доцент химии. На вокзал господа направлялись затем, чтобы принять ценную коллекцию, завещанную Будапештскому университету графом фон Шуллингом, чья трагическая судьба известна нашему читателю. И без того прославленному музею, своей alma mater, его сиятельство передал принадлежавшее ему собрание редчайшего средневекового оружия и бесценных старопечатных книг. Уважаемый профессор счел своим долгом лично встретить этот дар, не перепоручая его попечению подчиненных. Сопровождаемый герром Шлессингером, он благополучно снял коллекцию с поезда и погрузил на легкую повозку, присланную университетским начальством. Большинство книг и мелких вещей лежало в сосновых ящиках, однако некоторые предметы оружия были просто обернуты соломой, и для их перемещения требовалось немало труда. Опасаясь, что железнодорожные служащие не проявят должной осторожности, профессор, отказавшись от сторонней помощи, собственноручно переносил вещи через платформу и передавал герру Шлессингеру, который, стоя в повозке, упаковывал их. Когда все было погружено, господа, верные своим обязанностям, возвратились в университет. Профессор пребывал в превосходном настроении, гордый тем, что в свои годы оказался еще способен к изрядным физическим упражнениям, о чем шутливо сообщил привратнику Райнмаулю, который вместе со своим другом, богемским евреем Шиффером, встретил и разгрузил повозку. Заперев ценности в хранилище, профессор пожелал всем доброго вечера и направился к себе на квартиру. Ключ он передал герру Шлессингеру. Тот, еще раз убедившись, что все в сохранности, тоже удалился. Райнмауль и Шиффер в это время курили в привратницкой. В 11 часов, примерно через полтора часа после ухода фон Хопштайна, солдат 14-го егерского полка, проходя мимо здания университета по пути в казарму, обнаружил безжизненное тело профессора, лежавшее ничком чуть поодаль от дороги, с протянутыми вперед руками. Череп был буквально расколот на две половины сильнейшим ударом, нанесенным, очевидно, сзади. На лице профессора застыла безмятежная улыбка, как будто в тот момент, когда его настигла смерть, он все еще радовался ценному пополнению музейного собрания. На теле следов насилия не было, если не принимать в расчет синяк на левом колене – вероятное следствие падения. Как это ни странно, кошелек профессора, содержавший 43 гульдена, и дорогие часы остались при нем. Из этого следует, что либо преступников спугнули, прежде чем они успели осуществить свой замысел, либо убийство было совершено не с целью ограбления. Первое представляется маловероятным, поскольку труп, перед тем как его обнаружили, пролежал на месте трагедии по меньшей мере час. Все это дело окутано тайной. По заключению доктора Лангеманна, известного криминалиста, рана, от которой погиб профессор, могла быть нанесена тяжелым клинковым штыком с применением недюжинной физической силы. Полиция не раскрывает подробностей расследования, однако есть основания полагать, что блюстители порядка нашли некую важную улику, которая поможет им в установлении истины».
Так писала «Пештер Абендблатт», в действительности же полиции не удалось пролить ни малейшего света на обстоятельства этого преступления. Никаких следов убийца не оставил, а мотива, способного подвигнуть кого-либо на столь чудовищное злодеяние, не мог найти даже самый изобретательный ум. Профессор был так углублен в свои изыскания, что жил словно бы за пределами этого мира и потому никогда не пробуждал враждебности ни в одном людском сердце. Нанести ему смертельный удар мог только изверг рода человеческого, беспощадный дикарь, любящий проливать кровь ради крови.
Если официальное расследование не принесло вовсе никакого результата, то народная молва быстро нашла козла отпущения. В первых газетных сообщениях об убийстве упоминалось, что, когда профессор покидал университет, в привратницкой оставался некто Шиффер. Поскольку он был евреем, а евреев в Венгрии никогда не любили, публика стала требовать его ареста, однако из-за отсутствия каких-либо улик, позволявших предъявить ему обвинение, власти, как и надлежало, отказались удовлетворить прихоть толпы. Райнмауль, человек старый и уважаемый, торжественно заявил, что Шиффер был с ним в привратницкой, пока они оба, услыхав вопль солдата, не бросились на место трагедии. О том, чтобы обвинить в убийстве самого Райнмауля, никто даже не думал, однако поговаривали, будто всем известная их с Шиффером давняя дружба могла склонить его к лжесвидетельству. Волна людского гнева поднялась так высоко, что Шиффера, вероятно, растерзала бы толпа, если бы не происшествие, представившее дело в совершенно ином свете.
Утром 12 декабря, через девять дней после таинственной смерти профессора, богемский еврей Шиффер был найден в северо-западном углу Грандплац мертвым и обезображенным почти до неузнаваемости. Голова, как и у фон Хопштайна, была расколота надвое. На теле также имелись многочисленные глубокие раны: по-видимому, злодей, войдя в раж, не переставал яростно рубить уже мертвую жертву. Накануне шел снег, и на площади лежали сугробы толщиной не менее фута. Судя по тонкому савану, укрывшему труп, в ночь убийства снегопад продолжался. Это обстоятельство могло бы помочь следствию, позволив полицейским обнаружить отпечатки ног убийцы, но преступление, увы, совершилось в таком месте, где днем бывало очень людно. Кроме того, даже если бы следы убийцы не терялись среди множества других, они не были бы надежной уликой, потому что снег, не прекращавший падать, довольно сильно их замел.
Это убийство оказалось столь же непроницаемо загадочным и лишенным мотива, как и убийство профессора фон Хопштайна. В кармане мертвеца обнаружили порядочную сумму золотом да еще несколько ценных банкнот, на которые никто не покусился. Первым делом полиция предположила, что убитый ссудил кому-то деньги, а должник таким образом избавил себя от необходимости платить, однако и в этом случае казалось маловероятным, чтобы злодея не соблазнил такой большой куш. Шиффер квартировал в доме 49 на улице Марии-Терезии у вдовы по фамилии Груга. Согласно показаниям этой женщины и ее детей, последний день своей жизни убитый просидел, запершись, в своей комнате, в состоянии глубокого уныния, вызванного подозрением, которое закрепила за ним народная молва. Вдова слышала, как около одиннадцати часов вечера ее квартирант вышел на роковую прогулку, и, поскольку у него имелся собственный ключ, решила лечь спать, не дожидаясь его возвращения. То, что он вышел гулять так поздно, объяснялось, вероятно, боязнью быть узнанным при свете дня.
Второе убийство, произошедшее вскоре после первого, повергло в состояние крайнего возбуждения и даже ужаса не только Будапешт, но и всю Венгрию. Загадочная угроза, казалось, нависла над головой каждого. Если в нашей стране когда-то и наблюдалось нечто подобное, то только в ту пору, когда в Лондоне бесчинствовал Уильямс, чьи преступления описал Де Куинси[4]. Убийства фон Хопштайна и Шиффера имели так много общего, что никто не сомневался в их взаимосвязи. В обоих случаях злоумышленник действовал не с целью ограбления и вообще без какого-либо явного мотива, не оставив совершенно никаких улик. Наконец, ужасающие раны были нанесены, очевидно, одним и тем же оружием. Следовательно, и держала его, по всей вероятности, одна рука.
Таковы были успехи следствия по этим делам, когда случились происшествия, о которых я сейчас намерен рассказать. Ради удобства читателя начну повествование с небольшой предыстории.
Отто фон Шлегель был младшим сыном родовитых силезских дворян. Отец сперва прочил ему карьеру по военной части, но, вняв советам учителей, разглядевших в юноше удивительные способности, отправил его в Будапешт изучать медицину. Молодой Шлегель схватывал, как говорится, на лету, обещая стать одним из самых блестящих выпускников университета. Много читая, он не был книжным червем и, благодаря своей подвижной здоровой энергичной натуре, пользовался чрезвычайной популярностью у товарищей.
В преддверии новогодних экзаменов Шлегель усердно трудился. Даже слухи о загадочных убийствах, взволновавшие весь город, не отвлекли его от занятий. В канун Рождества, когда в каждом доме горели огни и из биркеллера[5] в студенческом квартале доносился рев застольных песен, товарищи наперебой зазывали Шлегеля на пирушки, но он, отклонив все приглашения, взял книги под мышку и направился на квартиру к Леопольду Штраусу с намерением проработать весь вечер напролет.
Штраус и Шлегель были закадычными друзьями. Оба силезцы, они знали друг друга с детства. Их обоюдная привязанность вошла в университете в поговорку. Учась почти так же блестяще, как Шлегель, Штраус серьезно соперничал с ним за звание лучшего студента, что, однако, только укрепляло их дружбу и взаимное уважение. Шлегель восхищался смелым упорством и неизменно бодрым настроением товарища своих детских игр, а тот, в свою очередь, видел в нем талантливейшего, умнейшего и разностороннейшего из людей.
Друзья все еще работали (один вслух читал учебник анатомии, а другой отмечал на черепе, который держал в руке, называемые части), когда колокол церкви Святого Григория глубоким голосом возвестил наступление полуночи.
– Послушай-ка, дружище! – воскликнул Шлегель, захлопывая книгу и протягивая длинные ноги к весело потрескивающему огню. – Вот и рождественское утро наступило! Пусть это будет не последнее Рождество, которое мы празднуем вместе!
– И пусть до прихода следующего мы выдержим все эти чертовы экзамены! – отозвался Штраус. – Знаешь что, Отто, сейчас нам не помешает распить бутылочку винца. Она припасена у меня для этого случая.
С улыбкой на честном южнонемецком лице он достал из угла, где были горкой сложены книги и кости, длинношеюю бутылку рейнвейна.
– Уютно сидеть дома в такую ночь, – сказал Отто фон Шлегель, глядя в окно на заснеженный город, – когда на улице так ветрено и промозгло. Твое здоровье, Леопольд!
– Lebe hoch![6] – ответил друг. – В самом деле приятно иногда забыть о клиновидных и решетчатых костях, хотя бы только на минутку… Кстати, Отто, что слышно: Граубе уже победил Шваба?
– Они фехтуют завтра, – сказал фон Шлегель. – Боюсь, как бы физиономия нашего земляка не пострадала: руки у него коротковаты, зато энергии и умения ему не занимать. Верхней защитой он владеет безупречно.
– Какие еще есть новости? – спросил Штраус.
– Да, кажется, все только и говорят, что о тех двух убийствах. Только я, видишь ли, заработался и почти ничего не знаю.
– А не нашлось ли у тебя времени взглянуть на оружие и книги, которыми наш дорогой профессор был так занят в день своей смерти? Я слышал, они заслуживают внимания.
– Я видел их сегодня, – сказал Шлегель, закуривая трубку. – Райнмауль, привратник, провел меня в хранилище, и я помог ему снабдить предметы ярлычками, сверяясь с каталогом Музея графа Шуллинга. Все было на месте, только одной вещи мы недосчитались.
– Недосчитались? – воскликнул Штраус. – Тень старика Хопштайна, верно, горюет. Пропало что-нибудь ценное?
– По описанию, это должен быть старинный топор. Сам он стальной, а рукоять серебряная, с узором. Мы уже обратились в железнодорожную компанию – они наверняка найдут его.
– Надеюсь, – ответил Штраус, и разговор перешел в другое русло.
Когда огонь в камине догорел и бутылка опустела, друзья поднялись со своих кресел и Шлегель собрался уходить.
– Уф! Холодная ночь! – сказал он с порога, кутаясь в пальто. – А зачем ты надеваешь шапку, Леопольд? Разве ты тоже куда-то идешь?
– Да, пойду с тобой, – ответил Штраус, закрывая за собой дверь. – Чувствую какую-то тяжесть, – продолжил он, подхватив Шлегеля под руку и выходя вместе с ним на улицу. – Думаю, если прогуляюсь по морозцу до твоего дома, это поможет мне развеяться.
Шагая по Штефанштрассе и через Юлиенплац, студенты беседовали о всякой всячине, но, оказавшись на том углу Грандплац, где был найден труп Шиффера, они, само собой, вновь заговорили об убийстве.
– Вот здесь его и обнаружили, – заметил фон Шлегель, указав на занесенную снегом мостовую.
– Может, убийца и сейчас где-то поблизости, – сказал Штраус. – Давай-ка прибавим шагу.
Молодые люди уже готовы были покинуть печальное место, когда фон Шлегель вдруг издал крик боли:
– Что-то прорезало мне подошву!
Он наклонился и, пошарив руками вокруг себя, вытащил из снега маленький блестящий боевой топор. Оружие лежало так, что лезвие было слегка обращено кверху и потому поранило ногу студенту, когда тот на него наступил.
– Орудие убийства! – вскричал Шлегель.
– Топор с серебряной рукоятью из музея! – подхватил Штраус.
Несомненно, оба были правы. Убийца, судя по характеру ран, действовал именно таким топором, а два столь редких образца старинного оружия едва ли могли оказаться в одном городе. По видимости, злодей, совершив преступление, отбросил свой инструмент в сторону, и тот до сего момента пролежал под снегом примерно в двадцати метрах от места убийства. За минувшие двенадцать дней никто из проходивших по площади его не обнаружил. Это могло бы показаться странным, если бы не глубина снежного покрова и не то обстоятельство, что оружие упало довольно далеко от протоптанной тропы.
– Что мы будем с ним делать? – спросил фон Шлегель, при свете луны рассматривая топор, и содрогнулся, заметив на лезвии бурые пятна.
– Отнесем комиссару полиции, – предложил друг.
– Он, надо полагать, спит: уже почти четыре часа, – но ты прав. Я дождусь утра и еще до завтрака отнесу эту штуку. А пока мне придется взять ее к себе.
– Да, пожалуй, так и сделай, – согласился Штраус, и молодые люди продолжили путь, обсуждая необычайную находку.
Когда они дошли до дверей Шлегеля, Штраус попрощался и, отклонив приглашение войти, быстро зашагал в сторону своей квартиры.
Нагнувшись, чтобы отпереть замок, Шлегель вдруг почувствовал в себе странную перемену: он весь безудержно затрясся, ключ выпал из его пальцев, правая рука судорожно сжала серебряную рукоять топора, а глаза, вспыхнув, устремили мстительный взгляд в спину уходившему Штраусу. Несмотря на холод ночи, по лицу Шлегеля заструился пот. Несколько секунд молодой человек, по-видимому, боролся с собой, схватившись за горло, как если бы ему не хватало воздуха, потом, пригнувшись, бесшумной крадущейся походкой пошел по следам того, кому до сих пор был другом.
Штраус энергично пробирался по снегу, напевая студенческую песню и не подозревая, что за ним по пятам идет темная фигура. На Грандплац их разделяло сорок ярдов, на Юлиенплац – двадцать, на Штефанштрассе – десять. Преследователь продолжал сокращать это расстояние с быстротой пантеры. Вот он уже мог дотянуться рукой до ничего не подозревающего человека, вот топор холодно блеснул в свете луны, но вдруг Штраус, чей слух, вероятно, уловил какой-то легкий шум, резко обернулся и вздрогнул, даже вскрикнул при виде неподвижного белого лица, которое словно повисло в ночной тьме, сверкая глазами и стиснув зубы.
– Что с тобой, Отто? – воскликнул Штраус, узнав друга. – Ты болен? Как ты побледнел! Идем в мою… Да стой же, безумец, стой! Брось топор! Брось, не то, видит Бог, я тебя придушу!
Фон Шлегель бросился вперед с диким криком, подняв оружие, но Штраус не растерялся: решительно нырнув под руку, сжимавшую топор, и рискуя получить страшный удар по голове, обхватил нападавшего за талию. Недолгое время студенты, сцепившись и раскачиваясь, боролись друг с другом не на жизнь, а на смерть. Шлегель силился перехватить свое оружие так, чтобы поразить Штрауса, но тому удалось невероятным усилием повалить его на землю. Еще несколько минут они катались по снегу. Оборонявшийся удерживал правую руку нападавшего и изо всех сил звал на помощь. Эти крики оказались ненапрасными: еще немного, и Шлегель сумел бы высвободиться, если бы на шум не прибежали два дюжих жандарма. Даже троим мужчинам нелегко было справиться с маниакальной силой Шлегеля. Отобрать у него топор они так и не смогли, но у одного из полицейских была при себе веревка, которой тот быстро и крепко связал обезумевшего студента. На этой веревке его, кричавшего и яростно сопротивлявшегося, доволокли, толкая в спину, до главного управления полиции.
Помогая усмирять бывшего друга, Штраус громко протестовал против ненужного насилия и твердил, что арестованному место не в тюрьме, а в приюте для умалишенных. События минувшего получаса были слишком внезапны, и подвергшийся безумному нападению сам ощущал в голове туман. Что все это значило? Друг детства пытался лишить его жизни и едва не преуспел в этом – здесь сомнений быть не могло. Убил ли Шлегель профессора Хопштайна и Шиффера? Штраус чувствовал ошибочность этого подозрения: еврея Отто вовсе не знал, а о профессоре всегда отзывался как о любимом своем учителе. Подавленный горем и растерянный, молодой человек механически добрел до полицейского управления.
Обязанности отсутствовавшего комиссара исполнял инспектор Баумгартен, один из лучших, известнейших и самых неутомимых полицейских города. Этот маленький жилистый энергичный человечек был тих и скромен в своих привычках, но обладал редкой проницательностью и неослабевающей бдительностью. Сейчас, после шести часов ночного дежурства, он сидел так же прямо, как и всегда, за своим рабочим столом, заложив перо за ухо, пока его друг, младший инспектор Винкель, храпел на стуле у печки. И все-таки даже он, Баумгартен, позволил своему обыкновенно неподвижному лицу принять удивленное выражение, когда дверь распахнулась и в комнату втащили мертвенно-бледного растрепанного фон Шлегеля с серебряным топором в крепко сжатой руке. Рассказ Штрауса и жандармов, надлежащим образом занесенный в протокол, только усугубил удивление инспектора.
– Так-так, молодой человек, – сказал он, откладывая перо и строго глядя на арестованного, – хорошую работенку вы задали нам рождественским утром. Зачем вы это сделали?
– Не знаю! – воскликнул фон Шлегель, закрыв лицо обеими руками.
Как только он выронил топор, с ним опять произошла перемена: на сей раз яростное возбуждение сменилось горестной покорностью.
– Вы ставите себя под подозрение в совершении двух других убийств, запятнавших честь нашего города.
– Нет-нет, я этого не делал! – с горячностью возразил фон Шлегель. – Боже упаси!
– Но в покушении на жизнь герра Леопольда Штрауса вы признаетесь?
– В целом мире у меня нет более дорогого друга, – простонал студент. – О, как я мог! Как я мог!
– То, что вы с ним друзья, делает ваше преступление в десять крат ужаснее, – произнес инспектор сурово. – Уведите арестованного до утра в… Постойте! Кто там еще идет?
Дверь отворилась, и в комнату вошел некто до того измученный и иссушенный горем, что его не трудно было принять за привидение. Направляясь к инспекторскому столу, он на каждом шагу спотыкался и хватался руками за спинки стульев. Далеко не каждый узнал бы в этом жалком существе некогда веселого и цветущего герра Вильгельма Шлессингера, младшего хранителя музея и приват-доцента химии, но опытный глаз Баумгартена не обманула даже столь разительная перемена.
– Доброго утра, mein Herr[7], – сказал он. – Рано вы сегодня поднялись. Вы, наверное, потому пришли, что услышали об аресте вашего студента фон Шлегеля за попытку убить Леопольда Штрауса?
– Нет, я по собственному делу, – прохрипел Шлессингер, поднося руку к горлу. – Пришел снять с души тяжесть великого греха, хотя, видит Бог, непредумышленного. Я тот, кто… О милостивые Небеса! Вот же она – эта проклятая вещь! Ах, лучше бы я никогда ее не видел… – Он отпрянул в пароксизме ужаса, глядя на топор, лежавший на полу, и указывая на него исхудавшей рукой. – Вот! Смотрите! Мое орудие явилось сюда, чтобы меня обличить! Видите на лезвии коричневые пятна? Знаете, что это? Это кровь моего лучшего, дражайшего друга профессора фон Хопштайна. Она брызнула выше рукояти, когда я разрубил ему голову! Mein Gott[8], я и сейчас это вижу!
– Младший инспектор Винкель, – сказал Баумгартен, стараясь сохранять строгость, приличествующую его должности. – Арестуйте этого человека, обвиняемого на основании собственного признания в убийстве профессора фон Хопштайна. Я также передаю под вашу охрану Отто фон Шлегеля, обвиняемого в покушении на герра Штрауса. И еще возьмите этот топор, – Баумгартен поднял оружие с пола, – которым, по всей вероятности, были совершены оба преступления.
При этих словах инспектора пепельно-бледный Вильгельм Шлессингер, до сих пор сидевший бессильно облокотившись о стол, взволнованно поднял голову.
– Что вы сказали? – вскричал он. – Фон Шлегель напал на Штрауса? На своего закадычного друга? А я убил моего старого учителя! Это же магия, скажу я вам, это колдовство! На нас чары! Это… О, я понял! Это топор, будь он трижды проклят!
И Шлессингер конвульсивным движением указал на оружие, которое Баумгартен по-прежнему держал. Инспектор презрительно улыбнулся и проговорил:
– Возьмите себя в руки, mein Herr. Вы лишь усугубляете свое положение, придумывая столь невероятные оправдания тому злодеянию, в котором признались. «Колдовство», «чары» – в лексиконе юриста нет таких слов. В этом мы с моим другом Винкелем можем вас заверить.
– Как знать, – отозвался младший инспектор, пожав широкими плечами. – Мало ли в мире загадок? Может, и это…
– Что?! – яростно взревел Баумгартен. – Ты смеешь мне перечить? Своим мнением обзавелся? Вздумал защищать этих проклятых убийц? Дурак, жалкий дурак! Пришел твой смертный час!
С этими словами инспектор бросился на своего обомлевшего помощника и так взмахнул топором, что последнее утверждение оказалось бы правдой, если бы не балки низкого потолка, которых он, Баумгартен, в неистовстве не заметил. Лезвие вошло в древесину и осталось торчать, дрожа; рукоять же разлетелась на тысячу осколков.
– Что я сделал? – ахнул инспектор, упав в свое кресло. – Что сделал?
– Вы доказали правдивость слов герра Шлессингера, – сказал фон Шлегель, шагнув вперед (потрясенные полицейские перестали его удерживать). – Вот что вы сделали. Вопреки здравому смыслу, фактам науки и вообще всему на свете, некие чары существуют, и мы сейчас наблюдали их действие. Ведь разве можно объяснить это как-то иначе? Штраус, старина, ты же знаешь: в своем уме я бы и волоска на твоей голове не повредил. А вы, Шлессингер? Нам всем известно, как вы любили покойного профессора. И наконец, вы, инспектор Баумгартен. Разве по собственной воле вы бы ударили вашего друга?
– Ни за что на свете, – пробормотал инспектор, закрывая лицо руками.
– В таком случае, по-моему, дело ясно. Теперь, хвала небесам, проклятая штуковина разбилась и никому больше не повредит. Но поглядите, что это?
В самой середине комнаты лежал потемневший клочок пергамента, свернутый в трубочку. Бросив взгляд на осколки рукояти топора, присутствующие тотчас поняли, что она была полая. Маленький свиток, очевидно, выпал из этой полости, а некогда был туда вставлен через маленькое отверстие, которое потом запаяли. Фон Шлегель развернул грамоту. Насколько ему удалось разобрать (от времени буквы сделались очень неразборчивыми), в документе на средневековом немецком сообщалось следующее:
«Diese Waffe benutzte Max von Erlichingen, um Joanna Bodeck zu ermorden; deshalb beschuldige ich, Johann Bodeck, mittelst der Macht, welche mir als Mitglied des Concils des rothen Kreuzes verliehen wurde, dieselbe mit dieser Unthat. Mag sie anderen denselben Schmerz verursachen, den sie mir verursacht hat. Mag jede Hand, die sie ergreift, mit dem Blut eines Freundes geröthet sein.
Immer übel, niemals gut,
Geröthet mit des Freundes Blut».
Привожу приблизительный перевод: «Сим оружием Макс фон Эрлихинген убил Йоанну Бодек. Посему я, Йохан Бодек, властию, данной мне как советнику ордена Розы и Креста, проклинаю названный предмет. Да причинит он другим ту боль, которую причинил мне. Пусть всякая рука, его взявшая, обагрится кровью любимого существа.
Не добро, но зло творит,
Кровью дружеской омыт».
Когда фон Шлегель кончил разбирать по складам эту странную грамоту, в комнате воцарилась тишина. Как только он опустил руку, державшую пергамент, Штраус ласково коснулся его плеча.
– Мне, дорогой друг, и не нужно было этого доказательства. В тот же момент, когда ты на меня накинулся, я уже простил тебя в своем сердце. Уверен, что если бы бедный профессор был сейчас здесь, сказал бы то же самое герру Вильгельму Шлессингеру.
– Господа, – произнес инспектор, вставая и вновь принимая официальный тон. – Это происшествие, невзирая на всю его странность, должно быть расследовано по всем правилам. Младший инспектор Винкель, как ваш начальник я приказываю вам арестовать меня за покушение на вашу жизнь и препроводить в тюрьму вместе с герром фон Шлегелем и герром Шлессингером. Мы, все трое, предстанем перед судом, а вы позаботьтесь об этой улике, – Баумгартен указал на пергамент, – и в мое отсутствие употребите ваши силы и время на то, чтобы, принимая во внимание обнаружившиеся факты, разыскать убийцу герра Шиффера, богемского еврея.
Последнее недостающее звено этой цепи скоро было найдено. Жена университетского привратника Райнмауля 28 декабря, возвратившись в спальню после недолгого отсутствия, обнаружила безжизненное тело мужа, висевшее на вбитом в стену крюке. На полу валялся опрокинутый стул, а на столе лежала записка: Райнмауль признавался в убийстве еврея Шиффера, который был ему лучшим другом. Он совершил это преступление не предумышленно, но под действием некоего необоримого побуждения. Горе и раскаяние, писал он, привели его к самоубийству. В последней строке предсмертной записки Райнмауль вверял свою душу милостивым Небесам.
Судебное разбирательство, последовавшее вскоре, оказалось одним из страннейших в истории юриспруденции. Напрасно прокурор утверждал, что объяснения, предоставляемые обвиняемыми, неправдоподобны и в суде девятнадцатого века негоже обсуждать такие явления, как «колдовские чары». Цепь фактов была настолько прочна, что присяжные единогласно оправдали подсудимых. «Топор с серебряной рукоятью, – сказал судья в своей заключительной речи, – неподвижно провисел на стене замка графа фон Шуллинга почти двести лет. В вашей памяти еще свежи трагические сообщения о смерти его сиятельства от рук дворецкого, к которому он благоволил. Следствию стало известно, что за несколько дней до совершения преступления убийца тщательно осмотрел и вычистил старинное оружие, хранившееся в замке. Выполняя это поручение, он не мог не прикоснуться к рукояти топора, после чего и лишил жизни своего хозяина, которому преданно служил двадцать лет. Затем, согласно завещанию графа, топор отправился в Будапешт. На станции герр Вильгельм Шлессингер взял его в руки и менее чем через два часа использовал для смертоносного нападения на профессора. Следующим к серебряной рукояти прикоснулся привратник Райнмауль, помогавший переносить коллекцию из повозки в хранилище. При первой же возможности он вонзил топор в тело своего давнего приятеля Шиффера. Далее мы имеем попытки убийства Штрауса Шлегелем и Винкеля Баумгартеном. И студент, и инспектор напали на своих друзей после того, как взялись за серебряную рукоять. Наконец, по удачному стечению обстоятельств, был обнаружен удивительный документ, содержание которого вам зачитал судебный секретарь. Господа присяжные, я призываю вас тщательно обдумать эти факты, с тем чтобы вынести вердикт, сообразуясь лишь с собственной совестью, без страха и без пристрастия».
Пожалуй, из всего, что было сказано на том процессе, наибольший интерес для английского читателя представляют не встретившие особого одобрения венгерской публики показания доктора Лангеманна, известного криминалиста, автора учебников по металловедению и токсикологии. Он сказал так: «Не знаю, господа, стоит ли искать объяснение произошедшему в некромантии или черной магии. Мое мнение лишь гипотеза, доказательствами я не располагаю, однако в столь незаурядном деле всякое предположение может оказаться полезным. Розенкрейцеры, то есть члены тайного общества Розы и Креста, упоминаемого в манускрипте, были искусными алхимиками. Имена некоторых из них дошли до наших дней. Как ни велики успехи современной науки, существуют сферы, в которых наши предки нас превосходили. Нигде их преимущество не было так сильно, как в искусстве изготовления смертельных ядов незаметного действия. Бодек, один из старейшин ордена, несомненно, знал рецепты многих микстур, которые, подобно воде госпожи Тофаны[9], действовали через поры кожи. Можно предположить, что рукоять топора была смазана неким веществом, способным к диффузии и вызывающим у человека внезапные острые приступы мании убийства. Как известно, во время таких приступов ярость маньяка бывает направлена в первую очередь против тех, кого он, будучи в здравом уме, больше всех любит. Повторю: доказательств этой теории у меня нет. Я лишь предлагаю вашему вниманию свою догадку, не ручаясь за ее достоверность».
Этой выдержкой из речи профессора, известного своими обширными знаниями и находчивым умом, мы закончим рассказ о нашумевшем судебном разбирательстве.
Обломки топора были утоплены в глубоком пруду. Для этого использовали ученого пуделя, который переносил их в зубах: люди не желали прикасаться к осколкам серебряной рукояти, опасаясь, что она могла отчасти сохранить свои пагубные свойства. Пергамент передали в университетский музей. Что до Штрауса и Шлегеля, Винкеля и Баумгартена, то они остались лучшими друзьями, каковыми, вероятно, и являются по сей день, – во всяком случае, свидетельств противоположного я не встречал. Шлессингер сделался хирургом при кавалерийском полку и через пять лет погиб в битве при Садове[10], спасая раненых под артиллерийским огнем. По оставленному им завещанию, его небольшое наследство надлежало продать и на вырученные деньги поставить мраморный обелиск над могилой профессора фон Хопштайна.
1883
Перевод М. Николенко
Капитан «Полярной звезды»
(Отрывок из дневника Джона Мак-Алистера Рея, студента-медика)
11 сентября. 81 градус 40 минут северной широты и 2 градуса восточной долготы. Мы по-прежнему дрейфуем среди гигантских льдин. Та, которая расположена к северу от нас и на которой закреплен наш ледовый якорь, наверное, не меньше, чем какое-нибудь английское графство. Справа и слева от нас ледяные просторы уходят за горизонт. Утром помощник капитана сообщил, что на юге заметны признаки появления пакового льда. Если он достаточно толст, чтобы заблокировать нам путь, то мы окажемся в крайне опасном положении, ибо, насколько мне известно, наши запасы продовольствия подходят к концу. Дело к зиме, поэтому постепенно возвращается ночь. Рано утром над фок-реем я заметил мерцающую звезду, пожалуй, впервые с начала мая. Среди команды растет недовольство: все хотят поскорее вернуться домой, чтобы успеть к началу лова сельди, – в этот период труд матроса в Шотландии в большой цене. До сих пор их неудовольствие проявлялось лишь в мрачном выражении лиц да еще во взглядах исподлобья, но сегодня второй помощник сказал мне, что они собираются послать делегацию к капитану, дабы высказать свои претензии лично ему. Не знаю, как тот это воспримет, ибо нрава он буйного и очень чувствителен ко всему, что может выглядеть как посягательство на его права. Думаю после обеда рискнуть и переговорить с ним на этот счет. Из нашего общения мне удалось вынести впечатление, что от меня он часто готов стерпеть то, чего бы никогда не спустил ни одному члену экипажа.
Если встать ближе к правому борту на корме, то можно увидеть остров Амстердам возле северо-западной оконечности Шпицбергена: неровную линию вулканических скал с виднеющимися тут и там белыми вкраплениями – так издали выглядят ледники. И кажется удивительной мысль, что на добрых девятьсот миль, то есть на расстоянии птичьего перелета от нас, совсем нет человеческого жилья, за исключением, пожалуй, датских поселений на юге Гренландии. Капитан берет на себя большую ответственность, отваживаясь на подобное плавание. Ни один китобой так поздно не задерживался в этих широтах.
21:00. Я поговорил с капитаном Крэйги и, хотя результат вряд ли можно признать удовлетворительным, должен сказать, что он выслушал меня в высшей степени спокойно и даже благосклонно. Когда я закончил свою речь, на его лице появилось так хорошо знакомое мне выражение непоколебимой уверенности в себе, и он начал быстро ходить по каюте взад-вперед. Поначалу я испугался, что капитан усмотрел что-то оскорбительное в моих словах, но вскоре он рассеял мою тревогу – наконец сел и почти ласково накрыл мою руку своей. В горячем взгляде его темных глаз промелькнула необычайная теплота, немало меня удивившая.
– Послушайте, доктор, – сказал он, – мне жаль, что я взял вас в это плавание, и я готов немедленно выложить пятьдесят фунтов за то, чтобы увидеть вас стоящим на пристани в Данди. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. К северу от нас – киты. Как, сэр, вы позволяете себе усомниться, когда я самолично залезал на топ мачты и собственными глазами видел, как они пускают фонтаны? – Этот взрыв ярости оказался неожиданным для меня, ибо я, как мне кажется, не выразил ни малейшего сомнения в правдивости его слов. – Двадцать две рыбины, каждая не меньше десяти футов[11], и это так же точно, как то, что я стою здесь, перед вами. И неужели, доктор, вы думаете, что я покину это место теперь, когда от богатства меня отделяет лишь тонкая полоска льда? Если бы завтра подул северный ветер, мы бы загрузились до краев и отчалили отсюда, прежде чем нас успеет сковать льдом. Если же подует с юга – ну что ж, команде платят за риск, а мне все равно, потому что гораздо более прочные узы связывают меня с миром иным, нежели с земной жизнью. Честно сказать, мне жаль только вас. Лучше бы на вашем месте был Ангус Тэйт, который плавал со мной в прошлый раз: он не из тех, кого стоит жалеть, – а вот вы… вы, я слышал, помолвлены…
– Да, – ответил я, нажимая на пружину медальона, закрепленного на цепочке от часов, и открывая миниатюрный портрет Флоры.
– Черт вас дери! – заорал он, буквально подскочив на месте и придя в такую ярость, что даже борода у него встала дыбом. – Какое мне дело до вас и до ваших радостей! С какой стати вы размахиваете передо мной ее портретом?
Мне даже показалось, что, ослепленный гневом, капитан сейчас ударит меня, но вместо этого, продолжая чертыхаться и сыпать проклятиями, он распахнул дверь каюты и выскочил на палубу, оставив меня в недоумении по поводу причин столь неожиданной и странной вспышки. Должен сказать, что такое с ним случилось впервые, поскольку со мной он всегда был приветлив и учтив. Пишу сейчас эти строки и слышу, как он в ярости шагает у меня над головой.
Мне бы очень хотелось описать характер этого человека, но будет, пожалуй, излишне самонадеянным доверять бумаге мысли, которые еще не приобрели четких очертаний в моем мозгу. Несколько раз мне казалось, что я нашел ключ к разгадке его характера, но очередной его поступок представлял его в новом свете и полностью переворачивал мои прежние представления о нем. Наверное, никому, кроме меня, не доведется читать эти строки, так что в качестве психологического эксперимента попытаюсь набросать портрет капитана Николаса Крэйги.
Обычно во внешности человека проявляются особенности его душевной организации. Капитан высок и хорошо сложен, у него приятное смуглое лицо, но странная привычка дергать конечностями, которая либо проистекает от нервозности, либо дает выход его бурной энергии. У него волевой подбородок, во всем его облике чувствуется мужественность и решительность, но особенное внимание останавливают на себе его глаза. В этих темно-карих, ясных и живых глазах мелькает огонек сумасбродства и еще что-то трудноуловимое, что больше, мне кажется, похоже на глубоко запрятанный ужас, чем на какие-либо иные чувства. Обычно преобладает сумасбродство, но иногда, особенно если он впадает в состояние задумчивости, на его лице читается выражение страха и до неузнаваемости изменяет его. Именно в такие минуты он больше всего подвержен буйным вспышкам гнева; видимо, капитан и сам это сознает, если судить по тому, что время от времени он запирается у себя в каюте и не выходит до тех пор, пока этот приступ не пройдет. Он плохо спит, и часто по ночам до меня доносятся его крики, но, поскольку наши каюты находятся на некотором удалении друг от друга, слов мне ни разу разобрать так и не удалось.
Такова одна, причем самая непривлекательная, сторона его характера, и мне довелось узнать ее лишь потому, что мы тесно общаемся изо дня в день. Во всем остальном это приятный человек, начитанный и интересный собеседник и самый отважный моряк, какой когда-либо ступал на палубу корабля. Я никогда не забуду, как умело он управлял нашей шхуной, когда в начале апреля сильный шторм застал нас среди дрейфующих льдов. Я никогда прежде не видел его таким бодрым и даже веселым, как в ту ночь, когда он расхаживал взад-вперед по капитанскому мостику под вспышки молний и завывания ветра. Не раз он говорил мне, что мысль о смерти радует его, и это грустно слышать от молодого человека: ему вряд ли больше тридцати, хотя волосы и усы его уже подернуты сединой. Очевидно, его постигло какое-то страшное несчастье, которое лишает человеческую жизнь всякого смысла. Может, я и сам бы стал таким, доведись мне – не дай бог! – потерять мою Флору. Если бы не она, меня вряд ли бы так заботило, откуда завтра подует ветер: с севера или с юга. Ну вот, я слышу, как он спустился вниз и заперся у себя, – лучшее доказательство того, что он все еще пребывает в состоянии черной меланхолии. А теперь – на боковую, как сказал бы старина Пепис: свеча догорает (сейчас, когда ночи стали возвращаться, нам приходится сидеть при свечах), а стюард уже улегся спать, так что нет никаких шансов получить новую.
12 сентября. Сегодня спокойный, ясный день, и в нашем положении ничего не изменилось. С юго-востока дует ветер, но он очень слаб. Капитан повеселел и за завтраком извинился передо мной за вчерашнюю грубость. Однако он все еще кажется рассеянным, и глаза его сохраняют все тот же безумный блеск, который, по представлениям шотландцев, означает, что человек обречен, – так сказал мне однажды старший механик, который среди кельтской части нашего экипажа слывет провидцем и толкователем разного рода предзнаменований.
Странно, до какой степени суеверие завладело сознанием этой в целом расчетливой и практичной нации. Я бы никогда в жизни не поверил, если бы своими глазами не видел, какие формы и размеры оно может приобретать. За время нашего плавания эта напасть приняла повальный характер и превратилась бы в эпидемию, если бы мне вовремя не пришло в голову добавлять в субботнюю порцию грога успокоительные и укрепляющие нервную систему порошки. Первые признаки безумия начали появляться вскоре после того, как мы покинули Шетландские острова: рулевые стали жаловаться, что слышат жалобные крики и стоны, доносящиеся со стороны кильватера, словно кто-то гонится за нами и никак не может догнать. Эта байка имела хождение во время всего плавания, поэтому в темные ночи перед началом тюленьего промысла капитану стоило большого труда назначить вахтенных. Скорее всего, они слышали скрип руля или крик каких-то пролетавших мимо морских птиц. Несколько раз меня поднимали с постели, заставляя вслушиваться в ночные звуки, однако вряд ли стоит говорить, что ничего сверхъестественного я не уловил. Матросы тем не менее стоят на своем и настолько уверены в собственной правоте, что спорить с ними просто бесполезно. Однажды я со смехом рассказал об этом капитану, но он, к моему удивлению, воспринял все совершенно серьезно и даже, по-моему, был не на шутку встревожен, хотя уж ему-то следовало быть выше этих нелепых предрассудков.
Раз уж я подробно остановился на суевериях, то нелишне будет вспомнить, что мистер Мэнсон, второй помощник, видел вчера привидение, – так он, во всяком случае, утверждает, что, по сути, одно и то же. Похоже, теперь у нас есть новая тема для разговоров; надеюсь, она внесет свежую струю в бесконечную череду рассказов о медведях и китах, которыми мы потчевали друг друга на протяжении всех этих долгих месяцев. Мэнсон клянется, что привидение поселилось на корабле, и говорит, что ни на минуту не задержался бы здесь, будь у него возможность уйти. Похоже, бедный парень не на шутку перепуган, и сегодня утром мне пришлось дать ему бромистый калий и хлорал, чтобы он хоть немного пришел в себя. Мэнсон здорово взбеленился, когда я высказал предположение, что накануне вечером он просто хватил лишку. Мне пришлось вновь успокаивать его, слушая его рассказ и изо всех сил стараясь сохранять на лице серьезное выражение, а он, надо сказать, говорил очень искренне и убежденно, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся.
– Заступил я на вахту ночью, – рассказывал Мэнсон. – На капитанский мостик поднялся около четырех утра, а это сейчас самая темень. Луну то и дело закрывали облака, и уже в двух шагах от шхуны был полный мрак. Тут появился Джон Мак-Леод, гарпунщик; он шел от бака к корме и сказал мне, что на носу у правого борта слышал какие-то странные звуки. Мы пошли туда и слышим: то вроде ребенок плачет, то девушка причитает. Я уж, почитай, семнадцать лет плаваю в этих местах, но никогда еще не слыхал, чтобы котик, хоть малыш, хоть взрослый самец, издавал такие звуки. И вот стоим мы на баке, тут из-за тучки выходит луна, и вдруг глядь – по льду движется белая фигура, и оттуда до нас долетают стоны и плач. На какой-то миг мы потеряли ее из виду, но она снова появилась слева по борту – мы поняли это по тени на снегу. Я отправил матроса за ружьями на корму, а сам вместе с Мак-Леодом спустился на лед: мы решили, что это медведь. Внизу я Мак-Леода сразу не разглядел, и тогда сам пошел туда, откуда слышался стон. Прошел я милю или даже две, сейчас трудно сказать, и вот огибаю торос и нос к носу сталкиваюсь с ним. А оно стоит – должно быть, меня поджидает. Не знаю, что это было, но точно не медведь. Такое высокое, белое и прямое. И если это не мужчина и не женщина, то, значит, кое-что пострашнее. Я, не чуя под собой ног, рванул к кораблю и пришел в себя, только когда оказался на борту. Раз уж я завербовался на этот корабль, то ничего не поделаешь, но чтобы я еще раз сошел в темноте на лед – нет уж, слуга покорный!
Таков его рассказ, я по мере сил старался не изменить в нем ни слова. Полагаю все-таки, что он видел молодого медведя, вставшего на задние лапы: они часто принимают такую позу в минуты опасности. При неверном свете луны человеку, чьи нервы крайне напряжены, могло показаться, что это человеческая фигура. Но как бы то ни было, все случилось весьма некстати, поскольку происшествие неблагоприятно сказалось на экипаже. Лица людей стали более замкнутыми, а недовольство более открытым. Они раздражены тем, что опоздали к лову сельди. К этому примешивается тревога – им чудится, что они заточены на шхуне, населенной призраками; одно усугубляет другое и может толкнуть их на какое-нибудь безрассудство. Даже гарпунщики, самые степенные и наиболее уравновешенные члены команды, и те разделяют общее беспокойство.
Если не считать этой дикой вспышки суеверия, дела на судне обстоят не так уж плохо. Лед, который образовался к югу от нас, частично исчез, вода заметно потеплела, и мне ничего не остается, как поверить в то, что мы попали в течение Гольфстрим, которое проходит между Шпицбергеном и Гренландией. Вокруг корабля много мелких медуз и морских котиков, а также скопление планктона, и я не исключаю, что вскоре на горизонте появится кит. Мы даже видели одного незадолго до обеда: он выпускал фонтан, – но к тому месту, где он дрейфовал, невозможно было подойти даже на лодках.
* * *
13 сентября. Имел на мостике любопытный разговор с мистером Мильном, старшим помощником. Оказывается, наш капитан – большая загадка не только для меня, но и для всей команды и даже для владельцев судна. Мистер Мильн рассказывает, что, после того как, возвратившись из плавания, команда получает плату за труд, капитан Крэйги исчезает и показывается лишь в начале следующего сезона: неожиданно заявляется в представительство компании и предлагает свои услуги. В Данди у него нет друзей, так что ни от кого не доводилось слышать даже намеков на его прошлое. Своим авторитетом он обязан исключительно собственному искусству моряка и репутации мужественного и храброго человека, которую заслужил в бытность свою помощником капитана, еще до того, как ему доверили отдельный экипаж. Кажется, все разделяют мнение, что он не шотландец и носит вымышленное имя. Мистер Мильн полагает, что капитан стал китобоем только потому, что это самая опасная из всех профессий, какие только он мог избрать, и что он всеми возможными способами стремится навлечь на себя смерть. Мистер Мильн привел несколько тому примеров, один из которых весьма интересен, если, конечно, все произошло именно так. Случилось, что как-то весной капитан не объявился в конторе, и владельцам компании пришлось искать ему замену. Было это как раз во время последней Русско-турецкой войны. Когда же следующей весной он появился в порту, у него на шее красовался рубец, который он тщетно пытался закрыть галстуком. Мне трудно судить, насколько верна догадка старшего помощника, что капитан участвовал в войне, – возможно, это простое совпадение.
Ветер меняется на восточный, но он все еще очень слаб. Похоже, лед подступил к нам ближе, чем вчера. На сколько хватает глаз, со всех сторон нас окружает бескрайнее белоснежное пространство, лишь изредка прерываемое полыньей или темной тенью тороса. На юге виднеется узкая полоска воды – наша единственная надежда на спасение, но и она сужается день ото дня. Капитан слишком много на себя берет. До меня дошел слух, что картошка вся съедена и даже запасы сухарей подходят к концу, а он сохраняет на лице все то же невозмутимое выражение и бо́льшую часть дня проводит в «вороньем гнезде», оглядывая горизонт в подзорную трубу. Его настроение постоянно меняется, и он, похоже, избегает меня, но вспышки ярости, подобные той, что произошла позавчера, больше не повторялись.
19:30. Теперь я твердо убежден: нами командует сумасшедший. Иначе невозможно объяснить странное поведение капитана Крэйги. Как хорошо, что я завел этот дневник: он послужит нам оправданием, если мы будем вынуждены тем или иным образом ограничить его свободу, – мера, на которую я, правда, соглашусь только в крайнем случае. Странно, что Крэйги сам высказал мысль, будто причиной его необычного поведения стало помешательство, а не простая эксцентричность. Получилось так, что около часа назад я прогуливался по шканцам и увидел, как он стоит на мостике, глядя, как всегда, в подзорную трубу. Бо́льшая часть команды распивала внизу чай, в последнее время открыто пренебрегая несением вахты. Устав от бесцельного хождения, я прислонился к фальшборту, любуясь мягким отблеском закатного солнца на ледяных полях. Неожиданно мое уединение было прервано хриплым голосом, прозвучавшим у меня над ухом; резко обернувшись, я увидел, что это капитан: он спустился с мостика и теперь стоял рядом со мной. Он пристально смотрел на ледяную пустыню, взгляд его выражал борьбу противоречивых чувств, и непонятно было, какое же из них в конце концов одержит верх: ужас, удивление или нечто вроде радости. Несмотря на холод, лоб у него был покрыт испариной, да и весь его вид выдавал крайнее возбуждение. Он дергал руками и ногами, словно человек, находящийся на грани эпилептического припадка; лицо исказилось, вокруг губ залегли жесткие складки.
– Смотрите! – задыхаясь, произнес капитан и схватил меня за руку, вглядываясь куда-то в глубь ледяной равнины; при этом он поворачивал голову то вправо, то влево, словно следил за каким-то объектом. – Смотрите! Вон, вон там, между торосов! Вот сейчас выходит из-за глыбы, из-за той, что подальше! Вы видите ее? Ведь вы же должны ее видеть! Она все еще там! Улетает от меня, ей-богу, улетает – все, исчезла совсем!
Последние два слова капитан прошептал так, словно испытал нестерпимую боль; этот миг навсегда сохранится в моей памяти. Хватаясь за лини, он попытался взобраться по фальшборту, словно хотел в последний раз взглянуть на исчезающее виде́ние. Однако у него не хватило сил; тогда он отошел, шатаясь, к иллюминаторам кают-компании и там прислонился к стене, задыхающийся и вконец утомленный. Лицо капитана было настолько серым и безжизненным, что мне показалось, будто он вот-вот лишится чувств, поэтому, не теряя времени, я помог ему спуститься вниз и уложил на кровать. Потом я налил ему немного бренди, и тот оказал чудесное действие, стоило мне поднести стакан к его губам. Краска вновь проступила на его бледном лице, ноги перестали судорожно подергиваться и внезапно расслабились. Капитан приподнялся на локте, огляделся вокруг и, убедившись, что мы одни, взглядом приказал мне сесть рядом с собой.
– Вы видели ее, не так ли? – спросил он все тем же исполненным благоговейного трепета голосом, столь противоречащим натуре этого человека.
– Нет, я ничего не видел.
Капитан вновь откинулся на подушки.
– Ну конечно, вряд ли он мог увидеть что-нибудь без подзорной трубы, – пробормотал он. – Конечно, не мог. Только подзорная труба дала мне возможность увидеть ее, да еще глаза влюбленного, мои любящие глаза. Прошу вас, доктор, только не пускайте сюда стюарда. Он подумает, что я сошел с ума. Пожалуйста, закройте дверь на щеколду!
Я исполнил его просьбу.
Некоторое время капитан лежал молча, погруженный в собственные думы, а потом опять приподнялся на локте и попросил еще бренди.
– Вы ведь так не думаете, доктор? – спросил он, когда я ставил бутылку на место. – Скажите откровенно, вы-то не считаете меня сумасшедшим?
– Мне кажется, вас что-то тревожит, – ответил я. – Что-то очень волнует вас, и ничего, кроме вреда, это вам не принесет.
– Это точно, сэр! – вскричал капитан, глаза его сверкали от выпитого бренди. – Меня беспокоит весьма многое, весьма! Но я еще в состоянии вычислить широту и долготу, еще справляюсь с секстантом и логарифмами. Вы ведь не сможете доказать в суде, что я сумасшедший, ведь не сможете, верно?!
Признаюсь, я был озадачен тем, как запросто этот человек обсуждает вопрос своего психического здоровья.
– Возможно, что и не смогу, – ответил я, – но я по-прежнему считаю, что с вашей стороны было бы в высшей степени благоразумным ускорить свое возвращение домой и некоторое время вести жизнь спокойную и размеренную.
– Домой, да? – пробормотал он с ехидной ухмылкой. – Сами мне это советуете, а про себя думаете: «Вот вернусь и буду жить с Флорой, с моей чудной маленькой Флорой!» Ведь так, сэр? Скажите-ка лучше, плохие сны могут служить признаком безумия?
– Иногда могут, – сказал я.
– А еще что? Какие там первые симптомы?
– Головные боли, шум в ушах, вспышки света перед глазами, галлюцинации…
– Ага! – перебил капитан. – Что вы имеете в виду? Что вы называете галлюцинацией?
– Если видишь предмет, которого на самом деле не существует, – это и есть галлюцинация.
– Но она действительно была там! – простонал он про себя. – Она там была!
Поднявшись, он отодвинул засов и медленно, неверными шагами побрел к своей каюте, где, я уверен, пробудет до утра. Действительно он увидел что-то или нет, но, похоже, испытал сильное потрясение. С каждым днем этот человек становится все непонятнее. Боюсь, что подсказанное им самим объяснение соответствует действительности – рассудок его помутился. Вряд ли его поведение объясняется чувством вины. Эта идея имеет широкое хождение среди офицеров и даже, мне кажется, команды, но лично я не нахожу ей никаких подтверждений. Он совсем не похож на человека, который чувствует себя виноватым. Скорее это человек, испытавший на себе тяжелейшие удары судьбы; для меня он в большей степени жертва, чем преступник.
Сегодня направление ветра меняется на южное. Если будет блокирован тот узкий проход, который является нашей единственной надеждой на спасение, то да хранит нас Господь! Мы находимся на границе арктического шельфового льда, или ледяного барьера, как его называют китобои, поэтому ветер с севера может раздвинуть льды, окружающие нас, и дать нам путь к отступлению, южный же ветер, наоборот, может окружить нас дрейфующими льдами, и тогда мы окажемся в западне. Вновь повторяю: да хранит нас Господь!
14 сентября. Воскресенье, день отдыха. Мои страхи подтвердились, и узкая полоска воды, еще вчера видневшаяся на юге, сегодня исчезла. Вокруг ничего, кроме необъятных безжизненных ледяных полей с причудливыми торосами и фантастическими холмами. Над их безбрежными просторами царит леденящая душу мертвая тишина. Не слышно больше плеска волн, крика чаек, шума наполняющихся ветром парусов – лишь глубокое всепоглощающее безмолвие, так что приглушенные голоса матросов и скрип их башмаков, ступающих по палубе, сверкающей белизной, звучат диссонансом и вообще кажутся неуместными. Единственным нашим визитером был песец, животное, которое довольно редко встречается на многолетних льдах, хотя широко распространено на материке. Однако близко к кораблю он не подошел, а, быстро оглядев нас издалека, пустился наутек. Такое поведение зверька было довольно странным, поскольку эти животные не имеют ни малейшего представления о человеке и, будучи от природы любопытными, ведут себя как ручные, так что их очень легко поймать. Как ни странно, но даже такой незначительный эпизод произвел на команду неблагоприятное впечатление.
– Этот чертов звереныш чует неладное, н-да, и видит то, чего не видишь ни ты, ни я! – так прокомментировал этот инцидент один из лучших гарпунщиков, а все остальные в знак согласия молча закивали.
Бессмысленно даже пытаться опровергнуть такие ребяческие предрассудки. Они вбили себе в голову, что над кораблем тяготеет проклятие, и теперь уже ничто не способно их переубедить.
Капитан весь день был у себя и лишь в полдень на полчаса поднялся на ют. Я видел, как он не отрываясь глядел туда, где вчера ему почудилось виде́ние, и уже готов был к новой вспышке безумия, но, к счастью, таковой не последовало. Мне показалось, что он даже не заметил меня, хотя я стоял совсем рядом. Молитву, как всегда, прочитал старший механик. Удивительно, но на китобойных судах для службы используют молитвенники англиканской церкви, хотя ни среди офицеров, ни среди команды нет ни одного из ее прихожан. На нашей шхуне все либо католики, либо пресвитериане, причем католиков большинство. Но поскольку молитва читается по требнику, который одинаково чужд и тем и другим, никто не может пожаловаться, что кому-то отдается предпочтение, и все слушают с превеликим вниманием и религиозным пылом, так что эта система оправдывает себя.
Великолепный закат – от него бескрайняя ледяная равнина кажется кровавой рекой. В жизни не видал ничего более прекрасного и в то же время неестественного. Ветер опять меняется. Если он будет дуть с севера двадцать четыре часа кряду, все будет хорошо.
15 сентября. Сегодня день рождения Флоры. Милая крошка – счастье, что она не видит своего мальчика, как она любила меня называть, зажатым среди льдов на шхуне с безумным капитаном и запасом провизии, которого едва хватит на несколько недель. Я не сомневаюсь, что она каждое утро просматривает «Скотсмэн» в надежде обнаружить сообщение о том, что мы благополучно прибыли на Шетландские острова. Я должен подавать пример экипажу и выглядеть бодрым и беззаботным, но, видит Бог, сердце у меня не на месте.
Температура девятнадцать градусов по Фаренгейту[12]. Дует легкий ветерок, но, каким бы он ни был, дует он в неблагоприятном для нас направлении. Капитан в прекрасном настроении; я подозреваю, что он – бедняга! – вообразил, будто ночью видел еще один знак, или виде́ние, поскольку рано утром вошел ко мне и, склонившись к самому изголовью, прошептал:
– Все в порядке, док, это не галлюцинация!
После завтрака он попросил меня выяснить, каковы наши припасы, чем мы и занялись вместе со вторым помощником. Оказалось, что продовольствия даже меньше, чем мы ожидали. У нас осталось пол-ящика галет, три бочонка солонины, крайне незначительный запас кофе в зернах и немного сахара. В заднем трюме и рундуках хранится довольно много всяких изысков, например консервированный лосось, суп в банках и баранье рагу с фасолью в консервах, но их хватит ненадолго, если за дело возьмется команда из пятидесяти человек. В цейхгаузе – два бочонка с мукой и нескончаемые запасы табака. Всего этого достаточно, чтобы, наполовину урезав рацион, продержаться еще дней восемнадцать-двадцать, не больше. Когда мы сообщили об этом капитану, он велел свистать всех наверх и, собрав команду на шканцах, обратился к ней с речью. Он был в прекрасной форме и, пожалуй, еще никогда не выглядел столь внушительно: рослый, статный, с обветренным подвижным лицом, он казался человеком, созданным для того, чтобы повелевать. В своей речи он охарактеризовал ситуацию в спокойной и сдержанной манере, как и подобает моряку, и всем стало ясно, что, объективно оценивая опасность, он готов использовать любую возможность для спасения.
– Ребята! – сказал он – Вы, наверно, считаете, что я заманил вас в ловушку – если это, конечно, ловушка, – и, может, даже кое-кто из вас имеет на меня зуб. Но вспомните – ни один корабль, приходивший в наши порты, не привозил с собой столько денег, заработанных на китовом жире, как старушка «Полярная звезда», и каждый из вас всегда сполна получал свою долю. Ваши жены живут в достатке, в то время как наши менее удачливые собратья, возвращаясь из плавания, обнаруживают, что их милые едва сводят концы с концами. За это вы должны благодарить меня, а значит, вы должны благодарить меня за все, что я делаю для вас, и будем считать, что мы квиты. В прошлый раз нам тоже выпало рискованное плавание, и оно удалось, поэтому не стоит теперь винить судьбу за то, что на этот раз мы потерпели неудачу. В крайнем случае спустимся на лед, настреляем тюленей и так продержимся до весны. Но до этого дело не дойдет, потому что не позднее чем через три недели вы увидите побережье Шотландии. А сейчас мы должны наполовину урезать рацион – все до одного, и никому никаких поблажек! Возьмите себя в руки, и вы сумеете пройти через это испытание так же, как сумели преодолеть все трудности, встречавшиеся на вашем пути раньше.
Эти слова возымели удивительное действие на экипаж. Прежняя неприязнь к капитану была тут же забыта, и старик-гарпунщик, которого я уже упоминал в связи с суевериями, трижды крикнул «ура!», с воодушевлением подхваченное всей командой.
16 сентября. Ночью подул северный ветер, и уже появились первые признаки того, что лед готов вскрыться. Команда в хорошем настроении, несмотря на скудный рацион, которым ей приходится теперь довольствоваться. Машинное отделение не останавливается ни днем ни ночью, чтобы без промедления сняться с якоря, как только представится такая возможность. Капитан полон сил, хотя лицо его сохраняет тот жуткий отпечаток обреченности, о котором я уже говорил. Его приступы веселья удивляют меня гораздо больше, чем прежняя меланхолия. Я не могу этого понять. Кажется, я уже упоминал в начале моего дневника, что одной из его странных черт была привычка никого не пускать в свою каюту, он даже сам стелил себе постель и во всем остальном не пользовался ничьей помощью. Каково же было мое изумление, когда сегодня он вдруг протянул мне ключ и попросил спуститься к нему, чтобы снять показания с хронометра, пока он будет измерять высоту солнца в полдень. Каюта оказалась непритязательной комнатушкой с умывальником, никакой роскоши: несколько книг, картины на стенах, большей частью небольшие дешевые олеографии. Но был там один акварельный набросок – голова девушки, который привлек мое внимание.
В этом портрете не было ничего от той кукольной красоты, которая так нравится морякам. Ни один художник не смог бы придумать столь затейливое сочетание силы характера и женской хрупкости. Томные задумчивые глаза с длинными ресницами, широкий низкий лоб, не обремененный ни думами, ни заботами, явно контрастировали с резко очерченным, волевым подбородком и выражающей решительность нижней губой. Внизу, в уголке, была надпись: «М. Б., 19 лет». В тот момент мне показалось почти невероятным, что кто-то в столь юном возрасте сумел развить в себе подобную силу духа, которая явно читалась на этом лице. Это была необыкновенная женщина. Ее черты так очаровали меня, что, будь я художником, линия за линией восстановил бы портрет на этих страницах, хотя видел его только мельком.
Интересно, какую роль эта девушка сыграла в жизни нашего капитана? Рисунок висел в изножье кровати, и взгляд капитана был постоянно обращен на него. Будь он не столь замкнутым, я позволил бы себе высказать ему, какие чувства пробудил во мне этот чудный образ. Больше в каюте не нашлось ничего такого, о чем бы стоило упомянуть: форменные кители, складной походный стул, маленькое зеркальце, табакерка и целая коллекция трубок, среди которых был даже кальян, что, кстати сказать, согласуется с рассказом мистера Мильна об участии капитана в турецкой войне, хотя, возможно, он имеет иное происхождение.
23:20. Только что, после долгой и интересной беседы, капитан ушел спать. При желании он может быть удивительно интересным собеседником, демонстрируя начитанность и умея высказать свое мнение достаточно убедительно, хотя и без излишней категоричности. Ненавижу, когда кто-то пытается навязать мне свое мнение. Он говорил о природе души и очень удачно охарактеризовал идеи Аристотеля и Платона на сей счет. Кажется, он питает слабость к метампсихозу и пифагореизму. Обсуждая эти вопросы, мы коснулись современного спиритизма, и я в шутку упомянул о мошенничествах Слейда, отчего он, к моему удивлению, пришел в сильное возбуждение и возразил, что не стоит смешивать идею и адепта, – так и христианство можно предать позору только из-за того, что среди его проповедников был и будущий предатель Иуда. Вскоре после этого он пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе.
Ветер крепчает; теперь он устойчиво дует с севера. Ночи стали такими же темными, как в Англии. Может быть, завтра мы сможем освободиться от наших ледяных оков.
17 сентября. Опять привидение! Слава богу, у меня крепкие нервы. Суеверность этих бедолаг, их подробный и обстоятельный рассказ, в высшей степени серьезный и проникнутый глубокой внутренней убежденностью, могли бы до смерти напугать любого, кто мало с ними знаком. У этой истории много вариантов, но суть сводится к тому, что всю ночь вокруг корабля летало нечто, и это нечто видели Сэнди Макдональд из Питерхеда и Питер Вильямсон с Шетландских островов, а кроме того, и мистер Мильн, стоя на капитанском мостике, так что теперь, имея троих свидетелей, о призраке можно составить лучшее представление, нежели со слов второго помощника.
После завтрака я беседовал с Мильном и сказал ему, что он, как офицер, должен быть выше такой ерунды и не поощрять команду в ее предрассудках. Он многозначительно, с выражением видавшего виды человека покачал головой и с истинно шотландской осторожностью сказал: