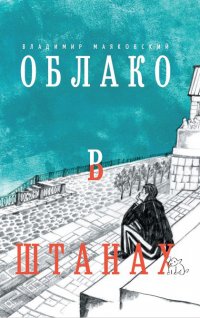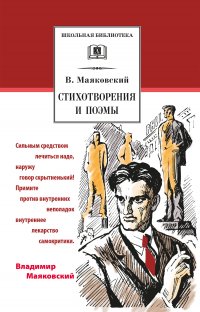
Читать онлайн Стихотворения и поэмы бесплатно
- Все книги автора: Владимир Маяковский
© Кормилов С. И., составление, вступительная статья, комментарии, 2000
© Дурасов Л. П., наследники, иллюстрации, 2000
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2000
⁂
Идущий через громаду лет
У Маяковского как поэта странная судьба, прижизненная и посмертная. Странная и, в общем, неблагополучная, не соответствующая масштабу его таланта – одного из крупнейших в мировой поэзии XX века.
Маяковского уговорили отказаться от строфы, заключавшей в первой, журнальной, публикации (1926) стихотворение «Домой!»:
- Я хочу быть понят моей страной,
- А не буду понят –
- что ж.
- По родной стране
- пройду стороной,
- Как проходит
- косой дождь.
Поэт публично отрекся от этих стихов, а они оказались пророческими. Маяковского мало кто по-настоящему понял и понимает, хотя он мечтал быть поэтом для масс, обращался ко всей Вселенной. До революции и критика, и публика возмущались скандальным футуристом. Некоторые продолжали считать его представителем литературной богемы и в 1920-е годы. Те, кто называли себя пролетарскими писателями (сомнительно было не толь-ко второе, но и первое), упорно не признавали Маяковского своим. Даже лучшие тогдашние советские критики упрекали его в неискренности, приспособленчестве. Добровольный уход из жизни в апреле 1930 года, сразу после «года великого перелома», установившего в СССР единоличную диктатуру и переломившего хребет русскому крестьянству, обернулся для Маяковского посмертными нравоучениями со стороны тех, кто думал, что они знают, как надо жить. Произведения самоубийцы встречали препятствия на пути в печать.
Лишь в конце 1935 года Сталин, руководствуясь политической конъюнктурой, заявил: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление». Тогда уж никто не посмел в этом усомниться. Но услуга верховного борца с преступлениями оказалась медвежьей. Критика и литературоведение повернулись на сто восемьдесят градусов. Все написанное Маяковским было объявлено шедеврами (сам он надеялся на бессмертие лишь некоторых своих строк: «…умри, мой стих, / умри, как рядовой, // как безымянные / на штурмах мерли наши!»), классикой социали-стического реализма (понятие это появилось через два года после смерти Маяковского). Но фактически наследие поэта было весьма тщательно просеяно. Как сатира на советские порядки, так и трагические стихи о любви были преданы забвению, пропагандировались лишь те произведения (зачастую далеко не лучшие), которые поддавались перетолкованию в сугубо официозном духе. Главное же, Маяковского стали навязывать. Борис Пастернак, в свое время потрясенный ранним творчеством Маяковского, охладевший к нему в послереволюционные годы, но высоко оценивший его последнюю поэму «Во весь голос» (с мокрыми глазами стоял Пастернак у гроба Маяковского), в 1956 году написал: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен».
Пока был жив советский миф, большинство читателей если не любило, то уважало «лучшего, талантливейшего». Как художник-новатор он вдохновлял поэтов хрущевской «оттепели», которые сами, впрочем, уже не пользовались покровительством тогдашних властей. Потом Маяковский стал только «школьной программой». Раз надо, раз принято – читали, по-прежнему не понимая, не вдумываясь в подлинное содержание этой поэзии. А когда наступила «перестройка», Маяковского снова стали ниспровергать, называть певцом насилия, бесчеловечности. Талант его показался некоторым критикам сомнительным, ущербным. Самые лихие отрицатели не видели вовсе никакого таланта, но это было так нелепо, что никем не принималось всерьез. Ныне серьезными литературоведами и политические упреки в адрес Маяковского воспринимаются как слишком примитивные. Например, академик М. Л. Гаспаров в своих «Записях и выписках» ссылается на близкое ему мнение: «АПОЛИТИЗМ Маяковского: у него нет прямых откликов ни на троцкизм, ни на шахтинское дело, его публицистичность условна, как мадригал (сказала И. Ю. П.)». Однако массовому читателю его поэзия по-прежнему чужда. Легенды о нем до сих пор перевешивают реально им сделанное.
Разумеется, Маяковский был именно советским поэтом. Он верил в марксизм и коммунизм, точнее, убеждал себя и других в том, что верит, страстно хотел верить, а разочаровавшись в своих грандиозных надеждах (всех сразу, не только социально-политических), не смог жить. Но марксистом и социалистическим реалистом, даже вообще реалистом он не был, лишь некоторыми чертами его творчество начиная с 1924 года близко к раннему социалистическому реализму, еще не превратившемуся в псевдохудожественное иллюстрирование идеологических догм.
Маяковский – самый большой в поэзии XX века новатор, художник со своим оригинальным, сугубо индивидуальным мировоззрением и мироотношением.
Его заблуждения ныне очевидны. Но он не лгал, когда создавал мифы, например о Ленине (его революционных поэм не приняли как раз старые большевики, знавшие Ленина лично; это для не знавших художественный образ подменил настоящего вождя). И заблуждался он точно так же, как Гомер, веривший в Зевса и в циклопов, или Шекспир, не сомневавшийся в существовании ведьм. Маяковский тоже верил, вопреки диалектическому материализму, в личное бессмертие, верил буквально, полагая, что умерший растворяется где-то в космосе («Про это», «Сергею Есенину») и что наука будущего найдет способ собирать из Вселенной молекулы, давным-давно составлявшие данного конкретного человека, и во плоти возрождать его для новой жизни, в которой смерти уже не будет. В поэме «Про это» он через десять веков обращается с такой просьбой к химику, который сможет воскресить его, Маяковского, и его возлюбленную.
В грядущем, о котором мечтал Маяковский, не должно быть не только эксплуатации человека человеком, вражды, бедности, голода, болезней, но и плохих, некрасивых людей, не должно быть несчастной любви, наоборот, именно любовь должна стать сущностью всей очеловеченной вселенной. «Чтоб всей вселенной шла любовь», он и старался вместе с другими «переделать» всю прежнюю жизнь, приветствовал и пропагандировал новое или представлявшееся ему таковым, не жалея своего времени, сил, таланта, безжалостно разбазаривая его на плакаты, агитки, даже на советскую рекламу и относясь к этому делу так же серьезно, как к созданию самых вдохновенных, истинно поэтических произведений. Называл ли он себя футуристом, лефовцем (в 1923 году он образовал группу «Леф», то есть Левый фронт искусств) или тенденциозным реалистом – это было не самое важное. Маяковский всегда оставался мечтателем, создателем грандиознейшей утопии пересоздания всего существующего. Социалистическая революция никогда не была для него самоцелью, а только средством, толчком к неизмеримо более значительным, величественным преобразованиям.
Естественно, будущее ценилось куда больше, чем настоящее (сколь угодно трудное, зато ориентированное на будущее) и, уж само собой, прошлое (пусть более благополучное, но, как казалось, безнадежно мертвое). Маяковский презирал и ненавидел памятники (свой собственный памятник хотел бы взорвать – «Юбилейное», 1924), парадоксально считал настоящим памятником не воплощенное прошлое, а чаемое будущее: «…пускай нам / общим памятником будет // построенный / в боях / социализм» («Во весь голос», 1930). Со временем он подобрел к вершинным явлениям культуры прошлого, но и в них искал то, что созвучно настоящему.
Маяковский не был историком, не стремился канонизировать первые годы революции. Именно в юбилейной, написанной к десятилетию октябрьского переворота (как тогда официально называли события 7–8 ноября 1917 года), поэме «Хорошо!» он заявил:
- Отечество
- славлю,
- которое есть,
- но трижды –
- которое будет.
Кстати, там же он высказывает свое отрицательное отношение к главному советскому памятнику-символу – Мавзолею Ленина – при всем пиетете перед самим Лениным: «Но в эту / дверь / никакая тоска // не втянет / меня, / черна и вязка́, – // души́ / не смущу / мертвизной…»
Да и пиетет к «классикам марксизма» у него был далек от официального. В поэме «Владимир Ильич Ленин» он постарался представить своего героя максимально человечным в соответствии со своим идеалом, а не с фактами подлинной истории. И внешний облик его не приукрашивал: «…„эра“ эта / проходила в двери, // даже / головой / не задевая о косяк». В стихотворном фельетоне «О дряни» (1920–1921) портрет Маркса в алой рамочке, висящий на стене у крупного советского бюрократа (его с женой приглашают на «бал» в Реввоенсовет, председателем которого был всесильный тогда Троцкий, большой любитель роскоши), не выдерживает всей увиденной им дряни. Он, тоже «вечно живой», оживает буквально. Но как это подано Маяковским? «Маркс со стенки смотрел, смотрел… / И вдруг / разинул рот // да как заорет…» Троцкому такая сатира чрезвычайно не нравилась. Второе лицо в Советском государстве печатно выговаривало Маяковскому: «По отношению к величайшим явлениям истории он усваивает себе фамильярный тон. И это в его творчестве и самое невыносимое, и самое опасное».
Второстепенных большевистских вождей Маяковский славил совсем немного и только посмертно. В стихотворении «Последняя страничка Гражданской войны» обо всех победителях говорится суммарно и без имен: «Во веки веков, товарищи, / вам – // слава, слава, слава!» И, что показательно, в одном журнальном номере следом за этим стихотворением шел тот самый фельетон «О дряни», подхватывающий, только еще более патетично (с прописными буквами и тремя восклицательными знаками), его последний стих: «Слава, Слава, Слава героям!!!» И тут же: «Впрочем, / им // довольно воздали дани. // Теперь / поговорим // о дряни». Ни много ни мало о дряни вообще. Хотя о новых «галифищах» думает чиновник, допущенный в Реввоенсовет, а этот совет и возглавлял армию-победительницу. В стихотворении «Верлен и Сезан» (1925) автор отказывается работать во исполнение лозунга «Лицом к деревне». «Поймите ж – / лицо у меня / одно – // оно лицо, / а не флюгер», – пишет он. Совсем не таковы другие живописцы: «Все то же / лицо как будто, – / ан нет, // рисуют / кто поцекистей».
Зато к простому человеку, не претендующему на звание героя, Маяковский относится с большой теплотой. Самый значительный его поэтический отклик вызвала не гибель какого-нибудь военачальника или политического деятеля, а гибель обыкновенного дипломатического курьера («Товарищу Нетте – пароходу и человеку»). Маяковского вдохновляют не столько новые гиганты индустрии, сколько строящийся «город-сад» и рабочие, которые в жутких условиях его закладывают («Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»). Рабочий же, впервые получивший возможность зажить по-человечески, восторгающийся ванной, рисуется с доброй, мягкой иронией («Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру»).
Маяковский-революционер, Маяковский-политик – это внешнее и поверхностное. Маяковский-гуманист – главное и глубинное, сколь ни противоречат этому его известные воинственные выкрики.
⁂
Самый воинственный Маяковский – ранний, дореволюционный. Тогда он в своих стихах сражался со всем миром в одиночку. О пролетариате у него в то время нет ни слова.
Владимир Владимирович Маяковский родился в Грузии, в селении Багдади, 7(19) июля 1893 года. Его отец, лесничий, пользовался всеобщим уважением, дружная семья жила благополучно, прекрасная южная природа окружала мальчика. И вдруг, когда ему было трина-дцать лет, все изменилось. Отец уколол палец и умер от заражения крови. В 1917 году в поэме «Человек» Маяковский воображал встречу с ним на небесах:
- Рядом отец.
- Такой же.
- Только на ухо больше туг,
- да поистерся
- немного
- на локте
- форменный лесничего сюртук.
Жизнь как бы идет своим чередом и там. Но в реальности она для семьи Маяковских резко переломилась. Благополучие сменилось бедностью, заботами, хлопотами. Вдова с тремя детьми переехала в Москву, где все было для них непривычно. Володя, например, был разочарован, увидев Воробьевы горы: какие же это горы для уроженца Закавказья? Подросток оказался в семье единственным мужчиной. Он рано повзрослел, но далеко не сразу нашел себя, собственное место в жизни. Горечь и унижение бедности, ощущение своей неприкаянности, даже голод, который вдруг пришлось испытать, запомнились навсегда. Обо всем этом будет рассказано в поэме «Люблю». Маяковский ощутил всем своим существом, как хрупок человек, как несправедлива может быть к нему судьба, каким враждебным может оказаться для него мир и как нужны ему любовь, нежность, ласка.
Неприятие мира поначалу выразилось в революционной деятельности. Юношу, собственно еще подростка, трижды арестовывали. Последний арест стоил ему одиннадцати месяцев Бутырской тюрьмы. Там (это было в 1909 году) он начал писать стихи, впоследствии пытался найти отобранную у него тетрадку, хотя и радовался тому, что не напечатал своих ранних опытов. В автобиографии «Я сам» (1922) Маяковский объяснял отход от партийной работы желанием учиться, чтобы быть полезным своим искусством той же революции. Учился на художника, но с учебой по-настоящему так и не заладилось. Очевидно, Маяковский уже тогда понял свое подлинное призвание. А в партии большевиков больше никогда не состоял, даром что в поэме «Во весь голос» приравнял к партбилету «сто томов» своих «партийных книжек». Это одно из противоречий человеческого облика Маяковского. Чрезвычайно ранимый, впечатлительный, эмоциональный, застенчивый, он нередко делал вид, что ему чужды колебания, высказывал безапелляционные суждения от лица самой истины, вел себя вызывающе, говорил грубо и дерзко. Болезненно мнительный, брезгливый, чистоплотный вплоть до желания истребить «антисанитарный обычай» (как говорят в комедии «Клоп») рукопожатия, он ценил комфорт, но был врагом мещан-ства и фетишизации вещей. Умел любить до безумия, но именно поэтому настоящей семьи не завел. Боялся смерти и постоянно размышлял и писал о самоубийстве. Самоубийство Есенина решительно осудил, а через четыре года с небольшим последовал за ним (еще более эмоциональный поэт Марина Цветаева осудила поступок Маяковского и через одиннадцать лет покончила с собой). Эти и другие противоречия наложили отпечаток на все творчество Маяковского.
Дружба с первыми русскими футуристами, провозгласившими себя представителями жизни и искусства будущего в настоящем, с самого начала определила характер абсолютно новой поэзии Маяковского, необычной даже для пронизанной неустанными поисками литературы Серебряного века. Но где у Давида Бурлюка или Алексея Крученых были чистейший эпатаж и самодостаточная выдумка, там у Маяковского звучала настоящая боль, крик души, воплощенный с исключительным, изощренным мастерством.
В печати он дебютировал в конце 1912 года сразу блестящими стихами, без сколько-нибудь заметных следов ученичества: «Ночь», «Утро», затем, в начале 1913-го, – «Порт», «Уличное», «Из улицы в улицу». В последнем стихотворении («Лысый фонарь / сладострастно снимает // с улицы / черный чулок») все окружающее предстает одушевленным и бездуховным, очеловеченным и бесчеловечным одновременно. Лирическое «я» только мелькнуло в стихотворении «Ночь», но в миниатюре «А вы могли бы?», напечатанной в марте, поэт-художник – на первом плане. Он решительно противопоставляет себя «карте будня», открывая в малом громадное: «…я показал на блюде студня // косые скулы океана». Лирический герой подчеркнуто не такой, как все. «Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный: // «Будьте добры, причешите мне уши». И парикмахер, и толпа негодуют на «рыжего», то есть циркового клоуна. Живущие в повседневности «ничего не понимают». Эти слова и становятся заглавием стихотворения.
Цикл «Я», включающий «Несколько слов обо мне самом», – начало напряженного лирического самосознания. Нельзя воспринимать буквально и однозначно никаких ошарашивающих образов раннего Маяковского, в том числе строчку: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Это форма отрицания действительности, из которой лучше уйти, не дожив до зрелого возраста. Это и заостренная реакция на стихи Иннокентия Аннен-ского (1855–1909) «…Я люблю, когда в доме есть дети // И когда по ночам они плачут» («Тоска припоминания» из «Трилистника тоски»), и в какой-то степени отзвук самомучительства Маяковского, свойственного ему, наверно, не меньше, чем Достоевскому. Хотя детей он не любил (притом что в советское время писал стихи для детей). Это тоже нужно учитывать, но никакой кровожадности в пугающей строке, конечно, нет.
В конце 1913 года на сцене петербургского «Луна-парка» было поставлено первое крупное произведение поэта – «Владимир Маяковский. Трагедия». Автор был и режиссером и исполнителем главной роли. «Князь» всех нищих огромного города (Маяковский – сугубо городской поэт) в пьесе готов принять крестную муку за всех обиженных, но толпа его не понимает, ее заботят конкретные, ближайшие проблемы. Уже в прологе возникает мотив самоубийства («…и тихим, / целующим шпал колени, // обнимет мне шею колесо паровоза»), позже развитый в поэмах «Флейта-позвоночник» (1915), «Человек» (1917), «Про это» (1923). В стихотворениях религиозная образность воплощает антирелигиозную тему, выражающую протест против всего мироустройства. Вместе с тем в такой проникновенной вещи, как «Послушайте!» (1914), забота о близком, любимом человеке предстает в лирическом сюжете, являющемся, по сути, аллегорией исступленной молитвы. Одновременно в стихотворении «А все-таки» действует какой-то предельно очеловеченный бог, потрясенный заступничеством поэта за самых униженных из человеческих существ – проституток:
- И бог заплачет над моею книжкой!
- Не слова – судороги, слипшиеся комом;
- и побежит по небу с моими стихами под мышкой
- и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.
Картину невероятно жестокого мира усугубила начавшаяся мировая война. Маяковский и в ней попробовал усмотреть обновление жизни, о чем косвенно свидетель-ствуют его веселые лубочные стишки, высмеивающие военных противников России. Но уже в начале страшной бойни появляются и трагические антивоенные стихотворения Маяковского. В 1915–1916 годах обобщением и дополнением их мотивов станет поэма «Война и мир». Автор, вновь обращаясь к символике страстей Христовых, готов искупить всеобщую вину, приведшую к множеству смертей. Он создает утопическую картину «грядущего счастья» нового, свободного человека. Та же идея содержится в поэме «Человек», еще одном парафразе Евангелия.
Продолжается и сатирическое разоблачение «мирных» обывателей. «Желудок в панаме» – так определил Маяковский в «Гимне обеду» (1915), одном из нескольких иронических «Гимнов», ненавистного ему бездуховного потребителя.
Большинство дореволюционных стихов Маяковского выражает колоссальное нервное напряжение. Это состояние усугублялось, а нередко и определялось его отношениями с женщинами. Вообще-то он был удачлив в любви. Влюблялся довольно часто и, как правило, пользовался взаимностью. Но он был неумерен в чувствах, особенно крайних – любви и ненависти. В любви особенно. Никогда никакая женщина не любила его так, как любил он, – просто не могла, не умела. А он, мнительный, ревнивый, всецело предающийся пылкому чувству, жаждал в ответ такого же и никогда не смирялся с невозможностью этого.
Сюжет о неудачной любви послужил основой первой и лучшей поэмы Маяковского – «Облако в штанах» (1915; название «Тринадцатый апостол», как и многие строки произведения, не пропустила цензура). Личная драма – девушка, которую автор-герой полюбил, выходит за другого, в его восприятии ее «украли», как «Джиоконду», – потрясает его и побуждает ниспровергать все принятые в обществе установления, богохульствовать, требовать от Неба почтительного к нему отношения («Эй, вы! / Небо! / Снимите шляпу! // Я иду!»). Маяковский говорил о «четырех криках четырех частей» поэмы: «Долой вашу любовь!», «Долой ваше искусство!», «Долой ваш строй!», «Долой вашу религию!».
Поэма была напечатана на средства Осипа Брика и посвящена его жене: «Тебе, Лиля», – хотя то, что в ней описано, произошло до их знакомства, состоявшегося в июле 1915 года («Радостнейшая дата», – отметил Маяковский в автобиографии), и было связано с двумя другими женщинами. Л. Ю. Брик, формально не разводясь с мужем, стала спутницей и вдохновительницей поэта на всю жизнь, хотя самые близкие их отношения продолжались до 1924 года («…вот / и любви пришел каюк, // дорогой Владим Владимыч», – с мрачной усмешкой скажет он себе в «Юбилейном»). Не только все последующие поэмы, но и итоговое прижизненное собрание сочинений Маяковский посвятит Лиле Юрьевне. Любовные поэмы будут обращены только к ней.
Их отношения тоже были чрезвычайно сложными. Одно из свидетельств этого – надрывное стихотворение «Лиличка! Вместо письма», такое мучительное для поэта, что напечатано оно было лишь посмертно, в 1934 году, через восемнадцать лет после написания. Другой поэтический и психологический документ того же времени называется «Ко всему». Это отчаянное стихотворение написано после того, как Маяковский заставил свою любимую рассказать ему о ее первой брачной ночи. Воспроизведены даже детали обстановки, переданные Л. Ю. Брик. Маяковский горел «на несгораемом костре // немыслимой любви» («Человек»).
Для хотя бы относительного морального спокойствия, для обретения подлинной уверенности в себе, которой, конечно, не было у создателя поэтического культа соб-ственной личности (культ и создавался во многом ради того, чтобы не прийти в полное отчаяние и не покончить с собой), необходимо было изменение всей окружающей жизни, всего бытия, всего сознания. Поэтому, когда в 1930 году критик Вячеслав Полонский утверждал: «Революция спасла Маяковского», – в этом не было преувеличения. Революция Маяковскому была интимно дорога. Можно сказать, он полюбил ее, как возлюбленную.
- …я ж
- с небес поэзии
- бросаюсь в коммунизм,
- потому что
- нет мне
- без него любви, –
провозгласил он в стихотворении «Домой» через восемь лет после революции. Поэтому и так долго в нее верил, вопреки всему, что сам же разоблачал и высмеивал, и от своей веры – веры в великую мечту – не отрекся до конца и тогда, когда отрекся от жизни.
Пророчески предсказывая в первой поэме революцию, даже не одну, нетерпеливый Маяковский торопил события:
- Где глаз людей обрывается куцый,
- главой голодных орд,
- в терновом венце революций
- грядет шестнадцатый год.
В «Облаке в штанах» (для автора «облако» – метафора нежности) тоже не следует искать апофеоза жестокости. Скажем, призыв «выше вздымайте, фонарные столбы, // окровавленные туши лабазников» – чисто поэтическая гипербола, условная (зачем вешать уже окровавленные туши?) даже в гораздо большей степени, чем угроза убить Бога, который вместе с тем оказывается огромным пространством России: «Я тебя, пропахшего ладаном, раскро ю́ // отсюда до Аляски!»
Февраль 1917 года Маяковский встретил с воодушевлением, воспел его в «поэтохронике» «Революция». Но поскольку и новые власти продолжали войну, в стихо-творении «К ответу!» поэт обратился к солдату:
- Когда же встанешь во весь свой рост,
- ты,
- отдающий жизнь свою им?
- Когда же в лицо им бросишь вопрос:
- за что воюем?
Он гордился тем, что в октябрьские дни его двустишие «Ешь ананасы, рябчиков жуй, // день твой последний приходит, буржуй» пришлось по вкусу революционным матросам. Тем не менее отношение Маяковского к большевистскому перевороту, по-видимому, было на первых порах неоднозначным, хотя в автобиографии 1922 года он сообщал: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось». Но тут же, в той же строчке: «Начинают заседать». Это слова автора напечатанных к тому времени сатир «О дряни» (где говорилось, что намозолившие «от пятилетнего сидения зады» чиновники-мещане «с первого дня советского рождения // стеклись… / наскоро оперенья переменив, // и засели во все учреждения») и «Прозаседавшиеся». В 1917 году он написал «Наш марш», но «Ода революции» со знаменитым «о, четырежды славься, благословенная!» появилась лишь в 1918-м, после «Отношения к лошадям» (позже названного «Хорошим отношением…»), где сострадательный герой так же одинок посреди хохочущей над упавшей лошадью праздной толпы, как в дореволюционном творчестве. Да и в «Оде революции» бодрому выводу предшествуют тяжелые сомнения: «Как обернешься еще, двуликая? // Стройной постройкой, / грудой развалин?» Но несмотря на последовавшие груды невиданных развалин, Маяковский уверовал в Октябрь. Иначе ему, с его максималистскими претензиями к будущему, в моральном смысле просто нечем было бы жить.
Послереволюционное творчество поэта количественно намного превышает дореволюционное, но если прежде у него практически не было совсем слабых произведений, то теперь они выпускаются в изобилии. Маяковский стал слугой революции, столь много наобещавшей «в мировом масштабе», и делал самую черную для художника его уровня работу. В этом видели халтуру, а на самом деле то было самопожертвование. Великий поэт XX века действительно «себя / смирял, / становясь // на горло / собственной песне» («Во весь голос»). Трудные годы Гражданской войны во многом были заполнены работой Маяковского как автора плакатов и подписей к ним в «Окнах РОСТА» (так назывались наглядно-агитационные стенды Российского телеграфного агентства). На то, «что-де заела Роста», поэт жалуется солнцу в «Необычайном приключении, бывшем с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920). Но там же приравнивает свой труд для людей к вечному «труду» небесного светила.
К годовщине Октября Маяковский, используя, подобно многим поэтам того времени, библейскую образность (революция осознавалась как величайшее событие в масштабах тысячелетий, даже как новое «сотворение мира»), положил начало советской драматургии пьесой «Мистерия-буфф» – экспериментальным зрелищным действом, в котором смешивались самые разные приемы. Однако долгожительницей «Мистерия» не стала. Не стала и поэма «150 000 000», название которой обозначало население революционной России. Прежний индивидуалист, издав ее в 1919 году без имени автора, попытался буквально раствориться в народе. Не принадлежат к шедеврам и последующие революционные поэмы Маяковского «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал» (1923–1924), даже «Летающий пролетарий» (1925), где, наряду с поэмой «Про это», интересно претворились как идеи философа-утописта Н. Ф. Федорова (1828–1903) о взаимодействии человека и космоса и «воскрешении отцов», так и основы теории относительности А. Эйнштейна.
Но жанр революционной поэмы сам по себе не исключал высокой художественности. Маяковский достиг бесспорных успехов в двух больших произведениях о революции и ее идеалах – «Владимир Ильич Ленин» (1924) и «Хорошо!» (1927). Поэма о Ленине явилась скорб-ным реквиемом, прочувствованным надгробным словом, чему не помешал даже весьма разросшийся элемент хроникальности, пересказа общеизвестного (или всем внушаемого). Ведь искусство надгробного слова состоит вовсе не в открытии неких новых истин, оно часто как раз далеко отходит от истины, даже вовсе не предполагает этого критерия. Здесь главное – небанально сказать нечто банальное. Это Маяковский и сумел сделать едва ли не лучше всех многочисленных творцов советской Ленинианы. А в поэме «Хорошо!» поэт чрезвычайно изобретателен в художественных средствах, искусен в монтажной композиции, сатирических приемах, кратчайших очерках социальных типов, многообразен и гибок в языке и стихе. Изображая и славя в финале настоящее, он на самом деле скорее придумывает столь дорогое для него будущее, чего в общем-то и не скрывает, хотя в сочинении «к празднику», казалось бы, тоже позволительно отступить от «обыденной» правды.
Можно сказать, что Маяковский понимал коммунизм прежде всего эстетически, как прекрасную в буквальном смысле действительность, как искусство, превратившееся в жизнь: «…коммуна – / это место, / где исчезнут чиновники // и где будет / много / стихов и песен» («Послание пролетарским поэтам», 1926). А на практике все было наоборот: новая власть оказалась враждебной к подлинному искусству, социализм формировался как чиновничья, административная система. Отсюда сатира Маяковского, античиновническая в первую очередь, затрагивающая и проблемы нравственности при социализме («Подлиза», «Сплетник», «Ханжа»; 1928). Даже са́мому мягкому и либеральному из советских высокопо-ставленных чиновников, наркому просвещения А. В. Луначарскому, не раз доставалось от поэта, но – парадоксально – зачастую именно за эту его относительную мягкость: на «культурном фронте» принято было воевать более жестко. «Тишь / да гладь / да божья благодать – // сплошное луначарство», – язвил Маяковский в стихо-творении «Свидетельствую» (1926). В комедии «Клоп» (1928) мещанское семейство Ренесанс живет на улице Луначарского, в комедии «Баня» (1929) один из эпизодов с бюрократом Победоносиковым пародирует случай с задержкой поезда Луначарским, и, к сожалению, писалось это в том самом году, когда усиление тоталитаризма проявилось и в отставке наркома Луначарского. Кстати, прозаические комедии Маяковского, наиболее значительные из его сатирических произведений, резко осуждались деятелями РАПП – пролетарскими писателями. Для них сатира при социализме вообще была явлением подозрительным.
Во многом сатиричны и стихи Маяковского о загранице. Капитализм он, конечно, разоблачал, и оснований для этого хватало (например, «Блек энд уайт», «Сифилис» в «Стихах об Америке», 1925), но достижения цивилизации XX века вызывали восхищение поэта. В 1922–1929 годах он совершил девять заграничных путешествий и на многое увиденное отреагировал стихами. «Прощанье», заключающее цикл «Париж» (1925), содержит знаменательные слова: «Я хотел бы / жить / и умереть в Париже, // Если б не было / такой земли – / Москва». «Я горд / вот этой / стальною милей», «Бруклинский мост – // да… / Это вещь!» – восторгается Маяковский техническим чудом Нью-Йорка («Бруклинский мост», 1925), хотя не преминет сказать и о другом: «Отсюда / безработные // в Гудзон / кидались / вниз головой». Достижения западной цивилизации лишь подхлестывали Маяковского, чтобы провозглашать историческое превосходство СССР, в котором он был уверен. «Я стремился / за 7000 миль вперед, // а приехал / на 7 лет назад» – таковы последние слова стихотворения «Небоскреб в разрезе». Афоризмом в том же духе заканчивается «Бродвей»:
- Я в восторге
- от Нью-Йорка города.
- Но
- кепчонку
- не сдерну с виска.
- У советских
- собственная гордость:
- на буржуев
- смотрим свысока.
Эта гордость позднее разворачивается в целое произведение – «Стихи о советском паспорте» (1929).
Тем не менее Маяковский считал себя «в долгу» «перед всем, / про что / не успел написать», – не только перед Красной армией, небесами родного селения и «вишнями Японии» (певец техники понял, что зря пренебрегал природой), но и «перед Бродвейской лампионией» («Разговор с фининспектором о поэзии», 1926). Он хотел бы воспеть главную улицу Нью-Йорка не так, как получилось в «Стихах об Америке».
Отношение к поэзии вообще и собственной поэзии в частности – одна из важнейших тем Маяковского. Когда в 1925 году в стихотворении «Домой!» он заявлял:
- Я хочу,
- чтоб к штыку
- приравняли перо.
- С чугуном чтоб
- и с выделкой стали
- о работе стихов,
- от Политбюро,
- чтобы делал
- доклады Сталин, –
в этом не было низкопоклонства перед Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), в ту пору далеко еще не всесильным вождем, наоборот, было волевое («Я хочу») наставление ему, утверждение высочайшей, определяющей роли искусства в обществе будущего. «Все совдепы не сдвинут армий, // если марш не дадут музыканты», – писал он еще в «Приказе по армии искусств» 1918 года. Тогда Маяковский был правоверным футуристом. Но через три года в «Приказе № 2 армии искусств» перечисляются «футуристики, / имажинистики, / акмеистики, // запутавшиеся в паутине рифм». Маяковский стремится стать выше направлений, школ и групп, создать общезначимое искусство. В 1924 году он уже по-свойски разговаривает с отвергавшимися ранее Пушкиным и Лермонтовым («Юбилейное», «Тамара и Демон»), с которыми перед тем ощутил нечто вроде биографического родства: в поэме «Про это», подобно им, он находится под «обстрелом» многочисленных недоброжелателей и врагов. В 1926 го-ду в стихотворении «Сергею Есенину» слово определено как «полководец / человечьей силы», а в «Разговоре с фининспектором о поэзии» оно – гарантия бессмертия даже всякого ничтожества: «Слово поэта – / ваше воскресение, // ваше бессмертие, / гражданин канцелярист». Но это – утверждение великих возможностей художественного слова, а не того, как оно реализуется. Уже в «Юбилейном» Маяковский с горечью констатирует: «Только вот / поэтов, / к сожаленью, нету» – и даже готов во имя каких-то высших целей, едва ли ему понятных, смириться с подобным положением: «…впрочем, может, / это и не нужно». Резкий, категоричный Маяковский сам загонял себя в литературное одиночество. Поэты были, даже великие, но им затыкали рот, а Маяковский не замечал этого или считал в порядке вещей, да и сам, бы-вало, улюлюкал. «Красивость – / аж дух выматывает! – восклицал он в стихотворении «Версаль» (1925). – Как будто / влип / в акварель Бенуа, // к каким-то / стишкам Ахматовой» (на самом деле ахматовские стихи он очень любил и хорошо знал). В «Разговоре с фининспектором…» уже признается хоть и светлое, но, увы, непоэтическое будущее:
- И когда
- это солнце
- разжиревшим боровом
- взойдет
- над грядущим
- без нищих и калек, –
- я
- уже
- сгнию,
- умерший под забором,
- рядом
- с десятком
- моих коллег.
В памяти потомков не останется написанного даже этим десятком. Немногим ранее в том же «Разговоре…» Маяковский определил многочисленные стихотворные со-чинения своих современников как «накладные расходы // на сделанное / нами – / двумя или тремя». Однако он отнюдь не поддается гордыне, тут же обращается с миролюбивым посланием к пролетарским поэтам: «Решим, / что все / по-своему правы» (в сущности, та же мысль в «Стихах о разнице вкусов» 1928 года). «Одного боюсь – / за вас и сам, – // чтоб не обмелели / наши души…» – пишет Маяковский, начиная понимать, что грандиозность ожиданий и планов первых революционных лет все бол ьше выветривается и превращается во фразу.
Ослабевал и его собственный поэтический дар, много писалось стихов (не обязательно рекламного характера), далеко не дотягивающих до уровня раннего Маяков-ского. «Машину / души / с годами изнашиваешь», «Все меньше любится, / все меньше дерзается… Приходит / страшнейшая из амортизаций – // амортизация / сердца и души», – признавался Маяковский в «Разговоре с фининспектором о поэзии». Слова «все меньше любится» здесь очень много значат. Дело в том, что Маяковский мог полноценно жить и в полной мере творчески работать только тогда, когда его воодушевляла любовь. А с этим было сложно.
В конце 1921 – начале 1922 года, в период наиболее гармонических отношений с Л. Ю. Брик, Маяковский написал самую светлую из его поэм – «Люблю». Воспоминания о тяготах и унижениях юности не омрачили ее общего колорита. На кольце, подаренном Лиле Юрьевне, Владимир Владимирович дал выгравировать буквы «Л. Ю. Б.»; если читать по кругу, получалось бесконечное «люблю». Но в конце 1922 года произошла тяжелейшая размолвка. Было принято решение не встречаться два месяца, чтобы проверить свои чувства. Для Маяковского эти два месяца стали временем величайшего психологического и творческого напряжения. С документальной точностью (телефонные звонки, подслушивание под дверью) происходившее в то время описано в поэме «Про это». Ее лирический герой борется за свое счастье, за возлюбленную, отвергая мещанский семейный уют, эмблемой которого для поэта еще во «Владимире Маяковском» стало чаепитие. Он, этот герой, думает о том, как спасти от самоубийства героя более ранних поэм Маяковского о любви. Его душа мечется между дореволюционным Петроградом и Москвой, оказывается в Пятигорске, порывается в космос, к Большой Медведице. Молодой автобиографический герой приходит к мысли о невозможности индивидуального спасения. Он готов стоять «земной любви искупителем» на мосту, чтобы броситься вниз, принимая на себя страдания других, вообще всех: «…за всех расплачу́сь, / за всех распла́чусь». Сам Маяковский лишь во второй жизни, через тысячу лет, рассчитывает на получение недополученного в первой: «Я свое, земное, не дожи́л, // на земле / свое не долюбил». Человек и его родные только тогда достигнут счастья, когда не обычное благополучие будет считаться главным в жизни, когда эта жизнь приобретет вселенские масштабы:
- Чтоб мог
- в родне
- отныне
- стать
- отец,
- по крайней мере, миром,
- землей, по крайней мере, – мать.
Такова «крайняя мера» поэта-максималиста.
В период работы над поэмой «Про это» он вел дневник в форме письма к Лиле Юрьевне, где, в частности, изложил свое понимание бытия и творчества: «Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все прочее. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем». Благополучное разрешение конфликта конца 1922 – начала 1923 года окрылило Маяковского, он поверил в возможность творческих сил, преобразующих все окружающее. Вот почему в «Весеннем вопросе»
- …все другие вопросы
- более или менее ясны́.
- И относительно хлеба ясно,
- и относительно мира ведь.
- Но этот
- кардинальный вопрос
- относительно весны
- нужно
- во что бы то ни стало
- теперь же урегулировать.
То есть осталось поладить только с природой.
Но личная гармония оказалась недолговечной, а 1924 год потряс Маяковского еще и смертью Ленина, в котором он видел символ коренного обновления дей-ствительности. Отсутствие главного творческого стимула и приводило подчас к тому, что Маяковский подменял художественное качество количеством написанного. В стихотворении «Не юбилейте!» (1926), выступая против официозного прославления революции, поэт мечтал: «…дать бы / революции / такие же названия, // как любимым в первый день дают!» – и призывал: «Нет, / в такую ерунду / не расказёньте // боевую / революцию – любовь».
Те или иные истории с женщинами не могли компенсировать Маяковскому фактическую потерю той, что была для него всех дороже. Только в 1928 году, через четыре года с лишним после того, как были написаны его по-следние стихи на любовную тему, появились два стихо-творения «про это», имевшие другого адресата. То была эмигрантка, Татьяна Яковлева, «роковая женщина», красавица, резко отрицательно относившаяся к СССР, из которого лишь с большим трудом ей удалось выбраться. Но даже ей поэт попробовал втолковать, что для него и в любви «красный / цвет» его республик «тоже / должен / пламенеть». Любовь для Маяковского – это пробуждение всех духовных и физических сил, которое может проявляться хоть в колке дров, но возбуждает «ревность» к великому Копернику, а не к «мужу Марьи Иванны». Владимир Владимирович выражал уверенность в том, что он победит в своей борьбе за любимую. Но его во многом растраченный к тому времени талант не достигает в этих двух «письмах» той силы, которая была в ранних любовных стихотворениях и поэмах.
Т. А. Яковлева вышла замуж за французского аристократа. Для Маяковского это был удар. Он и сам видел, что страна, в которую он заманивал Яковлеву, не оправдывала его собственных надежд. Через пять лет после смерти Ленина поэт с огромной тревогой взывал к нему:
- Устаешь
- отбиваться и огрызаться.
- Многие
- без вас
- отбились от рук.
- Очень
- много
- разных мерзавцев
- ходят
- по нашей земле
- и вокруг.
В 1928 году Маяковский пытается взбодрить себя «Стихами о советском паспорте», высмеивает «птичку божию» с точки зрения прежнего поэтического утилитаризма, задумывает поэму о пятилетке. Но тяжелый надлом произошел. В конце 1929 – начале 1930 года Маяковский написал первое вступление в поэму «Во весь голос», показавшее, что его талант еще мог подняться до очень высокой точки. О своей современности по отношению к будущему он вполне определенно отозвался как об «окаменевшем г….», осмеял литературу противников, провозгласил уверенность в необходимости его поэтического «оружия», в полезности своих стихов на протяжении большого исторического времени. Но это было самозаклинание без реальной опоры. О самом главном для него – о любви – Маяковский во весь голос не сказал ни слова. К 1928–1930 годам относятся наброски прекрасных любовных стихотворений, это высочайшая лирика, но законченной формы ей так и не суждено было обрести. Упомянутый в этих стихах «Млечпуть» – путь в пространства космоса для уходящего с Земли человека, путь в вечность.
Любовь к похожей на Татьяну Яковлеву актрисе Веронике (Норе) Полонской не принесла Маяковскому столь необходимого ему душевного равновесия. В прессе его травили, комедии на сцене не имели успеха, равно как и персональная выставка «20 лет работы». И страна отнюдь не приближалась к идеалу справедливой и прекрасной жизни. Привязался грипп, замучили простудные болезни. Они были не опасны, но изматывали и раздражали. Мелочи усугубили разочарование в огромном. Потерпела крах вера в гармонию всего: личности, творчества, любви, государства, народа, человечества, планеты, Вселенной. Без такой веры Маяковский жить не мог – и не стал.
⁂
Творческий облик Маяковского уникален. Он ни на кого не похож, а ему многие пытались подражать, но безуспешно.
Он поэт революции, то есть насилия. Но ведь для него революция – только средство достижения высших целей. На самом деле он в первую очередь поэт любви и человечности, несмотря на всю свою воинственность и непримиримость. Во второй части комедии «Клоп», где действие происходит в будущем, говорится: «Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших федерацию земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна».
Мир поэзии Маяковского полностью очеловечен. Вещи, животные, части тела, народ, природа, солнце, космос, отвлеченные понятия – все имеет человеческое лицо. В стихотворении «Надоело», где автор «для истории» сообщает, что «в 1916 году // из Петрограда исчезли красивые люди», лирический герой готов перенести свою любовь на что угодно: «Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрою // умную морду трамвая». В трагедии «Владимир Маяковский» вдруг «у поцелуя выросли ушки, / он стал вертеться, // тоненьким голосочком крикнул: «Мамочку!». Сильнейшая картина «Облака в штанах» – страшная пляска нервов. В стихотворении «А все-таки» «людям страшно – у меня изо рта // шевелит ногами непрожеванный крик». Стихотворение «Мама и убитый немцами вечер» – о гибели на войне вечера, то есть части человеческой жизни; другой вечер оказывается калекой без рук и без ног. «Скрипка и немножко нервно» – о «деревянной невесте», к которой осмеиваемый поэт бросается на шею: «Знаете что, скрипка? / Мы ужасно похожи: // я вот тоже / ору – / а доказать ничего не умею!» (Как было бы хорошо, если бы он хоть до современного читателя «доорался»!) В «Чудовищных похоронах» хоронят смех. В «Последней петербургской сказке» чуждыми обывателям живыми существами становятся Медный всадник, его конь и змей. Маяковский обращается на «вы» к упавшей лошади («Хорошее отношение к лошадям») и на равных разговаривает с солнцем («Необычайное приключение…»). Для него живы и портрет Маркса, и «людей половины», хотя именно так и обнаруживается мертвенность «прозаседавшихся», и покончивший с собой Сергей Есенин, и памятник Пушкину. В «150 000 000» народ России олицетворен в образе былинного богатыря Ивана, а капитализм – в образе американского президента Вильсона, чудовищного великана с военной техникой в чреве. Погибший на посту дипкурьер Теодор Нетте живет второй жизнью, как названный его именем пароход, и Маяковский обобщает:
- Мы идем
- сквозь револьверный лай,
- чтобы,
- умирая,
- воплотиться
- в пароходы,
- в строчки
- и в другие долгие дела.
Любят друг друга «миноносица» и погибающий миноносец («Военно-морская любовь», 1915); через одиннадцать лет после этого стихотворения создается «Разговор на одесском рейде десантных судов: „Советский Дагестан“ и „Красная Абхазия“». В «Облаке в штанах» («облако» здесь – нечто не только нежное, но и небесное) Вселенная похожа на животное, она «спит, / положив на лапу // с клещами звезд огромное ухо», но Небу предлагается снять шляпу перед поэтом, а один из развернутых образов поэмы «Про это» – лирический герой, превратившийся от страшной, как бы зверской страсти в медведя; расставаясь с этой жизнью, он летит к созвездию Большой Медведицы «медведьинским братом». В «Стихах о разнице вкусов» заспорили между собой лошадь и верблюд, видящие во всем только подобное себе, «и знал лишь / бог седобородый, // что это / животные / разной породы». В поэме «Во весь голос» стихи уподобляются армии – армии людей.
Очеловеченность художественного мира Маяковского ориентирована на его собственную личность. Это в выс-шей степени автобиографическое творчество. Маяков-ский до революции, а в значительной степени и после не только возвеличивает себя, заявляет о любви к себе (знаменитое название «Себе, любимому, посвящает эти строки автор», 1916). Самовозвеличение имеет место у многих людей Серебряного века – это неоромантическое противопоставление выдающейся личности и толпы. Сверх того, Маяковский вводит в стихи имена возлюбленных, друзей, знакомых, матери и сестер, свое собственное имя и фамилию, называет точные адреса (например, в стихотворении «Я и Наполеон» с характерной постановкой «я» на первое место: «Я живу на Большой Пресне, / 36, 24»), свой возраст («Облако в штанах»: «Мир огро́мив мощью голоса, // иду – красивый, / два-дцатидвухлетний»), детали внешности, не всегда привлекательные (поэма «Флейта-позвоночник»: «скалю гнилые зубы»), и своей автобиографии. Хотя имя героини «Про это» в тексте не названо, Маяковский издал поэму с большим фотографическим портретом Лили Брик на обложке. На других фотографиях в книге автор говорил по телефону, сидел на чемодане, стоял на мосту и т. д., – произведение, пронизанное фантастикой, в то же время представало чуть ли не как документальное (именно в 1923 году был образован «Леф», провозгласивший создание «литературы факта» в противовес вымыслу и психологизму, но Маяковский и от них не отказался, вопреки теоретическим декларациям своих товарищей). Сочетание противоположностей характерно для вершинных произведений XX века; у Маяковского оно особенно демонстративно. Ему мало обычного лирического стихо-творения для выражения переполняющих его чувств. Наряду с Мариной Цветаевой он создает чисто лирические, почти лишенные сюжетного действия поэмы.
Корней Чуковский в 1920 году назвал Маяковского врагом тишины, «поэтом грома и грохота», «гигантистом» («Нет такой пылинки, которой он не превратил в Арарат… Даже слова он выбирает максимальные: разговорище, волнище, котелище, адище, шеища, шажище, Вавилонище, хвостище»), «гражданином Вселенной», певцом катастроф и конвульсий. Он, опять-таки как Цветаева, – поэт непесенный, его эстетика – эстетика крика. Эффект стихов Маяковского всегда чрезвычайно усиливался их авторской декламацией. На бумаге эта рассчитанная на звучание поэзия определенно проигрывает. К сожалению, сколько-нибудь качественных записей голоса Маяковского не сохранилось.
Во многих его произведениях, особенно ранних, тема развивается на эмоциональном пределе. Поэт и весь окру-жающий мир видит как нечто громадное, грандиозное, прибегает к самым масштабным гиперболам: «Он раз, не дрогнув, стал под пули // и славится столетий сто, – // а я прошел в одном лишь июле // тысячу Аркольских мостов!» («Я и Наполеон»), «Скоро / у мира / не останется неполоманного ребра» («К ответу!»), о цифре в отчете: «Черт его знает, что это такое, // если сзади / у него / тридцать семь нулей», «Недавно уверяла одна дура, // что у нее / тридцать девять тысяч семь сотых температура» («Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе»), «Я никогда не знал, / что столько / тысяч тонн // в моей / позорно легкомыслой головенке» («Юбилейное»), «Одни дома / длиною до звезд, // другие – / длиной до луны» («Бродвей»), «Поэзия – / та же добыча радия. // В грамм добыча, / в год труды. // Изводишь единого слова ради // тысячи тонн / словесной руды» («Разговор с фининспектором о поэзии») и т. д.
С бурной эмоциональностью и захватывающей неж-ностью парадоксально сочеталась рассудочность, логичность. Показательно, что у такого непосредственного поэта, как Есенин, почти все стихотворения не оза-главлены, не поддаются однозначным определениям, а Маяковский почти всегда обдуманно подбирал заглавие к уже оконченному тексту. Для будущих произведений намечались «заготовки»: темы, образы, слова, рифмы. Как правило, основной эффект должно было производить заключение четверостишия и стихотворения, по-следний стих или два, поэтому два предыдущих имели служебный характер, например, позволяли использовать неожиданную рифму. Пробовал себя Маяковский и в самоценном стихотворном эксперименте. Таково начало «Из улицы в улицу» со строчками, повторяемыми и переворачиваемыми по отношению к предыдущим:
- У –
- лица.
- Лица
- у
- догов
- годов
- рез –
- че.
- Че –
- рез
- железных коней
- с окон бегущих домов
- прыгнули первые кубы.
Нередко Маяковский прибегает к гротеску, то есть сочетанию внешнего правдоподобия и фантастики. Например, в «Рассказе про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума» обжорство бабы выходит за пределы реального: «Уж из глаз еда течет // у разбухшей бабы!» На гротеске построены и стихотворения «О дря-ни», «Прозаседавшиеся». У Маяковского гротеск бывает не только сатирическим, комическим. Разговоры с солнцем, памятником Пушкину, мертвым Есениным («Вижу – / взрезанной рукой помешкав, // собственных / костей / качаете мешок») тоже гротескны, хотя в них есть и патетика, и драматизм, и трагизм. Маяковский был остроумным человеком, любил шутки, каламбуры, но и каламбуры его иногда бывали весьма серьезны или двойственны («Ну а мне б / опять / знамена простирать!» в «Атлантическом океане»: то ли от торжественного глагола «простираться», то ли от «стирки» в океанских волнах; «на фоне / сегодняшних / дельцов и пролаз // я буду / – один! – / в непролазном долгу» в «Разговоре с фининспектором о поэзии»). В «Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» автор, обращаясь к комсомольскому деятелю и рассказывая о своей новой любви, да еще к эмигрантке, подшучивает над самим собой, говорит и с иронией, и очень всерьез: «Я ж / навек / любовью ранен – // еле-еле волочусь». Либо с трудом передвигается, словно раненый, либо всего лишь «волочится» за женщиной, слегка ухаживает. Этот каламбур – средство психологической самозащиты.
Маяковский смело вводил в поэзию язык улиц, «площадные» слова и выражения. Неоднократно он о себе говорит: «ору». Но «низкие» слова необязательно снижают общий тон, бывает и наоборот, например в поэме «Хорошо!»: «Мы – / голодные, / мы – / нищие, // с Лениным в башке / и с наганом в руке» (о самом трудном периоде Гражданской войны).
В стихотворениях Маяковского используется прямая речь лирического героя и персонажей, поэт играет чужим словом, особенно в стихах о загранице (французские, английские выражения). Бывает, слово формально принадлежит авторской речи, но передает позицию отнюдь не одобряемых персонажей. Так, в «Стихах о советском паспорте» тупые чиновники на границе «берут, / не морг-нув, / паспорта датчан // и разных / прочих / шведов».
Поэтический словарь Маяковским был существенно обновлен. Иногда он создавал составные неологизмы в духе Игоря Северянина, но с собственной стилистической экспрессией: пестрополосая, шляпой стопёрой, мордой многохамой, золотолапым микробом, кудроголовым волхвам, сердцелюдый и т. д. Однако преобладающий тип неологизма у Маяковского – слово с какой-нибудь измененной морфемой, выделенное, таким образом, с сохранением его основного лексического значения: зме́ин хвост, есть ли наших золот небесней, взорим, вспоем, сонница, трезвонится, в Эрэсэфэсэрью, красным Гейнем, размедведил вид, мертвость и др. В «Юбилейном», перечислив фамилии бездарных пролетарских поэтов, Маяковский восклицает: «…какой / однаробразный пейзаж!» Неологизм-каламбур однаробразный связывает подчас малограмотных сочинителей с отделом народного образования: еще один камешек в огород ведомству, просветительская деятельность которого Маяковского не удовлетворяла.
Поэт, особенно в юности, любил необычные сравнения: «мужчины, залежанные, как больница, // и женщины, истрепанные, как пословица» («Облако в штанах»). Потом он стал сдержаннее в сравнениях, но они продолжали играть большую роль: «Мороз хватает / и тащит, / как будто // пытает, / насколько в любви закаленные» («Владимир Ильич Ленин»), «В курганах книг, / похоронивших стих, // железки строк случайно обнаруживая, // вы / с уважением / ощупывайте их, // как старое, / но грозное оружие» («Во весь голос»). Среди других синтаксических приемов – эллипсис, пропуск тех или иных членов предложения: «…вам я // душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! – // и окровавленную дам, как знамя» («Облако в штанах»).
И конечно, Маяковский – мастер иносказательных выражений, прежде всего метафор: «гвоздями слов // прибит к бумаге я» («Флейта-позвоночник»), «Очистительнейшей влагой вымыт // грех отлетевшей души» («Война и мир»), «Мир / хотел бы / в этой груде го́ря // настоящие облапить груди-горы» («Про это»), «Мне наплевать / на бронзы многопудье, // мне наплевать / на мраморную слизь» («Во весь голос») и т. д.
Исключительно много сделал Маяковский для развития русского стиха. Начинал он с вполне классической силлабо-тоники[1]: «Ночь», кроме одной дактилической строки, написана четырехстопным амфибрахием, «А вы могли бы?» – четырехстопным ямбом. Но уже в 1913 го-ду поэт осваивает тонический стих. У Маяковского он не был равноударным, строчки разной длины просто различались счетом ударений. Иногда такой стих называют свободным стихом с рифмой. Впоследствии Маяковский упорядочил свою тонику, у него стали преобладать четырехударные, трехударные стихи и их сочетания. Иногда в качестве «ритмического курсива», обычно в конце четверостишия, возникает резко укороченная, вплоть до одного слова, строка. Формой записи стихов со второй половины 1913 года стал «столбик», дробивший стихи на более короткие отрезки, каждый из которых выделялся. Это усложняло восприятие, границы между стихами и рифмы оказывались завуалированными, часто теряются при первом прочтении, читателю приходится возвращаться от конца строфы к началу. Вдобавок Маяковский не следил внимательно за правильным расположением частей каждого стиха в печати и потом не исправлял вкравшихся ошибок.
В 1923 году, работая над поэмой «Про это», Маяков-ский перешел от «столбика» к более собранной «лесенке», которая сохраняла дробление стиха, но без его размывания. Это сразу сделало произведения Маяковского намного яснее.
«Лесенка» применяется и в стихах, которые не относятся к тоническим. Из них для Маяковского советского периода характерны нетрадиционные вольные ямбы и хореи с длиной стиха до десяти стоп (хотя, как правило, они бывают не больше семи). Такой хорей мы видим, например, в стихотворениях «Юбилейное» (где первая лесенка – обращение, выделенное полужирным шрифтом: Александр Сергеевич, / разрешите представиться. / Маяковский», – по сути, вообще прозаический зачин), «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Но хорей в них не всегда выдерживается, как в «Необычайном приключении…», записанном еще в «столбик», в двух местах не выдерживался ямб (в стихотворении осуществляется чередование четырех- и трехстопного ямба). «Письмо Татьяне Яковлевой» и поэма «Во весь голос» в произвольном порядке чередуют разные формы тонического и силлабо-тонического стиха, метрические переходы, как правило, совпадают со смысловыми. Главное, стих Маяковского исключительно разнообразен и гибок, легко и в основном естественно сочетает ранее не сочетавшееся.
Столь же разнообразны рифмы Маяковского. Часто они являются неточными, особенно в нечетных стихах четверостиший (точные в четных – втором и заключительном, четвертом, – их уравновешивают), но при этом по большей части богатыми, с совпадением предударных частей слов, и, разумеется, небанальными, непривычными для уха читателей 1910–1920-х годов: перуанцы – померанца, черного – ученого, громадили – Богоматери. Среди них рифмы составные: смотрел, как – тарелка, лучше как – поручика, я ни на – Северянина; неравно-сложные (рифмуя части слов разной длины, Маяковский далеко превзошел своих предшественников-экспериментаторов): Пиррову – вырву, названивая – названия, обнаруживая – оружие; одновременно составные и неравносложные: взмахами шагов мну – Гофману, год от года расти – бодрости; разноударные: времени – ремни, в радости – подрасти; консонансы (созвучие согласных без созвучия ударных гласных): громкою – рюмкой (консонанс неравносложный), у самого – на самовар, ровненько – браунинга, ковшом – в шум – и многие другие.
Художественные принципы Маяковского прошли немалую эволюцию, и не только в отношении стиха. Установлено, что со временем поэт отказывается от лексической контрастности, сокращая число как слов высокого стиля, так и вульгаризмов, глаголы уступают место прилагательным (во «Владимире Ильиче Ленине» по сравнению с «Облаком в штанах» стиль заметно описательнее, статичнее), убывают смелые сравнения и красочные метафоры, зато метонимий (иносказаний с переносом значения не по сходству, а по смежности: «певец кипяченой // и ярый враг воды сырой»), как и устойчивых эмблем («Славьте, / молот / и стих, // землю молодости» в «Хорошо!»), становится больше. И, само собой, наряду с «я» ранних стихов появляется «мы». В целом стиль Маяковского, обращающегося к советским читателям, становится если не во всем проще, то доступнее, хотя не всегда произведение от этого выигрывает.
⁂
Не только усложненные, но и вполне «понятные» стихи Маяковского остались и остаются в существе своем непонятыми, недооцененными тем самым широким читателем, к которому он после революции по преимуществу обращался. Слишком громок его поэтический голос. Он кричит так, чтобы докричаться до всей Вселенной, и именно поэтому те, кто стоит к нему достаточно близко, его не слышат. Да, Маяковский говорит что-то важное «векам, истории и мирозданью», но и каждому человеку в отдельности, «уважаемым товарищам потомкам». Только его уважение еще нужно оправдать.
С. Кормилов
Стихотворения
Ночь{1}
- Багровый и белый отброшен и скомкан,
- в зеленый бросали горстями дукаты,
- а черным ладоням сбежавшихся окон
- раздали горящие желтые карты.
- Бульварам и площади было не странно
- увидеть на зданиях синие тоги.
- И раньше бегущим, как желтые раны,
- огни обручали браслетами ноги.
- Толпа – пестрошерстая быстрая кошка –
- плыла, изгибаясь, дверями влекома;
- каждый хотел протащить хоть немножко
- громаду из смеха отлитого кома.
- Я, чувствуя платья зовущие лапы,
- в глаза им улыбку протиснул; пугая
- ударами в жесть, хохотали арапы,
- над лбом расцветивши крыло попугая.
Из улицы в улицу
- У –
- лица.
- Лица
- у
- догов
- годов
- рез –
- че.
- Че –
- рез
- железных коней
- с окон бегущих домов
- прыгнули первые кубы.
- Лебеди шей колокольных,
- гнитесь в силках проводов!
- В небе жирафий рисунок готов
- выпестрить ржавые чубы.
- Пестр, как форель,
- сын
- безузорной пашни.
- Фокусник
- рельсы
- тянет из пасти трамвая,
- скрыт циферблатами башни.
- Мы завоеваны!
- Ванны.
- Души.
- Лифт.
- Лиф души расстегнули.
- Тело жгут руки.
- Кричи, не кричи:
- «Я не хотела!» –
- резок
- жгут
- муки.
- Ветер колючий
- трубе
- вырывает
- дымчатой шерсти клок.
- Лысый фонарь
- сладострастно снимает
- с улицы
- черный чулок.
А вы могли бы?
- Я сразу смазал карту будня,
- плеснувши краску из стакана;
- я показал на блюде студня
- косые скулы океана.
- На чешуе жестяной рыбы
- прочел я зовы новых губ.
- А вы
- ноктюрн сыграть
- могли бы
- на флейте водосточных труб?
От усталости
- Земля!
- Дай исцелую твою лысеющую голову
- лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
- Дымом волос над пожарами глаз из олова
- дай обовью я впалые груди болот.
- Ты! Нас – двое,
- ораненных, загнанных ланями,
- вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.
- Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
- мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
- Сестра моя!
- В богадельнях идущих веков,
- может быть, мать мне сыщется;
- бросил я ей окровавленный песнями рог.
- Квакая, скачет по полю
- канава, зеленая сыщица,
- нас заневолить
- веревками грязных дорог.
Адище города
- Адище города окна разбили
- на крохотные, сосущие светами адки́.
- Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
- над самым ухом взрывая гудки.
- А там, под вывеской, где сельди из Керчи –
- сбитый старикашка шарил очки
- и заплакал, когда в вечереющем смерче
- трамвай с разбега взметнул зрачки.
- В дырах небоскребов, где горела руда
- и железо поездов громоздило лаз –
- крикнул аэроплан и упал туда,
- где у раненого солнца вытекал глаз.
- И тогда уже – скомкав фонарей одеяла –
- ночь излюбилась, похабна и пьяна,
- а за солнцами улиц где-то ковыляла
- никому не нужная, дряблая луна.
Нате!
- Через час отсюда в чистый переулок
- вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
- а я вам открыл столько стихов шкатулок,
- я – бесценных слов мот и транжир.
- Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
- где-то недокушанных, недоеденных щей;
- вот вы, женщина, на вас белила густо,
- вы смотрите устрицей из раковин вещей.
- Все вы на бабочку поэтиного сердца
- взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
- Толпа озвереет, будет тереться,
- ощетинит ножки стоглавая вошь.
- А если сегодня мне, грубому гунну,
- кривляться перед вами не захочется – и вот
- я захохочу и радостно плюну,
- плюну в лицо вам
- я – бесценных слов транжир и мот.
Ничего не понимают
- Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:
- «Будьте добры́, причешите мне уши».
- Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
- лицо вытянулось, как у груши.
- «Сумасшедший!
- Рыжий!»{2} –
- запрыгали слова.
- Ругань металась от писка до писка,
- и до-о-о-о-лго
- хихикала чья-то голова,
- выдергиваясь из толпы, как старая редиска.
Несколько слов обо мне самом{3}
- Я люблю смотреть, как умирают дети.
- Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
- за тоски хоботом?
- А я –
- в читальне улиц –
- так часто перелистывал гро́ба том.
- Полночь
- промокшими пальцами щупала
- меня
- и забитый забор,
- и с каплями ливня на лысине купола
- скакал сумасшедший собор.
- Я вижу, Христос из иконы бежал,
- хитона оветренный край
- целовала, плача, слякоть.
- Кричу кирпичу,
- слов исступленных вонзаю кинжал
- в неба распухшего мякоть:
- «Солнце!
- Отец мой!
- Сжалься хоть ты и не мучай!
- Это тобою пролитая кровь моя льется
- дорогою дольней.
- Это душа моя
- клочьями порванной тучи
- в выжженном небе
- на ржавом кресте колокольни!
- Время!
- Хоть ты, хромой богомаз,
- лик намалюй мой
- в божницу уродца века!
- Я одинок, как последний глаз
- у идущего к слепым человека!»
Послушайте!
- Послушайте!
- Ведь, если звезды зажигают –
- значит – это кому-нибудь нужно?
- Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
- Значит – кто-то называет эти плево́чки
- жемчужиной?
- И, надрываясь
- в метелях полу́денной пыли,
- врывается к богу,
- боится, что опоздал,
- плачет,
- целует ему жилистую руку,
- просит –
- чтоб обязательно была звезда! –
- клянется –
- не перенесет эту беззвездную му́ку!
- А после
- ходит тревожный,
- но спокойный наружно.
- Говорит кому-то:
- «Ведь теперь тебе ничего?
- Не страшно?
- Да?!»
- Послушайте!
- Ведь, если звезды
- зажигают –
- значит – это кому-нибудь нужно?
- Значит – это необходимо,
- чтобы каждый вечер
- над крышами
- загоралась хоть одна звезда?!
А все-таки
- Улица провалилась, как нос сифилитика.
- Река – сладострастье, растекшееся в слюни.
- Отбросив белье до последнего листика,
- сады похабно развалились в июне.
- Я вышел на площадь,
- выжженный квартал
- надел на голову, как рыжий парик.
- Людям страшно – у меня изо рта
- шевелит ногами непрожеванный крик.
- Но меня не осудят, но меня не облают,
- как пророку, цветами устелят мне след.
- Все эти, провалившиеся носами, знают:
- я – ваш поэт.
- Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
- Меня одного сквозь горящие здания
- проститутки, как святыню, на руках понесут
- и покажут богу в свое оправдание.
- И бог заплачет над моею книжкой!
- Не слова – судороги, слипшиеся комом;
- и побежит по небу с моими стихами под мышкой,
- и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.
Еще Петербург
- В ушах обрывки теплого бала,
- а с севера – снега седей –
- туман, с кровожадным лицом каннибала,
- жевал невкусных людей.
- Часы нависали, как грубая брань,
- за пятым навис шестой.
- А с неба смотрела какая-то дрянь
- величественно, как Лев Толстой.
Война объявлена
- «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
- Италия! Германия! Австрия!»
- И на площадь, мрачно очерченную чернью,
- багровой крови пролила́сь струя!
- Морду в кровь разбила кофейня,
- зверьим криком багрима:
- «Отравим кровью игры Рейна!
- Грома́ми ядер на мрамор Рима!»
- С неба, изодранного о штыков жала,
- слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,
- и подошвами сжатая жалость визжала:
- «Ах, пустите, пустите, пустите!»
- Бронзовые генералы на граненом цоколе
- молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
- Прощающейся конницы поцелуи цокали,
- и пехоте хотелось к убийце – победе.
- Громоздящемуся городу уро́дился во сне
- хохочущий голос пушечного баса,
- а с запада падает красный снег
- сочными клочьями человечьего мяса.
- Вздувается у площади за ротой рота,
- у злящейся на лбу вздуваются вены.
- «Постойте, шашки о шелк кокоток
- вытрем, вытрем в бульварах Вены!»
- Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
- Италия! Германия! Австрия!»
- А из ночи, мрачно очерченной чернью,
- багровой крови лила́сь и лила́сь струя.
Мама и убитый немцами вечер
- По черным улицам белые матери
- судорожно простерлись, как по гробу глазет{4}.
- Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
- «Ах, закройте, закройте глаза газет!»{5}
- Письмо.
- Мама, громче!
- Дым.
- Дым.
- Дым еще!
- Что вы мямлите, мама, мне?
- Видите –
- весь воздух вымощен
- громыхающим под ядрами камнем!
- Ма-а-а-ма!
- Сейчас притащили израненный вечер.
- Крепился долго,
- кургузый,
- шершавый,
- и вдруг, –
- надломивши тучные плечи,
- расплакался, бедный, на шее Варшавы.
- Звезды в платочках из синего ситца
- визжали:
- «Убит,
- дорогой,
- дорогой мой!»
- И глаз новолуния страшно косится
- на мертвый кулак с зажатой обоймой.
- Сбежались смотреть литовские села,
- как, поцелуем в обрубок вкована,
- слезя золотые глаза костелов,
- пальцы улиц ломала Ковна.{6}
- А вечер кричит,
- безногий,
- безрукий:
- «Неправда,
- я еще могу-с –
- хе! –
- выбряцав шпоры в горящей мазурке,
- выкрутить русый ус!»
- Звонок.
- Что вы,
- мама?
- Белая, белая, как на гробе глазет.
- «Оставьте!
- О нем это,
- об убитом, телеграмма.
- Ах, закройте,
- закройте глаза газет!»
Скрипка и немножко нервно
- Скрипка издергалась, упрашивая,
- и вдруг разревелась
- так по-детски,
- что барабан не выдержал:
- «Хорошо, хорошо, хорошо!»
- А сам устал,
- не дослушал скрипкиной речи,
- шмыгнул на горящий Кузнецкий{7}
- и ушел.
- Оркестр чужо смотрел, как
- выплакивалась скрипка
- без слов,
- без такта,
- и только где-то
- глупая тарелка
- вылязгивала:
- «Что это?»
- «Как это?»
- А когда геликон –
- меднорожий,
- потный,
- крикнул:
- «Дура,
- плакса,
- вытри!» –
- я встал,
- шатаясь полез через ноты,
- сгибающиеся под ужасом пюпитры,
- зачем-то крикнул:
- «Боже!»
- Бросился на деревянную шею:
- «Знаете что, скрипка?
- Мы ужасно похожи:
- я вот тоже
- ору –
- а доказать ничего не умею!»
- Музыканты смеются:
- «Влип как!
- Пришел к деревянной невесте!
- Голова!»
- А мне – наплевать!
- Я – хороший.
- «Знаете что, скрипка?
- Давайте –
- будем жить вместе!
- А?»
Я и наполеон
- Я живу на Большой Пресне,
- 36, 24.
- Место спокойненькое.
- Тихонькое.
- Ну?
- Кажется – какое мне дело,
- что где-то
- в буре-мире
- взяли и выдумали войну?
- Ночь пришла.
- Хорошая.
- Вкрадчивая.
- И чего это барышни некоторые
- дрожат, пугливо поворачивая
- глаза громадные, как прожекторы?
- Уличные толпы к небесной влаге
- припали горящими устами,
- а город, вытрепав ручонки-флаги,
- молится и молится красными крестами.
- Простоволосая церковка бульварному
- изголовью
- припала, – набитый слезами куль, –
- а у бульвара цветники истекают кровью,
- как сердце, изодранное пальцами пуль.
- Тревога жиреет и жиреет,
- жрет зачерствевший разум.
- Уже у Ноева оранжереи
- покрылись смертельно-бледным газом!
- Скажите Москве –
- пускай удержится!
- Не надо!
- Пусть не трясется!
- Через секунду
- встречу я
- неб самодержца, –
- возьму и убью солнце!
- Видите!
- Флаги по небу полощет.
- Вот он!
- Жирен и рыж.
- Красным копытом грохнув о площадь,
- въезжает по трупам крыш!
- Тебе,
- орущему:
- «Разрушу,
- разрушу!»,
- вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
- я,
- сохранивший бесстрашную душу,
- бросаю вызов!
- Идите, изъеденные бессонницей,
- сложите в костер лица!
- Все равно!
- Это нам последнее солнце –
- солнце Аустерлица!{8}
- Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
- Сегодня я – Наполеон!
- Я полководец и больше.
- Сравните:
- я и – он!
- Он раз чуме приблизился троном,{9}
- смелостью смерть поправ, –
- я каждый день иду к зачумленным
- по тысячам русских Яфф!
- Он раз, не дрогнув, стал под пули
- и славится столетий сто, –
- а я прошел в одном лишь июле
- тысячу Аркольских мостов!{10}
- Мой крик в граните времени выбит,
- и будет греметь и гремит
- оттого, что
- в сердце, выжженном, как Египет,
- есть тысяча тысяч пирамид!
- За мной, изъеденные бессонницей!
- Выше!
- В костер лица!
- Здравствуй,
- мое предсмертное солнце,
- солнце Аустерлица!
- Люди!
- Будет!
- На солнце!
- Прямо!
- Солнце съежится аж!
- Громче из сжатого горла храма
- хрипи, похоронный марш!
- Люди!
- Когда канонизируете имена
- погибших,
- меня известней, –
- помните:
- еще одного убила война –
- поэта с Большой Пресни!
Военно-морская любовь
- По морям, играя, носится
- с миноносцем миноносица.
- Льнет, как будто к меду о́сочка,
- к миноносцу миноносочка.
- И конца б не довелось ему,
- благодушью миноносьему.
- Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
- впился в спину миноносочки.
- Как взревет медноголосина:
- «Р-р-р-астакая миноносина!»
- Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
- а сбежала миноносица.
- Но ударить удалось ему
- по ребру по миноносьему.
- Плач и вой морями носится:
- овдовела миноносица.
- И чего это несносен нам
- мир в семействе миноносином?
Гимн критику
- От страсти извозчика и разговорчивой прачки
- невзрачный детеныш в результате вытек.
- Мальчик – не мусор, не вывезешь на тачке.
- Мать поплакала и назвала его: критик.
- Отец, в разговорах вспоминая родословные,
- любил поспорить о правах материнства.
- Такое воспитание, светское и салонное,
- оберегало мальчика от уклона в свинство.
- Как роется дворником к кухарке сапа,{11}
- щебетала мамаша и кальсоны мыла;
- от мамаши мальчик унаследовал запах
- и способность вникать легко и без мыла.
- Когда он вырос приблизительно с полено
- и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
- его изящным ударом колена
- провели на улицу, чтобы вышел в люди.
- Много ль человеку нужно? – Клочок –
- небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
- Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок{12},
- обнюхал приятное газетное небо.
- И какой-то обладатель какого-то имени
- нежнейший в двери услыхал стук.
- И скоро критик из и́мениного вымени
- выдоил и брюки, и булку, и галстук.
- Легко смотреть ему, обутому и одетому,
- молодых искателей изысканные игры
- и думать: хорошо – ну, хотя бы этому
- потрогать зубенками шальные икры.
- Но если просочится в газетной сети
- о том, как велик был Пушкин или Дант,
- кажется, будто разлагается в газете
- громадный и жирный официант.
- И когда вы, наконец, в столетний юбилей
- продерете глазки в кадильной гари,
- имя его первое, голубицы белей,
- чисто засияет на поднесенном портсигаре.
- Писатели, нас много. Собирайте миллион.
- И богадельню критикам построим в Ницце{13}.
- Вы думаете – легко им наше белье
- ежедневно прополаскивать в газетной странице!
Гимн обеду
- Слава вам, идущие обедать миллионы!
- И уже успевшие наесться тысячи!
- Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
- и тысячи блюдищ всяческой пищи.
- Если ударами ядр
- тысячи Реймсов{14} разбить удалось бы –
- по-прежнему будут ножки у пулярд{15},
- и дышать по-прежнему будет ростбиф!
- Желудок в панаме! Тебя ль заразят
- величием смерти для новой эры?!
- Желудку ничем болеть нельзя,
- кроме аппендицита и холеры!
- Пусть в сале совсем потонут зрачки –
- все равно их зря отец твой выделал;
- на слепую кишку хоть надень очки,
- кишка все равно ничего б не видела.
- Ты так не хуже! Наоборот,
- если б рот один, без глаз, без затылка –
- сразу могла б поместиться в рот
- целая фаршированная тыква.
- Лежи спокойно, безглазый, безухий,
- с куском пирога в руке,
- а дети твои у тебя на брюхе
- будут играть в крокет.
- Спи, не тревожась картиной крови
- и тем, что пожаром мир опоясан, –
- молоком богаты силы коровьи,
- и безмерно богатство бычьего мяса.
- Если взрежется последняя шея бычья
- и злак последний с камня серого,
- ты, верный раб твоего обычая,
- из звезд сфабрикуешь консервы.
- А если умрешь от котлет и бульонов,
- на памятнике прикажем высечь:
- «Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов –
- твоих четыреста тысяч».
Чудовищные похороны
- Мрачные до черного вышли люди,
- тяжко и чинно выстроились в городе,
- будто сейчас набираться будет
- хмурых монахов черный орден.
- Траур воронов, выкаймленный под окна,
- небо, в бурю крашенное, –
- все было так подобрано и подогнано,
- что волей-неволей ждалось страшное.
- Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
- пыльного воздуха сухая охра,
- вылез из воздуха и начал ехать
- тихий катафалк чудовищных похорон.
- Встревоженная о́жила глаз масса,
- гору взоров в гроб бросили.
- Вдруг из гроба прыснула гримаса,
- после –
- крик: «Хоронят умерший смех!» –
- из тысячегрудого меха
- гремел омиллионенный множеством эх
- за гробом, который ехал.
- И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
- врезались, заставив ничего не понимать.
- Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, –
- усопшего смеха седая мать.
- К кому же, к кому вернуться назад ей?
- Смотрите: в лысине – тот –
- это большой, носатый
- плачет армянский анекдот.
- Еще не забылось, как выкривил рот он,
- а за ним ободранная, куцая,
- визжа, бежала остро́та.
- Куда – если умер – уткнуться ей?
- Уже до неба плачей глыба.
- Но еще,
- еще откуда-то плачики –
- это целые полчища улыбочек и улыбок
- ломали в горе хрупкие пальчики.
- И вот сквозь строй их, смокших в один
- сплошной изрыдавшийся Гаршин{16},
- вышел ужас – вперед пойти –
- весь в похоронном марше.
- Размокло лицо, стало – кашица,
- смятая морщинками на выхмуренном лбу,
- а если кто смеется – кажется,
- что ему разодрали губу.
Мое к этому отношение
(Гимн еще почтее)
- Май ли уже расцвел над городом,
- плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, –
- весь год эта пухлая морда
- маячит в дымах фабрик.
- Брюшком обвисшим и гаденьким
- лежит на воздушном откосе,
- и пухлые губы бантиком
- сложены в 88.
- Внизу суетятся рабочие,
- нищий у тумбы виден,
- а у этого брюхо и все прочее –
- лежит себе сыт, как Сытин{17}.
- Вкусной слюны разли́лись волны,
- во рту громадном плещутся, как в бухте,
- А полный! Боже, до чего он полный!
- Сравнить если с ним, то худ и Апухтин{18}.
- Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
- шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,
- а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» –
- кричат ему, и все ему нравится, проклятому.
- Растет улыбка, жирна и нагла,
- рот до ушей разросся,
- будто у него на роже спектакль-гала́
- затеяла труппа малороссов.
- Солнце взойдет, и сейчас же луч его
- ему щекочет пятки хо́леные,
- и луна ничего не находит лучшего.
- Объявляю всенародно: очень недоволен я.
- Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
- характер – как из кости слоновой то́чен,
- а этому взял бы да и дал по роже:
- не нравится он мне очень.
Ко всему
- Нет.
- Это неправда.
- Нет!
- И ты?
- Любимая,
- за что,
- за что же?!
- Хорошо –
- я ходил,
- я дарил цветы,
- я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!
- Белый,
- сшатался с пятого этажа.
- Ветер щеки ожег.
- Улица клубилась, визжа и ржа.
- Похотливо взлазил рожок на рожок.
- Вознес над суетой столичной одури
- строгое –
- древних икон –
- чело.
- На теле твоем – как на смертном о́дре –
- сердце
- дни
- кончило.
- В грубом убийстве не пачкала рук ты.
- Ты
- уронила только:
- «В мягкой постели
- он,
- фрукты,
- вино на ладони ночного столика».
- Любовь!
- Только в моем
- воспаленном
- мозгу была ты!
- Глупой комедии остановите ход!
- Смотри́те –
- срываю игрушки-латы
- я,
- величайший Дон-Кихот!
- Помните:
- под ношей креста
- Христос
- секунду
- усталый стал.
- Толпа орала:
- «Марала!
- Мааарррааала!»
- Правильно!
- Каждого,
- кто
- об отдыхе взмолится,
- оплюй в его весеннем дне!
- Армии подвижников, обреченным добровольцам
- от человека пощады нет!
- Довольно!
- Теперь –
- клянусь моей языческой силою! –
- дайте
- любую
- красивую,
- юную, –
- души не растрачу,
- изнасилую
- и в сердце насмешку плюну ей!
- Око за око!
- Севы мести в тысячу крат жни!
- В каждое ухо ввой:
- вся земля –
- каторжник
- с наполовину выбритой солнцем головой!
- Око за око!
- Убьете,
- похороните –
- выроюсь!
- Об камень обточатся зубов ножи еще!
- Собакой забьюсь под нары казарм!
- Буду,
- бешеный,
- вгрызаться в ножища,
- пахнущие по́том и базаром.
- Ночью вско́чите!
- Я
- звал!
- Белым быком возрос над землей:
- Муууу!
- В ярмо замучена шея-язва,
- над язвой смерчи мух.
- Лосем обернусь,
- в провода
- впутаю голову ветвистую
- с налитыми кровью глазами.
- Да!
- Затравленным зверем над миром выстою.
- Не уйти человеку!
- Молитва у рта, –
- лег на плиты просящ и грязен он.
- Я возьму
- намалюю
- на царские врата
- на божьем лике Разина.
- Солнце! Лучей не кинь!
- Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, –
- чтоб тысячами рождались мои ученики
- трубить с площадей анафему!
- И когда,
- наконец,
- на веков верхи́ став,
- последний выйдет день им, –
- в черных душах убийц и анархистов
- зажгусь кровавым видением!
- Светает.
- Все шире разверзается неба рот.
- Ночь
- пьет за глотком глоток он.
- От окон зарево.
- От окон жар течет.
- От окон густое солнце льется на спящий город.
- Святая месть моя!
- Опять
- над уличной пылью
- ступенями строк ввысь поведи!
- До края полное сердце
- вылью
- в исповеди!
- Грядущие люди!
- Кто вы?
- Вот – я,
- весь
- боль и ушиб.
- Вам завещаю я сад фруктовый
- моей великой души.
Лиличка!
Вместо письма{19}
- Дым табачный воздух выел.
- Комната –
- глава в крученыховском аде{20}.
- Вспомни –
- за этим окном
- впервые
- руки твои, исступленный, гладил.
- Сегодня сидишь вот,
- сердце в железе.
- День еще –
- выгонишь,
- может быть, изругав.
- В мутной передней долго не влезет
- сломанная дрожью рука в рукав.
- Выбегу,
- тело в улицу брошу я.
- Дикий,
- обезумлюсь,
- отчаяньем иссечась.
- Не надо этого,
- дорогая,
- хорошая,
- дай простимся сейчас.
- Все равно
- любовь моя –
- тяжкая гиря ведь –
- висит на тебе,
- куда ни бежала б.
- Дай в последнем крике выреветь
- горечь обиженных жалоб.
- Если быка трудом умо́рят –
- он уйдет,
- разляжется в холодных водах.
- Кроме любви твоей,
- мне
- нету моря,
- а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
- Захочет покоя уставший слон –
- царственный ляжет в опожаренном песке.
- Кроме любви твоей,
- мне
- нету солнца,
- а я и не знаю, где ты и с кем.
- Если б так поэта измучила,
- он
- любимую на деньги б и славу выменял,
- а мне
- ни один не радостен звон,
- кроме звона твоего любимого имени.
- И в пролет не брошусь,
- и не выпью яда,
- и курок не смогу над виском нажать.
- Надо мною,
- кроме твоего взгляда,
- не властно лезвие ни одного ножа.
- Завтра забудешь,
- что тебя короновал,
- что душу цветущую любовью выжег,
- и суетных дней взметенный карнавал
- растреплет страницы моих книжек…
- Слов моих сухие листья ли
- заставят остановиться,
- жадно дыша?
- Дай хоть
- последней нежностью выстелить
- твой уходящий шаг.
Надоело
- Не высидел дома.
- Анненский{21}, Тютчев, Фет.
- Опять,
- тоскою к людям ведомый,
- иду
- в кинематографы, в трактиры, в кафе.
- За столиком.
- Сияние.
- Надежда сияет сердцу глупому.
- А если за неделю
- так изменился россиянин,
- что щеки сожгу огнями губ ему.
- Осторожно поднимаю глаза,
- роюсь в пиджачной куче.
- «Назад,
- наз-зад,
- назад!»
- Страх орет из сердца,
- Мечется по лицу, безнадежен и скучен.
- Не слушаюсь.
- Вижу,
- вправо немножко,
- неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
- старательно работает над телячьей ножкой
- загадочнейшее существо.
- Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
- Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
- Два аршина безлицего розоватого теста:
- хоть бы метка была в уголочке вышита.
- Только колышутся спадающие на плечи
- мягкие складки лоснящихся щек.
- Сердце в исступлении,
- рвет и мечет.
- «Назад же!
- Чего еще?»
- Влево смотрю.
- Рот разинул.
- Обернулся к первому, и стало и́наче:
- для увидевшего вторую образину
- первый –
- воскресший Леонардо да Винчи.
- Нет людей.
- Понимаете
- крик тысячедневных мук?
- Душа не хочет немая идти,
- а сказать кому?
- Брошусь на землю,
- камня корою
- в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
- Истомившимися по ласке губами тысячью поце –
- луев покрою
- умную морду трамвая.
- В дом уйду.
- Прилипну к обоям.
- Где роза есть нежнее и чайнее?
- Хочешь –
- тебе
- рябое
- прочту «Простое как мычание»{22}?
Для истории
- Когда все расселятся в раю и в аду,
- земля итогами подведена будет –
- помните:
- в 1916 году
- из Петрограда исчезли красивые люди.
Дешевая распродажа
- Женщину ль опутываю в трогательный роман,
- просто на прохожего гляжу ли –
- каждый опасливо придерживает карман.
- Смешные!
- С нищих –
- что с них сжулить?
- Сколько лет пройдет, узнают пока –
- кандидат на сажень городского морга –
- я
- бесконечно больше богат,
- чем любой Пьерпонт Мо́рган.
- Через столько-то, столько-то лет –
- словом, не выживу –
- с голода сдохну ль,
- стану ль под пистолет –
- меня,
- сегодняшнего рыжего,
- профессора́ разучат до последних йот,
- как,
- когда,
- где явлен.
- Будет
- с кафедры лобастый идиот
- что-то молоть о богодьяволе.
- Скло́нится толпа,
- лебезяща,
- суетна.
- Даже не узнаете –
- я, не я:
- облысевшую голову разрисует она
- в рога или в сияния.
- Каждая курсистка,
- прежде чем лечь,
- она
- не забудет над стихами моими замлеть.
- Я – пессимист,
- знаю –
- вечно будет курсистка жить на земле.
- Слушайте ж:
- все, чем владеет моя душа, –
- а ее богатства пойдите смерьте ей! –
- великолепие,
- что в вечность украсит мой шаг,
- и самое мое бессмертие,
- которое, громыхая по всем векам,
- коленопреклоненных соберет мировое вече, –
- все это – хотите? –
- сейчас отдам
- за одно только слово
- ласковое,
- человечье.
- Люди!
- Пыля проспекты, топоча рожь,
- идите со всего земного лона.
- Сегодня
- в Петрограде
- на Надеждинской{23}
- ни за грош
- продается драгоценнейшая корона.
- За человечье слово –
- не правда ли, дешево?
- Пойди,
- попробуй, –
- как же,
- найдешь его!
Себе, любимому, посвящает эти строки автор
- Четыре.
- Тяжелые, как удар.
- «Кесарево кесарю – богу богово».
- А такому,
- как я,
- ткнуться куда?
- Где для меня уготовано логово?
- Если б был я
- маленький,
- как Великий океан, –
- на цыпочки б волн встал,
- приливом ласкался к луне бы.
- Где любимую найти мне,
- такую, как и я?
- Такая не уместилась бы в крохотное небо!
- О, если б я нищ был!
- Как миллиардер!
- Что деньги душе?
- Ненасытный вор в ней.
- Моих желаний разнузданной орде
- не хватит золота всех Калифорний.
- Если б быть мне косноязычным,
- как Дант{24}
- или Петрарка!
- Душу к одной зажечь!
- Стихами велеть истлеть ей!
- И слова
- и любовь моя –
- триумфальная арка:
- пышно,
- бесследно пройдут сквозь нее
- любовницы всех столетий.
- О, если б был я
- тихий,
- как гром, –
- ныл бы,
- дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
- Я
- если всей его мощью
- выреву голос огромный –
- кометы заломят горящие руки,
- бросятся вниз с тоски.
- Я бы глаз лучами грыз ночи –
- о, если б был я
- тусклый,
- как солнце!
- Очень мне надо
- сияньем моим поить
- земли отощавшее лонце!
- Пройду,
- любовищу мою волоча.
- В какой ночи́,
- бредово́й,
- недужной,
- какими Голиафами я зача́т –
- такой большой
- и такой ненужный?
Последняя петербургская сказка
- Стоит император Петр Великий,
- думает:
- «Запирую на просторе я!» –
- а рядом
- под пьяные клики
- строится гостиница «Астория».
- Сияет гостиница,
- за обедом обед она
- дает.
- Завистью с гранита снят,
- слез император.
- Трое медных{25}
- слазят
- тихо,
- чтоб не спугнуть Сенат.{26}
- Прохожие стремились войти и выйти.
- Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
- Кто-то
- рассеянный
- бросил:
- «Извините»,
- наступив нечаянно на змеин хвост.
- Император,
- лошадь и змей
- неловко
- по карточке
- спросили гренадин{27}.
- Шума язык не смолк, немея.
- Из пивших и евших не обернулся ни один.
- И только
- когда
- над пачкой соломинок
- в коне заговорила привычка древняя,
- толпа сорва́лась, криком сломана:
- – Жует! –
- Не знает, зачем они.
- Деревня!
- Стыдом овихрены шаги коня.
- Выбелена грива от уличного газа.
- Обратно
- по Набережной
- гонит гиканье
- последнюю из петербургских сказок.
- И вновь император
- стоит без скипетра.
- Змей.
- Унынье у лошади на морде.
- И никто не поймет тоски Петра –
- узника,
- закованного в собственном городе.
Революция
Поэтохроника
26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией, солдаты стреляли в народ.
- 27-е.
- Разли́лся по блескам дул и лезвий
- рассвет.
- Рдел багрян и до́лог.
- В промозглой казарме,
- суровый,
- трезвый,
- молился Волынский полк{28}.
- Жестоким
- солдатским богом божились
- роты,
- бились об пол головой многолобой.
- Кровь разжигалась, висками жилясь.
- Руки в железо сжимались злобой.
- Первому же,
- приказавшему –
- «Стрелять за голод!» –
- заткнули пулей орущий рот.
- Чье-то – «Смирно!»
- Не кончил.
- Заколот.
- Вырвалась городу буря рот.
- 9 часов.
- На своем постоянном месте
- в Военной автомобильной школе{29}
- стоим,
- зажатые казарм оградою.
- Рассвет растет,
- сомненьем колет,
- предчувствием страша и радуя.
- Окну!
- Вижу –
- оттуда,
- где режется небо
- дворцов иззубленной линией,
- взлетел,
- простерся орел самодержца,
- черней, чем раньше,
- злей,
- орлинее.
- Сразу –
- люди,
- лошади,
- фонари,
- дома
- и моя казарма
- толпами
- по́ сто
- ринулись на улицу.
- Шагами ломаемая, звенит мостовая.
- Уши крушит невероятная поступь.
- И вот неведомо,
- из пенья толпы ль,
- из рвущейся меди ли труб гвардейцев
- нерукотворный,
- сияньем пробивая пыль,
- образ возрос.
- Горит.
- Рдеется.
- Шире и шире крыл окружие.
- Хлеба нужней,
- воды изжажданней,
- вот она:
- «Граждане, за ружья!
- К оружию, граждане!»
- На крыльях флагов
- стоглавой лавою
- из горла города ввысь взлетела.
- Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
- орла императорского черное тело.
- Граждане!
- Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
- Сегодня пересматривается миров основа.
- Сегодня
- до последней пуговицы в одежде
- жизнь переделаем снова.
- Граждане!
- Это первый день рабочего потопа.
- Идем
- запутавшемуся миру на выручу!
- Пусть толпы в небо вбивают топот!
- Пусть флоты ярость сиренами вырычут!
- Горе двуглавому!
- Пенится пенье.
- Пьянит толпу.
- Площади плещут.
- На крохотном форде
- мчим,
- обгоняя погони пуль.
- Взрывом гудков продираемся в городе.
- В тумане.
- Улиц река дымит.
- Как в бурю дюжина груженых барж,
- над баррикадами
- плывет, громыхая, марсельский марш.
- Первого дня огневое ядро,
- жужжа, скатилось за купол Думы.
- Нового утра новую дрожь
- встречаем у новых сомнений в бреду мы.
- Что будет?
- Их ли из оков выломим,
- или на нарах