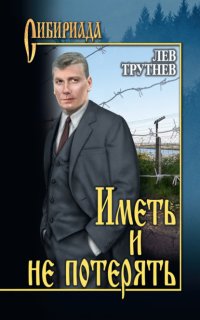Читать онлайн Живи и радуйся бесплатно
- Все книги автора: Лев Трутнев
Книга первая. За окаёмом войны
От автора
Вряд ли найдется человек, который бы в зрелые годы не вспоминал детство, юность, молодость. Какими бы они не были, а память о них всегда осветляет душу, и, видимо, потому, что на подъеме жизни, в зареве надежд, все воспринимается глубже, острее, желаннее… И как бы ни сложилась судьба того или иного человека, изначальная ее завязь во многом близка с другими судьбами – поскольку основные общечеловеческие понятия однозначны, разница лишь в их осмыслении и жизненной направленности. Именно внутренние убеждения, как нравственное начало, являются главными определяющими тех общественных и духовных позиций, на которые опирается человек, выбирая свой судьбоносный путь. И при любом общественном укладе жизненный опыт в своем многообразии служит ключом в будущее.
Моё детство выпало на годы Второй мировой войны – Великой Отечественной, как её принято называть у нас. О ней написано много и еще долго будут писать. Причем не только о боевых её составляющих, но и о тыловой жизни тех времен. И хотя мне вначале той, общечеловеческой, трагедии не было и шести лет, обо всём, что пришлось пережить и что запомнилось, повенчалось выстрадать в творчестве, показать тот самый, военный тыл – жизнь сибирской деревни, прошедшую не только перед моими глазами, но и испытанную наяву, глубоко обжегшую душу. Ибо война для меня – это, прежде всего, невосполнимая утрата – потеря отца. А сколько еще потерь неподдающихся осмыслению? Постичь ли, соизмерить, возместить? И вряд ли я ошибусь, если скажу, что ни один мой ровесник, выросший без отца, прикидывал, как бы сложилась его судьба – не будь войны? И какими бы ни были эти прикидки, неотъемлемой их частью всегда является, спрятанная в тайниках души, некогда тяжкая, а после привычная, как день и ночь, боль. Обида за неполноценное детство, юность, молодость, да и добрый отрезок дальнейшей жизни. Поскольку на всех этих этапах отец дает нам то, что не может дать ни один другой человек на свете: кровную завязь, родственность души, жизненную поддержку, благодаря которым, прямо или косвенно, формируется и характер, и духовность, и ориентировка на будущее. Тут и без всяких прикидок ясно, что жизнь изначальная и жизнь дальнейшая при живом отце всегда основательнее, весомее, тверже и, вероятно, светлее…
Начало войны я помню смутно. Вокзал, паровоз, вагоны, бравурная музыка. Отец в военной форме. И деревня. В ней, у деда по материнской линии, я и вырос, познал труд, людей, природу, основы учебы. Причем трудиться пришлось едва ли ни сразу, в первый же год. Вначале по желанию, в охотку, в силу необходимости – на своем подворье, позже – в колхозе, по принудиловке. В десять лет я уже пропалывал хлеба от сорняков, убирал овощи, возил копны к скирдам в сенокосную страду, а в двенадцать стал косить самостоятельно. Испытать пришлось и голод, особенно в последние годы войны и первое время после неё; и холод – не было ни надлежащей обуви, ни должной одежды, то и другое чинилось, перечинивалось; и унижение – колхозное руководство не особенно с нами, подростками, церемонилось. К тому же эхо войны долетало до нас тяжелыми утратами или вовсе – горем, а отзвуки этого эха долго прокатывались по грядущим годам.
Все эти перипетии довольно подробно раскрываются в предлагаемом романе, но это не биография в литературном исполнении, а художественное произведение с теми или иными отклонениями от истины, при которых многие события хотя и имели место в жизни, но несколько трансформированы для полноты раскрытия образов и цельности сюжетных линий. Тем не менее это именно та жизнь, та духовная закваска, на которой поднялись поколения людей, явивших миру непревзойденные высоты науки, литературы, живописи, музыки. А ровняться на них или нет – решать читателю. Автору остается лишь тешить себя доброй надеждой и пожелать всем светлого чтения.
Предисловие
Время за нами, время перед нами,
а при нас его нет.
Пословица
Светлы и радужны мысли о детстве, трепетно сокровенны, не редко обвальные, хотя память иной раз и не в состоянии отличить былое от налетного, слышимое от увиденного, сны от яви. Сполохи изначальных воспоминаний высвечивают такие туманные дали, что выстроить в них временные или духовные связи невозможно, лишь отдельные образы рисуются в воображаемом прошлом, волнуя душу, и всё…
Опускаясь в глубины памяти, теряясь и растворяясь в них, вижу перед собой некую красную обволакивающую пелену – будто гляжу я сквозь прикрытые веки на солнце – и не улавливается что-либо осветленное между этой безбрежной краснотой и ясными мгновениями сознания…
* * *
Пустая комната в одно окошко. Я стою в деревянной кровате, держась за ее боковину, и оглядываюсь. Яркий свет, выливаясь из окна, падает на пол четким пятном, а сбоку, на белой стене, висит чей-то портрет в рамке. Мне непреклонно хочется дотронуться до этого портрета, и я тянусь к нему, тянусь – ближе, ближе… Дальнейшее стерлось временем… Когда я, уже в зрелые годы, как-то рассказал об этом матери, то она лишь улыбнулась своими удивительно лучистыми глазами и покачала головой: «Не можешь ты, сынок, помнить того случая: чуть больше года тебе было. Жили мы тогда на таможне, в горах, день езды в телеге до города Зайсан, твоей родины. Спал ты, а я обед готовила – отца ждала, слышу – что-то грохнулось. Забегаю в комнату – ты стоишь в кроватке, а за ней, на полу, картина с разбитым вдребезги стеклом. Меня холодом окатило: ведь могла эта рама упасть тебе на голову…»
* * *
…Горные громады в острых изломах, глубоких провалах, густых тенях, до неба закрывающие пространство. Крутые отвесы, нагромождения каменных россыпей, гасящие взгляд расщелины. От гигантов, сжимающих синеву бездонности, наплывет что-то мощное, порождающее ни то страх, ни то восхищение, и я, покачиваясь в такт телеги, пляшущей на неровностях дороги, то прикрываю глаза, затаивая дыхание, то стараюсь через ресницы следить за открывающимся миром. Успокаивает одно: рядом матушка и отец с возницей. На задке телеги наши немудреные вещи.
Прошло немало времени, прежде чем меня укачало, полураспахнутые ресницы сомкнулись сами собой, и я уснул.
Холод и монотонно клокочущий шум разбудили меня. Телега стояла среди плещущей, бурно катящейся воды. Ни лошадей, ни отца с возницей не было. Одни мы с матерью сидели в телеге посредине этого шумного потока. Из потемневшего неба падали редкие снежинки.
Испуг ожег меня сильнее, чем чувство холода. Я кинулся к матери и заплакал. В моем лексиконе еще не было слов, с помощью которых я бы мог объяснить свое состояние, и единственным выражением моих чувств были слезы.
Она утешала меня, что-то говорила, но не все сказанное понималось. Едва-едва я успокоился, и тогда мать запеленала меня в перину.
«Мы переселялись с таможни в город, – уже взрослому рассказала мне она про тот случай, – а колесо у телеги сломалось на камнях среди горной речки. Отец с возницей и ходили за помощью в ближний аул. Мы с тобой часа четыре куковали на телеге. А тут еще снег пошел. Я тебя и завернула в перину. Самой уж, как пришлось»…
* * *
И далее… Широкая кровать с рядами подушек в цветастых наволочках, затененные шторами окна, комод, на котором стоит гармонь. Она, напевная, трогающая душу особой волной, влечет меня, хотя я и знаю, что брать гармонь нельзя. Но в комнате никого нет – бабушка куда-то отлучилась, а отец с матерью и вовсе ушли по делам с самого утра.
С трудом придвинул я к комоду стул и влез на него. Усилия, которые помогли мне стянуть гармонь вначале на стул, под ноги, а после на пол, в вертикальное положение, не запали в сознание. Лишь сладость издаваемых звуков, когда я, натуживаясь, растянул меха, залила сердце. И тут бабушка – шлепок по мягкому месту и обида. Да такая сильная, что широкая бабушкина юбка в белый горошек по темно-синему фону, заслонившая от меня все, осталась в памяти навсегда, а лицо родной бабушки не запомнилось…
* * *
Шлепанье плиц огромных колес парохода. За округлой кормой расплываются валики белесых бурунов. Они притягивают мой взгляд, манят живой необычностью, и, заметив, что мать заговорилась с какой-то попутчицей, я короткими перебежками пробрался к самому кормовому бортику, под леера, и стал наблюдать за водяными кудряшками волн. Лицо опахнуло прохладой, обнесло влажной пыльцой. Дотянуться бы до этих игривых выплесков! Они почти завораживают меня, и я клонюсь все ниже и ниже… Тихий охват за плечи – я вздрогнул. Бледное лицо матери с широко открытыми глазами, в темных зрачках не погасший испуг, который неким образом передался и мне. Сердечко сжалось, слезы брызнули… Возможно, это был первый истинный испуг в моей жизни… «На пароходе мы плыли с тобой от пристани Тополев Мыс, что на озере Нор-Зайсан, в Омск, куда отца перевели работать, – помнила этот случай и матушка, – ты и убежал, пока я разговаривала со знакомой женщиной. Сильно меня испугал тогда: мог ведь и свалиться в воду…»
* * *
Полупустой трамвай с лязгом катится по затемненному сумерками городу. Через глазок, вытаянный на замерзшем стекле дыханием отца, я вижу гирлянды огней и слышу отцовский возглас: «Ёлка!»… Мне радостно, легко и знобко.
* * *
Общая баня. Суета. Жарко и влажно. Я стою одетый в предбаннике и жду отца. Время идет медленно, а жар натекает и натекает за воротник. Держа в памяти наказ родителя – никуда не уходить, выскакиваю на улицу. Тепло, солнечно, воробушки чирикают. Вдоль улицы тянется дощатый тротуар. Припоминаю, как мы с отцом шли по нему в баню, какие делали повороты – весь путь до недалекого дома, и, не торопясь, с радостным чувством самостоятельности, шагаю по широким доскам, тайно надеясь, что отец меня догонит…
Почти у самого дома услышал я торопливый топот и оглянулся – радостное лицо отца, взлет на его крепкие руки. Попало или нет мне за самовольство – не запомнилось, но, вероятно, тогда я впервые ощутил истинное дыхание свободы.
* * *
Отец купил мне заводной автомобиль – по тем временам подарок ценный. Вышел я на тротуар обкатать игрушку. А тут какой-то паренек со свистулькой из-за угла вывернулся. Завлек он меня переливами звуков, дуя мастерски в «петушка», и променял я свою новенькую машинку на свисток из обожженной глины. Парень ее за пазуху и снова за угол. Начал я дуть в свистульку – не получается так забавно, как выходило у него. Пошел в дом, к отцу, за советом. Понял он, в чем дело, выскочил на улицу, а парня словно и не было.
* * *
Соседские ребятишки роются в песке, что растекшейся кучей насыпан за двумя кленами, напротив нашего дома. Я к ним, погружаю руки в прохладу щекочущих кожу частиц, приятно и забавно пересыпать песок с ладони на ладонь… И вдруг – острая боль по запястью левой руки! Кровь быстрой струйкой потекла к локтю. Жгучий страх стиснул горло. Кричу и не слышу себя в быстром беге к дому. В комнате один отец. Те синие, тревожно распахнутые его глаза остались в памяти навсегда.
* * *
Женщина врач, осторожно разматывая присохшую к телу ткань тюлевой занавески, которой отец замотал мне пораненную руку, все нахваливала меня, предвосхищая крики боли. Ну как можно было не поверить ей, что я герой?! Как уронить себя в глазах отца, докторши?! Нет, лучше терпеть этот болевой ожег, прошивающий руку до самого плеча…
Чуть ли не пол-ладони распластало мне ни то осколком стекла, ни то какой-то жестянкой. И после, на перевязках, та же докторша постоянно обласкивала меня, подбадривала, нахваливая. И, возможно, в тех первых усилиях над самим собой и закладывался дух того терпения, что сохранился в моем характере на всю жизнь…
* * *
Как-то, уже к концу лечения моей ладони, мы с матерью возвращались домой поздновато, ближе к вечеру. У соседнего двора толпились люди. Они поглядывали на небо. Слышался говор: «Это не к добру… Это к войне…» Поднял и я голову: на матовом небе, во весь его простор, разливалась яркая краснота, обжигающая взгляд. Было в этом неимоверном разливе что-то кровавое, пугающее… А под утро прошел ливень с градом и ураганным ветром, посек деревья, выбил стекла в домах, стоявших окнами на запад. С куриное яйцо падали градины, втрамбовывая в землю и зелень огородных грядок, и цветы в палисадниках, и траву. И людям, не успевшим укрыться, досталось. До полудня таяли округлые куски льда, жемчужно поблескивая в кустах выстриженной травы. Было ветрено и прохладно, а через день или два в говоре взрослых то и дело стало слышаться слово – война! Непонятное и тревожное. От их поведения, словесных интонаций, беспокойства в глазах передалась и мне тягостная тревога, и с тех безрадостных дней моя память раздвигает завесу времени во всем развороте следовавших друг за другом событий.
Часть первая. По первому кругу
Глава 1. На пороге
1
Война! Война!.. Это слово будто билось в летнем, накаленном зноем воздухе, отлетая отзвуками от залитых солнцем кленов и тополей, поседевших тесовых крыш, бревенчатых и дощатых стен, заборов, песчаного ложа пыльной улицы, возносясь к чистому, до слезинок в глазах, синему небу и вызывая жгучие волнения, не ясные, сжимающие душу образы, страх. А вскоре появились и первые зримые признаки этого страха.
Из большой, трехэтажной школы, заслонившей полквартала дворов, вывезли парты и столы, а вместо них подняли кровати и тумбочки, и я узнал новое слово – госпиталь…
* * *
Соседка, приоткрыв двери, крикнула:
– Раненых привезли! Пойдем смотреть!
Мать отложила шитье и поднялась. Стал и я сдвигать в угол игрушки.
– Побудь дома, сынок, – поняла она мою спешку, – еще напугаешься.
– Не напугаюсь! – с твердой решимостью откликнулся я. В сознании почему-то мелькнуло улыбчивое лицо докторши, лечившей мою руку и признающей во мне маленького героя, а сердце заплыло сосущим жаром. Почти не ощущая ног, выбежал я за ограду.
Солнце скрылось за домами, но его лучи еще обжигали серый фасад школы и высокую чугунную ограду, возле которой стояли машины с ярко-красными крестами на крытых кузовах. Эти кресты в белых кружках я заметил сразу, от самой калитки, и замер.
Из машин выгружали носилки. Я увидел людей, обмотанных бинтами. У кого была обелена голова, у кого – ноги, у кого – грудь… А на той непривычной белизне – кровавые пятна, потемневшие и яркие, округлые и расплывчатые. Сжалось моё сердечко, глазенки распахнулись, ноги потяжелели – одно дело слышать о войне, что-то воображать, другое – увидеть её выплески в непосредственной близости.
* * *
Жар. Духота. Говор толпы. Музыка…
– Ничего, Аня, это ненадолго, – улавливаю я слова отца из общего шума. – Дня через три будет подвода из деревни – поезжайте туда. В городе тебе не выжить…
Дальше голос его стал тише – слов не разобрать.
Блеск рельсов слепил глаза. Ярко зеленели скверы, а мрачное здание вокзала почти закрывало своей тенью перрон, к которому медленно двигался черный и громадный паровоз. Несколько зеленых вагонов с узкими окнами тянулись за ним.
Пляшущие тени зарябили перрон. Раздался оглушительный свисток. Я вздрогнул и откачнулся назад.
– По вагонам! – раздался властный голос.
Оркестр рванул что-то трепетно бравое, распахивающее душу. Толпа колыхнулась. Шум, гвалт, плач… Отец поднял меня на руки и прижал к груди. И я охватил его шею изо всех сил. Никогда еще любовь к нему не прошивала меня с такой пронзительной остротой и обуревающей крепостью. Перед зажмуренными глазами поплыло что-то горячее, обжигающее сердце и высасывающее душу. Казалось, что стоит мне оторваться от отца и все кончится, сгорит в чем-то всеобъемлюще неподвластном. Он щекотно обдавал мне ухо, что-то говоря, но я, дрожа натянутой струной, не улавливал смысла слов, и очнулся лишь тогда, когда медленно, как бы нехотя, тронулся поезд. Отец быстро поставил меня рядом с матерью и ловко вскочил на подножку ближнего вагона.
Покатились, застучали колесами зеленые вагончики, замелькали распахнутыми окнами. Из них и из всех дверей выпархивали машущие руки, пилотки, картузы… И окружавшие нас с матерью люди что-то кричали, вздыбливались, пытаясь угадать своих среди этого мелькания. И я поднялся на цыпочки, надеясь еще раз увидеть отца, но в дробном мельтешении света и теней различить что-либо было невозможно. А вагончики катились дальше и дальше, продолжая щетиниться прощальными отмашками, и вскоре слились в одну сплошную полосу…
Всю жизнь эти зеленые вагончики катятся перед моим мысленным взором – стоит памяти поплыть к тому роковому времени, а уже девятый десяток потянулся, более полвека прожито в одном краю, в одном городе – через рубежи двух веков, двух тысячелетий, двух государственных устройств. Сколько пережито, перевидано, передумано, принято и отвергнуто! Разве увяжешь все в один сноп, утолчешь в одной ступе!..
2
Подвода пришла дня через три после тех проводов. Это была обыкновенная телега с одной впряженной лошадью. В передке сидел большеголовый и седой старик. Он поговорил с матерью о чем-то и, сбросив с телеги пахучее сено, стал таскать в нее наши вещи. Мы брали с собой кровати, посуду, одежду…
Лошади и в городе были, и эта деревенская, худая и неприглядная, меня не привлекала. Я, как мог, помогал грузить вещи, и старик, заметив мое усердие, подобрел.
– Старательный малый! – сказал он матери. – Помощник в деревне будет, а там всегда работа найдется… – И разговорился…
Я не все понимал из его рассказов, но прислушивался. Сложное чувство владело мной: было радостно оттого, что предстояла встреча с дедом, у которого мы хотя и были всего раз и давно, а что-то светлое осталось от того приезда в деревню, и грустно – уезжали мы без отца на неизвестное время и в неизвестное будущее.
Попрощавшись с соседями, мы разместились на сене среди нагромождённых вещей. Повозка покатилась мимо тихих домиков, окруженных палисадниками, и я разглядывал их с высоты телеги.
Скоро впереди блеснула вода. Запахло сыростью. Широко открылась в светлых бликах река. Ни лодки на ней, ни парохода. Один дощатый паром стоял у берега, загруженный повозками и людьми.
Старик ушел к парому и скоро вернулся – нашлось и нам место. При съезде с кручи телега опасно накренилась, и я со страхом глядел на близко плескавшуюся воду.
– Слезайте с телеги, а то голова закружится, – распорядился старик-возница, и мы с матушкой кое-как сползли на дрожащие под ногами доски парома.
Едва мы умостились на краю деревянного настила, как паром незаметно отчалил. Закрутилась и заплескалась вокруг него большая вода. Потянуло свежестью, резче запахло лошадиным потом, кожей и сеном.
Течение тянуло паром вдаль, к зеленому острову, но он, надсадно тарахтя, упрямо пересекал реку.
По пыльному взвозу мы поднялись на другой берег. Быстро пропал за бугром город, и перед нами открылись широкие просторы с островками леса. Пахнуло медвяным запахом, знойным теплом. В глазах зарябило от ярких красок, и я притих, затаив дыхание. И в городе были цветы, но разве такие!
– Гляди, – толкнул я плечом опечаленную мать, – одни голубые! А бабочки!..
Она только улыбалась и ничего не говорила. Глаза ее оставались грустными.
Старик оглянулся на мои восторженные крики.
– Дите – есть дите, – сказал он и замолчал…
Становилось жарко. Я продавил углубление в сене, и вскоре мои глаза затуманились легким сном. Широко цветущую степь заслонили городские улицы, из которых выплыла школа, подле нашего дома, крытые машины с красными крестами, носилки, перевязанные бинтами люди, пятна крови… Я вздрогнул и проснулся. Все так же спокойно катилась по дороге телега. Чуть-чуть покачивался в такт ее движению угрюмый возница. Грустно глядела матушка в какую-то одну точку. Застоялое тепло, тонкие запахи трав и цветов. Мягко и удобно…
Снова мои глаза закрылись потяжелевшими веками: я увидел яркую зелень сквера, длинный перрон, толпу людей, беззвучный оркестр, здание вокзала… И вдруг черный паровоз стал накатываться на все это, мощно и грозно, увеличиваясь в размерах. Миг – и из его зеленых вагончиков начали выпадать люди в военной форме, несуразно размахивая руками и ногами. Они тут же растворялись в воздухе, что-то неслышно крича широко открытыми ртами. Я в ужасе вглядывался в их лица, стараясь узнать отца, и с содроганием проснулся.
– Хозяин, встречай гостей! – послышался возглас, и я поднял голову.
Телега стояла возле деревянного дома с небольшими темными окнами, как-то грустно глядящими в палисадник. Высокие покривившиеся ворота, дощатый заплот с калиткой… Вдоль широкой улицы, почти сплошь заросшей мелкой зеленью, тянулись к лесу другие дома, низкие, темноватые. Тихо и знойно.
Хлопнула калитка – я оглянулся и увидел старика, высокого, сухого, с рыжеватыми усами. Что-то знакомое было в его обличии: где-то я уже видел и торчащие в стороны усы, и большой нос с горбинкой, и ласковые глаза. «Дедушка!» – Я вскочил, и он поймал меня в охапку, притянул к себе, щекоча усами.
– Подрос, подрос, – глуховато проговорил дед, тиская меня твердыми, как палки, пальцами. От него пахло табаком и сеном. – А ну, босая команда, встречайте гостей!
У ворот я увидел парнишку, худощавого, узколицего, стриженого наголо, а рядом с ним – девчонку, веснушчатую, голубоглазую, с кудлатыми волосами соломенного цвета. Изношенное платьице свисало складками с ее худеньких плеч.
Дед ухватил с телеги чемоданы, и девчонка прошмыгнула мимо него, взяла меня за руку.
– Большой какой! – потаенно сказала она. – А помню голышом бегал.
– Мужик! – Мальчишка подмигнул одним глазом, весело, с хитрецой, и сразу мне понравился. Я почувствовал, что нахожусь среди родных мне людей.
– Кольша, помогай! – обернувшись, приказал дед. – А ты, Шура, веди гостя в избу!..
Он толкнул калитку, и передо мной открылся широкий двор с постройками, заросший низенькой травкой, плетеный задник ограды, за которым широко раскинул сучья развесистый клен, навес с поленницами дров, телега… Робко стало, и я уперся.
– Идем, идем, – потянула меня Шура за руку. – В доме не жарко…
Через прохладные сени мы прошли в избу. Громадная печь, занимавшая почти половину кухни, вверху: полати из свежих досок, полки с цветастыми занавесками, широкие лавки вдоль стены, массивный стол…
Вошел дед с чемоданами, щурясь, сказал:
– Проходи в горницу и выбирай место, где спать будешь…
В комнате было пустовато. У окна стояла широкая кровать, напротив ее – круглая печь-голландка, такая же, как и у нас в городе, в углу – маленький столик и все. Место в дальнем углу, рядом с боковым окошком, мне понравилось сразу – туда и поставили собранную в два счета мою железную, на пружинах небольшую кровать.
Шура с явным интересом разглядывала каждую занесенную вещь, и вдруг спросила, поглаживая блестящий шарик на спинке кровати:
– А ты паровоз видел?
Мне представилась черная, лязгающая железом громадина, окутанная паром, причем не та, настоящая, с проводов отца, а из сна, стремительно движущаяся по степи. Почему-то жутковато стало, и я с трудом разжал губы.
– Видел.
– А как он гудит? – Шура явно мне не поверила.
– Му-уу, – вытянув губы, прогудел я как можно громче.
Она залилась громким смехом, прикрыв рот ладошкой, и с оттенком издевки кинула:
– Чтой-то он мычит, как наша Зойка?
– Какая Зойка? – не понял я.
– Да корова! – Шура хлопнула себя рукой по бедру. – Ну совсем непонятливый.
– А я их не знаю, – признался я без обиды.
– Как? – Глаза у Шуры расширились, стали синими-синими. – И другую скотину не видел?
Я не понял ее вопроса, смутно догадываясь, о ком идет речь, покачал головой.
– Чудно. – Она поглядела на меня с сожалением и схватила за руку. – А ну, пойдем во двор!
Этот ее приказной тот, легкая насмешка с недоверием, навязчивая опека – мне не понравились, и я резко вырвал руку из ее ладони.
– Пойдем, пойдем. – Шура, видимо, поняла мой настрой, однако ничего не сказала.
И началось мое знакомство с обширным дедовым двором, со всех сторон заслоненным какими-то постройками. Лишь в широкой прорехе, распахнутой на задворки, темнел покосившийся плетень с воротцами и калиткой, за которыми торчали желтыми шляпками подсолнухи. У плетня расхаживали куры, а среди них выделялся пестрый, с золотистыми перьями и красным гребнем петух. Заметив наше приближение, он вдруг шумно захлопал крыльями и воинственно прокукарекал. Я даже вздрогнул от его крика и остановился.
– Дальше не пойдем, – поостереглась и Шура, – он может наброситься. Видишь какие у него шпоры. Больших он боится, а нас нет.
– Каких больших? – не понял я.
– Ну, тятю, других взрослых.
– Какого тятю?
– Моего.
– А кто это?
– До чего же ты глупенький! – Шура снова хлопнула себя рукой по бедру. – Тятенька – это отец.
Теперь удивился я.
– А я своего папой зову.
– Так это по-городскому, а по деревенскому – тятя.
– Смешно, тятя.
– Ничего смешно нет. – Она крутанула железное кольцо калитки и открыла дверцу. – Пойдем лучше гороху поедим…
Широко и глубоко раскинулся огород в густой зелени овощей: у плетня возвышалась длинная грядка с вязью огуречных листьев, к ней почти примыкали капустные головки с листьями-лопатами, дальше торчали острыми пиками перья лука и чеснока, кудрявилась кружевной ботвой морковка, и еще что-то, и еще… Такого в городе, на приусадебных участках, я не видел, и с нескрываемым любопытством слушал Шуру, объясняющую мне, где и что, и зачем…
* * *
Когда мы вернулись, все наши вещи были расставлены и распределены по углам. Дед суетился у стола, наставляя на него какие-то чашки и кружки, Кольша помогал ему. А матушка сидела на скамейке. Лицо её посветлело, глаза повеселели. Она все говорила что-то деду. Но я не прислушивался, почувствовав глубокий голод. Кольша будто понял мое состояние, и тут же сунул мне румяную оладышку. Какая же она была вкусной!
За столом меня удивила большая посудина, по самые края налитая душистым варевом. Емкими деревянными ложками мы, как бы по очереди, начали хлебать из неё наваристый борщ. Ни слов, ни шепота. Лишь легкое постукивание ложек о края посудины. Поскольку в городе мы ели каждый из своей тарелки, то меня это поразило. Да и деревянные ложки были в новинку, и полное молчание… Но как аппетитно было есть в общем ритме! Как вкусно! Такого восторга в еде я вряд ли испытывал где-либо раньше…
А какой сладкий запах пошел от той же посудины, когда дед поставил её посреди стола, наполненную мясом! Я было дернул к ней руку, но Шура исподтишка толкнула меня в бок острым локотком. Пришлось подавить жгучее желание ухватить кусочек парящего теплотой отварного мяса. Дед не сильно стукнул своей ложкой по краю этой необычной чашки, и все потянулись за мясом. Взял и я первый попавшийся под руку кусок. И пошло, пошло… И вдруг дед шлепнул ложкой Шуре по лбу.
– Не части, – произнес он, не повышая голоса.
А Шура покраснела во все лицо и, отстранив Кольшу, заспешила из-за стола.
Я покосился на деда: а не влетит ли мне за то же самое? Не слишком ли я часто ныряю в посудину?
Но он обсасывал очередную косточку с невозмутимым спокойствием. Будто ничего и не произошло.
– Чего уж ты так, папаша? – не удержалась от замечания матушка, когда дверь в горницу захлопнулась за Шурой.
– Пусть не нарушает порядок. – Он почему-то поглядел на меня. – А то под своим краем горушку полуобъеденных косточек наложила. Хитрить начала: закончится мясо в общей чашке – так она еще будет те косточки обгладывать полчаса. По жизни с таким прицелом к добру не дошагаешь, и пока еще не от боли, а от стыда краснота на щеках загорается – такие заскоки выправить можно…
Мне было жаль Шуру, но и слова деда каким-то образом понимались, дрожали тонкими отзвуками в душе, тянули кружевной вязью неизведанные ранее мысли. Я понял, хотя и интуитивно, что кончилась моя детская единоличность в семье. Теперь я в ином мире, хотя и родственном, но более сложном и более непредсказуемом. В нем нужна особая осторожность, особое поведенческое чутье.
Глава 2. Новые знакомые
1
– Пойдем на пруд, – как-то позвал Кольша, когда я мало-помалу освоился в дедовом дворе и начал привыкать к тихой деревенской жизни.
Я не понял его, зная, что прут – это гибкая хворостина, которой взрослые иногда наказывают детей, и не мог представить, как это можно идти на прут.
– Да не прут, а пруд, – поправила Шура, когда я переспросил об этом. – Ой, он вовсе без понятия!
– Поживет – поймет. – Кольша усмехнулся и потрепал мой короткий чубик. – Ну что, идем?
– И я с вами! – загорелась в радости Шура…
– Ты бы не ходила, – осек ее Кольша, – там одни ребята купаются.
– Не-е. С другой стороны и девчонки есть…
Мы вышли за ограду. Справа от дедова дома стоял такой же рубленый дом с одиноким тополем в палисаднике, слева – дом побольше, крашенный зеленой краской, с крытым двором… Дальше – бугры, заросшие бурьяном, а за ними – широкое поле и лес.
Ослепляющее солнце, жар.
Кольша свернул вправо и, обогнув крайнюю усадьбу, направился по приметной тропинке в поле. Я едва поспевал за ним, семеня. Высокая трава с ковылем переливалась, блестела на солнце, как стеклянная, и так далеко-далеко, до самого темного леса. Над травой порхали разные птички, и их крылышки, высвеченные солнцем, казались прозрачными. Непривычно, вольготно и умиротворенно…
Вначале я услышал веселые крики, а потом увидел на бугре голых ребятишек, и сразу из-за травы открылась большая вода.
– Вот и пруд, – кивнул Кольша, приостанавливаясь. – Теперь видишь, что это такое?
Шура молча свернула в сторону и исчезла за ближним бугром.
Я, почему-то робея, окинул водоем взглядом. Он был почти круглый, с крутыми берегами. Ребятишки на дальней его стороне казались маленькими.
– Кольша, иди сюда, – крикнул от берега кто-то из мальчишек и поманил рукой.
В ложбинке, на мелкой траве, лежали совсем голые мальчишки разного возраста. Я застеснялся и опустил глаза.
– А это что за шкет? – кивнул на меня позвавший нас парнишка. Судя по возрасту, ровесник Кольши.
– Племянник из города. – Кольша стащил с себя старенькую рубаху, протертую на локтях, штаны – больше у него ничего не было.
Я заметил, как чуть ли не все лежавшие на луговине ребята, обернулись, рассматривая меня, и съежился.
– Раздевайся, если купаться хочешь, – предложил Кольша, слегка заслоняя рукой низ живота.
Я еще ни разу в жизни нигде не купался, и окунуться в прохладу большой воды хотелось до замирания сердца, и не только от зноя, но и от предчувствия особых, неизведанных ощущений. Но на мне была матроска и штаны с лямками крест-накрест, трусики, и подумалось: просмеют из-за них, а представив себя голым, даже поежился от внутреннего озноба, и как не велико было желание зайти в пруд – пришлось отказаться.
– Ну, как хочешь. – Кольша разбежался, сверкая белыми ягодицами, и с размаху прыгнул в воду. Он скрылся за фонтаном брызг и долго не появлялся. Я даже встревожился: не утонул ли? Но Кольша вынырнул далеко от берега, закричал с восторгом и поплыл, широко размахивая руками, даже завистно стало.
– В гости, что ли? – спросил вдруг широколицый крепыш, надевая штаны с протертыми наколенниками.
– Папка на фронт уехал, – без особой охоты ответил я, – а мы пока поживем, у дедушки.
– Значит, соседями будем. – Парнишка улыбнулся, как-то смешно растягивая верхнюю губу. – А как тебя зовут?
– Леня. – Я смелел.
– Знатков?
– Не-е, моя фамилия Венцов.
– Значит, отцовскую имеешь. Ну а я – Степка Лукашов – материн сын. Для тебя просто – Степа. Тебе сколько лет?
– Шесть.
– Пацан еще – мне больше в два раза с лихвой. Покажи-ка мускулы. – Он шагнул ко мне.
– Какие мускулы? – не понял я.
Лежавшие неподалеку ребятишки, явно прислушивающиеся к нашему разговору, дружно захохотали.
– Во! – громко сказал кто-то из них. – Он даже мускулов не знает.
– Вот видишь? – Новый знакомец согнул правую руку, и на ней, около плеча, заметно взбугрилась кожа. – Пощупай!
Я потрогал этот бугорок, ощущая его упругую твердость.
– Теперь ты так сделай.
Рука непроизвольно согнулась в локте, и Степа потискал мое плечо.
– Фи, – он скривил полноватые губы, – палка. Ты даже Мишку Кособока не поборешь.
Я пожал плечами, понимая, что дело идет к чему-то не очень для меня приятному, и стал искать взглядом Кольшу.
– Попробуешь? – гнул свое Степа, заглядывая мне в глаза.
Над прудом звенели голоса, смех. В разных местах взрывались у берега фонтаны брызг, а к средине пруда вода ослепительно блестела.
– Иди-ка сюда, Кособок, – кивнул кому-то Степка, по-своему поняв мое молчание.
С лужайки поднялся худенький мальчишка моего возраста и стал напротив. Глаза его были широко открыты, с влажной поволокой, но страха в них не было. Наоборот – некий вызов заметил я в его темных с искоркой зрачках.
Тут и выскочил из воды мокрый, лоснящийся на солнце Кольша, плюхнулся брюхом на мягкую траву, даже не спросив, чем я занимаюсь. А Степа подвинул нас с мальчишкой ближе друг к другу и стал поучать.
– Так, – заправил он мою правую руку мальчишке за шею, – одну руку сюда, другую под мышку, пальцы сцепили на спине и начали!
Кольша лежал, ничего не говоря, лишь искоса поглядывая на нас.
До этого я никогда не боролся. Рос в городе под опекой матери и играл лишь с соседской девчонкой, но почувствовав, что меня валят вбок, напрягся, потянул противника на себя. Бечевка у него на штанах лопнула, и мы, потеряв равновесие, упали вместе. По счастливой случайности я оказался наверху.
– Смотри, уложил! Аж штаны не выдержали! – Степа похлопал меня по спине. – Молодец! Попробуй теперь с Антохой Варькиным схватиться…
Похвала меня подзадорила, и когда передо мною встал загорелый крепыш, я вцепился в него, как клещ. Долго мы пыхтели, сгибая друг друга под дружные подбадривания и советы мальчишек. Их лица мелькали перед глазами, будто мы не боролись, а танцевали особый танец. Изо всех сил рванул я противника вбок, и тот, потеряв равновесие, упал. Наверху снова оказался я.
– А говорил: не умеешь бороться, – услышал я голос Степы среди других голосов. – Ты там, в городе, нахватался всяких приемов, да и щи, видно, ел с мясом.
– И сейчас будет есть, – добавил кто-то. – Дед у него не из бедных.
– Теперь тебе в самую пору с Марфиным Пашей схлестнуться, – продолжал свое Степа.
– Хватит, – вступился, наконец, за меня Кольша, – в другой раз. Видишь, дышит, как загнанный жеребенок…
– Ладно, отложим, – согласился Степа, махнув рукой.
Интерес ко мне сразу пропал. Ребята заговорили о своих деревенских делах. Лишь один мальчишка, которого Степа назвал Пашей Марфиным, нет-нет да и бросал на меня быстрые взгляды, как бы оценивая, и в душу закрадывалось что-то тоскливое, съедающее все то теплое, что открылось мне в новом знакомстве. Уж я-то знал, что борец из меня аховый и те две победы были случайными и, когда придется схватиться с крепким, словно сбитень, Пашей, более сильным, чем я, все и раскроется. С тихой тревогой я робко прилег рядом с Кольшей.
– Чего не искупаешься? – спросил он тихо. – Стыдишься?
Я кивнул.
– Тут стыдиться нечего, – услышал нас Степа, – все свои.
– Коля-я, Леня-я, – услышал я крик, – пошли обедать!
– Это Шурка зовет, – понял Кольша, поднимаясь, – пошли, наотдыхались. Воды еще качать на полив из колодца…
– И я с вами, – отряхивая штаны, сказал Степа, – по пути, и кишка кишке бьет по башке.
Поглядев еще раз на зеркало пруда, как пояснил Кольша, вырытого казной еще до революции, я зашагал, как можно бодрее, чтобы не отставать от старших, и немало удивился, когда заметил, что и Паша Марфин идет за нами, держа некоторое расстояние.
Мое частое оглядывание не осталось без внимания: Степа остановился, поманил преследователя рукой.
– А ты куда? – Он преградил Паше ход.
Крепыш не ответил, но в его глазах не было и тени робости.
– Язык проглотил, – поддел его Степа, – тоже мне, силач, увидел городского и поджилки затряслись.
– Да пусть идет, – встрял Кольша, потянув Степу за рукав. – Тропы не жалко…
Но, когда Степа свернул в свой двор, а мы двинулись дальше, Паша направился за нами.
– Ты к нам, что ли? – поинтересовалась Шура.
– К вам, – с беспечной серьезностью кивнул навязчивый попутчик, – хочу посмотреть, с мясом вы щи едите или нет.
Шура закатилась задорным смехом, и Кольша заулыбался.
– Если с мясом, то бороться с Ленькой не будешь? – понял он Пашу.
– Не знаю, – искренне сознался тот, – я-то пустые ем…
Никакие приглашения деда, матери, наши не смогли завлечь Пашу за стол. Так и просидел он на ящике, у дверей, пока мы обедали.
Когда стали убирать со стола, Паша поднялся и, ничего не сказав, ушел. Какие он сделал выводы, было непонятно.
– Это Таи Марфиной парнишка? – спросила матушка у деда, когда Паша промелькнул мимо кухонных окон.
– Её. – Дед поглаживал лихо загнутые на концах усы, щурился по-доброму.
– Какой упрямый, а ведь вряд ли сыт.
– Не в этом дело, – дед полез за кисетом, – ты же знаешь, что по старому обычаю, в крестьянстве, детей вместе со взрослыми за стол не пускали, а отец его – Максимка строгих правил был мужик. Так что – тут воспитание, – последнее слово дед произнес с оттенком некоего уважения и замолчал.
– Почему был? – В глазах матери мелькнула тревога.
– Месяц на фронте, а уже бумага в совет пришла – без вести пропал…
Дед еще что-то говорил, а мне вспомнился отец, его веселое лицо, васильковые глаза, крепкие руки, ласковый голос, и глухая тоска тиснула встрепенувшееся сердечко.
2
– Вставай, сынок, – будила меня матушка, – к тебе новый друг пришел, у ограды ждет…
Я вскочил и подбежал к окошку: на траве-мураве, развалившись, лежал Паша Марфин. Стало как-то радостно оттого, что он объявился, и робко – вдруг бороться затеет…
С необычной поспешностью и тревожными мыслями натянул я штаны и рубаху. Плеснув несколько раз на ладонь холодной воды, зачерпнутой кружкой из ведра, и выпив стакан молока, выскочил на лужайку.
– Ну ты и спишь, – без всякого приветствия встретил меня Паша, – идем играть. – Не дожидаясь ответа, он развернулся и побежал трусцой по тропинке через широкое поле, разделяющего окраины двух смежных улиц. Он был босиком. Вообще, обутых ребятишек я в деревне не видел и несколько стеснялся своих легких сандалий.
Низенькая избушка без чердака, обмазанная глиной, глядела двумя маленькими окнами на улицу. Через короткие сенцы с земляным полом мы прошли в полумрак Пашиного жилища. Сумрачно, прохладно. Под ногами тканые половики…
– Это Анютки Знатковой сынок? – услышал я низкий женский голос, еще не успев разглядеть находившихся в избушке людей.
– Ее, – ответил другой голос, позвучнее.
Тут я и увидел двух женщин, копошившихся у какого-то громоздкого сооружения из деревянных стоек и поперечен, длинный хвост тканой дорожки, тянувшийся среди этих устройств, и силился понять, чем они занимаются.
Паша между тем по-хозяйски прошмыгнул куда-то за печь и попросил:
– Мам, дай по пирогу, мы играть пойдем за избушку.
– Так бери под полотенцем, на листу, что на припечке…
– Мужик-то ее тоже там? – снова прозвучал высокий голос.
– Где ж ему быть…
И тут Паша толкнул меня под бок и обдал хлебным запахом:
– Пошли!
В сенях, на бегу, я почувствовал, как новый друг сует мне в руку что-то мягкое и понял – пирог.
– Попробуй, с ягодой, – устремляясь на яркий свет, произнес он.
Рот раскрылся как бы само собой: сладко, душисто, вкусно – таких пирогов я раньше не ел.
Все так же – бегом мы вынеслись на бугор, за избушку. У глухой ее стены были нагорожены какие-то игрушечные строения из досок и железяк, и Паша опустился подле них на колени.
– Это МТС, – пояснил он, – тут всякая техника.
Я вглядывался в разбросанные как попало железки и ничего похожего на мою обмененную на свистульку машину или нечто подобное не находил.
– А у вас кто еще есть? – спросил я совсем о другом: меня занимал тот разговор, что состоялся в землянке.
– Никого. Тятьку на фронт забрали, а бабушка давно умерла.
– А что за тетенька?
Паша махнул рукой:
– Да соседка. Они с маманей половики ткут на станке пока есть время между дойками. Доярки они.
Не очень-то я понял про ткацкий станок и доярок, но промолчал, чтобы не показаться смешным, мысли скользнули в другом направлении.
– У меня тоже бабушки умерли, – решил я уровняться в родственном положении с новым другом, – и дедушка всего один.
Паша как-то круто нагнул голову, возможно, позавидовал тому, что у меня есть дед, и, немного помолчав, кивнул:
– Бери вон ХТЗ, пахать будем. – Он смешно выпятил губы и загудел, подражая тракторному рокоту. Его трактор-железка медленно пополз по траве, волоча за собой на проволоке целую связку мелких жестянок.
Я взял предложенную железину и тоже попробовал погудеть – не получилось.
– Мотор барахлит, – сделал вывод Паша, – ремонтировать надо. – Он перевернул мою «технику» и стал деловито в ней ковыряться. Глядя на него, я подумал, что отец его, вероятно, был трактористом и, как выяснилось позже, не ошибся.
Над нами сияло чистое небо, ослепительно горело солнце и висела сонная тишь, а где-то шла война, ужаса которой мы еще не осознавали, и не только мы, но и большинство взрослых…
3
Напротив дедова дома зеленела лужайка мягкого спорыша, за которой поднимались покатые бугры давних землянок, заросшие конопляником и лебедой, а дальше, через поле, виднелся густой лес.
Лужайку мы с Пашей освоили вдоль и поперек, вволю повалявшись на ней и покувыркавшись, и в бурьянах полазили. Даже нашли в них старый полузавалившийся колодец с прозрачной водой, в котором плескались большие и маленькие лягушки с головастиками. Дня два мы изводили их сухими комками глины, оставшимися от разрушенной когда-то печки, пока Кольша, застав нас за неблаговидным занятием, крепко не поругался, пояснив, что лягушки полезные и убивать их нельзя.
– Пойдем к Антохе Варькину, – предложил тогда Паша, – сманим его играть…
Я не протестовал, и мы двинулись длинной улицей вдоль палисадников и заборов. Безлюдно и тихо во всем доступном взгляду пространстве. Деревня будто вымерла. Хотя нет-нет да и замечал я любопытные взгляды в некоторых окнах, да и во дворах не раз кто-то угадывался. Скорее всего, это была ребятня, хозяйничавшая в домах, пока все взрослые работали в поле, да глубокие старцы.
У небольшого деревянного дома, спрятанного за пышным палисадником, мы остановились.
– У них собака зверская на цепи, смотри, осторожней! – Паша потянул за ремешок накидного запора, открывая калитку.
Черный мохнатый пес с разинутой красной пастью вылетел из глубины обширного двора и, рванув с размаху короткую цепь, почти опрокинулся, захлебываясь злобным рыком.
Мы, сторожась, двинулись вдоль стенки дома, почти прижимаясь к ней, а пес бился в ярости, брызгая слюной, в двух-трех шагах. «Оборвется – загрызет», – мелькали жуткие мысли, но я шел, не останавливаясь, боясь оказаться трусом.
По широким крашеным доскам крыльца мы прошли в просторные и высокие сени. Дверь в избу скрипнула, распахнутая Пашей, и я увидел старуху у окна, теребящую шерсть.
– А где Антоха? – смело спросил Паша, не здороваясь.
– Я тута. – Занавеска на печи колыхнулась, и из-за нее высунулся тот мальчишка, с которым я боролся на пруде.
– Айда играть, – позвал Паша.
– А я играю.
– Иди, иди с ребятками, лежебока, – глуховато проворчала бабка. – Тараканов мучает, а они твари божьи и к счастью в доме водятся…
Антоха покривился, показал бабке язык и поманил нас рукой.
Паша быстро влез на приступок и нырнул головой под занавеску. За ним и я взобрался по печуркам и тут же откачнулся назад, едва не упав: вся запечная стена кишела тараканами. Встревоженные, они быстро и беспорядочно двигались, и шелест их лапок был отчетливо слышен.
– Глядите, как тянут!
Тут я увидел с полдесятка тараканов, связанных друг с другом швейной ниткой. Они медленно ползали по кругу на гладкой печке, волоча пустой спичечный коробок, и Антоха, не давая им убегать, всякий раз заворачивал палочкой вожака – здоровущего рыжего таракана.
– Рысаки! – восторгался он, но на меня это занятие произвело неприятное впечатление.
– Брось ты гадостью заниматься! – скривился и Паша. – Пошли лучше на зады, к пруду.
– Гляди, гляди, как гарцуют! – Антоха нехотя отбросил палочку-погонялку, и тараканы потянули свою повозку в дальний угол…
Ясный день и буйная зелень рассеяли неприятные ощущения, и я вскоре забыл о запряженных тараканах. Мы пустились наперегонки по узкому переулку. Впереди несся Паша, за ним – Антоха, сзади – я. Навострились они бегать: не в городе – вон какие просторы.
Остановились только на задворках, недалеко от пруда.
– Давайте в красно-белые, – предложил Паша.
– Так нас всего трое, – засомневался Антоха.
– А ты сбегай за Мишкой Кособоковым, – приказным тоном кинул Паша: он был вожаком, как более сильный физически, и я не лез в их устоявшийся порядок, да и не знал ни деревенских игр, ни ребят. – Мы тут пока маскировку заготовим. – Паша повернулся и пошел к луговине, густо зеленеющей на урезе высоких трав.
– Какую маскировку? – поинтересовался я, когда Антоха рванул в ближний переулок и исчез за лопуховыми зарослями.
– Узнаешь. – Паша приглядывался к чему-то, проверял дерн пальцами ног и, когда под подошвами стал мягко пружинить густой мох, упал на четвереньки. – Гляди! – Он стал ловко отдирать мох от земли, широким ковриком закатывая его в рулон. Обнажилась тусклая земля, все ее неровности и бугорки, а Паша крепкими пальцами отслаивал и отслаивал сцепленный перевившимися корнями мягкий дерн, и когда закатка стала почти неохватной, оторвал ее от общего пласта. Подняв эту своеобразную овчину, он в двух местах проделал в ней отверстия и сунул в них руки, накидывая моховую безрукавку на себя.
– Во, видишь какая маскировка! – Паша вдруг отбежал на несколько шагов от меня, наблюдающего с чувством глубокого любопытства за всеми этими действиями, и упал в траву.
Лишь зная, где он находится, я видел зеленоватый бугорок. Никто иной ни за что бы не распознал, что за этим бугорком кто-то прячется.
– Теперь понял, – Паша тянул в усмешке полноватые губы, – давай и тебе такую же заготовим… – И мы вдвоем стали драть мягкую моховую накидку.
Вскоре появились ребята: Антоха с Мишаней и еще один незнакомый мне мальчишка, худенький, рыжеволосый, тихий, которого звали Петушкой, и Паша разделил нас на две команды. Одну возглавил он, а другую – Антоха. Мне, как новичку, надо было еще научиться тонкостям предстоящей игры, а Петушка был явно слабеньким, и Паша, поступаясь качеством, брал количеством. Антоха объединился с Мишаней, тоже опытным игроком. Бой решено было провести на буграх, оставшихся от бывших дворов. По словам Паши, там имелись и ямы, заросшие лопушником и коноплей, и канавы с густой травой, и остатки строений. Тут же мы кинулись занимать позиции. Резвые наши противники вломились в гущину зеленых зарослей и скрылись в них.
– Главное, не торопиться, – предупредил Паша, оборачиваясь на бегу, – спрячься и жди. Кто-нибудь да и выйдет на тебя…
Мы нырнули в тень огромных лопушников, листья которых тут же сомкнулись над нами, образовав крышу. Внизу, между стеблей, было просторно и даже светло. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листья, высвечивали их до жилки и оттого все было зеленоватым, даже наши лица.
– Ты выползай на ту сторону, – стал командовать Паша, – на самый край лопухов, будешь разведчиком. Только шибко не высовывайся, качай листья, чтобы заметили, и все. Тебя наверняка убьют, но и мы их застукаем…
Не хотелось быть «убитым», но приказ не обсуждают. Молча и неумело я двинулся в указанную сторону, осторожно лавируя между толстыми стеблями лопухов.
Раскидистые листья надежно прикрывали меня сверху и с боков. Пахло чем-то горьким и терпким. Даже голова без привычки закружилась. Руки и колени колола старая трава, но я упорно полз, выполняя «боевое» задание. Что делал Паша и Петушка, я не знал. Со всех сторон стоял густой лопушник, закрывая даже самое близкое пространство. Руки устали от частого упора в мягкую податливую землю, кожа на коленях засвербела, когда впереди вдруг стало светлеть. Я понял, что близко край, и пополз тише, выбирая место погуще.
Открылась неширокая прогалина между зарослями бурьянов, и я прилег, затаиваясь. Большая мохнатая гусеница оказалась моей соседкой. Она лениво ползла по стеблю лопуха, и находиться рядом с ней было неприятно, но перемещаться в другое место становилось опасным: по тому, как закачались метелки близкой конопли, я понял, что меня заметили и будут окружать. Даже сердечко притихло, дыхание осеклось – так не хотелось попадать в плен. «А может, и папка там, на настоящей войне, так же затаился и ждет врага?» – мелькнули мысли, всколыхнув что-то в груди, а с ними потекли и жгучие мгновения напряженного ожидания, которые то опрокидывали меня в виртуальный мир настоящей войны, где я присутствовал вместе с отцом, то возвращали в реальность. В этих тревожных перескоках я не заметил, как ко мне подобрался Мишаня.
– Пу, Ленька! – услышал я возглас и даже вздрогнул, увидев руку с нацеленным на меня указательным пальцем.
– Пу, Мишаня! – тут же раздался тоненький голосок Петушки. Он, оказывается, лежал недалеко от меня. Мы двое выбыли из игры и встали. Я – с любопытной оглядкой, Мишаня – с недовольным лицом.
Теперь видно было все поле «битвы», и я заметил, что Антоха притаился в яме, густо заросшей лебедой. Ему оттуда все видно, попробуй – подойди. Но Паша и тут проявил завидную смекалку, послав в качестве приманки Петушку. Когда Антоха, подпустив ползущего противника к самой яме, наставил на него палец и крикнул:
– Сдавайся, Петушка, не то застрелю! – Паша сзади, в упор, «сразил» противника – наша взяла.
Игра захватила, мы стали таиться глубже, хитрить. Еще через два боя Паша перераспределил нас: назначил меня командиром вместо Антохи. Тогда заартачился Мишаня.
– Я больше не играю, – заявил он, – огурцы пора поливать.
– А мне надо гусей смотреть, – поддержал его и Антоха, разжалованный из командиров в рядовые, – а то залетят к кому-нибудь в огород.
– Схлюздили! – поддел их Паша. – Тоже мне, вояки. Вот так потом и в жизни. – Он сплюнул в сторону.
– Да нет, Паш, – Мишаня мотнул головой, – в самом деле – грядки полить надо…
– Пошли, Лень, коростелей погоняем. Пусть они домой двигают, – предложил Паша и направился в сторону пруда.
Я – за ним, решив, что новый мой друг прав. Однако Петушка не пошел за нами, а двинулся в переулок вместе с ребятами.
Впереди заершилась сухими островками осока, и Паша остановился возле одного из них.
– Ты коростелят видел? – задал он мне неуместный вопрос: но где я их мог видеть в городе? – Ложись в осоку у этого края, а я с другого конца их нагоню.
Я послушно лег в шелестящую осоку, оставив для наблюдения узкий проход, и, притаив дыхание, напряг глаза. Седловинка примятой осоки открывала взору небольшой промежуток между двумя островками зарослей, и там, по словам Паши, должны были появиться таинственные птички.
– Кыш-шш, кыш-шш, – донеслись крики друга, и я еще плотнее припал к пахнувшей сыростью земле, но в прогалине ни одна травинка не ворохнулась. Подумалось даже, что Паша решил подшутить надо мной, и в этот момент, шагах в пяти от себя я увидел темненьких, с белыми пестринками на груди, остроклювеньких птичек, похожих на цыплят с длинными шейками. Сгрудившись, они словно раздумывали, перебегать или нет через открытое пространство. Но Паша подвигался ближе и ближе, зычно покрикивая, и птички, настороженно, цепочкой, быстро пронеслись через неширокий промежуток, скрываясь в осоке напротив. Я даже подумать ничего не успел, ощутить, как исчезло это чудное виденье.
– Видел? – послышался Пашин вопрос.
– Ага. – Я поднялся, отряхиваясь от прилипших на штаны травинок.
– Поймать можно, если бы всем вместе взяться, – по тону голоса было понятно, что Паша все еще сердился на ребят за их уход.
– А зачем? – не поддержал я друга. – Пусть живут – они такие забавные…
4
Дед собрался в лес за валежником, и после долгих просьб согласился взять меня и Пашу с собой.
– Комары с паутами пожучат – в другой раз палкой вас туда не загонишь, – стращал он, смазывая солидолом тележные оси, – и синяков насобираете…
– Терпимо, – по-взрослому хорохорился Паша, – я с тятенькой бывал.
– Знато дело, слезы из вас, коль заупрямитесь, и хворостинкой не вышибешь, тащите вон сюда хомут.
Паша сразу нашел его под навесом, и я помог ему.
Кольша заводил лошадь в оглобли тележки, улыбался, поглядывая на нас.
– Пупки не сорвите, шкеты, – подначивал он.
– Сам ты малахольный, – обиделся Паша.
– И то правда, – отозвался с неодобрением дед, – родился слабым, еле выходили.
Наперебой полезли в телегу. Дед легонько шевельнул вожжами, и лошадь тронулась. Телега покатилась мягко, без скрипа. Узкая травяная дорога не пылила и тянулась среди высокого, набравшего силу разноцветья. Сбоку и впереди телеги порхали разные птички, многоголосно покрикивали на всякие лады. Мельтешили у цветков яркие бабочки, дикие пчелки и шмели.
– Чечетки, – со знанием кивнул Паша на близких красногрудых птичек. – Жалко рогатки нет – можно было сшибить.
– Все бы вам сшибать, – снова вмешался в наш разговор Кольша, – летают себе и пусть летают.
– Сам будто не бил, – не согласился с ним Паша.
– Бил по глупости, а вы будьте умнее…
Дед сидел впереди, покуривал и не оборачивался, а я помалкивал, не совсем разбираясь в тонкостях разговора.
Телега поравнялась с первым колком. Стрекотали в нем сороки и мелодично посвистывали какие-то птицы. Одна из них промелькнула среди веток ярко желтым оперением и странно, почти по-кошачьи прокричала.
– Кто это? – удивился я.
– А, кошка полевая, – махнул рукой Паша.
Я не понял:
– Говори, кошки не летают.
Кольша рассмеялся:
– А ты послушай, послушай.
– Не морочьте ему голову, – вдруг вмешался дед, – иволга это – птица такая, кричит, что мяукает, а по-местному ее зовут неправильно…
В лесу травы были выше и гуще, в сложном кружеве переплетений. Дед повернул лошадь с дороги в промежуток между двумя березовыми рощицами, и колеса телеги скрылись в траве, больно захлестали по ногам жесткие метелки дудника. В разные стороны сыпанули от телеги насекомые, с криком выпорхнули две большие птицы.
Запахи распаренных трав и цветов потекли с разных сторон густым ароматом. С непривычки даже в носу засвербело. И тут же дед остановил лошадь.
– Слезайте, приехали.
Я, торопясь опередить Пашу, не устоял на ногах, спрыгнув, и завалился в траву. Кузнечики сыпанули во все стороны, букашки, и пока я поднимался, Паша с Кольшей скрылись за первыми кустами. Отмахиваясь от зароившихся вокруг комаров, и я кинулся в лес, боясь потерять их из виду. Бойко стрекотали сороки. Из-за их непрерывного крика ничего не было слышно.
– Ну как? – раздался сзади голос деда. – Комары еще не заели? – Под его тяжелыми шагами похрустывал валежник.
– Да не-е, – храбрился я, ежась в то же время от частых укусов этих кровососов.
– Ну пошли, пошли собирать сушняк. Зимой здесь дрова пилили – макушки и остались. Подсохли они – порохом гореть будут. На растопку зимой лучшего не найдешь…
– Леня-я! – вдруг раздалось из глубины чащи. – Иди сюда, тут сорочата, – звал Паша.
Не дослушав деда, я кинулся в гущу молодой ивняковой поросли, прикрывая от хлестких прутьев лицо.
Паша стоял возле толстого ствола размашистой березы и глядел вверх.
– В том вон гнезде, – показал он куда-то вверх, – Кольша туда полез, сейчас достанет.
Из-за густоты веток не видно было, что делается наверху. Лишь часто порхали с резкими криками сороки.
– Не трогайте их, – объявился следом за мной дед, – пусть себе сидят.
Но Кольша уже показался на нижних сучьях березы. В одной руке у него я заметил пестроватую птицу и догадался, что это сороченок.
– Держи, – спрыгнув на землю, сунул он сороченка Паше в руки. – Да гляди, клюется.
– Зачем взял? – Дед кинул суровый взгляд на Кольшу. – Хуже маленьких!
– А чего? Пусть посмотрят. – Кольша насупился.
– Не за этим приехали…
– Паша, дай мне подержать! – Не спуская глаз с птенца, не особенно прислушивался я к словам недовольного деда.
С глубоким сожалением во взгляде протянул мне друг сороченка.
Тельце птенца было горячим и мягким, пальцы мои ощутили частые удары маленького сердца.
– Я его беречь буду, дедушка! – Жалость и восторг переполнили мою душу, и дед понял мое состояние, но не подобрел.
– Твои заботы ему не помогут, – пресек он мою радость. – Ему мать нужна, как вот тебе. А это вольная птица – среди людей все ровно погибнет.
– Я ему буду кузнечиков ловить, червячков, – по-своему понял я утверждение деда.
– Выпусти, внук, – не уступал дед моим чувствам, – мы уедем – родители его найдут, докормят. – Он легонько коснулся моих волос, и будто внушил свое желание.
Медленно разжал я руки, и сороченок, падая, почти у самой земли затрепетал крыльями, медленно-медленно поднимаясь над травой, и дотянул до ближайшего куста, на одну из веток которого и зацепился. Тут же, с отчаянным стрекотанием, подлетела к нему сорока.
– Пошли, – позвал дед, – не будем их пугать.
С неохотой побрели мы к опушке, отмахиваясь от наседавших комаров.
– Смотрите сухой вершняк по сторонам, – наказал через плечо дед, – и тягайте его к телеге.
Я заметил за одним из пней ветвистую валежину и заторопился. Осторожно, боясь поцарапать руки, поднял ее и потянул на опушку. Сухие сучья цеплялись за кустарник, деревья, траву… Руки немели, краснело лицо, а тут еще кровососы лепились со всех сторон на голое тело и жгли укусами, но я стойко терпел, напрягаясь всем телом.
– Ну как? – встретил меня дед возле телеги.
– Ничего, только комары злющие…
– Ладно, – дед взмахнул рукой, – поиграй с другом, а мы с Кольшей сами хвороста натаскаем.
– Пошли к бурьянам, – заторопился Паша, – там вон коршун летает. Может, гнездо найдем! – Не дожидаясь моего согласия, он побежал размашисто, вприпрыжку к высоким метелкам травяных зарослей, над которыми кружила большая серая птица. Я даже приотстал от него на полполяны, хотя и стремился во весь дух. Остро запахло полынью и коноплей. Паша вдруг со всего размаха упал в гущину бурьянов, и я едва на него не налетел.
– Ящерка! – заорал он, оглянувшись. Из-под его ладони пыталось выбраться какое-то небольшое животное, темно-серое, с узким и длинным язычком, раздвоенным на конце, который оно то прятало, то быстро высовывало. Змея! Я даже отпрянул, но увидел когтистые лапки и понял, что ошибся.
– Держи! Держи! – орал Паша. И в этот момент, ящерица прытко метнулась куда-то в траву.
– Оторвала! Оторвала! – с непонятной радостью закричал Паша, поднимаясь. – Правда, значит!
– Чего оторвала? – Я даже оцепенел, подумав, что ящерка что-то у него отхватила.
– А вот гляди! – Паша разжал руку – на ладони у него извивался длинный хвост ящерицы. – Сама отрывает, чтобы убежать!
– Это ты отдавил, – не поверил я другу.
– Да нет же! Я сам раньше не верил, а теперь убедился.
– Она же без хвоста пропадет!
– Не-е, – Паша покачал головой, – у нее новый вырастет.
– Не обманывай! – Я верил и не верил другу.
– А пойдем у твоего деда спросим. – И мы припустили наперегонки к телеге.
Но ни лошади, ни телеги на опушке знакомого лесочка уже не было. Один дед стоял у толстенной березы и поджидал нас.
Вперебой, мы заговорили о ящерице.
– Это правда, внук. Она таким образом от неопытных врагов спасается: пока те возятся с оторванным хвостом – ящерка и убегает куда-нибудь в норку.
– И новый хвост у нее отрастает?!
– А как же…
Пораженный необычной возможностью маленького животного, я замолчал.
– Ну вот что, звероловы, грибы собирать будите?
– А где Кольша? – Паша оглядывался.
– Так хворост повез. Мы все равно на возке все не угнездимся. А пока он доедет, да разгрузит валежник – мы грибов на жарку соберем…
Паша тут же юркнул за кусты и почти сразу закричал:
– Вот обабок!
Миг – и я был возле него. Взгляд невольно скользнул к замшелому пеньку – там торчала еще одна такая же светло коричневая шляпка.
– И у меня гриб! – Едва не завалившись через колодину, я почти уткнулся носом в прохладную, пахнувшую особым ароматом шляпку крепенького гриба.
– Давай сюда! – позвал с опушки дед…
Завечерело. Затрещали кузнечики, залетали над травой стрекозы, оживились птички. С полной корзиной грибов мы вышли на травянистую дорогу, уставшие, проголодавшиеся, но довольные.
5
Проснулся я от солнца. Оно заглядывало в комнату поверх занавесок, тревожило. Даже зажмурившись, я ощущал сквозь пылающие краснотой веки его жгучую силу. В избе было тихо и душно. Опять я проспал то доброе время, когда по улице гонят коровье стадо, когда топится печь и пахнет чем-нибудь вкусным, когда в тени еще ощущается дыхание влажной и знобкой ночи, а уже слышны запахи полей и лесов, когда на пределе птичий гвалт, прозрачен воздух, играет солнце, на душе чисто и легко и хочется объять необъятное…
Дед устроился в дровнике, под навесом, где прохладнее: покатая крыша давала тень, а высокие поленницы хранили ночную влагу и не пропускали горячий ветер. Он достал с полки деревянный ящик и стал выкладывать из него инструменты, почти все мне незнакомые.
– Что будешь делать? – заинтересовался я, присаживаясь на чурбак.
Дед глянул ласково. Глаза у него с голубизной, и хотя брови низко нависли над ними, все равно видно, что они добрые.
– Небось заметил, что ворота плохо открываются?
До ворот я еще не добрался, но кивнул, зная, что дед не обманет.
– А как их делают?
– Всякий инструмент есть: топор вот, молоток, стамеска, бурав…
Я разглядывал названные инструменты, осторожно трогая их гладкие рукоятки.
– А можно попробовать?
Дед щурился в доброй усмешке – мое любопытство ему нравилось.
– Надо же вначале узнать, как ими пользоваться, а потом пробовать. А так – загубишь инструмент или поранишься.
– Так ты покажи!
– Гляди. Я сейчас буду заготовлять бруски для ворот, а ты наблюдай. Топор я тебе, конечно, не дам – рано тебе еще с ним заниматься, а вот молоток и долото – осваивай. Дело нелегкое, но, если постараешься, – что-то выйдет. Не сразу – со временем. – Дед взял стамеску и показал, как надо долбить дерево. Слоистые пластинки древесины так и сыпались с чурбака, а квадратное отверстие в нем быстро углублялось.
– Понял, понял. – Я протянул руку к молотку.
– А молоток возьми поменьше, вот этот. – Он достал из ящика другой молоток. – Да пальцы не пришиби.
Долото легко вошло в мягкую древесину, а я все бил по нему и бил.
– Куда загоняешь?! – огорчился дед. – Чай не гвоздь это. Помаленьку бери. – Он снова показал, как надо работать, и дело наладилось: первая щепочка откололась, вторая – и пошло-поехало, и хотя я несколько раз вскользь попадал молотком по пальцам, инструмента не бросил. Больно было, но желание проделать в чурбачке дырку пересиливало эту боль.
– Вот так, так, – послышались дедовы слова, – продолбишь так-то десятка три дырок и настоящее дело можно попробовать. – Жесткой ладонью он слегка коснулся моих волос, осматривая не круглое и не квадратное, а непонятно какое отверстие. От этой похвалы и ласкового прикосновения сердце замлело.
– А можно буравцом?
Дед покачал головой.
– Не торопись, и до него дойдем, когда силенок прибавиться…
Мы заработались и не заметили, как напекло землю жгучее солнце, как жаром обдало травы, и вялая полынь у плетня пустила густой горький запах, а за нею и конопля сладко заблагоухала, затем – ромашки…
Я услышал тяжелый топот и поднял голову: мимо будто кони бежали. Дед тут же встал.
– Коровы бзыкуют, надо загонять, а то плетни поваляют. – Он, торопясь пошел за ограду.
Я выглянул из дровника – голову обдало жаром, и в этот момент в ограду влетела бурая корова с большими острыми рогами, кинулась под навес. Я едва успел отскочить к поленнице дров. Влажное и горячее дыхание попало мне на лицо, перед глазами мелькнули рога. Корова сунулась в угол и стала.
Вбежал дед, замахал палкой:
– А ну пошла отсюда! Пошла!
Корова шарахнулась назад, роняя ящик с инструментами.
– Не зацепила? – Дед наклонился, в глазах испуг. – Совсем ошалела от жары. Ты держись от скотины подальше – еще заденет рогом…
– А чего она так? – все же спросил я у деда, когда он запер корову в сарайке и вернулся.
– Личинки оводов у них под кожей шевелятся, скотина и дуреет. – Дед поднял опрокинутый ящик, стал собирать инструмент. – Давай заканчивать – вон какой жар поднялся, да и обедать пора…
Глава 3. Близкий круг
1
От отца пришло письмо: маленький листок, свернутый в треугольник. Я долго его разглядывал, разбирал буквы, складывал слова, но всего прочитать не смог и несколько раз просил матушку повторить те места, в которых говорилось обо мне…
– Под Ленинградом отец-то воюет, – пояснял услышанное дед. – Это самый главный город после Москвы…
«В другое место его и не пошлют, – думал я с гордостью, – только на главное…»
– Помню этот город, пришлось побывать там после германской войны. Тогда он Петроградом назывался.
– А ты воевал, дедушка? – удивился я: мне казалось, что он всегда был старым.
– Довелось, довелось и не мало.
В памяти снова всплыли желтые машины с красными крестами возле школы, окровавленные бинты…
– Расскажи что-нибудь!
Дед послюнил скрученную цигарку, прищурился.
– Мал ты еще, не поймешь про войну-то, да и лучше бы ее не знать. – Глаза его, с искоркой, погрустнели. Взгляд ушел куда-то вдаль.
Я притих, надеясь услышать нечто интересное, глядел выжидающе.
– Залегли мы как-то на увале, – тихо начал дед, – окопались. Ждем – вот-вот германец двинется в атаку, и дождались: вой, грохот, земля дыбом от снарядов. Чувствую и подо мной заходила она, как необъезженная лошадь. Сунул я голову в уголок ямки, и словно кто-то по затылку мне поленом жахнул – темнота, провал сознания. Очнулся, открыл глаза – вижу перед собой черную круглую дырку. В мгновенье она показалась мне с добрую трубу, и я не сразу понял, что это дуло винтовки. Лишь когда услышал: хенде хох – руки вверх, значит, по германски, взгляд прояснился. Вижу – стоят надо мной двое в мышастых шинелях. Один направил ствол винтовки мне в переносицу, другой – тоже штык наготове держит. Шевельнулся – в глазах полыхнуло, а голова чугун-чугуном. А тот, что сбоку стоял, пинком под ребра. Едва-едва поднял я свое отяжелевшее тело. Глянул искоса, а вокруг еще человек пять наших с поднятыми руками перед кучкой германцев стоят. Понял – плен: пуля-то рядом притаилась, в винтовочном стволе германца – только ворохнись. Да и штык в пол-аршина от брюха. – Дед умолк, глубоко затянулся, раскуривая самокрутку, на ее кончике красный огонек затаял.
Я молчал, пытаясь представить высокого, под матицу, деда с поднятыми руками. Потемневшие от времени доски потолка ломали это воображение.
– А дальше, дедушка, дальше?!
Дед стряхнул пепел с самокрутки в широкую ладонь.
– А дальше, набили нас, как скотину, в темные вагоны и в немчуру, без пищи и воды двое суток маяли, издевались, как хотели. – Он покрутил кончик уса. – Уже в неметчине начали нас выдергивать из вагонов по три-четыре человека и куда-то отправлять. Попал и я с двумя рассейскими мужиками к одному их бауру, кулаку по-нашему, в работники. Держал нас за тягло – работали с темна и до темна, а кормили баландой из прогорклой муки, да вареной брюквой. Было дело, и запрягал нас этот баур троих в конный плуг – пахать заставлял, погоняя плетью. И рвали жилы – пахали, куда попрешь…
Сложное чувство жалости и гнева холодило мне грудь.
– Убежали бы! – почти выкрикнул я.
Дед обернулся, улыбка осветила его большое лицо: вероятно, понял он мое состояние.
– И убегали – да бестолково: ни я, ни мои напарники не знали, где мы находимся, куда идти. Первый раз поймали быстро, и хозяин плетью всех отходил, а второй раз мы крались на восток ночами, по звездам, и пришли к каким-то пограничным вышкам. Побежали к ним с радостными криками: оказались поляки, а они снова сдали нас немцам. – Дед опять пустил клубок дыма, затянувшись цигаркой. – Били несусветно! До сих пор внутри что-то так и заноет, как вспомню. Не понимаю, как выжил. Из тех двоих, что со мной были, одного так и забили насмерть. – Дед сжал в пальцах недокуренную самокрутку. Глаза его потемнели. – После – в глубокую яму посадили, держали за собаку. Добро война кончилась, освободили всех пленных, а то бы не быть мне тут с тобой. Вот и теперь германец снова на нас залупился. Да думается – не дадут ему хода, остановят и разобьют, хотя и похуже будет, чем тогда-то…
2
Проснулся я от грохота и ярких вспышек и встревожился: не война ли? Чуть разомкнув ресницы, заметил, что в оконное стекло хлещут тугие струи дождя, и понял – гроза. Раскаты грома катились один за другим. Молнии высвечивали каждый листочек тополя в палисаднике, каждую трещинку на оконных рамах. В комнате в эти мгновения становилось светлее, чем днем. Сжавшись под одеялом, я лежал, затаив дыхание, прислушиваясь к негромкому храпу деда, легкому постаныванию Кольши – он спал на полу, рядом с моей кроватью…
Почти неслышно подошла матушка в ночной рубашке. В отблесках молниевых вспышек ее лицо было бледным и озабоченным. Я прикрыл глаза и притворился спящим, но она поняла мою хитрость.
– Не бойся, сынок, – прошептала матушка, наклонившись к моему уху. Я даже ощутил теплоту ее дыхания. – Это гроза. Пройдет. – Она поцеловала меня в щеку и поправила одеяло в ногах. От ласки матери стало теплее и спокойнее.
Дождь все хлестал жестко и настойчиво. Гром разрывал небо. После одного особенно сильного его удара перестал храпеть дедушка. Он поднял голову от подушки, кашлянул и сел на своей деревянной кровати, свесив ноги. Молния озаряла его, белого в рубахе и кальсонах, с взлохмаченными волосами. Поднявшись, он тоже подошел ко мне, слегка погладил волосы. Я ощутил запах табака и твердые пальцы и не выдержал – поймал его руку.
– Да ты не спишь, – тихо сказал дед, – и тебя гроза разбудила. А ну, пошли ко мне! – Он поднял меня на руки и понес, прижав к груди. И такое блаженство накатилось, что я притих, как бы сливаясь с теплом родного тела, сердце зашлось, дыхание перехватило.
Кровать деда не такая мягкая, как моя: проверено было – под матрасом – доски, а не пружины, но лежать на ней приятно, особенно рядом с дедом.
– Небось испугался грозы-то
Я не ответил.
– Дождичек хорош! Только бы сено не испортил, и мы накосили, и колхоз…
3
Утром я не узнал деревню. Улица, обмытая ливнем, четко выделялась среди яркой зелени: темнела уходящая вдаль дорога, напоенная влагой, темнели отсыревшие дома и надворные постройки, плетни и заплоты, плыли по всему окоему темные разрозненные облака, натягивая хмарь и нагоняя легкие тени на осветленную землю.
Взглянув на яркое в разводьях облаков солнце, дед сказал:
– Сегодня банный день, будем воду носить в баню и дрова, а пока ее топят и выстаивают, на озеро сходим: мордушки надо проверить – поди, карасей да гольянов за эти дни там порядочно набилось…
Мы стояли в ограде, радуясь свежему утру, ласковому солнцу, теплу, и мне было особенно отрадно, поскольку дед говорил со мной, как со взрослым, да еще на какую-то рыбалку взять обещался.
– Вы с Кольшей дрова носите, я – воду, пошли…
За сенями, на сухих сучьях столбика, похожих на какие-то рога, висели ведра, и дед направился к ним, а Кольша нырнул в дровник.
Сухие березовые поленья были плотные и тяжелые. Я взял на руки три полена и хотел положить четвертое, но Кольша покачал головой:
– Зачем надрываться? Еще придем…
Дед поджидал нас у калитки, открыл воротца в большой огород, обнесенный пряслами и глубокой канавой, заросшей лопушником и крапивой. Почти посредине огорода возвышался колодезный сруб с журавлем, мимо которого тянулась к бане, стоящей в конце огорода, извилистая тропка. Мы и направились по ней.
В бане было сумрачно и сухо. Закопченные стены отдавали гарью и дымом. Из-под дощатого полка, встроенного между кирпичной каменкой и стеной, пахло старыми листьями и берестой.
Мы бросили поленья у каменки и пошли назад.
У колодца дед черпал воду. Сухой скрипучий журавль уткнулся концом в самый сруб, поднимавшийся чуть ли мне не до груди. Я перегнулся через него и сразу увидел далеко блестевшую воду.
– Шибко-то не наклоняйся, – предостерег дед, – нырнешь ненароком.
Пришлось откачнуться.
Ведро стремительно поднималось, расплескивая через края воду. Слышно было, как тяжелые брызги бьются где-то в глубине черного зева, поднимая прохладу. Чистая, как слеза вода, затрепыхалась в вынырнувшем ведре, и дед успокоил ее, поймавшись за влажную дужку…
Изрядно потрудившись, мы сошлись у заднего плетня, притулились к нему. Дед снял с его торчащего кола старое ведерко и взял лежащий поверху длинный сухой шест.
– Пошли. Трава теперь обсохла: солнышко вон как припекает, да и ветерок делает свое дело… – Он двинулся по тропке, вдоль огородных прясел. Кольша – следом, я – за ним. Обогнув изгородь, мы вышли на обширную луговину. Вольно раскинулась приозерная степь – ровная зеленовато-белесая, уходящая в недоступные взгляду дали. С правой стороны ее отсекал темнеющий лес, а слева, до самого окоема, тянулись пестреющие желтизной тростники.
Трава поднялась выше, и тропинка почти потерялась в ней. Отчетливо стал слышен непрерывающийся гомон птиц на озере, и я спросил у Кольши – кто это кричит.
– Чайки, гагары, утки разные, гуси – там всего полно…
Пахнуло сыростью, тиной, совсем близко зеркально заблестела вода. Дед положил шест, поставил ведро и, закатав штаны до колен, полез в густые заросли тростников.
– За лодкой, – пояснил Кольша, – он ее прячет, чтобы кто-нибудь не угнал.
Тихо шелестел камыш, заслоняя обзор. Куда не взгляни – везде желтовато-зеленые стебли с узкими листьями. Лишь долгий проход с чистой водой раздвигал тростники, но и он терялся где-то за изгибом…
Лодка показалась внезапно – ее толкал дед.
– Садитесь, – позвал он нас.
Кольша запрыгнул первым и протянул мне руку. Дед, упираясь шестом, погнал лодку по проходу. Я сидел в самом ее носу, и передо мной тихо раздвигались тростники, казалось, что я не плыву на лодке, а парю среди всех этих зарослей над самой водой…
Скоро впереди открылось неохватное взору пространство. Дух захватило от этого водного разлива и зябко стало сидеть в узкой плоскодонке. Волны закачали ее, забаюкали, и всякий раз, когда она взлетала вверх, сжималось сердечко, и я непроизвольно хватался за шершавый борт.
Далеко на воде чернели плавающие утки. Их стаи летали над озером туда-сюда. А чайки трепыхались вдали белыми лоскутами. Лодка остановилась у торчащего из воды колышка.
– Вынимай, – кивнул дед Кольше, указывая на колышек и удерживая лодку на месте.
Кольша выдернул кол и потянул веревку, привязанную за него. Вода вспучилась, покатилась в стороны, и у лодки показалась плетеная из лозняка ловушка. С трудом удерживая тяжелую сырую вершу, Кольша вынул травяной кляп из ее отверстия. Оттуда выскользнула золотистая рыбка, вторая, третья – и вдруг они часто-часто посыпались в лодку. Я опешил в изумлении, а караси кучно бились на дне лодки, разбрызгивая откуда-то просочившуюся воду. Одного, упавшего близко, я схватил за хвост и едва успел вдохнуть его терпкий запах, как карась трепыхнулся и выскользнул из рук за борт.
– Не дается рыбка? – Дед улыбался. – Ее надо за жабры брать. – Он взял за голову самого крупного карася и поднял. Чешуя заблестела на солнце позолотой. – Вот так!..
Положив в вершу объедков со стола, завязанных в тряпицу, Кольша снова воткнул травяной кляп на место и опустил снасть в воду. Ловушка бесшумно исчезла, вытолкнув наверх пузырьки воздуха.
Лодка скользнула в небольшой заливчик. Вторая верша вывернулась у Кольши из рук в тот момент, когда он почти положил ее на поперечину лодки. От неожиданности Кольша опрокинулся и сел на борт. Лодка резко качнулась, черпанула воды. Дед не успел перекинуть шест на другую сторону, чтобы выправить плоскодонку, и мы стали погружаться в теплую воду. В короткое мгновенье я увидел, как всплыли в лодке караси, судорожно забились, устремляясь в глубину, и, даже не успев вскрикнуть, тоже ушел в воду. Сильный рывок выдернул меня назад. На миг я зажмурился от яркого света, а когда открыл глаза, то увидел Кольшину голову над водой и рядом деда.
– Утопил, раззява! – заворчал дед, удерживая меня в воде. – Руки, как крюки. Ладно, что не глубоко, а если бы подальше? Вылазь на камыш! – приказал он Кольше. – И этого туда прими…
Кольша полез на плотный залом камыша, настилая его под себя, и умостился там полусидя.
– Давай к нему. – Дед потянул меня по воде. – А то до берега далеко и убродно. Лодку поднимать придется…
Я чувствовал легкий озноб, но было тепло и солнечно. Цепляясь за толстые, как карандаши, камышовые стебли, я полез к Кольше. Вода потекла с меня холодными ручьями, и кое-как мы утвердились на той полузатопленной камышовой крепи.
Дед сошел с затонувшей лодки и погрузился в воду по плечи. Плоскодонка сразу же всплыла. Наклоняя ее на борт, он стал вытягивать лодку на примятый камыш, выливая из нее воду. Я видел, как ему тяжело, как надуваются жилы на трясущихся руках…
Вскоре дед почти опрокинул лодку на бок и остаток воды выскреб черпаком. Переселив нас в нее, он подал Кольше шест:
– Держи равновесие! Буду с кормы подниматься…
С трудом, рискуя вновь зачерпнуть воды, дед влез в лодку…
Мокрые, без рыбы, мы вернулись домой, но с того момента острый запах свежих карасей запомнился мне навсегда, а в душе осталось не проходящее чувство робости перед широтой и таинственностью водно-тростниковой стихии озера.
* * *
Вечер подступился тихий, мягкий, ласковый. Дед раньше нас ушел в баню, а мы с Кольшей немного задержались.
– Подождем – пока он попарится, – пояснил Кольша, – а то туда сейчас не сунешься – уши свернутся от жара…
В предбаннике была настелена свежая трава, отдавала ромашкой и приятно щекотала ноги. За дверями слышались хлесткие удары, довольное кряхтение деда, и пока мы располагали по лавке снятые рубахи да штаны, дверь резко распахнулась, из бани выскочил дед в клубах пара, красный и мокрый, упал в угол, на траву.
– До хребта прожарился! Шкуру дерет! Облезу!
От его влажного тела шел тонкий парок.
– Пошли, – кивнул мне Кольша, – а то он на второй заход нацелится.
И мы шустро нырнули в темноватый зев распахнутых дверей. Тело обожгло горячим дыханием каменки, и я сразу присел. Кольша проскочил к маленькому окошку у стены, на лавку.
– Иди сюда, – позвал он, и я, задыхаясь жгучей горечью, на карачках проскочил туда же.
Кольша поставил у наших ног объемистый тазик и стал наливать в него щелок из кадушки, стоявшей в углу.
– Мой голову! – приказал он мне.
Я сунул пальцы в горячий щелок и тут же отдернул их.
– Горячо!
Вошел дед обсохший, белотелый. Глаза его молодо блестели. Волосы свисали мокрыми прядями на широкий лоб. Усы прилипли к подбородку.
– Нагибайся! – живо посунулся он ко мне и, пригнув лицом к тазику, стал плескать на голову едкий горячий щелок. Я ежился, но терпел. Твердыми ногтями дед скоблил мне кожу, ероша волосы. – Вот так, вот так, – приговаривал он. – Глаза береги. Щелок ядренее всякого мыла…
Закончив мыть мне голову, дед распрямился и попросил Кольшу:
– Плесни-ка, малый, на каменку – я еще похлещусь веником.
Пар ударил тугим ожогом, и я упал животом на скамейку, головой под полок, рядом – Кольша. И тут что-то мягко горячее, жгучее до невыносимости, заелозило мне по ягодицам и дальше, к низу живота.
– Аа-аа, – зашелся я в невольном вскрике, и почувствовал, как Кольша тоже дернулся в крутом изгибе.
– Выставили тут свои неприличности, – послышался веселый дедов возглас. – Подпеку вот яйца – будете знать, как загораживать полок. – И снова жгучая мягкость по тем же местам.
Кольша сорвался со скамейки и к дверям. Я – за ним. Вмиг выкатились мы в прохладный предбанник.
– Ну, тятька и пошутил. – Кольша широко улыбался. – Заваренным веником да по яйцам…
И хотя приятного было мало: мягкие места все еще горели от прикосновения взбодренных в кипятке березовых листьев – смешно мне стало и удивительно легко. Лежа на травяной подстилке в душевном блаженстве, я вдруг вспомнил общую городскую баню, хотя и не закопченную, но холодно неуютную, осклизло сырую. Как мы ходили туда с отцом… «Где он теперь? Что делает? Может, стреляет?..» И зажглось сердечко, зачастило…
Скрипнула входная дверь. Прохлада прокатилась по моему еще горячему телу. Вошел Степа Лукашов – за ним незнакомый старик.
– Здорово были, без нас не тужили! – созорничал Степа, улыбаясь.
Я знал, что к нам в баню придут Лукашовы, но полагал, что они будут мыться после нас, и несколько смутился за свою наготу.
А Степа без всякого стеснения снял штаны и рубаху и ловко водрузил их на гвоздь вешалки.
– Ну как, уложил Пашку? – ущипнув меня за влажный бок, спросил он…
– Мы еще не боролись, – поддался и я его игривому настроению.
– Трусишь, видно?
– Чего бы.
– Погодь, помогу. – Степа потянул со старика рубашку, обнажив его сухую спину.
В широком размахе хлобыстнулась о стенку дверь, и дед, красный, как пареная морковка, выкатился через порог бани.
– Сгорел! Совсем сгорел! – будто простонал он, вытягиваясь на траве в том же углу.
– Дорвался, как дурной до мыла! – покачал головой старик Лукашов, доставая из холщовой сумки шапку-ушанку и толстые рукавицы.
– Пошли обмываться! – подтолкнул меня к дверям бани Кольша. – А то там такое начнется, сваришься! Видишь, дед Лукашов с шапкой да рукавицами собрался париться.
Я не понимал ни того, зачем в бане шапка и рукавицы – там и без них жарища, ни Кольшиной тревоги, но покорно юркнул в пахнущее березовым настоем нутро бани.
Вновь обожгло горячим воздухом обласканное прохладой тело. Мы устремились на лавку, к маленькому оконцу. За нами – Степа. Не торопясь, шагнул через порог и старик Лукашов, держа в одной руке шапку с рукавицами, в другой – объемистый веник.
– Давайте, щеглы, шустрее, – произнес он. – Мне надо париться. Пока я веник завариваю, да пот нагоняю на полке, вы чтоб свои дела сделали…
Уже одеваясь, я слышал, как вспыхивала шипящим паром политая водой каменка, и даже через невидимые глазу дверные щели пробивались белесые струйки этого тугого пара. Можно было лишь представить, каким жаром дышала прокопченная, не раз прожаренная до наружной обмазки банька.
Вечерело. Пахло сеном и цветами. Тихо было и покойно…
4
– Сидеть-то дома не с кем, – сказал дед, опустив мне на плечо тяжелую руку, – Шуру забрали на прополку хлебов, Кольша тоже комаров кормит, сгребая колхозное сено, а нам с матерью пока отсрочка выпадает: она не колхозница, я – из годов вышел. Себе пойдем косить сено…
Новость меня обрадовала. Еще бы – целый день в лесу! Вприпрыжку вынесся я из дома, за палисадник, к Паше, ждавшему меня у глубокой канавы.
– Ничего хорошего, – не разделил друг моего восторга, – жарища и трава колючая. Пойдем что-то покажу. Пока ты прохлаждался, я по канаве полазил.
Мы опустились в канаву, по самый урез заросшую густой травой. Паша раздвинул бледно-зеленые стебли, и под дерновым козырьком я заметил маленькую корзиночку с желторотыми птенцами.
– Видишь голышата мухоловкины. – Он сорвал травинку и поднес к самому гнезду. Птенцы заверещали, потянулись клювами к стеблю, тесня друг друга. – Есть хотят.
Я не успел что-либо сказать, как над Пашиной головой, почти рядом с моим лицом, затрепетала прозрачными крыльями маленькая пичужка, забилась в тревожном крике.
– Пойдем, мамка их прилетела…
С неохотой вылезли мы из канавы и расстались. Паша рванул к дому – только пятки засверкали, а я пошел под навес. Дед возился там с косами.
– Я еще вчера отбил литовки, пока вы по лопухам лазили. – Он попробовал пальцами лезвия кос. – Острее бритвы. Косить такими – удовольствие…
Над озером горело ослепительное солнце, сгоняя росу с лучистых трав, кричали в том распахнутом пространстве журавли, и тихо постукивали друг о дружку косы, которые нес на плече дед. Мать держала в руках сумку с едой и жбанчик с квасом, а я шел налегке, прислушиваясь и рассматривая этот необычный в утреннем освещении мир.
Обойдя несколько ближних к деревне лесков, дед свернул на обширную поляну, стелящуюся густым травостоем между тальниковых кущей, и остановился.
– Пожалуй, тут и откроем покос.
Ни одна былинка не колыхалась на облитой голубизной поляне, все еще слегка блестевшей от росного налета, и я, не чувствуя отсыревших сандалий, заворожено смотрел в эти голубеющие дали, на росплеск клонившихся другу к другу трав в плотном переплете, на отливающие осветленным изумрудом леса. А мать прошла по ней пару шагов с просиявшим лицом и сказала с радостью в голосе:
– Сено здесь будет духовитое, как чай!
Дед кинул под куст старенький пиджак и взялся за косу.
– Ну, начали!
Вжиг, вжиг – и упали первые клочья травинок на почерневшее от влаги лезвие косы, образовав прореху в зеленом кружеве и открывая невидимый взгляду мир таинственной жизни. Следуя за дедом, я замечал теперь и разных букашек, и маленьких бабочек с намокшими, слипшимися, как цветочные лепестки, крыльями, и торопливых муравьев, и даже маленьких лягушат. И с каждым взмахом косы, от рассыпаемых в пыль росинок, над травяным урезом искрились всплески тончайшей радуги. От этого чуда холодело в груди и замирало сердце. И чтобы меньше мокли ноги, я пытался ступать в дорожку дедовых следов, хотя они и тянулись в широком для меня разводе. Пришлось идти, раскорячиваясь, враскачку. Тут-то и мелькнуло что-то красное в траве и, нагнувшись, я увидел крупную ягоду в веснушках мелких семян.
– Дедушка, ягоды!
Он остановился. Глаза веселые.
– Ну и отойди в сторонку, чтобы под литовку не попасть, да и лопай.
Осторожно раздвинув траву, я увидел целую россыпь налившихся краснотой ягод. Дугой согнулись тонкие стебли под их тяжестью, и первая из ягодок, раздавленная пальцами, брызнула соком, а вторую я сорвал с осторожностью. Во рту она растеклась ароматной сладостью. Таких ягод мне есть не доводилось, и, с некоторой поспешностью, ненасытно, я стал срывать их одну за другой.
* * *
Усталые и умиротворенные мы возвращались с покоса. Обогнув последний лесок, мы увидели лошадь, запряженную в телегу, а подле неё мужика, широко размахивающего рукой. Он кулаком бил лошади в ухо. На телеге сидел мальчик лет пяти.
– Не бей Зорьку, дедушка! – кричал он. – Мне её жалко – она плачет!
В этот момент лошадь упала на колени, протяжно заржав.
Дед бросил в траву литовку и кинулся к мужику. Я – за ним.
– Ты что, Прохор, делаешь! – Дед схватил мужика за руку. – Угробишь лошадь – не рассчитаешься! Да и посадить могут.
Я увидел, как из ноздрей лошади просекаются капельки крови, а из глаз текут слезы.
Мужик, бородатый с седеющей шевелюрой, легко оттолкнул деда, но махать кулаком перестал.
– Зауросила, скотина: брык, да брык, а мне её председатель на два часа дал. Хочу стожок перевести, пока время есть.
– Бить-то таким образом зачем? Да и не просто заупрямилась тягло, не без причины. Ты сбрую-то хорошо просмотрел?
– Да торопился…
Дед засунул руку под седелку и вытащил оттуда щепку.
– Вот тебе и причина.
Мужик тряхнул головой и хлопнул себя по ноге.
– Вот дурья башка! Сбруя-то в дровнике лежала. Щепка и зацепилась за потник в седелке. А я и не поглядел – бах на спину лошади. Ну, спасибо тебе, Данилка, а то бы в самом деле изувечил скотину. – Он, торопясь, сел в телегу и тронул вожжи. Лошадь взяла с места рысцой.
– Этот Прохор Доманин – мужик не плохой и особой силы, – глядя на удаляющуюся повозку, заметил дед, – только вспыльчивый, с чудинкой. Поехал он как-то в Канавное, на мельницу. – Дед поднял косу, отряхнулся. – А очередь – бричек с полдесятка. Он к мужикам: пропустите, мол, без очереди – у меня всего один мешок и торопиться надо с подготовкой к свадьбе, сына женю. «Ну, раз такое веселое дело, чего же не пропустить с одним мешком-то». А у Прохора мешок из матрасовки сшит – в нём обычных мешков не меньше трех, и зерна пудов на десять. Поднял Доманин свой мешок из телеги – мужики и ахнули. Да слово дадено – назад не вернешь. Стал Прохор подниматься по лестнице наверх, к засыпной воронке – та и закачалась. Едва не рухнула.
– А сколько это: десять пудов? – проявил я интерес к рассказу.
– Пуд – шестнадцать килограммов. – Дед усмехнулся. – Вот и кумекай.
Я «скумекал», скорее интуитивно, чем подсчетом…
– Разве человек столько поднимет?
– Смотря какой. – Дед помедлил. – Обычный – вряд ли. Я бы тоже на спину не закинул. Разве что от земли приподнял. А вот Прохор даже на лестницу с такой тяжестью поднялся, и, думаю, что это для него не край. Еще при единоличной жизни вез он дрова по осени, а телега в хляби застряла. Лошадь тужилась, тужилась, дергала постромки, а возок не подается. Прохору свою-то лошадь жалко. Распряг он её, и в оглобли – вытянул телегу, да ещё и посетовал: «Сам, мол, едва справился, а хотел, чтобы лошадь вывезла». Вот так-то…
5
По утрам уже становилось прохладно. С кочковатого болота, уходящего в западинах к самому озеру, наползали туманы, оседали на травах обильными росами, темнили влагой заборы и надворные постройки, уплотняли пыль на раскатанной телегами дороге. Глухо текли звуки с ближних полей – разгоралась страда. В столь горячее время нарядили и деда возить зерно от комбайна. А как не покататься на пароконной бричке с емким деревянным корытом, не поглядеть на трактор с комбайном, на уходящее к дальним лесам пшеничное поле?! Уселся и я рядом с дедом, на кучерскую доску. Замелькали внизу лошадиные ноги: взад-вперед, взад-вперед – будто заводные, затрепыхались в легком перехлесте длинные хвосты, затряслась упряжь, притороченная к дышлу, и телега мелко запрыгала на неровностях дороги.
За деревней открылось желтое поле пшеницы, взбегающее на ближнюю гриву, втянуло в себя узкую дорогу, словно прорубленную в высоких хлебах и зияющую щербинкой на самом гребне возвышения. Слабый ветерок прокатывался волнами по этому безбрежью, и тогда вдали цвет поля менялся в плавных переливах: светлел или темнел, отливал то палевой накипью, то оранжевым росплеском.
– Уродился хлебушек, – с особой теплотой в голосе, любовался дед житом, – он сейчас нужнее нужного: вон сколько наших людей воюют и всех накормить надо. Погода постоит – так за месяц и управимся…
А мне вдруг подумалось, что, может быть, и отцу моему перепадет краюха хлеба, испеченного из муки, намолотой из этой пшеницы, и как-то потеплело в груди, острее поплыл взгляд над распахнутым желто-зеленым раздольем.
С бугра открылся дальний край поля, от которого медленно плыла длинная сцепка машин. Послышался монотонный рокот моторов. Дед поторопил лошадей, хлестанув их вожжами.
Большой гусеничный трактор, без кабины, с железной бочкой наверху, тянул высокий и длинный комбайн красного цвета. Множество всяких колесиков, звездочек и шестеренок вертелось на нем под бегущими внахлест ремнями. Но меня привлекла жатка с длинными лопастями и зубастой косилкой. Машущие лопасти подгибали стенку стеблей с налитыми колосьями, и те, срезанные лязгающей пилой, покорно ложились на транспортер подборщика, похожего в клубах пыли на огромную пасть.
На тракторе сидел в одной майке, запятнанной масляными разводьями, крепкий парень чуть постарше нашего Кольши, а за штурвалом комбайна, похожим на штурвал парохода, виденного мной в младенчестве, – второй, в кепке и больших очках со стекляшками в кожаной оправе, с черным от пыли лицом. Когда он улыбнулся, заметив нас, зубы его словно осветились изнутри сахарной белизной.
Тракторист остановил трактор. Моторы заработали спокойнее. Жатка устало взмахнула пару раз крыльями и затихла. Дед направил лошадей вдоль комбайна, приноравливая бричку к конусу бункера.
– Еще чуток, еще! – командовал сверху комбайнер, сдвинув на лоб квадратики очков, отчего белые круги вокруг глаз, на темном от пыли лице, делали его голову похожей на совиную.
Звякнула задвижка горловины бункера, и в корыто брички хлынул поток желтовато-белой пшеницы. Дед схватил деревянную лопату, лежащую на дне корыта, и начал разравнивать быстро растущий ворох зерна. Приятно и терпко пахнуло полем. Я подставил ладонь под эту сыпучую массу и почувствовал мягкие и тугие клевки налитых зерен. Несколько их я успел поймать зажатой ладонью. Продолговатые, похожие на маленькие городские сайки, зерна напомнили мне недавнюю, но кажущуюся далекой-предалекой жизнь, и что-то тиснуло сердечко, а мысли нанесли совсем иное, еще недавно незнаемое, незнакомо-безразличное: это сколько же надо таких вот маленьких «саечек», чтобы получилась одна настоящая сайка?! С этой задумкой, как-то непроизвольно, стал и я разгребать пшеницу руками, хотя и слабо, незаметно в гуще такого наплыва зерна, но старательно, с теплым чувством своей принадлежности к важному делу, осознавая и посильную помощь деду. Может быть, даже и не обязательную, никчемную в данный момент, но важную для меня самого. Желание это возникло из каких-то иных, доселе неведомых мне чувств.
Быстро наполнилось не очень-то емкое корыто, и комбайнер закрыл задвижку бункера. Гулко зарокотали моторы, и сцепной агрегат медленно отошел от нас.
– Отборное зерно! – радовался дед. – С такого и крупчатки намолоть можно…
Заметив, что я нечаянно сыпанул через борт корыта немного пшеницы, нахмурился:
– Хлеб рассыпать негоже. Подобрать придется.
Я был удивлен: там и горсти доброй не было, но дед был непреклонен:
– Подбери, подбери! Ежели каждый постольку рассыплет – ворох получится.
На душе тягостно стало: будто меня уличили в чем-то нехорошем, и даже обида тиснула горло. Но деда я уважал и без лишнего разговора полез с брички, косясь на задние лошадиные ноги, на метелки хвостов. Среди примятой стерни нашел я рассыпанные зерна и подобрал их, все еще тая горечь досады. Лишь много позже я понял, что не о зерне тогда пекся дед, а о моем воспитании, моем духовном стержне.
Назад ехали шагом. Нагруженная бричка не так прыгала на неровностях дороги, со скрипом переваливаясь с колеса на колесо. Я молчал, так и не посветлев душой после недавней обиды, вглядывался в недалекие деревенские дворы, тихие, будто бы застывшие в лучезарном, прошитом ядреным солнцем пространстве. И дед не лез ко мне с разговорами, видимо, понимая мое состояние. В таком душевном равновесии мы и подъехали к большому, крытому соломой току. В тени его возвышались покатые кучи ссыпанной на утрамбованную землю пшеницы. Возле одной из них суетились женщины, лопатами вороша зерно, всплескивая его на самый верх кучи.
– Сейчас и мы свою бричку разгрузим, – заговорил, наконец, дед, останавливая лошадей. Он неторопливо слез с телеги и взял с одного из ворохов зерна жестяной совок-плицу.
– А мне? – поняв, что этим совком дед будет ссыпать зерно, как бы с удивлением спросил я.
– Тебе еще рановато плицей орудовать, походи вон по току, погляди…
Опять досада тронула душу, но тут же ушла. Таинственные полутени от крутых ворохов пшеницы, расплывшиеся по длинному, казавшемуся бесконечным, току, манили своей неизведанностью, силуэтами каких-то машин, прохладой. И я пошел в глубь этого хлебного лабиринта, прислушиваясь к чириканью воробьев и улавливая легкие дуновения ветра…
6
За ужином дед сказал:
– Пора картошку копать. Вот-вот заненастится, а там и до заморозков недалече. Уберем по-сухому – не свернемся с голодухи. На хлеб теперь рассчитывать не придется: фронт все вытянет. Теперь картошка основной едой станет. Ее надо не сгноить. А погреб сырости не любит. Так что тянуть дальше не резон…
За окнами было темно, как в том самом погребе, о котором говорил дед и который они с Кольшей чистили днем. Керосиновая лампа освещала лишь стол да часть кухни с печкой. Дальше – все тонуло в полутьме. Даже оконного проема в горнице не угадывалось, и казалось, что там, за палисадником, за едва проступавшими в отсвете лампы кустиками оголенной смородины, нет ничего, лишь темная бездонная пропасть, и знобко становилось от этих мыслей, и нет-нет да и пытался я уловить хотя бы бледное пятно соседского окошка. Дед уловил мои взгляды:
– Глухая осень, хотя и ранняя. Плотно давит – глаз выколи. Пока морозы не выбелят небо – все так-то будет…
Утро было хмурое и зябкое. Высокая ботва холодила ноги. Дед и Кольша выворачивали емкие кусты картофеля лопатами, а мы втроем выбирали ядреные клубни в старые ведра. Я старался ухватить картошку покрупнее, и мне это прощали за малостью лет, а Шура ловко и быстро разгребала каждую лунку, выбирая мелочь. Работа не нравилась, но я пересиливал неприязнь к ней и ползал на корточках по рядкам.
Когда мы наполняли ведра, дед и Кольша несли их на край огорода и высыпали картошку на сухую траву.
– Сколько я ее перебрала, сынок, тяжело вспоминать, – заметив мое вялое отношение к работе, начала матушка. – Бывало, родители уедут хлеб жать, а нас, подростков, домовничать оставят и поручение дадут – картошку копать. Был тогда у нас Петя – твой дядя, умер он маленьким. Посажу его на травку, он играет, а я горблюсь: выверну несколько лунок, соберу картошку и дальше иду. Петю на спине перетаскиваю – на руках не одолевала: тяжелый был. А еще куры и гуси на догляде, двор весь…
Слушая мать и вглядываясь в ее усталое бледноватое лицо, я заметил, что и глаза у нее грустные, без искорки, и голос печальный, и дух у меня зашелся от острой жалости к ней, губы дрогнули: как же тут не стараться работать? И в этот жгучий момент мимо меня пролетела картофелина, мягко шлепнулась в рыхлую землю. Я вздрогнул и поднял голову: дед копал лунки размеренно, без напряжения, Кольша – усердно, торопясь. Понятно было, что это он бросил картошку – больше некому. Потеплело в душе, помягчило. Опустив глаза, я стал наблюдать за Кольшей исподлобья, и он потянулся, взял новый клубень, взмахнул рукой. Вмиг попался мне на глаза комок земли, и я вскочил, широко размахнувшись, запустил им в Кольшу. Но он ловко уклонился и поднял голову, указав рукой в небо.
– А вон журавли!
Высоко-высоко темнела в небе вереница каких-то птиц. Они казались маленькими – не больше голубей. Кур-лы, кур-лы, – донеслось из поднебесья печально щемящее, даже сердце сжалось от некой тоски. И откуда, почему возникла эта тоска, – не понять. Вмиг сгорел мой веселый настрой. Душа отозвалась на крики журавлей впервые, но и после, с годами, когда мне приходилось слышать это прощальное курлыканье, тонкая грусть наполняла сердце. Снова и снова приходилось гадать: что это? Почему? В каких тайниках натянуты те струны, которые вздрагивают под действием звуков, рожденных журавлиными криками?.. Где ответ?..
– Давайте копать, – вернул нас к делу дедов голос. – Лучше синица в руки, чем журавль в небе, – добавил он, – а синица теперь – это наша картошка…
7
Тихо и светло. Видно, как медленно опадали с деревьев листья. Таинственного и сумрачного леса будто и не бывало. Будто и не тут я ел ягоды, томился от зноя и терпел комариные укусы. Все выглядело спокойно, умиротворенно, блекло. И одинокий стожок сена, сложенный дедом, аккуратно очесанный, желтел на поляне.
Дед с матерью принялись накладывать сухое, пахучее сено на телегу. Вилы в руках у матери казались несуразно большими. Лицо ее напрягалось, когда она поднимала уемистые навильники. Жалость трогала сердце, но помочь ей я не мог – силенок еще не хватало.
Воз становился выше и шире, ершился большущей всклокоченной головой.
– Давайте бастрык, – крикнул дед сверху, и мать потянула вверх толстую ошкуренную жердь. Я, цепляясь сзади, помогал ей.
– Осторожно. Не ушиби руку, – беспокоилась она.
Прижим лег посредине воза, и дед, накинув на него веревку, стал утягивать раздавшийся на две половины воз.
– Хочешь наверх? – увязав спрессованное сено, спросил он.
Страшновато сидеть там, на шатком верху, но и соблазн немалый.
Мать подсадила меня немного, а дед поймал за руку – я и очутился наверху. Сразу стало видно всю поляну, и даже часть соседнего луга с копнами сена, и лес глубоко открылся в своей просветленности. Заметив, что дед приноровился спускаться вниз, я забеспокоился – одному на возу боязно.
– Лошади тяжело будет, – понял меня дед, – она хотя и скотина безответная, но все животное – с самого утра в упряжке. Плечи хомутом до бесчувствия наминает. А ты сиди-сиди, привыкай. Держись за бастрык покрепче, да поглядывай…
Вначале сердце замирало, когда воз кренился в какую-нибудь сторону. Так и думалось, что сено сползет, а потом боязнь эта прошла, обвыклась, и я стал с интересом наблюдать за открывавшимися с высоты воза далями. Леса и поляны, маленькие домики деревни, темнеющая среди увядших трав дорога… Тихо, запашисто от разворошенного сена. Лишь лошадь изредка пофыркивала да поскрипывала телега. И хотелось ехать и ехать вот так без забот и тревог, в неведомые дали и страны…
Глава 4. В предзимье
1
В пору обвальных проливных дождей, загнавших меня на долгое время в пространство дедовой избы – на полати да печку, я осиливал чтение и счет, приглядываясь к потрепанным страницам старого букваря, доставшегося от Шуры. Тянулся я к знаниям почти в одиночестве: дед постоянно отлучался во двор, готовя наше нехитрое хозяйство к близкой зиме, а матушку привлекли веять зерно на колхозном току. Кольша с Шурой до обеда учились, а после, наскоро поев, уходили перебирать картошку в колхозном овощехранилище. Лишь к вечеру наполнялась изба неуемными голосами, к которым я прислушивался с чувством жадного понимания, ибо эти разговоры дарили мне кое-какие новости, пусть не всегда понятные, но все равно из той жизни: с улицы, с живого людского общения, отголосков того большого, недосягаемого ни разуму, ни духу мира. Даже мой день рождения прошел тихо. Матушка, уходя на работу ранним утром, поцеловала меня куда-то за ухо, пожелав расти здоровым и умным, а дед принес из магазина горстку конфет-подушечек. Лишь Кольша с Шурой, отметив мой рост легкой зарубкой на дверном косяке, устроили игру в жмурки и все.
Как только ветер угнал за горизонт слоистые, низко висящие над землей космы туч, похолодало. В день-два задубела земля, выглянуло неяркое солнышко.
Утром, едва просинели окна, пришел Паша в старых стоптанных набок валенках с галошами и сразу, с порога, заявил:
– Айда на пруд, посмотрим: застыл или нет.
В доме – никого. Как уйти?
– Да идем, – настаивал Паша, – дед твой, я видел, в кузню направился. Пока его дождешься – земля оттает, грязюка пойдет…
Всего-то на год и три месяца опередил меня Паша по возрасту, а стал первоклассником. И с тех пор, как он пошел в школу, мы с ним почти не виделись: то работа на огородах мешала, то нудные дожди, то холодная слякоть… А тут выходной выпал, как отказать другу?..
Шли мы через простуженное поле, по жухлой безжизненной траве, круто отворачиваясь от пробивного ветра, и не разговаривали. Непривычно знобкая погода, серые однотонные дали не радовали. С унылым шумом надземного сквозняка, гнавшего свои тугие струи между двух грив, настаивалось и унылое настроение, и я тайно пожалел, что согласился на предложение друга.
Некогда светлый игривый пруд был неузнаваем: затянутый матовым льдом с редкими плешинами промоин, он походил на огромную дырявую овчину, распятую среди желтеющих в крутом изломе берегов.
– Скоро совсем застынет – кататься будем. – Паша поднял комок глины и с размаха бросил на лед. Лед громко ухнул, а из-под обрыва вылетела какая-то птица. Она пролетела низом вдоль кромки берега и снова скрылась за срезом обрыва.
– Утка! – крикнул Паша и побежал, пригибаясь. Я – за ним, как-то непроизвольно, ничего не понимая.
У приметного места Паша осторожно выглянул из-за бугра.
– Чирушка это, видно, раненая.
Я тоже заметил у края льда серенькую взъерошенную уточку. Она косила черным глазком на нас и не шевелилась.
– Давай поймаем! – Паша, не дожидаясь моего согласия, стал осторожно приближаться к утке. Когда до нее оставалось с полшага – рукой дотянуться, дикарка забила мокрыми крыльями по льду и перелетела на новое место. Мы – за ней. И опять все повторилось. Несколько раз Паша подкрадывался к уточке, но все безуспешно.
– Палку надо, – Паша стал глядеть по сторонам, – все равно она не жилец.
– Ты что? Разве можно такую убивать?!
Он опустил глаза.
– Так иначе пропадет или замерзнет.
В это время на другом берегу появился какой-то мальчишка.
– Это Рыжий – Толяня Разуваев с соседней улицы. Давай скорее ловить, а то он не пожалеет! – И мы снова погнались за отлетающей уткой. Один раз Пашина рука скользнула по перьям, но, утомленная нашим преследованием, птица, собрав последние силы, перелетела на другую сторону пруда, как раз к наблюдавшему за нашими попытками парнишке.
– Сачок бы, – огорчился Паша и осекся, кинув взгляд на дальний берег.
Я тоже увидел, как пришедший после нас толстячок схватил палку и стал подкрадываться к опустившейся неподалеку от него утке.
– Не трогай! – заорал Паша во все горло, сложив ладони лодочкой. – Это наша чирушка. Не трогай, гад!
Но тот, с другого берега, или не слышал его крики, или не обращал на них внимания.
Взлетела палка в высоком размахе. Парнишка поднял и показал нам хлопающую крыльями птицу.
– Живодер! – Паша понесся с такой силой, что я едва за ним поспевал, хотя валенки с галошами были у него и не по ноге, и тяжелее моих сапог.
Может, причиной тому были слезы, нежданно выступившие из моих глаз и мешавшие дыханию? А может, и в самом деле Паша так рассердился, что летел вдоль берега, как на крыльях? Во всяком случае, парнишка с добытой уткой припустил от нас с не меньшим усердием. Догнать его из-за большого расстояния, разделявшего нас, вряд ли было возможным. Понял это и Паша и остановился.
– Ну, погоди, гад, – погрозил кулаком Паша в холодное пространство, – подловлю я тебя перед школой и сопатку расквашу…
В не меньшем унынии мы возвращались домой. Серым и печальным показался мне набравший силу день, и наш поход на замерзающий пруд запомнился надолго.
2
В предзимнем лесу светло и тихо. Опавшие листья скрадывают шаги, но ходить по ним скользко. Ноги от постоянного напряжения быстро устают…
Две соседских собаки, которых Кольша взял гонять зайцев, ушли сразу же, как только мы выбрались из первого от деревни леса. Пару минут слышался их отдаленный лай, а потом и он затих. Напрасно Кольша выстаивал с ружьем наготове долгое время, прячась за тальниковыми кустами – ни собак, ни зайцев не было. Один раз вырвался из травы суматошный выводок белых куропаток и быстро нырнул в чащобу. Кольша и выстрелить не успел.
– Невезуха, – огорчился он. – И эти дворняги куда-то удрали. Теперь всю округу всполошат…
Пройдя еще один долгий лес, Кольша остановился и присел на валежину.
– Отдохнем, а то подошвы скользят по листьям, ноги устали…
Я давно уже потерял интерес к этой охоте. Даже какие-то осиротевшие леса не радовали и не волновали, и чувство ожидания какой-либо живности постепенно угасло. Как шел я следом за Кольшей, так и опустился на мягкую подстилку там, где услышал желанные слова. Тихо. Пустынно. Неуютно… Ни светлых чувств, ни теплых мыслей…
– А ты ведь на тропе сидишь, – оглядевшись, показал на уплотненные листья между черных тальниковых корневищ Кольша. – Видишь, как ручейком тянется прибитой косыми опадыш.
Но вставать не хотелось – уж больно удобно я устроился.
Не успел Кольша еще что-то сказать, как где-то совсем близко затявкали собаки, с рыком и визгом. Послышался топот, шум, что-то шибануло меня в спину и опрокинуло. Резкая боль обожгла шею. Раздался свирепый рык и жуткий жалобный плач. Оглушенный и очумелый, я вскочил на ноги, и, тараща глаза на клубок бьющихся в злобе собак, различил среди них сучившего лапами зайца. Кольша прутом стегал разъяренных псов.
Горячо стало под шапкой и что-то живое поползло к лопатке. Я привычно мазнул пальцами по шее и увидел на них кровь. Тут же тупая боль свела спину. С тревожной растерянностью глядел я на кровь, и машинально шевелил плечами, чтобы прогнать непонятно откуда взявшееся болевое ощущение.
А Кольша, отняв придушенного зайца у собак, обернулся ко мне:
– Спина-то не болит? Косой ведь со всего разгона налетел на тебя. А я тебя предупреждал. В другой раз будешь знать, где садиться. – Заметив на шее размазанную кровь, Кольша в тревоге оглядул ранку. – Все же коготнул кто-то тебя: может, заяц, а может, и собака. Они все через тебя перелетели. Ничего, сейчас вот найдем подорожник, залепим листом царапину – и всё пройдет. – Он цыкнул на собак, все еще старающихся стащить с его спины зайца, и заторопился к опушке леса.
3
Дед ввалился в избу с головы до ног обрызганный снегом.
– Едва успел со скотиной управиться, – произнес он, отряхивая фуфайку у порога, – запуржило так, что в ограде заблудишься…
Я тут же кинулся к потемневшему окну, приплюснул о стекло нос, пытаясь что-нибудь разглядеть на улице, но даже в палисаднике снег бился такой неистовой россыпью, что, кроме вихрящихся в слабом отсвете керосиновой лампы искрометных снежинок, ничего не увидел.
– Это все – зима, – с печальным вздохом отозвалась матушка. – Как переживем ее, что нас ждет?
– Пока ничего утешительного, – дед раздевался не торопясь, размеренно, – сегодня сводку в сельсовет прислали – немец-то уже под Москвой.
– Как же так?
Дед не ответил, почему-то покосился на двери и стал разуваться.
– Где-то наши школяры задержались, – перевел он разговор на иное, – видно, снова после уроков оставили. Хоть иди да встречай, чтоб не заплутали в такую погибель.
– Объявятся. Они гурьбой, всем нашим краем ходят…
* * *
Утром деревня и вся округа открылись в заволоке снежного раздолья: белым-бело, куда не погляди – до самого леса в одном окне и до неба, за озером, в другом. После осенней черноты и серости, непроглядного окоема в низких тучах, белизна просторов завораживала взгляд, манила в мягкие, чуть-чуть засиненные дали, тревожила неосознанным волнением, налетными мыслями о таинствах природы. Несли они меня куда-то в неизвестность, в жизнь-сказку. А подлинная жизнь светила иными зарницами, в иных тонах, ином рассудке, и хотя она открывалась мне лишь маленькой россыпью тревог, услышанных или душевно воспринятых от взрослых, она играла другими заветами, иными мерками.
Особенно скучно мне было по утрам, когда Кольша и Шура находились в школе, матушка – на колхозном току, а дед управлялся во дворе. В пустом доме устаивалась какая-то грустная тишина – даже маломальских звуков не улавливалось извне. Если там что-то и брякало, мычало через двойные оконные рамы, тем более, через плотные, оштукатуренные изнутри деревянные стены, не слышалось, а в доме ни часов, ни даже сверчка не было. Да и интереса какого-либо ищи не ищи – не найти ни в горнице, ни в кухне. Того, что находилось под запретом: в старинном ли сундуке у стены или на зашторенной под потолком полке – я не касался, чтя наказы матери и деда, а из книг, кроме потрепанного букваря, освоенного мной дней за десять, невысокой стопкой лежали лишь непонятные и неинтересные мне учебники. Две книжки с картинками были мною много раз смотрены-пересмотрены, запечатлены в памяти до малейших штрихов и не привлекали, а других не приносилось. Даже мысли о той, довоенной жизни в городе приходили все реже и реже. Лишь иногда во сне, да из-за каких-нибудь малейших колебаний настроения, уносило меня в прошлое: к тому бытию, к светлому образу отца…
В зыбке той печальной тишины выкачивалось и мое душевное состояние: лежа на печи или на полатях, я изучал почерневшие от времени узоры на досках потолка или глядел в окна, открывавшие то одну, то другую сторону заснеженной улицы с силуэтами знакомых дворов, и тоже почти всегда пустынную в это время. Редко проезжал кто-нибудь по ней на лошадке, запряженной в розвальни, или проходил неспешно. Но и от этого малого разнообразия теплело в душе, набегали свежие мысли, оживлялось воображение. И в столь скудное для новых ощущений и событий время особо остро воспринимались рассказы или даже обыденные рассуждения деда, приходившего с улицы передохнуть, уставшего, с мокрыми от пота волосами, свисающими на высокий, почти прямой лоб, со льдинками в усах, с потемневшим взглядом. Не раздеваясь, сняв лишь шапку, он садился или на сундук, или на скамейку, и я мало-помалу раскачивал его на разговор своими вопросами. Тут и разыгрывалось воображение, поднимало меня на такие высоты, от которых дух захватывало и в глазах застило яркостью явлений, и еще долгое время после очередного ухода деда во двор, до того самого момента, когда являлись из школы Кольша с Шурой, сохранялось это особое состояние души. Лишь их приход разрушал и мой настрой, и мои образы: начинался иной разговор, иные действия.
Эти наши разговоры, старого да малого, подогревали и меня, и деда, сближали. Больше и больше тянулся я душой к нему, чувствуя, что и дед привязывается ко мне. Иногда, отвечая на какой-нибудь мой вопрос, он настолько увлекался прошлым, настолько глубоко и далеко уводили его воспоминания, что забывал дед и про двор, с вечной работой – делай не переделать, и про меня.
Светлая сердечность наших отношений как-то побудила меня на вроде бы простой, мимолетный вопрос:
– Дедуля, а у тебя был дедушка?
Скручивая цигарку из клочка старой газеты, он метнул на меня быстрый взгляд со снисходительной улыбкой и кивнул:
– А как же? Без деда человек на свет не появляется. Вот не было бы меня – не было бы твоей матери, а стало быть, – и тебя. Только я своего деда почти не запомнил – всего-то раза три его и видел. Там, на орловщине, в российской губернии, мужики, как барщина кончалась, все на заработки уходили, и дед мой с батькой где-то горбатились. Семьи-то большие – кормить надо… – Поплыл сизый дымок от самокрутки к потолку, ко мне, на полати. И хотя не доходили его тонкие росплески до матицы, таяли, запах тлеющего табака ощущался стойко. – Запомнилась низкая землянка с маленькими окнами, – тянул рассказ дед, – мы с братом Митькой на печке. Холодно до дрожи. Как вспоминаю об этом – хребет немеет. Митька черен от копоти, одни глаза блестят да зубы: печка-то по-черному топилась, соломой. Дым из нее под потолком стелился, в отдушину над дверями уходил. Теплый. Мы в него и совали головы, чтоб согреться. Мать подалась за соломой на поле. Печка чадила, чадила и затухла. Мы – в драных рубашках до колен, а под ними голое тело. Зубами зачакали – терпения нет. Того и гляди корючка скрутит. Тут заскрипела шаткая дверь – во весь ее проем куча соломы протиснулась, а за нею дед. Веселый. Давай печку оживлять. Леденцами угостил…
Землянки из пластов дерна я уже видел на крайней деревенской улице и, слушая деда, представлял что-то похожее на нашу баню, топившуюся каменкой по-черному.
– …С тех пор я его больше не видел. – Дед притих. Пепел на его самокрутке опасно согнулся: вот-вот сорвется на широченные, выскобленные до соломенной желтизны доски пола.
– А почему? – не выдержал я затянувшейся паузы.
– Сгинул где-то. Сказывали, на тех самых заработках. То ли перенапрягся и умер, то ли погиб, то ли злодеи порешили, позарившись на заработанное. Отец в тот год дома остался – Настя родилась. – Умолк дед. Упал пепел самокрутки ему на колено, обтянутое залосненной штаниной, потекли мои мысли, навеянные рассказом деда, в давнюю даль, глубоко, ясно, тревожно…
4
Дед взъерошил мне волосы:
– Давай-ка, малый, проветрись, погода стоит сиротская, не осопливишься. – Он только что вошел с улицы, и холодком потягивало от его одежды, да и в руках тепла не ощущалось – пальцы будто неживые, не успели нагреться.
Улица все же не изба: больший простор открывает, хотя в заваленных снегом далях, пронизанных светом и холодными ветрами, глядеть-то особенно не на что, а все живет к ним интерес, тянется взгляд. Особенно широко распахивается околица с огородных прясел, куда легко подняться по жердочкам: желтое безбрежье озерных камышей, подпирающих горизонт; тонкая вязь лесных отъемов, щетинившихся на стыке неба и земли, как бы сшивая их неровной стежкой; широкий размах деревенских дворов, гуртящихся в разломе леса и степи… Глядеть бы да глядеть, если бы не хваткий морозец с ветерком, против которого моя одежда долго не защитит.
Обычно, я сам выпрашивался на улицу с долгим уговором, с надеждой на доброту, на уступчивость, сочувствие, играл на этом, хотя и не всегда удачно, а тут дед предложил заветное.
Пока я собирался, путаясь в одежде, дед ушел во двор. И, вынырнув на крыльцо с прищуром от яркого света, струившегося с белых снегов, я увидел его посредине ограды, рядом с коровой, и какого-то старика с роскошной бородой по пояс, сплошь выбеленной сединой, без шапки, в стеганой тужурке и непомерно больших валенках. Он лазил под животом коровы, что-то щупая, затем заглянул ей под хвост, подняв его, раза два-три приложился ухом то к одному, то к другому округлому боку. Что бы это означало? Я – тут как тут. Дед глянул на меня, но ничего не сказал.
– Стельная твоя корова, Данилка, – развел, наконец, широкие плечи в разгибе необычный дед и стал гладить бороду. – Считай, к марту отелится.
– А что же ветеринар мне обратное пел, – отозвался дед с сомнением. – Советовал повторно к быку подвести? Он ведь как-никак – в грамоте, прибором слушал?
Бородач даже не улыбнулся.
– Сказал тебе: к марту отелится и все тут. Голову даю на отсечение…
И дед поверил. Лицо его посветлело.
– Ну, коли так, пойдем, Афанасий, в дом, посидим – друг на друга поглядим…
Дед повел корову в закуток, а я, немного поглядев на странного, сутуловатого и большеголового бородача, осмысливая не совсем понятные его действия и разговор, пошел к пряслам, на своё наблюдательное место.
Плавился в снегах солнечный свет, заливая округу отблесками позолоты, искрометным сиянием снежинок, окаймляя легким радужьем контуры лесов и крайних дворовых построек на дальней улице; тек, отражаясь, от понизовья в бездонность небесной голубизны, уводя за собой не только взгляд, но и нечто духовное…
Слабый шелест уцелевших листьев старого клена за плетнем, наплывающий скрип снега под ногами у деда.
– Шибко-то не студись, – предостерег он меня, – подыши чуток свежим воздухом да в избу… – Отдаляясь, дед еще что-то говорил, но уже бородачу. Дверь в сенцы захлопнулась, и вроде ветер притих.
Там, в избе, теперь можно было услышать что-нибудь более интересное, чем увидеть в пустой ограде, и я, недолго раздумывая, тоже потопал в дом.
Пахнуло домашним теплом с устойчивым запахом печеного хлеба и упревших щей, и сразу захотелось есть, хотя мы с дедом и позавтракали не так давно, одни: мать и Кольша с Шурой ушли еще по темну, когда я спал. Она – на работу в зернохранилище, школьники – в школу.
Бородатый уже сидел за столом, а дед возился у печки, бренча чашками-ложками. Он даже слова мне не сказал и голову не повернул.
Я уже знал, что по неписаным деревенским правилам садиться за стол вместе с гостями детям не положено, и, раздевшись, полез на полати. Оттуда, из-под занавески, я стал слушать и наблюдать дедов. Мой, суетясь, полез в подпол и быстро вынырнул оттуда с огромной бутылкой в руках, бородач, склонив голову и поглаживая волосы, заметил:
– Я ведь, Данила, не употребляю, ты знаешь.
– А может, полстаканчика?
– Ни капли.
– Тогда я промочу горло…
Хлебали они щи из большой эмалированной чашки, размеренно, поочередно перекидываясь редкими фразами. Услышать и понять что-нибудь из скупого их разговора, уловить ход мыслей – не удавалось. Напрасно я пытался связать отдельные слова в нечто осознанное, где-нибудь слышанное, они не связывались. С полчаса я поворачивал то одно, то другое ухо в их сторону, вникая в низкие звуки голосов – глухо. Лишь когда дед затряс кисетом и начал сворачивать папиросу, а гость принялся оглаживать бороду, отряхивая с коленей ее концы, какие-то фразы стали цеплять мое сознание.
– Не мое тут дело, Афанасий, а коль мы одни, дозволь полюбопытствовать, – начал мой дед, расслабившись после еды, – давно думаю, что не простой ты поселенец. Ну, сам посуди: явился ты неизвестно откуда, без семьи, без бумаг, живешь бобылем на отшибе, в знахарстве и скотине знаешь толк, костоправ, каких в Иконниковской больнице нет. Да и слушки разные ходят…
Бородач и не пошевельнулся, продолжая лелеять бороду.
– Пять лет живу с вами, а все угомону нет. Вот и ты туда же, – с грустинкой пробасил он.
– А ты не серчай. Ни хочешь о себе – не надо. Давай о другом.
Гость чуть откачнулся назад.
– Знаю я про те слушки: и в белые офицеры из армии Колчака меня зачисляли, и в политические, и в каторжане, да хоть не трогают пока и то ладно.
Дед пустил к потолку синеватое облачко дыма.
– Если бы ты не лечил скотину, не костоправил, слушками бы дело не обошлось…
Что-то подрагивало у меня в душе, тянуло тревожные мысли к не связным образам давнего прошлого: темные окна в наплывах дождя, беспокойство матери, какие-то незнакомые тетки и, наконец, подстриженный наголо отец, радость его появления…
– И на том, как говорят, спасибо. – Гость поднялся, потряс бородой, почему-то глянул в угол, где у нас висела прокопченная почти до черноты икона и, сутулясь, полез из-за стола. – Благодарствую за угощение, Данила. – Он чуть помедлил. – А любопытство свое припрячь пока. О другом тревожься: вон какая погибель пол-России накрыла. Сибиряков наших сколь полегло – похоронка за похоронкой. Утром две в сельсовет принесли… – Бородач еще что-то говорил, но мою душу так встряхнули его последние слова, что глаза затуманились, и разговор их я воспринимал только, как звуки, не улавливая смысла: про похоронку уже слышалось – понимал, что она значит. Унесли меня воспоминания на жаркий перрон городского вокзала. Вроде бы даже музыку я уловил, ту тревожно прощальную…
* * *
Дед еще и папиросу не докурил после того, как ушел от нас странный гость, как появился – Паша, с холщовой сумочкой через плечо, весь обсыпанный снегом, и остановился в дверях.
– Где Ленька? – не успев оглядеться, начал он и попытался влезть на припечек.
Я притаился на полатях, кося одним глазом в промежуток между занавеской и матицей.
Редко стал приходить ко мне Паша. Времени ему на игры не оставалось – один в хозяйстве: и корову напоить, накормить, и дров натаскать, тепло в избушке поддерживать – мать-то его с раннего утра и до темна на работе, а еще уроки…
– На полатях твой друг валяется, а ты только из школы?
– Оттуда. – Паша отмахнул шапкой занавеску, заглядывая в сумрак полатей.
– Ав, – гаркнул я из угла. Да так громко, что Паша откачнулся. Ловко и быстро снял он валенки и нырнул ко мне на полати. Пришлось отдергивать коленки от его ледяных ног.
– На улице снежище валит, – щекотал мне ухо друг, изрядно согревшись в нашей возне, – пойдем, поиграем. Знаешь, как забавно в буран прятаться!..
* * *
Снег шел удивительно тихо, опускаясь на землю легкими, почти невесомыми пушинками, да так плотно, что, кроме густо мельтешивших хлопьев, ничего не было видно даже в нескольких шагах.
Паша нырнул за ограду и исчез. Я за ним. И тут послышались какие-то крики. Замаячили в белизне бурана люди.
– Драка, что ли? – толкнул меня под бок появившийся откуда-то Паша.
Но я увидел неодетую, растрепанную женщину. Она бежала, размахивая руками, и что-то кричала, хватаясь за голову. За ней еще кто-то маячил. Сердечко сжалось в тревожном предчувствии, ноги будто утонули в рыхлом снегу. Несвязные мысли метнулись: что это? Почему?..
Женщина вдруг упала, ни то поскользнувшись, ни то в бессилии, а те, сзади, их было двое, подхватили ее и стали поднимать. Крики, суматоха, мелькание ног и рук. В непонятной той кутерьме появилась какая-то девчонка, пронзительно, с плачем заголосила:
– Мамочка, миленькая, не надо! Миленькая…
Высокий, до надрыва, ее голос словно ножом полосонул по сердцу, непонятный страх опахнул голову. Я почувствовал, как Паша качнулся ко мне, и со звоном в ушах услышал:
– Похоронку, видно, получили…
Я затрясся от непонятного озноба, и не до игры стало…
После еще долго звенели в моих ушах пронзительные крики девчонки и билась в душе не проходящая тревога…
5
– Вставай, вставай! – кто-то щекотно зашептал мне в ухо.
Я, еще не совсем проснувшись, понял, что это Шура: только от нее пахло сухим березовым листом – она всегда мыла голову той водой, в которой распаривали веники.
– Вставай, папка твой пришел!
Вмиг отрезало сон. Гулко, с радостным содроганием екнуло сердце, в голове пошел звон: «Дождался! На побывку? А может, совсем?..»
– Вчера ночью пришел, когда ты спал, – все шептала Шура. – В кухне вон, умывается. Иди скорее…
Ознобило меня с головы до ног. Горло перехватило от волнения. «Что делать? Как себя вести?.. Что сказать?..»
Обостренным слухом я уловил мужские голоса в кухне: один глуховатый – дедов, другой живее – чужой, незнакомый. Мелькнуло сомнение: голос-то не отцов. Но душа не приняла этого колебания – мало ли что могло произойти с его голосом за такое время. Стеснительная нерешительность сковала мои действия: ноги никак не попадали в штанины, рукава рубахи путались…
– Побыстрее ты! – торопила Шура. – Чего возишься!
А меня трясло. Тихо, с робкой осторожностью приоткрыл я двери в кухню: пахнуло чем-то печеным, жареным, табачным дымом. На лавке, спиной к дверям, сидел дедушка; в кутке, у печи, возилась мать; Кольша стоял и смотрел в окно. Больше никого не было. «Обманула!» – Кровь толкнулась в виски, но слабый запах одеколона уловил я и шире распахнул двери. У рукомойника, нагнувшись, стоял какой-то мужчина в галифе и хромовых сапогах. Медленно, ни на кого не глядя, я сделал несколько шагов в его сторону и увидел незнакомое лицо, чужие улыбчивые глаза. Жгучее разочарование поразило меня острой обидой. Каким-то чудом я успел развернуться, подлететь к кровати и упасть на нее тупым обрубком. Осчастливленное светлым известием мое сердце не вынесло столь подлого обмана, горькие слезы ожгли глаза. Они почти душили меня своей непрерывностью и обилием. Еще никогда в жизни я так не убивался и, возможно, не стал бы плакать сильнее, даже получив более страшное известие. На пределе остроты были тогда мои детские чувства, и вряд ли в более позднем возрасте можно так тонко дрожать, страдая, ибо все познаваемое впервые проявляется ярче и сильнее…
– Ты это чего? – затряс меня дед с тревогой в голосе. Я не слышал, как он подошел.
– Это я виновата, – загнусила Шура, всхлипывая, видно, испугавшись моих горьких рыданий. – Я сказала, что отец его пришел, а он поверил…
– Разве так шутят! – повысил голос дед. – Вожжей захотела!..
– Как дам сейчас! – Это уже Кольша вмешался.
И пошло, и поехало! Слезы, и крики, и суматоха, и, как не странно, мне вдруг полегчало: откатилась зыбкая волна душевного надрыва, погасла горечь утраченных желаний, проклюнулось легкое беспокойство: «Что же я натворил!.. Шум такой поднялся…»
Что-то теплое упало мне на щеку. Я почувствовал легкую ладонь матери и вовсе замер.
– Успокойся, сынок, успокойся. – Она стала гладить меня по голове, а с этим поглаживанием потянулась и моя душа на светлый настрой.
– Не расстраивайся, – это уже чужой голос раздался где-то рядом, – будешь еще встречать своего отца. Я-то на побывку прибыл, по ранению, – как бы оправдывался передо мной незнакомец. – В свою деревню тороплюсь, да ночь в дороге застала. Вот и пришлось у вас остановиться. Дедушка твой пригласил. – Голос его звучал тихо, душевно, с каким-то оттенком виноватости. Я уловил это и еще больше застыдился своей слабости. – Возьми-ка вот складничок трофейный, на память. Будешь им карандаши подтачивать…
Скосил я глаза, посмотрел в щелку между пальцами. Военный держал в руке маленький ножичек с перламутровой ручкой. От такого подарка разве откажешься. Да как его брать без одобрения взрослых. И дед будто понял мою нерешительность, подмигнул с хитрецой:
– Бери, бери, коль дают…
А потом был сытный завтрак, и я, хлебая наваристые щи, не поднимал глаз, стыдясь своей недавней слабости. Утешало одно: в кармане штанов лежал особый подарок.
* * *
Когда мы остались вдвоем, дед достал из-под матицы ружье, протер тряпкой и предложил:
– Давай прогуляемся до первых лесков, в ивняки, – авось кого-нибудь подстрелим. На улице хотя и поземка, но не холодно. Зверье в такую погоду поспать любит. Может, зайчишку вытропим или лиса…
О такой прогулке можно было лишь мечтать! Скорее за одежду и валенки!
Снег, выпавший ночью, сгонялся ветром в укромные места, и по затишью натянуло сыпучие наносы. Мягко и вязко. И все же, прячась за дедову спину, я бежал хотя и вприпрыжку, но с особой легкостью, поднятой раздумьем о предстоящей охоте, и не заметил, как впереди поднялись густые тальники с редкими деревьями. Дед с ходу остановился и начал разглядывать что-то на снегу.
– Вот и напетляла здесь длиннохвостая, – обрадовался он непонятно чему. – Хотя поземка и припудрила стежку, а все видно – недавний след.
В снегу просматривались неглубокие лунки.
– Может, это собаки набегали, – усомнился я в дедовом утверждении.
– Следок мельче собачьего и продолговатый. Лис это. – Дед пошел ходко, и я стал не успевать за ним. – Ты иди-ка вон туда, в кусты, – крикнул он. – Постой, погляди. Я скоро…
В ивняке было тише и теплее. Напористый ветер не пробивал густые куртины подлеска и не знобил.
То торопясь, то робко шагая, дед кружил по полю, топтался на месте, поглядывал на ивняки. Казалось, что он забыл про меня и будет выслеживать хитрого зверя слишком долго. Медленно, исподволь подступало желание побежать к нему, объявиться. Но дед, когда я вышел на край пахоты, вдруг призывно замахал варежкой.
Пришлось поторопиться. Несколько раз я спотыкался о стылые комья земли.
– Чего мчишься как угорелый, – пожурил дед. – В охоте, малый, спешка ни к чему – одни неприятности. Посмотри-ка, где плутовка укрылась! На самой опушке, в чаще. Сейчас я ее разбужу!..
В тальниках, забитых мягким снегом, я заметил какое-то рыжее пятно и понял, что это лисица. Сильный ветер с поземкой убаюкал ее, и не слышала она нас, и не видела…
– А как ты к ней подберешься, дедушка? – Хотя и новичком был я в поле, но все же понимал, что дикий зверь так просто охотника не подпустит.
– Сумею. Особый прием есть. – Он быстро снял валенок, другой. – Ты побудь здесь, подержи пимы, а когда покличу – принесешь их…
Я оторопел, глядя, как дед увязывает на ногах концы портянок.
– Ты ведь ноги обморозишь! У меня в валенках и то озябли.
Дед отмахнулся.
– Я скоро. В шерстяных носках и портянках ничего не будет, а зверь меня не услышит… – Он подобрал полы шубейки и смешно запрыгал по гребням пахоты.
Забылось про бьющий в лицо ветер, про холод. С трепетным волнением следил я за охотником.
Странно, но дед бежал не к затаившейся в чаще лисице, а куда-то в сторону. Мне показалось даже, что он не видел зверя. Но, проскакав до кромки кустов, дед сразу остановился и, вскинув ружье, пронзительно свистнул.
Лисица взметнулась пламенем над сугробом. Хлопнул выстрел. Я увидел, как зверь застрял в ветках и затих. Какие там валенки! Какие призывы! Понесся я в горячке к кустам напрямую и с размаху влетел в глубокую борозду – лицом в снег. Жгучая его россыпь плеснулась в глаза, уши, под шею, за воротник, немного остудив и отрезвив меня.
Пока я поднимался и стряхивал с себя весь этот холодный выплеск, дед успел надеть валенки и вернуться. Вместе мы и кинулись к подстреленной лисице. Небрежным пинком дед выбросил ее из тальника, и тут же зверюга махнула за куст, прямо на меня. А до страха ли, когда добыча уходит?! Словно подброшенный пружинами, сиганул я за ней и успел ухватить лисицу за хвост. Резко изогнувшись, она цапнула меня за локоть. На миг в руку вкогтилась боль, и я разжал пальцы. Роскошный хвост метнулся вверх, замелькал в кустах. Миг – и надо мной громыхнул выстрел. В ушах зазвенели колокольчики. Дед поднял меня, с тревогой заглянул в лицо, что-то спросил. Одно ухо отошло, уловило его слова:
– …Шибко прокусила?!
Как тут проявить слабость: охота – есть охота, и я покрутил головой, вытряхивая из рукавов снежные хлопья.
– Притворилась, что ли, бестия, или оглушил я ее вначале.
Лисица лежала неподалеку, уткнувшись мордой в снег, и радость притупила слабую боль в руке, тревогу о возможной промашке. Дед хлопнул меня по загорбку:
– Ну ничего, дома разберемся. Молодец: пострадал, зато, смотри, какую красавицу заполевали! Заготовитель за нее хорошо отоварит: керосину даст, ситцу, мелочевки всякой… А не придержи ты ее – я бы берданку перезарядить не успел – только б хвостатую и видели. – Он пошел к лисице и поднял ее. Огнем полыхнула над снегом рыжая шубка, и я окончательно успокоился, отдаваясь сладкому чувству удачи, доброй похвале деда, и даже потеплело вроде в поле, и день показался не таким уж хмурым и печальным.
6
Зима не торопилась с морозами, хотя и хмурилась, подбрасывала снегу, а силы не набирала. Дед даже сетовал, вздыхая: «Пора уж гусей забивать, да мясо по такой погоде не застынет. И корм на исходе…» А для нас, огольцов, мягкие дни – благодать: играй себе в войну на задворках или в сенниках, пока не стемнеет. Впереди еще столько нежданного-негаданного. Дух захватывало от разговора взрослых про беспредельность сибирской зимы, жгучести ее холодов, необъятности сугробов….
Раза два-три мы с Пашей были у Антохи Михеева, по уличному – Варькина, и всякий раз заставали его на печке, в игре с тараканами. Позже ему и кличку дали – Таракан. А тут пришли как раз в то время, когда вся его семья: бабка, мать, две сестренки – усаживалась за стол обедать. Нам бы уйти, чтоб хозяев не смущать и самим не стыдиться, да на улице ждать зябко, и пес у них, что зверюга – неймется ему и в холод из будки вылезать. Остановились мы у дверей, оперлись на косяки, а все Михеевы, не обращая на нас внимания, стали размеренно креститься, что-то нашептывая. Паша ткнул меня локтем под бок и кивнул: смотри мол, что они вытворяют.
Память моя держала нечто знакомое, тем не менее я удивился. У деда хотя и висели иконы, но он не молился и нас не заставлял. Как-то раз я его спросил: «Есть ли Бог?» Он уклончиво ответил: «Есть ли – нет, не нам судить. Ты слушать – слушай, глядеть – гляди, но сам никогда не касайся божьего дела. Ни плохими словами, ни худыми мыслями, ни плохим поступком…» Помня наказ, я не поддержал Пашину иронию, отвернулся, и расхотелось мне играть в войну, убивать кого-то – пусть нарочно – или самому быть убитому. Опять отец вспомнился, проводы… Толкнул я Пашу и торкнулся в двери. Он, чуть помедлив, – за мной.
– Видал, пережитки разводят! – Паша теснил меня плечом в быстром шаге, когда мы, под злобный рык неугомонного пса, выбежали на улицу. – Нам учительница в школе говорила, что никакого Бога нет. Вранье все, темнота…
Не нашелся я, что сказать другу, лишь промолчал.
– Ладно. В следующий раз лучше Мишаню выманем играть, – понял Паша мое молчание по-своему, как согласие, и побежал домой. А я в свою избу…
– Ты где полкаешь? – Шура тихонько толкнула меня в плечо, когда я стал раздеваться. – Твой отец фотокарточку прислал!
Я еще с порога заметил, что мать какая-то необычно веселая, и кинулся к ней.
– Где письмо, маманя?
– Да вон на полке. – Глаза ее светились радостью. – Поел бы вначале – потом глядел.
– Не-е, покажи!
Мать достала узенький конверт, вынула из него фотографию.
С дрожью в руках я поднял ее к глазам: группа военных у леса, а среди них, впереди – отец, показывает куда-то рукой. В военной одежде он здорово изменился, но я сразу узнал родное лицо. «Командир!.. – Гордость теплой волной тронула душу. – А как иначе – он же офицер?! Как говорила мамуля: воевал еще в какую-то “финскую”…»
Отец стоял в близком окружении слушавших его людей, с сумкой через плечо, с бумагой в руках – дед сказал, что это карта местности. «Видно, там, куда он показывал, фашисты и скоро будет бой…» Остро и как никогда свежо, насколько позволяли знания, представил я напряженность, даже трагизм той далекой, теперь уже свершившейся обстановки. Представил, что кто-то из отцовского окружения, наверное, погиб в том, неподдающемуся исчислению бою, а сколько их еще будет? И как уцелеть в них отцу, командиру?! Он же впереди!..» Зачастило сердечко, и лица людей на фотографии стали расплываться, и чтобы не показать жгучего волнения, я, молча, протянул ее матери.
– Давайте вечерять, – то ли понял мое состояние дед и решил отвлечь от горьких мыслей, то ли в самом деле время ужина подошло, но его слова спугнули сполохи воображения, унесшего меня в страшную виртуальность. Промелькнули там в какой-то зыби санитарные машины с красными крестами, люди в окровавленных бинтах и растворились… Тихо полез я на свое место за столом, в угол, как раз под икону. Рядом со мной уселся Кольша, напротив дед, а Шура сбоку, поближе к матери.
Свежие, упревшие в печке щи были особенно вкусными, с гусятиной – забил все же дед одного гусака на пробу. В общей большой чашке густо плавали мелкие куски мяса, и каждый из нас поддевал себе на ложку какой-нибудь кусочек, но с оглядкой на других, как бы по очереди, совестливо, чтобы не выловить лишнего, не показаться бесчестным, лишенным всякого уважения, хапугой. Порядок этот, установленный дедом, мы чтили беспрекословно и ели спокойно, в полной тишине – лишь ложки постукивали о края чашки, да смачное чмоканье кого-нибудь из нас, при обсасывании попавшейся косточки, раздавалось изредка, но и при этом дед хмурился, а иногда и одергивал чересчур увлекшегося этим удовольствием едока. И с первых же дней пребывания в деревне я четко усвоил, что за столом нельзя разговаривать, смеяться, кривить рожу, чваниться и вообще заниматься чем-либо другим, кроме еды…
Сосредоточив внимание на чашке с едой, чтобы не упустить своего момента и дотянуться до нее в очередной раз, я все же заметил, что Шура стала орудовать ложкой чаще обычного, нарушая общий ритм застолья. Вероятно, она куда-то торопилась, может к подругам, и хотела быстрее наесться.
– Опять частишь! – осадил ее дед, но ложкой не замахнулся, и никто не проронил ни слова по этому поводу – слова были лишними.
7
В пространстве, ограниченном дедовой избой, оградой и ближайшим размахом нашей улицы, я мало встречал чужих людей, и судил о многом по настроению и разговору своих близких. Но трепетное слово: «Победа!» – высветилось в моем сознании как бы само собой, из иных, близких по смыслу понятий, иного разговора.
Первым, с улыбкой во все лицо, появился Кольша. Кинув сумку на сундук, стоявший у двери и заменявший и бельевой шкаф, и скамейку для приходивших к нам людей, он оглоушил и меня, и деда:
– Дали наши фашистам по сопатке! Расколошматили их главную армию под Москвой! Километров сто драпали!..
Дед, свивавший какие-то веревки посредине кухни, сразу бросил свое занятие.
– Эт-то, малый, ты откуда узнал?!
– Так учителя в школе сказали, и директор с уроков всех отпустил…
– Чуяло мое сердце, что рано или поздно обрежут германцу постромки, завязнут они в наших землях, – дед стал отряхивать руки, стуча ладонью о ладонь. – А то ишь вздыбились со своим норовом. Мы хотя и недавно лапти скинули, а в штыковую сойдемся, помню, и самураи от нас пятками сверкали.
– Что за постромки? – Дедово сравнение было для меня непонятным.
– В упряжи, у лошадей, с их помощью бричка тянется. Видел, когда зерно возили.
Кольша улыбался, понимая мое незнание простых деревенских вещей.
– Пора бы уже всю упряжь изучить, – пожурил он, – не маленький. Летом сам запрягать лошадей будешь.
– Ну и буду…
– Надо бы про новость Прокопке сообщить – пусть душу облегчит – у него там сын Илюшка погиб…
– А ты пойдешь со мной на карусель? – Кольша торопился, переобуваясь.
Да разве от такого отказываются?! Но без разрешения матери я не мог уходить из дома, даже со старшими.
– Потом. Я маманю подожду.
И, словно по моему хотению, стукнула дверь в сенцах, и в следующий момент в избу вошла мать. Лицо румяное, а глаза красные.
– Мокроглазили, что ли? – утягивая полушубок опояской, нахмурился дед. – Людям радость, а вам все носы в платок.
– Так и плакали от радости. Вспоминали…
Не очень-то вникал я в разговор взрослых, дрожа от непонятного волнения, поднявшего меня на светлый настрой вместе со всеми. Разве объяснить глубину тех чувств, которые приходят сами собой в особых, неподвластных разуму случаях? С легкой веселостью крутился я возле родных мне людей, словно отключившись в некой нереальности от всех своих прежних желаний. Даже про карусель забылось. Слова, слова в зыбком трепете проникновенных звуков, солнечно ласковых, почти нереальных…
Снова послышалась возня в сенцах: кто-то обметал старым полынным веником обувь. Печально вздохнула тяжелая дверь в избу – холод метнулся над полом курчавым облачком, и на пороге появился Степа.
– Здорово были! – с улыбкой выкрикнул он. – Слышали?
– Здорово, – отозвался дед, – проходи, порадуемся вместе.
– Значит, слышали. Теперь попрут наши мухоморов! – Степа дернул меня за нос. – Ну что, накопил силенок, сидя на печке?
Я не ответил, спешно одеваясь и пытаясь понять его слова про мухоморов.
Дед, поглядывая на меня с веселым прищуром и теребя усы, пообещал:
– Зайду и я посмотреть на эту карусель, все одно по пути…
* * *
Снег светился, играя искрами, слепил глаза, отвыкшие в сумрачной избе от обвального света, и я щурился, стараясь спрятаться от этого блеска за деда, шагавшего широко и размеренно. Кольша со Степой убежали от нас, едва выскочив за ограду, и вскоре их не стало видно.
Широкая улица с набитыми тропками вдоль дворов и рыжеющей от санного наката дорогой была тиха и безлюдна во всем своем развороте, лишь с дальнего края доносились легкие всплески веселого гомона. Ежась с непривычки даже от небольшого мороза, я млел от оглушавших своей пронзительностью мыслей. То затаивая сердечный трепет в предчувствии близкого карусельного буйства, то уносясь с ним в безбрежность виртуальной игры, в грозовых всполохах которой ликовала не только наша деревня, но и оставшийся за горизонтом город, и недоступные воображению дали, и некая бездонная глубина.
Усилившиеся крики и хохот за поворотом узкого переулка спугнули радужный наплыв нереальности, и я заторопился, поняв, что эта веселая канитель связана с каруселью, и попытался обойти деда.
Он оглянулся с усмешкой:
– Не рвись. Без меня ты и к кругу не пробьешься, да еще и санками зашибить могут…
Орава ребят гуртилась в широком проеме между двумя дворами и трудно было разглядеть, что там происходит. Хохот, свист, крики, беготня… Лишь когда тропинка поднялась на бугор, оставшийся от развалин чьей-то усадьбы, я смог увидеть тележное колесо, вращающееся на низком столбе, и отходящую от нее длинную жердь с санками на конце. Колесо крутили за прикрепленный к нему толстый березовый обрубок несколько человек. Санки, с кем-то из смельчаков, носились по кругу с такой быстротой, что взгляд не успевал за ними. Белые фонтаны снега взметались из-под полозьев на крутых виражах, обсыпая толпу. Широко раскатанный желоб круга то вздымал санки на тот или иной гребень вала, почти опрокидывая их набок, то утягивал в узкую, будто очерченную огромным циркулем, выбоину с редкими полосками стылой земли. Буйно и знобко до замирания сердца.
– Ишь как бесится ребятня, – кивнул дед на широкий разворот карусельной площадки, будто поняв мои ощущения. – Так и покалечится недолго…
И словно подтверждая его слова, санки с лежащим на них человеком вдруг взыграли в каком-то невероятном подскоке и опрокинулись вверх полозьями. Ездок оказался под ними и еще несколько шагов скользил юзом по льдистому накату.
– Вот так! – Дед сплюнул. – Спустит последнюю одежонку чей-то оболтус, да еще и ребра себе посчитает.
Большого недовольства в его голосе я все же не уловил, и мы спустились с бугра. Ребятня перед дедом расступилась, открывая взгляду всю карусельную площадку. Как раз в это время на санки мостился Степа, упираясь ногами в головки полозьев. И я, опережая деда, подался к самому краю накатанного желоба.
Налегли пацаны на слегу-водило – подалось колесо во вращении вместе с качнувшейся жердью, дернулись санки и раскатились: быстрее и быстрее. Меня даже ветром обдало, когда они пронеслись мимо. Вроде и не быстро крутили ребята колесо, а санки за один оборот обегали несравнимый с его ободом круг, и не успел я проморгаться от первых крупиц снега, как в лицо мне ударило такой россыпью твердого наста, что пришлось зажмуриться. А когда я открыл глаза, Степа уже поднимался из сугроба, отряхиваясь под дикий хохот и крики толпы.
– Дайте-ка мне старые кости размять! – вдруг крикнул дед, шагнув на круг.
Я опешил и даже сказать ничего не успел, как он очутился возле санок.
– Не ушибем, дядя? – крикнул кто-то.
– А вы потише. – Дед, не торопясь, с оглядкой лег на санки животом и крепко ухватился за гнутые головки полозьев.
Затаилось что-то в груди – будто не дед, а я сам вжался в стылые вязки салазок, даже скулы свело от напряжения, а те, что крутили карусель, заорали, засвистели и дружно поперли на слегу плотной гурьбой. Санки резко рванулись за чуть прогнувшимся концом жердины и заметались по желобу, заскребли льдистый накат, цепляя грядками снег на обочине площадки. И все в стремительном вихре головокружительного разгона, на грани опасного переворота.
Эх, дед, дед! Не на коня уросливого вскочил ты, а на неуправляемые, без живинки, салазки, зашибиться с которых в этой бешеной круговерти дважды два. И зачем так рисковать? Да еще и старику… Остро метались мысли в тревоге за деда. Даже за санками не успевал я следить, потеряв счет описанных ими кругов. Уловил я лишь тот момент, когда они вдруг отлетели от жердины в крутом раскате и ринулись на бруствер круга, переворачиваясь. В густом облаке снега барахтался дед, пытаясь подняться, и жуть ознобила спину: вдруг расшибся. Но дед живо справился с глубоким сугробом, и я увидел его красное, в тонкой наледи, лицо с белыми, как у Деда Мороза бровями, озорные глаза, широко разинутый рот под обвисшими усами в мелких сосульках, и смех сотряс все мое ослабевшее тело. Кольша и Степа кинулись к нему, помогая подняться, и я смело пересек укатанную и утоптанную площадку, направляясь к ним.
– Вот тебе и дед! – послышался чей-то возглас. – Шесть кругов отмотал и удержался.
– Вязка оборвалась, а то бы мы его все равно сковырнули…
Легкость и светлая радость залили душу: вот какой у меня дед! Смелый и сильный!
– Чего полез-то? – неодобрительно выговаривал ему Кольша, отряхивая с полушубка густой налет снега.
– Так проверить дух свой захотелось, – как бы оправдывался дед. – Давно на таком пределе не был.
– А если бы поводок не оборвался?
– Оборвался – не оборвался, – дед поправил шапку, – не в этом дело. Главное – на сердце посветлело. – Он потуже затянул опояску. – Ладно, вы тут кувыркайтесь, а я пойду, куда наладился. Да смотри за Ленькой. Ему еще рано на карусель…
Дед ушел, а я еще долго бегал в толпе зевак следом за Кольшей и Степой, орал, смеялся, прыгал в восторге, даже покрутил колесо вместе со всеми, но на санки так и не сел, хотя Степа не раз подстрекал меня на это и Кольша помалкивал. Я не только помнил наказ деда, но и просто еще боялся.
8
Через несколько дней с северов потянуло таким лютым дыханием, что носа не высунуть. Даже дед чаще обычного забегал в избу погреться, развязывая опояску, стягивающую полушубок, и обрывая с усов наледь. А мне и вовсе было заказано выходить на улицу. Да и в избе к середине дня становилось прохладно.
Дед принес из сарая маленькую железную печурку на тоненьких ножках и с длинной круглой трубой, изогнутой коленом.
– Вот и душегрейка, – с деловой веселостью пояснил он. – Сейчас установим ее рядом с печкой и живи не тужи – от пары поленьев тепло будет.
– А куда дым пойдет? – недоумевал я.
– Туда же, в общую трубу. Видишь там дырку заткнутую кляпом? Вот и воткнем в нее колено от железной печки.
Из горницы выскочила Шура, недавно вернувшаяся из школы.
– Ломтиков напечем! – Она кинулась в закуток, задвигала там ведра.
Дед обтер тряпкой отпотевшую печурку и стал возиться с трубой.
– Клади-ка в нее полешка три-четыре, – обернулся он ко мне, – а я щепок натешу.
Охапка березовых дров всегда лежала в нише, у припечка, приготовленная для утренней топки. Выбрав поленья потоньше, я открыл маленькую дверцу печурки и положил их в пахнущее ржавым железом и золой нутро.
Дед сунул туда же наструганную щепу с лоскутком бересты. Огонек от спички весело побежал по закрутившейся в трубочку бересте, лизнул щепку. Дверца захлопнулась. В маленькие ее отверстия было видно, как сильнее и сильнее разгорается пламя. Потянуло от печурки теплом. Она мягко загудела.
– Порядок! – Дед приподнялся с колен. – Теперь не допустим, чтобы изба выстывала.
– А вот и ломтики! – Шура стала накладывать на покатые бока печурки картофельные пятачки. – Пусть поджарятся!
Вкусно запахло печеным картофелем. Даже есть захотелось.
– И скоро они будут готовы?
– Сейчас переверну и все: только следи – отставать начнут и отваливаться. Прозеваешь – на пол шлепнутся.
Дрогнул один из ломтиков, пополз вниз, и я успел его поймать.
Горячий, поджаристый, он захрустел на зубах тонкой корочкой. Вкуснятина!
Глава 5. Свои люди
1
Ближе к Новому году накатились такие непроглядные метели, что за окнами, с наледью по краям стекол, дальше палисадника ничего не было видно, и весь короткий день в избе стояли сумерки. Дед приходил с улицы облепленный снегом и подолгу курил, о чем-то думая с отрешенным взглядом, даже со мной не разговаривал. В такие минуты и мне становилось грустно. Мыслилось с каким-то невероятным перескоком. То в мареве воображения рисовался город в тесноте упрятанных за дощатыми заборами дворов; то черная громада паровоза с зелеными вагончиками и бегущие за ними люди; то дед, запряженный в плуг толстопузым недругом; то война, которую я не видел даже в кино, но как-то представлял по разговорам взрослых…
Чаще всего лежал я тогда на полатях, снова и снова разглядывая изученные до каждой трещинки потолочные доски, и думал, думал… Но были и другие минуты, когда дед вдруг оживлялся и начинал снова что-нибудь рассказывать по моей просьбе, и нас обоих уносило в те далекие времена, когда деревня только-только расстраивалась, когда прибывали и прибывали люди из далеких российских краев в эти полудикие сибирские просторы, когда было другое время, другая эпоха… И хотя не все понималось в той сложной жизненной путанице, но я не перебивал увлекавшегося деда, притаившись и боясь спугнуть то сладостное состояние, в которое уносило меня светлое воображение…
– Я, ведь малый Ленька, – как-то начал дед, – в твои годы уже боронил. Когда дед сгинул, отец не стал ходить на заработки, а взял у нашего помещика положенный надел и десятин семь-восемь издольщины на половину урожая. Мне, как самому старшему в семье, приходилось свою землю обрабатывать, а тятька на аренде трудился.
И хотя наша пашня была шириной всего-то в триста с добавкой лаптей и длиной чуть больше, походи-ка по пахоте босым. К концу работы ноги не гнулись, круги шли перед глазами, а попробуй – не сделай вовремя: лошадь-то на оговоренный срок давали. Вот и борони на себе, если не успеешь за отведенный день управиться.
Года два-три мы кое-как перебивались: и себе на зиму, хотя и не досыта, хлебца хватало, и с барином за издольщину рассчитывались, а потом недород. Что делать? Как шесть душ кормить и отдавать издольщину? Да и привлечь могли за недоимку. Тут многие засобирались в Сибирь переселяться, на вольные земли. Ну и отец тем же загорелся. Кое-как с долгом справились, отдав последнее и заложив паевую землю. Бумаги нужные к весне выхлопотали и в дорогу. Телег пятнадцать сельчан набралось. А чего было жалеть? Курную землянку да пару десятин малоурожайной земли? Даже родни близкой не оставалось. В тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году это было – запомнил потому, что мне тогда десять лет минуло. До сих пор снятся наши мытарства. Чего только не пришлось пережить на постоялых дворах! От вшивости и голода до болезней – сестренка двух лет умерла в дороге, а другая – постарше – простудившись, оглохла. И грабили нас злые люди, последний скарб отбирали, лошадей, и драки были лихие, только артелью и выстаивали. Приходилось и подаянье просить. Худо-бедно, к концу лета прибыли скопом до Омска, а оттуда нас направили в Алтайский округ. Еще чуть ли не месяц добирались до отведенного участка. А там, куда ни кинь взгляд, – степь и степь, ни деревца, ни кустика, одни травы в ковылях колышутся и до волостного села верст двадцать. Не приглянулось многим тогда то место, но время поджимало: пока тепло, надо было как-то обустраиваться. Стали землянки рыть, дерном обкладывать. Сохранившимся лошадям загон из камышей сделали. И всё сообща, миром: от малого до старого были в посильной работе. В одиночку, и даже семьёй, тех дел не переделаешь. Успели к осенней распутице на толику денежного пособия закупить кое-каких съестных припасов и притаились в ожидании зимы. А она пришла неожиданно, почти на месяц раньше расейской. Да и закутила-замутила, где кого захватила – там и живи: белого света не видно было дня три. Кое-как отлежались в своих берлогах. А потом мороз скрутил степь, да такой, что до ветру не выйти…
2
Заголубело небо, осветилось ярким солнышком, и зачастили морозы. Окна покрылись замысловатыми рисунками, похожими на тропические дебри, которые я видел на картинках в одном из учебников. Такие правдивые, словно сотворил их неведомый художник. Спросил я об этом у деда, но и он не смог объяснить, как они получаются, кто, тесня льдистые кристаллики к кристаллику, выкраивал реальную вязь кружевных узоров…
В самый последний день года помягчило, обжигающий яркостью окоём затянуло мороком, снежная пыльца обсыпала дворовые постройки, и они побелели, словно облитые молоком…
Маманя вынимала из печки большие пироги с курятиной. Запах теплого печеного хлеба смешанный с тонким мясным ароматом плыл по избе, выжимая слюнки.
– Один с собой возьмем, – улыбчиво говорила она, – а другой оставим для дома.
По случаю Нового года они с дедом собирались куда-то в гости, а нас с Шурой оставляли домовничать, одних – Кольша, управившись со скотиной, убежал на свои игры.
– Щи я с краю поставила, ужинайте, – наказывала матушка, – да не балуйтесь. Ты, Шура, за домохозяйку, гляди тут…
Оставшись вдвоем, мы с Шурой долго смотрели в темнеющие окна: она в одно, я – в другое, пока темные силуэты деда и матери не растаяли в легких дворовых тенях.
– А вон кто-то побежал белый, с собачку, – вдруг начала дрожащим голосом Шура.
– Где? – Я притаил дыхание.
– Вон, вон, на дорожке от пустыря.
Между разворотом дальних дворов окраины и нашей улицей тянулся широкий прогал в буграх и яминах, и я, не моргая, стал вглядываться в белесую пелену снега, облитую тонкими переливами света, и там, у одного из бугров вроде бы действительно кто-то стал шевелиться.
– Кто это? – едва разжал я сведенные судорогой челюсти.
– Откуда я знаю, – еще тише, с придыханием, отозвалась Шура. – Ты бабку Варькину знаешь?
Память высветила полутемную кухню в избе Антохи Михеева, древнюю старуху у окна, теребящую шерсть, тараканов…
– Говорят, она колдунья, – не дождавшись моего ответа, добавила Шура.
– Скажешь. Мы с Пашей видели, как она крестится.
– Это для отвода глаз. Кольша прошлым летом, когда пошел на охоту в самую рань, заметил ее бегающую за огородами в ночной рубашке.
– Ну и что? – пытался я прогнать душевный холодок. – Может, она от чего-нибудь лечилась.
– Как же. – Шура тряхнула кудлатой головой. – А в свинью зачем превращаться?
Это было уже выше всякой игры, воспринимаемой подсознательно, выше потаенного страха, за пределами привычных и непривычных понятий, несуразицей. Но я не успел разгадать в ее словах ни шутки, ни серьезности, как Шура отпрянула от окна и крикнула:
– Скорее выворачивай фитиль! Кто-то ходит в горнице!
Не веря Шуре, я все же кинулся выполнять ее просьбу, выкручивая фитилек лампы на самую малость и с опаской поглядывая на темнеющий дверной проем горницы.
– Выдумываешь все ты – никого там нет. – Голос мой все же дрожал.
– А ты зайди, зайди! – подначивала Шура.
– Ну и зайду! – цепенея, не чувствуя подошвами пола, я сделал шага два и заглянул в горницу: кровать деда, моя, матери… – Ну и никого!
Шура остановилась за спиной.
– А ты знаешь, что колдуны превращаются? Их можно и не увидеть.
– Как это превращаются?
– В зверей всяких. Степин дед рассказывал.
– Он просто шутил.
– С чего бы это? Давай вот поедим, и я расскажу тебе, как нечистого увидеть!
До этого заявления мне казалось, что Шура все же играет, дурачится, а тут, даже при всех сомнениях, жутковато стало.
– Какой-нибудь обман устроишь? – высказал я своё предположение.
– Зачем? Все по-настоящему будет. – Она прошла в куток, вытянула из-за печки ухват и открыла заслонку. На тонких и худых руках Шуры вспухли жиденькие мышцы, четче обозначились синие ниточки вен. Она изогнулась в спине, вытягивая чугун. И тут раздался стук в двери. Мы переглянулись. Я заметил, как у Шуры дрогнули губы.
– Кто-то идет? – прошептала она, нагоняя робости. – Я же сенцы на щеколду закрыла?!
Стук повторился, глухой, настойчивый. Шура сиганула в горницу, а я остался один на один с тенями, пустотой, напряженной жутью…
Опять кто-то заколотил в массивные двери, и, пересиливая сухость во рту, я все же шевельнул языком:
– Кто там?
– Открывай! – прохрипели за дверью, явно коверкая голос. Было в нем что-то неуловимо знакомое, и я чуточку осмелел:
– А ты кто?
– Хозяин! – послышалось, совсем узнаваемо, со смешком.
– Паша?! – Я скинул с петли крючок и распахнул двери.
В сенях стоял Паша и улыбался.
– Что, сдрейфили? – Он ввалился в избу, стряхнул с голых ног валенки. – Я умышленно попугать вас решил.
Из горницы вынырнула Шура. Глаза ее сияли наивной голубизной.
– А как ты сенцы открыл? Я же щеколду задвигала?
– Палочкой-выручалочкой. – Паша щурился. Пухлые его губы растягивались в усмешке.
– Ты играть, что ли? – Я тоже не скрывал радости.
– Мамка ушла Новый год встречать, а мне одному скукота.
– Рассказывай, – Шура усмехнулась. – Поди, тоже домовых боишься?
– Не-е. – Паша отмахнулся. – У нас хозяин добрый.
– Какой еще хозяин? – не понял я друга: он же жил вдвоем с матерью.
– Который в каждом доме имеется, невидимый.
– Что я тебе говорила! – вмешалась в разговор Шура, радуясь.
– Это из сказки, что ли? – недоумевал я, заглядывая Паше в глаза. Но лицо его было серьезным.
– Не знаю, – Паша почему-то смутился, – все так говорят, и маманя тоже.
В окна гляделась густая темнота, а в пустой избе копилась неосознанная тревога, и наш разговор никак не вязался со всем привычным, устоявшимся, понятным.
– Я ему только что про нечистого рассказывала. – Шура потянула на стол чашки и ложки. – Он не верит.
– Ну и правильно, – вдруг поддержал меня Паша, усмехаясь. – Я тоже в них не верю.
– Смеяться каждый может. – Шура оглянулась на темную запечную щель. – А вот хочешь – я тебе покажу этих нечистых?
– Где? – Глаза у Паши все еще искрились веселостью. – Что-нибудь сворожишь?
Шура распахнула двери в горницу – свет от керосиновой лампы упал на чистую беленую стенку.
– Вот на этой стене. – Она говорила полушепотом, с оглядкой и выражением легкого испуга в глазах, отчего у меня холодело в груди.
– Трусишь? – играла Шура на Пашином самолюбии. – А еще храбрым считаешься.
– Боялся я твоих нечистых! – хорохорился Паша. – Давай, показывай!
– Неси шарфик. – Шура подтолкнула меня к вешалке.
Ее затея была непонятной, тревожной, но я вынул из рукава тужурки свой узенький шарф и подал Шуре.
– Садись на кровать! – приказала она Паше, толкнув в плечо. – Обмотай шарфик один раз вокруг шеи и медленно тяни за концы в разные стороны. На стенку гляди, не мигая, в одно место, там и увидишь нечисть.
– Так и задушиться можно, – усомнился Паша в ее загадке.
– Не-е. Сам себя никогда не задушишь, – заверила Шура. – Многие смотрели, и я смотрела. Только не пугайся бесов, они всякие.
– Да ладно, – Паша отмахнулся, – все равно это понарошке. – Он обмотал шею шарфом, оставив справа и слева концы, и стал потихоньку затягивать петлю.
Я замер, наблюдая. Темнота комнаты. Острая тишина. Белая, как бумага, стенка. Тени. Жгучий холодок в груди.
Лицо у Паши медленно наливалось краснотой. Глаза вначале расширились, потом выпучились, по краям белков заблестели слезы.
Я сунулся к нему, но Шура молча придержала меня за руку. В этой позе мы и затаились, тяжелея во взаимной тревоге.
А Паша стал бледнеть и заваливаться набок. Неосмысленный его взгляд уперся куда-то в потолок, и, раскинув руки, Паша упал на кровать без движения.
Я оторопел в жарком испуге: не умер ли? А Шура подскочила к Паше и стала похлопывать его по щекам.
– Очнись, очнись, чего ты! – чуть ли не со слезами лепетала она. – Говорила же, что испугаешься…
«Неужели вправду Паша кого-то увидел и с ним что-то случилось?! – Сердечко мое притихло в жгучей остроте испуга и таинственной неизвестности. – Как же так? Мы ведь никого не заметили на этой самой стене и ничего не слышали? Может, и вправду существует нечто невидимое?!» Мысли путались в тупике безответности, погружая меня в такое противоречие чувств, что происходившее воспринималось каким-то особым, необъяснимым, образом: полуявью, полусном…
Паша открыл глаза, зашевелился. Крупные слезинки скатились по его ожившему лицу, дрогнули губы.
– Лихотит, – вяло произнес он и стал двигать голову к краю кровати.
Шура резво кинулась в кухню за помойной шайкой.
Тревога, тонко дрожащая в моей душе, тут же исчезла. Лишь мысли о той, неопознанной, тайне усилились до напряженного томления…
Пашу рвало недолго. Он встал и молча прошел в кухню.
– Полей, я умоюсь! – приказным тоном обратился он к Шуре.
Та с поспешной готовностью зачерпнула ковшик воды из ведра – под лавкой у нас всегда стояло два-три ведра колодезной воды для домашних нужд.
Паша умывался медленно, со взрослой степенностью, и так же медленно, старательно утирался чистым рушником. Взгляд его скользил мимо нас, будто он сквозь стены видел недоступные нам дали или еще что-то неведомое. Глаза грустные, посуровевшие.
– Ну что видел? – наконец осмелилась спросить Шура.
– Дура ты, – с грубоватой серьезностью заявил Паша, – так и окочуриться можно.
– Живой же. – Шура отвернулась, явно обидевшись.
– Ну скажи, Паша! – не поборол и я мучительного любопытства.
– А ты сам погляди, – испытывал моё нетерпение Паша, – и спрашивать не будешь.
Вспомнив его с выпученными глазами, бледного и вялого, я внутренне вздрогнул.
– Да, чтоб блевать.
– Видел ерунду всякую, – смягчился Паша, поняв мое состояние. – Сначала огонь мелькал, потом разные краски пошли: зеленые, синие, черные – вроде, мохнатое что-то полезло, и я потерял сознание. Только, думаю, что все это оттого, что я перехватил себе дыхалку. Опасно это – умереть можно. – Паша потянулся к вешалке. – Пойдем лучше прогуляемся, пусть Шура со своими нечистыми остается.
* * *
Удивительно звонкой и прозрачной была ночь! Небо глубоко светилось каким-то внутренним светом, в котором вместе с изморозью блесток, растворяющихся в туманной бездонности, иллюзорно плавали искрящиеся брызги вселенского мироздания, глядя на которые ощущаешь тонкий трепет души, несущий ни то неосознанную тревогу, ни то неосознанную благодать. Ни потому ли не сразу отрывается взгляд от захватывающей дух бескрайности? Что там? Где? Как?..
Чернели в белизне сугробов уснувшие дворы. Тонула улица в серой неясности ближних далей, за которыми поднимался размытый звездными отсветами окоем, и широко разворачивалось небо, словно всасывающее всю деревню вместе с округой.
Глушь и безлюдье. Лишь в некоторых домах слабо светились окна, да тихо поскрипывал снег под нашими быстрыми шагами.
Паша заявил, что знает, где отмечают Новый год наши матери, и торопился в тот двор, хотя я и не разделял его намерения, понимая, что вряд ли стоит там появляться без должного разрешения. Но Паша едва ли не бежал, и в этой гонке я никак не мог уловить момент, чтобы высказать ему свои сомнения. Так и мельтешили мы тенями вдоль забитых снегом палисадников, словно играли в догонялки, пока не услышали песню, пробивающуюся через двойные рамы окон.
– От дают! – как выдохнул Паша, останавливаясь. – Я знаю, где у них двери, пошли!
Из глубины двора вдруг выкатилась собака, и я замер, опасаясь её.
– Не бойся, – спокойно заявил все и всех знающий в деревне друг. – Это Пиратка – он не кусачий.
Пес и в самом деле сунулся мне мордой между ног и, вздыбившись, бесцеремонно лизнул лицо. Отстраняясь от него и пятясь за Пашей, я едва не споткнулся о низкое крылечко. Плотная дверь избавила меня от собачьего знакомства, и мы очутились в темных сенях с запахами соленых грибов и квашеной капусты. Паша долго шарил рукой по невидимым дверям, отыскивая скобу. В распахнутый проем рванулся теплый воздух, сдобренный табачным дымом, и ошеломляющая, бьющая в уши до дребезжания перепонок песня.
С затаенным сердцем – не попадет ли – ввалился я вслед за Пашей в избу и на миг прищурился от обилия света.
– Во! Мужики подвалили! – раздался чей-то женский возглас, и песня стала стихать.
– Так это ж наши мужики! – узнал я родной голос, и в тесном застолье разглядел нарядную раскрасневшуюся мать, а рядом с ней и тетку Таю, и деда…
И все, кто сидел к нам спиной, стали оглядываться. Послышались громкие вопросы: кто, да что, да как? И про меня, и про моего отца… И глаза, глаза. Их веселое любопытство кинуло меня в острую неловкость, захотелось рвануть назад, хотя ни одного недоброго взгляда я не уловил.
– Проходите, сынки, проходите! – Полная, улыбчивая старушка будто выкатилась из-за стола, затормошила одной рукой Пашу, другой – меня, расстегивая пуговицы на верхней одежде. – У нас дюже тесновато, но на печке место найдется…
Забеспокоились на своих местах и наши матери, вставая со скамейки.
– А вы сидите, сидите, – махнула им рукой хлопотливая старушка, – не обижу ваших деток…
Теплые её руки касались то моего лица, то рук, и от этих ласковых прикосновений натекала в душу тихая благодать. Вот ведь как получалось: я тревожился, что нам, по меньшей мере, как-то выскажут недовольство за столь внезапное появление, а по большей – спровадят домой, а тут такой радушный прием. И сердечко постукивало в сладком блаженстве, и мысли светлые умиротворяли.
– Лезте на печь, она у нас широкая, – все топталась возле нас добрая старушка, – а я вам туда гостинцев подам…
Высокая, побеленная печь, с приступкой и печурками, задернутая поверху цветастой занавеской, была рядом, и Паша первый шагнул к ней, я – за ним.
– Вот так-то, – глядя, как мы юркнули под занавеску, одобрительно произнесла старушка и двинулась в куток.
Умостившись поближе к трубе, я стал поверх занавески оглядывать сидящих за столами людей, и невольно отметил, что застолье больше пестрит женскими нарядами. Мужиков – реденько, да и то больше пожилых и старых. Зароились мысли, отыскивая в моем еще не окрепшем разуме должный ответ на столь явное несоответствие – в городе, насколько я помнил праздничные торжества, мужчин и женщин почти всегда бывало поровну?..
– Нате-ка вам по гостинчику, – отмахнула своим грудным голосом мои налетные раздумья сердобольная старушка, протягивая под занавеску два широких ломтя хлеба, сдобренных сверху увесистыми кусками холодца. – Потом ватрушечек с клубникой и творогом принесу…
Паша, взяв свой ломоть, многозначительно взглянул на меня, словно догадывался о тех моих сомнениях, которые я не успел ему высказать во время нашего стремительного хода по улице – мол, видишь, как здорово все получилось…
До чего же вкусными были эти немудреные бутерброды! А ватрушки!..
Уплетали мы их с Пашей до самозабвения, даже перестав на какое-то время воспринимать происходившее, и лишь восторженно поглядывали друг на друга.
Но кто-то снова завел песню. Её тут же подхватило несколько голосов. И снова поднялась она с трепетной силой до густого надрыва, забивая все тесное пространство уютной избы и выкатывая в ней каждый потайной уголок и каждую щелочку в поисках выхода. В трех керосиновых лампах, висевших над столами, заколебались язычки пламени, а у меня вновь завибрировали ушные перепонки. Причем, когда я открывал рот, откусывая очередной кусок ватрушки, песня будто глохла, а когда закрывал, жуя, – наоборот, усиливалась, как бы отдаваясь от бревенчатых стен и мокрых, в потных подтеках, окошек. Такое сильное и ладное пение я еще не слышал – в городе так не пели, и напрягался, пытаясь уловить и слова песни, и мотив.
– От дают! – вновь произнес Паша свои привычные слова, выражающие восторг.
А я почему-то подумал: справляют на войне Новый год или нет? Представил отца, всегда поющего в застольях, и решил, что справляют: война – войной, а жизнь не остановишь – радость все равно должна быть у человека…
3
За темными окнами медленно оседали лохмотья густого снега. Они падали на гребень высокого сугроба, наметенного у палисадника, и долго там пушились, наслаиваясь друг на друга.
Сидя в горнице у окошка, я наблюдал за тем, как они, широко лепясь в слоистые кудели, поднимались к самому верху забора, неумолимо пряча в своей холодной рыхлости острые зубцы штакетин.
В горнице топилась печка. Бойкие языки пламени метались за чугунной дверкой, кидая на пол яркую пляску отсветов. В поддувале мягко гудел перегретый воздух, а там, за двойными стеклами рам, вытанцовывал свое обильный снегопад.
Тихо было в избе, благостно. Кольша и Шура куда-то ушли, дед или еще убирался во дворе со скотиной, или тоже ускользнул к своему другу Прокопу Семенишину, а матушка хлопотала в кухне, у печи, что-то варила или стряпала. Да вкусное такое! Запахи, натекающие в горницу, дразнили ноздри, тоненько щекотали что-то внутри, тянули слюнку. Два раза я выскакивал в освещенное керосиновой лампой пространство, вскидывал вопрошающий взгляд на матушку, но она, как всегда, ласково улыбаясь, только покачивала головой – печка еще не выдала ожидаемое чудо еду.
Меня уже подмывало в третий раз унять свое нетерпение, как в сенях кто-то гулко затопал. Я едва успел откачнуться от окна, как дверь в избу широко распахнулась и из темного её проема вынырнул вначале Антоха Михеев, а за ним и Мишка Кособоков. Радость полыхнула окатной волной. Ко мне! Но ребята, не проронив не слова и затворив двери, сдернули шапки и стали у порога плечом к плечу. Устремив взгляд куда-то под потолок, они вдруг нескладно затянули:
- Рождество, Твое, Христе Боже наш,
- Воссияй свет разума.
- Тебе кланяемся, Солнцу правды,
- Тебя видим с высоты Востока.
- Господи, слава Тебе!
И опять ни слова, ни взгляда. Будто я и не стоял на пороге горницы. Их взоры были устремлены на матушку.
«Чего это они? – метались тревожные мысли. – Никогда не были, а тут пришли и песню какую-то непонятную ни с того ни с сего пропели? – Я – без внимания?»
А матушка между тем засуетилась возле печки, достала из её жаркого зева широкий железный лист с пирогами, взяла два и, перекидывая их с руки на руку, сунула ребятам в подставленные варежки. Так же молча, торопясь, скрылись мои приятели за дверью. Только Антоха, не оборачиваясь, махнул через плечо свободной от пирога рукой.
Все еще не одумавшись от непонятного поведения ребят, их странной песни, я повернулся к матери:
– А мне!
– Пусть немного остынут. Им-то я в варежки подала, а ты обожжешься.
Один за другим она сложила румяные пироги в большую чашку, ранжируя в особый цветочный узор, и стала через гусиное крыло окроплять их колодезной водой, отчего сладкий запах теплого хлеба еще сильнее поплыл по кухне.
– Чего это они вдруг пришли ни как все и запели?
– Так завтра Рождество Иисуса Христа – Бога нашего. Вот и славят его пением, по дворам ходят, подачи собирают. Свят вечер сегодня, если по вере, то до первой звезды есть нельзя…
Разве ж мог я не расспросить мать поподробнее обо всем услышанном. Вот и повелся наш разговор. Да увлеченно, с доверием, теплотой. Тогда, пожалуй, впервые закрепились у меня понятия о Боге, о православии, религии. Но не до конца. Нашу душевную беседу прервал новый топот торопливых шагов. Вновь распахнулись двери. Впереди я увидел мальчишку в надвинутой на глаза большой шапке, и с трудом узнал в нем Петушку, с которым играл в войну летом, а за ним – двух незнакомых девчонок, закутанных в облепленные снегом шали.
- Я, маленький хлопчик,
- Принес Богу снопчик, —
тоненько затянул Петушка, выпучивая глаза. —
- Христа величаю,
- Всех вас поздравляю.
– Пирогов да каши ложку – нам подайте на кормежку, – в голос завершили его надрывное пение девчонки.
И снова матушка уделила всем по пирогу.
«Так и нам ничего не достанется», – проклюнулись у меня тревожные мысли, и я сказал об этом матери.
– В печке еще на одном листе пироги доходят, – она остро взглянула на меня, – а если и их разберут, то порадуемся – значит, Господь на наш дом обратил особое внимание. Посидим и без пирогов в этот Святой вечер – зато весь год будет у нас счастливым, с достатком. – Она взъерошила мне волосы. – И запомни, сынок, Христос учит нас делиться с людьми последним – тогда и благодать его прибудет…
Странные её утверждения западали в душу жгучими каплями, запоминались. Божья ли воля на то была или необычное состояние, в которое я погрузился, слушая мать, но та простая христианская философия стала моим незыблемым ориентиром по жизни.
4
В святки устоялись обвальные морозы. Чаще обычного стал приходить со двора дед. В заиндевелом на спине полушубке, с белесыми от инея бровями, с сосульками на усах. Сутулился, простирая руки к железной печурке, в которой с утра и до вечера горели березовые чурбаки. От его толстых, в голицах, варежек, кинутых под накаленное днище печурки, поднимался витиеватый парок. А с пышных усов начинали скатываться мелкие бисеринки растаявших льдинок. Все это я замечал в тонкостях, свесив голову с полатей, где я, коротая время до вечера, до того времени, когда наша семья собиралась полностью и можно было услышать житейские новости, наловчился рисовать на узеньких пробелах в старых Шуриных тетрадках разные разности, но больше всего – город. Он все же тянул меня к светлым воспоминаниям. Пусть обрывочным, налетным, но живым и ярким, и как-то теплело в груди, когда я выводил тупым огрызком карандаша то рядки домов, то высокую, в несколько этажей, школу, то соседскую девчонку у раскидистого клена, с которой играл в прятки подле нашего казенного дома, то вокзал с паровозом… Но нет-нет да и перекидывало меня воображение к новым, полученным уже в деревне, впечатлениям: к лесу, озеру, птицам…
– Вот те и студа крещенская навалилась, – не поворачивая головы, делился своими выводами дед. – Двух замерзших на твердь воробьев подобрал в дровнике – пали ночью из-под застрехи. Даже бойких сорок не слышно. Скотина к колодцу не идет, горбится… И твое, Ленька, место теперь на печке. Грей бока да думки гоняй по своим малым меркам, прикидывай: кто да что? А коль заковыка какая появится – спрашивай. Мне вот теперь тоже долго не выдюжить во дворе. Тоже бы на печку пора – погреть старые кости, да хозяйство запускать не резон. Оно хотя и небольшое, но держит нас в достатке – пусть малом, но и пока еще не в голоде. Война-то только разворачивается, а что там будет дальше – одному богу известно. Немец силен и хитер, как тот волк: исподтишка налетел – и его тем же манером бить надо. А мы ведь бесхитростные, доверчивые. Одолеть-то его одолеем, но какой ценой?..
Негромкий его разговор, ни то с самим собой, в успокоение, ни то со мной, – побуждал на новые размышления, иные образы. И я опасался задавать деду возникавшие вопросы, чтобы не спугнуть его душевный настрой. Знал: хватится он еще не совсем согревшийся, что пробыл в избе долго, и снова заторопится во двор. А как бы здорово было, если бы дед был со мной рядом, на печке! Представив его: в кальсонах и ночной рубашке, длинного и угловатого, пропахшего табаком – рядом, я поежился. Но как благостно было жаться к его мягкому и крутому боку, вдыхать тот родной, уже привычный, запах, слушать рокот ласкового голоса и с замиранием сердца запоминать то, о чем рассказывалось! И мое сочувствие к продрогшему на морозе деду оказалось сильнее желания узнать что-то новое, и я, глядя, как разглаживаются от тепла легкие морщинки на его лице, предложил:
– Ты бы, дедушка, все же маленько погрелся на печке, а то еще простудишься.
Он обернулся, благодарно щурясь:
– Разве же это край? Вот раньше были морозы – воробьи на лету падали. Выпугнешь их нечаянно из закутка, а они до изгороди не долетают и в снег. Сейчас вот думаю, как наши школьники будут домой возвращаться – тут целых две версты ходу, а ветерок студеный навстречу. Пробьет одежонку. Да и щеки выбелит…
Я сразу же подумал о матери. Не усидела она дома, вызвалась помогать веять колхозное зерно.
Дед словно уловил мои мысли:
– Мать твоя в зернохранилище работает. Там хотя и не отапливается, а все одно в затишье, теплее. Продрогнет, конечно, за день, хотя он и короткий, но сейчас время такое, тяжкое, поблажки не жди. Мыканье только-только начинается…
«А как же там, на фронте? – стукнула тревожная мысль. – Папка ведь в окопах? Застынет, как те воробушки…» И зябко вдруг стало мне на теплых полатях и безрадостно.
5
– И нужно вам носы морозить, – не довольствовала матушка, утягивая поверх воротника пальтишки мой шарф. – Сидели бы дома, да картофельные ломтики пекли на железной печурке…
Напросился я в зернохранилище – поглядеть, как веют зерно, а Шура меня поддержала – ей тоже захотелось там побывать: вдруг самой, рано или поздно, придется тянуть ту работу.
Ярко искрились звезды – даже самые маленькие, которые и разглядеть-то сразу трудно среди беспредельной их россыпи. А те, что в слезинку, мерцали синеватым отсветом. От разницы их верхового сияния создавалась иллюзия глубокого пространства, и вроде бы освещалась земля. Видно было: и заснеженные дворы, и темный лес, и матово-белое поле, и даже слегка желтеющую дорогу с натерянным сеном и стылым конским пометом. Истаяла недавняя стужа, давившая окрестности больше недели, и мороз, как-то лениво и мягко, хватал за лицо.
Мать шла впереди. Мы с Шурой – рядом, сталкивая друг друга на край дороги. Я нет-нет да и задирал голову, чтобы лишний раз утонуть взглядом в бездонности звездного неба. И тогда казалось, что меня отрывают от земли какие-то силы и тянут, тянут в ту бездну, и я вроде бы лечу в вечно сияющее пространство, в её захватывающий дух бесконечность.
– А вон ведьма! – спугнула Шура мои виртуальные ощущения и перебежала на другую сторону дороги.
И я, упав взглядом на землю, обернулся. Из-за плетня чьей-то ограды высовывалось нечто всклокоченное, как бы вздыбленное, и сразу зазнобило спину. Но в тот же миг я разглядел развороченную верхушку соломенной кучи.
– Солома! – выкрикнул я.
– Она превратилась в солому!
Я понимал, что Шура выдумывает, специально меня пугает, но все равно несколько раз оглянулся, пока мы не завернули в проулок – все казалось, что за нами кто-то идет.
За изгородью открылись длинные строения колхозного двора, знакомые мне с лета, с того времени, когда мы возили с дедом зерно на ток. Темной горой надвинулось зернохранилище. Его широкие двустворчатые ворота были плотно прикрыты, но сквозь невидимые щели все равно приникал слабый свет. Мать без труда нашла небольшую дверцу в одной из створок и открыла её. Мы очутились в высоком и длинном помещении, освещенном несколькими фонарями, подвешенными на опорных столбах. Высоко, под самой крышей, стянутой перекинутыми так и сяк балками, порхали потревоженные воробьи.
Во всю длину просторного зернохранилища тянулись закрома, доверху засыпанные зерном. В средине проезда стояли две веялки. Их крутили женщины за длинные рукоятки. По две на каждую. Рядом с ними – мужчина и женщина ссыпали провеянное зерно в мешок.
Свет и бойкое чириканье воробьев остановили меня у входа, а Шура с матерью пошли к веяльщикам.
– Иди-ка сюда, – позвал мужчина, насыпавший зерно в мешок.
Я невольно подчинился его строгому зову.
– Ты зачем сюда пришел?
– Поглядеть, – заметив веселые искорки в глазах незнакомца, осмелел я.
– Ну, гляди, гляди, только вот подержи-ка мешок, – это уже попросила женщина, работавшая плицей, и я невольно ухватился за грубую мешковину.
Холодное зерно приятно отдавало особым запахом, напоминавшим о свежем хлебе, летних грозах, солнечно мягкой осени…
– Крепче зажимай края, – тянул в улыбке обветренные губы мужчина, – а то сыпанем мы с тобой пшеницу на пол, а она семенная, провеянная.
Мягко шумели барабаны веялок. Чирикали вверху воробьи. Качались по стенам тени. Все это воспринималось с особым настроем, чувством сопричастности к какому-то важному делу, вершимому взрослыми, к той ответственности, что увязывалась с их работой, и я старался удерживать наполнявшийся текучим зерном мешок, хотя мне очень и очень хотелось побегать по зернохранилищу, оглядеть все его потайные уголки. И мужчина будто понял меня:
– Ну, молодец! Помог. Теперь воробьев погоняй. Да на вороха пшеницы не лезь. Нельзя зерно марать – оно семенное.
Но я, прежде всего, рванул к веяльщикам. Одну из них уже крутила матушка с какой-то женщиной. А за длинную рукоять барабана другой веялки уцепилась Шура.
Внутри веялки что-то мелькало, хлопало. Из бокового отверстия било тугой струей воздуха.
– Можно мне попробовать? – спросил я, затаивая дыхание.
– Тяжело это, сынок, – отозвалась матушка.
Я видел, как она напрягалась, качаясь вперед-назад по ходу вращения рукоятки, но все же еще раз как бы выдохнул свою просьбу, пересиливая чириканье воробьев.
– Пусть испытает, – поддержала меня её напарница, – убедится, каково нам часами здесь руки трудить.
Матушка отстранилась, и я, едва обхватив толстую рукоятку, поднатужился, надувая щеки, и с помощью тетки едва-едва прокрутил барабан один раз, да и то моих стараний в том было не уловить. Всю силу вложила в этот оборот незнакомая тетка.
– Теперь понял, какая у нас работка? – снова улыбнулась она.
Я кивнул, отстраняясь.
«Как же матушка здесь всю ночь будет? – озаботился я, направляясь вдоль прохода. – Сколько сил надо, чтобы такое выдержать?! Еще и холодно… И уже с некоторой тревогой оглядывал я высокие, почти под потолок, вороха пшеницы, понимая, что их все надо провеивать. Понимал и как-то не верил, что такое возможно. – Столько работы! Столько трудов!..» И в силу детского восприятия действительности, не понимания происходивших событий, не мог тогда даже подумать, что грядет время, когда эту работу будут считать легкой, устанавливать на неё очередность, чтобы хоть как-то передохнуть от истинно тяжелого труда. Да вряд ли и многие взрослые предполагали такое развитие событий.
6
Холод давил такой, что воздух будто застыл в неподвижности, и серенькие, под воробьиные перья, облака как бы прилипли к блеклому небу. И уже маловатое мне пальто, и меховая безрукавка под ним, сшитая дедом с началом ухватистых морозов, не держали тепло. Но в ограниченном пространстве дома, когда взгляд, скользя по знакомым до каждой извилины предметам, упирается в стены или потолок, тянет к новизне, на простор – не усидеть на печи или полатях, даже в такой промороженный день.
За дровником высовывал верхушку объемистый сугроб. Вскарабкавшись на плетень, я перепрыгнул на его гребень и невольно прижмурился от ударившего в глаза солнца. Деревня, заваленная снегом, курилась высокими дымами из низких труб, пестрела долгими разводами огородных прясел, вязью дворовых плетней, блеклыми стеклами окон. На улице – никого. Будто все вымерли. Только дымы, витиевато катившиеся к небу, и оживляли пространство. А дальше лес, желтизна озерных камышей, степной разворот. Но как не захватывает дух от распахнувшихся далей, долго на сугробе не выдержать. А тут еще какая-то тетка вдруг вывернулась из ближнего переулка и прямиком к нам, в ограду. Её торопливость меня насторожила. Заспешил и я в избу и сорвался с гребня сугроба в провал между плетнем и снежным наметом. Ушибиться не ушибся, но испугался. Хорошо, что заметил небольшой просвет на завороте плетня. Да и снег не был рыхлым, слежался, а то бы засыпало меня полностью в том узком пространстве, и ищи-свищи. Пришлось руками пробивать выход наружу через высветленную щель.
Замерзший, с россыпью снега во всех складках одежды, в рукавах и за воротником, ввалился я в избу.
На лавке, неподвижно, уронив руки по бокам, сидела мать. Лицо у неё было заплаканным. На столе я заметил знакомый уже треугольник фронтового письма, и меня встряхнуло от пронзительного испуга. Не в силах разжать сведенные нервным шоком, еще не согревшиеся от холода губы, спросить что-нибудь, я кинулся к матери, едва передвинув одеревеневшие ноги.
– Ранили папку, сынок, – прошептала она, поняв моё состояние. – Пишет – не тяжело, в руку. Но разве он сознается. – Теплая капля упала мне на шею. Как раз туда, где стал таять набившийся за ворот снег. Матушка вдруг задрожала всем телом, заплакав, и я уткнулся лицом в её колени, не в состоянии произнести каких-либо утешительных слов. Да и не знал я их.
7
Весть о том, что к нам – в Луговое привезут эвакуированных из Ленинграда, облетела деревню. Растревожила и без того неуемную тревожность, постоянно державшую людей в напряжении. Еще бы, это были семьи из того далекого города, за который воевали многие наши отцы и братья. Люди, познавшие войну доподлинно, воочию, хватившие горя и мучений больше нашего. Да никто и не ожидал тех забот – свалилось, как снег на голову, а как принимать, как выкручиваться, если свои семьи выживали только-только? И хотя тяжко было за ленинградцев, а все одно: таи не таи – своя рубашка ближе к телу. Тем более в такое непредсказуемое время. И не многие проявили сердечный порыв на приют эвакуированных. Большей частью власти склоняли сельчан на нужное согласие, исходя из их житейских возможностей. Теснили тех, у кого изба обширнее и семья поменьше. А к таким, как мы, и не подступались – нас самих было пятеро.
Дня два-три только и разговоров было, что о новом событии. Даже дед, обычно более-менее спокойный, и тот заговаривал с волнением в голосе про эвакуированных:
– Это же надо, куда со своих мест тронулись! Им-то Сибирь краем света кажется, а едут. И то сказать: от смерти и на край света побежишь…
И я как-то двояко переживал то, о чем слышал. Тревожно было и за ленинградцев, и за отца. Ему-то в окопах тяжелее и гибельнее, чем простым людям в доме. И крутились в моем еще незрелом воображении жуткие образы…
Когда из района позвонили, что обоз направляется к нам, едва ли не вся деревня собралась возле сельсовета. А уж без детворы – какая встреча! Те ребята, которые были постарше нас, ушли к самой околице, к роще, чтобы первыми увидеть обоз. А мы, мелкотня, терлись возле взрослых: бегали, играли в ляпы, просто толкались, чтобы согреться, прыгали через «козла», которым чаще всех становился Мишка Косолапов, и поглядывали на едва приметную среди снегов дорогу.
Солнечно было и морозно. Медленно текло время. От частого и долгого всматривания в даль прошибала слеза.
– Обманули, поди, – переживал Паша, – в другую деревню направили, а мы тут мерзнем.
Я немного завидовал ему – к ним, по словам матери, должны были кого-то определить на постой. А это любопытно.
– Скоро ли? – пытал и я деда.
– Скоро, скоро, побегай. – Дед тянул самокрутку и перекидывался редкими словами со стариком Лукашовым.
Белее и белее становился иней на деревьях, и солнце четче высвечивало крыши домов, а ожидаемого обоза все не было. Терпение у всех подходило к конечной черте. Кое-кто потянулся к домам – погреться. Иные стали гуртиться в затишье.
– Едут! Едут! – наконец, донеслось издалека.
От тесовых заплотов и дворовых построек, из оград хлынули к дороге озябшие люди, смешались в общую кучу с подбежавшими от рощи ребятами.
Из-за леса, плотно обсыпанного куржаком, показались подводы: одна, вторая, третья… Даже издали было заметно, как заиндевели лошади, как курится парок у опущенных в натуге морд. Минута – и вот они рядом.
Толпа раздвоилась вдоль дороги, растеклась, попритихла. На санях впритык сидели закутанные платками, накидками, какими-то одеялами неподвижные люди.
– Свят, свят! – раздался чей-то испуганный голос. – Замерзли на нет!
Я ощутил, как дробно толкается в груди сердечко, как исподволь наплывает в душу тихая жалость…
А люди ринулись к подводам, заслоняя обоз.
– Эту я возьму! Эту ко мне! – закричала какая-то женщина.
Возгласы, рокот множества голосов – все смешалось в хаотичном движении. Мы с дедом и стариком Лукашовым отошли в сторону от шумевшей толпы.
– Да, – с каким-то сожалением произнес старик Лукашов, – веселого мало – хватим горячего до слез и мы с ними, и они с нами…
Из общего навала показалась упряжка, и я увидел Пашу, примостившегося на задке саней, а рядом с ним закутанного в шаль мальчишку, взгляд которого кольнул в сердце – такие большие и печальные были у него глаза. Он притулился спиной к женщине с открытым и красивым лицом, вероятно, к матери.
Паша, улыбаясь, что-то говорил, клонясь к мальчику, но тот и не шевелился. Будто промерз напрочь.
Некая ревность скребанула душу: «Из-за этого мальчика еще и дружить со мной перестанет…» Но Паша повернулся ко мне и заговорщицки подмигнул, смешно покривив губы.
– Повез твой друг к себе постояльцев, – услышал я голос деда, – так что в вашем полку прибыло.
И тут вторая подвода отделилась от толпы. В передке саней восседал Толяня Разуваев и с гордостью поглядывал по сторонам. За ним, уперев колени в грядку розвальней, полулежал худощавый парень в шинели, плотно обвязанный шарфом. На вид ему было лет пятнадцать. А сзади, прижавшись друг к другу, ютились две женщины – старая и молодая.
– Парня вон с матерью и бабкой взял, – проговорил подошедший к деду с Лукашовым прихрамывающий старик. – Верный помощник будет по хозяйству.
– Ты бы, Григорий, все выгадывал – из-под бабьей юбки выглядывал, – проворчал Лукашов. – Какое теперь хозяйство? Война всех за глотку схватила. Таким подросткам придется дневать и ночевать на колхозной работе, а может, еще и воевать.
– Типун тебе на язык! – осерчал подошедший. – По-твоему, война еще годы продлится?
– Ни по-моему, ни по-твоему, а по жизни. А жизнь вот она – перед нами, в этих санях. И читай хотя бы нашу районную «Трибуну коммунизма». Даже из неё ясно, что на фронте и немец, и мы захлебываемся кровью. И вряд ли скоро это кончится – слишком далеко он залез к нам. Назад шагать – не перешагать. Да еще и упираться будет до последнего солдата.
Я вдруг представил безбрежное пространство, усеянное побитыми людьми, и одинокого солдата, понуро шагающего к горизонту.
– Всем нам придется хребет ломать на работе, – встрял в разговор и дед. – Будет война или нет – хлебушко всегда нужен, а мужиков раз-два и обчелся.
Люди вокруг все еще теснились отдельными кучками, в суете, в выкриках, а я слушал разговор стариков и дрожал от мелкого озноба, трясшего меня, то ли от долгого пребывания на морозе, то ли от накатившихся волнений.
8
День, по словам деда, прибавился на воробьиный поскок. Но, когда я проснулся, заря уже освещала пустырь, отделяющий нашу окраину от соседней улицы. Даже тропинка через него, протоптанная по целинному снегу, четко просматривалась едва ли не до самых дальних дворов.
На ней, допивая стакан молока, я и заметил Пашу: ага, идет все-таки, как всегда, – и заторопился, едва не поперхнувшись.
– Ты куда это спешишь? – заметила матушка. – Так и подавиться можно.
– Гулять с Пашей.
– Смотри. Сегодня ветрено. Шарф аккуратно завязывай. – Она затевала стирку. По случаю приезда эвакуированных, всем женщинам дали выходной.
– Да ну его – давит. – После того случая, когда Паша затянул себе шею, мне стало казаться, что шарф захлестывает горло сам собой, и старался лишь застегивать до верху пуговицы пальто.
– Простудишься…
Но я уже выскочил в сени и чуть не столкнулся с Пашей.
– Куда разогнался? – Он удержал меня за рукав. – Успеем наиграться. Спать вот охота – всю ночь слушал наших квартирантов.
Улица светилась в низком заревом отблеске. Дворы выплескивали тугие сквозняки. Мы направились к горке, накатанной рядом с каруселью еще до нового года.
– Ну и что это за люди? – потянул я начатый Пашей разговор.
– Обыкновенные. Славка мне ровесник, а мать его какая-то лаборантка.
– Ну и что интересного он тебе рассказал?
– А, – Паша махнул рукой, – про то, как бомбы падают и про голодуху.
Шагая по тихой улице, не верилось в бомбы. Даже вообразить то, что пересказывал Паша, мне не удавалось. Светлая улица и ветреность как бы стирали все мои попытки представить бомбежку, рушившиеся дома, бегущих людей, уловить виртуальный вой сирены.
– Парнишка ничего себе, – продолжал Паша, – только слабый.
– Откуда ты знаешь, что слабый? – как-то невольно спросил я: мысли все же тянули меня к страдальцу городу, за который стоял в окопах отец.
– А испытал. Мы с ним на печке спать легли, поборолись в лежачую. Помял я его немножко.
– Обидится. Он же с дороги.
– Не-е, я не сильно, чтоб только не задавался. Он ведь ни нам чета – много чего знает. У них там книг читай – не перечитаешь, а у нас что? Пусто, одни учебники и то не у всех.
В чем, в чем, а в этом Паша был прав. Даже я, ни так давно освоивший быстрое чтение, уже страдал от нехватки книг. Но как было не позавидовать другу? Приезжие были из Ленинграда, а там воевал мой отец, и потому выходило, что Славик вроде бы мне ближе, чем Паше.
– Повозились мы, поговорили тихонько, – не останавливался Паша, рассказывая, – потом вижу: Славик заснул – намаялся с дороги. И я нацелился вздремнуть. Только слышу – мамка с тетей Ритой, так зовут Славкину мать, заговорили громче. То все шепотом, да шепотом, а тут вслух. Видно, решили, что мы спим. Они чего-то выпили с вечера – мамка принесла. Громче да громче, и все про то, как люди гибнут. Про адскую дорогу к нам. Горе мыканье. И вдруг заплакали обе. Да в обнимку. Вижу – Славик проснулся, но глаза не открывает. Ямки вокруг них, в серых кружках, слезы залили.
Снега. Тишь. Безлюдье. Темная кайма щетинистого леса вдали. И мысли, мысли.
– Представляешь! Вот идут там по улице люди, – нагнетал блокадную картину Паша, – и раз – снаряд: кого в клочья, кого просто наповал…
Чего, чего, а этого я не мог себе представить. Даже бы там, в нашей тихой избе, в темноте полатей. А уж на улице – тем более.
– А почему ты его с собой не взял? – попытался я отвлечь Пашу от жуткого рассказа.
– А им в сельсовет надо. Документы какие-то оформлять.
– И надолго они к нам?
– Пока война не кончится. Или до того, как их город освободят, а когда то будет – никто не знает…
Разговоры, разговоры. Тревожные, не детские. А сколько их еще ждало нас – не знали ни мы, ни взрослые.
9
К концу февраля небо подернулось легкой синью, оплыл в золотистых разводьях окоём, лесные дали отуманились сиреневым налетом. Помягчили морозы. Из глубины недоступных взгляду просторов потянуло тонкой волглостью, окрестности налились неясной дрожью.
Налазившись по закоулкам двора и надышавшись опьяняющего воздуха, я увял и, едва раздевшись, полез на полати.
– Квашню не опрокинь, – заметив мою усталость, предостерегла матушка.
Широкая квашня с тестом, накрытая фуфайкой, стояла на печке и, влезая на полати, её можно было задеть ногами.
– Не опрокину. – Я упал на постель и почти в то же мгновенье стал тонуть в наплывающей неге. Сразу или несколько позже мне приснился сверкающий огнями город, березовый парк, и отец на лыжах – бодрый, веселый. Он все намеривался скатиться с высокой и крутой горки, но не решался. Я мысленно подбадривал его, переживал, стоя на другой стороне глубокого оврага, а время текло, текло…
Разбудил меня какой-то стук. Открыв глаза, я увидел смутно белеющий потолок, слабые блики огня на нем и большие движущиеся тени. Подтянувшись на руках за матицу, я заглянул вниз. Над столом висела керосиновая лампа, широко освещая кухню. Возле стола, на лавке, стояла квашня с тестом. Матушка обеими руками вынимала из неё увесистые шматки и шлепала на стол, присыпанный тонким слоем муки. Три выкатанных булки уже теснились на железном листе…
Дед сидел на ящике возле дверей и чинил валенок. Сквозь дырки, проколотые шилом в заплате и подошве, он просовывал навстречу друг другу иглы с длинными нитями дратвы и с силой затягивал стежок. Строчка у него получалась аккуратная и ровная, не хуже, чем на машинке.
Заметив меня, дед улыбнулся, разогнав тонкие морщины у глаз.
– Разопрел в тепле. Даже волосы на затылке слиплись. Слезай – ужинать пора.
Я медлил, умилённо разглядывая кухню и горницу за приоткрытой дверью. Тихо, спокойно. Ну у кого еще есть такая теплая и благостная изба, такой дед?..
Пока я держал душу в сладостном томлении, гнал мимолетные мысли, в сенях кто-то затопал, забурчал непонятным образом. Дверь распахнулась, и в избу вкатился некий невидаль, большой и мохнатый, за ним – еще один: то ли люди, то ли непонятные существа. Они запрыгали по кухне на четвереньках, странно порыкивая и похрюкивая.
Вмиг зазнобило спину, осеклось дыхание, но я быстро распознал в устрашающих шерстяных шкурах вывернутые поверх мехом шубы, а затем и уловил в странных звуках знакомые нотки. Соскользнуть с полатей моментное дело. С замиранием сердца схватил я за спину одного из пришельцев, и он притих, затаился, Послышался приглушенный смех.
– Кольша! – Ну конечно же только он мог так тихо и заразительно смеяться!
Со второго я сорвал мохнатую шапку и увидел улыбающееся лицо Степы Лукашова.
– Ну молодец, Ленька! – Он хлопнул меня по плечу. – Не сдрейфил, не то что другие твои ровесники.
– А что это вы вырядились? – Я ничего не понимал.
– Так Масленка, в потехи играем, блины подбираем. Хочется и на горе покататься, и в блинах поваляться. Ничего не боимся, кроме горькой редьки да тертой репки… – И откуда он только знал всякие прибаутки. В книжках такое не встречалось.
Их веселый задор тронул и меня, и дедушка с матерью заулыбались. Светло и благостно. Эх, жить бы вот так да жить! В добре и радости. Да еще и с отцом…
10
Я проснулся от какого-то шума и приглушенного разговора и, отбросив Кольшину руку, лежавшую на моём животе, потянул голову к краю полатей. В кухне теплилась маленькая коптилка, едва освещая стол и скамейки. Старинный дедов сундук, стоявший в углу, у входа, был развернут и отделял небольшой куток.
Хлопнула дверь и снизу потянуло холодком. Я увидел деда и матушку, вносящих в избу маленького теленка, и вскочил – разве ж можно упускать такой занимательный момент! Миг – и я соскользнул с полатей на пол.
– Разбудили-таки малого, – щурясь в доброй улыбке, обернулся ко мне дед. – Вот видишь, не ошибся тогда Афанасий – прибавка в нашем хозяйстве. – Он не скрывал радости, а я вспомнил того странного незнакомца, что приходил к нам по осени и лазил под коровой.
Мокрый, со слипшейся коричневатой шерсткой и большими глазами, теленок даже не сопротивлялся, когда его укладывали в прихожем углу на подстилку из сена. Руки мои как бы самопроизвольно потянулись к белой звездочке на его лбу, и теленок вдруг лизнул мне пальцы. Отдернув руку, я спросил матушку:
– Он что, будет у нас жить?
– Да нет, с недельку, пока не окрепнет и морозы не смягчатся, побудет в избе, а там – в закутку, – объяснила мне матушка.
– Тебе и следить за ним, – добавил дед. – Как пустит струйку – так и беги подставлять старый горшок. Ну а что другое, пусть на сено кладет – вынесем…
– Теперь и молочко появится. Хотя и не сразу. – Матушка продолжала обтирать теленка сухой тряпкой. – Попоим его первое время молозивом, да и достаточно.
Обрадовал меня новый жилец: еще бы – живое существо, а то все один да один, когда все заняты. Теперь и поговорить, в случае чего, есть с кем.
– А как мы его назовем? – загорелся я этой мыслью.
Матушка обернулась:
– Март начался. Вот и пусть будет Марток.
* * *
Когда я проснулся во второй раз, в окна буйствовало солнце, наполняя избу ярким светом. Взгляд сразу же скользнул в угол, на теленка. Он обсох, и шерстка на голове у него закурчавилась, глаза затеплились живинкой, округлые уши – задвигались. Такого удивительного животного я еще не видел, и снова полез к его лбу.
– А вот за лоб его трогать не стоит. – Это дед, услышав мои шаги, вышел из горницы. – Так он привыкнет бодаться и, когда вырастет, тебя же или еще кого может покатать по земле. Тащи вон горшок – похоже, сейчас струя будет…
Так и потекли дни моего догляда за теленком, а как-то, оставшись один, я начал говорить с ним:
– Вот скоро наступит весна – появится зеленая травка, и ты со своей мамой будешь пастись в стаде. И хорошо, что у нас есть мамы. А вот с папами мы разлучены: твой – неизвестно где, и тебе все равно, есть он или нет, а мой на войне, где каждый день погибают люди, и я постоянно за него переживаю. Как же мне быть без отца, если что случиться? Не знаешь? Вот и я не знаю и боюсь, а жить надо…
Эти мои душевные излияния перед теленком были не один раз. А он лишь шевелил ушами да задумчиво глядел в ближнее окно.
11
– Малость помягчело, – послышался дедов голос, – будем у колодца поить скотину. Я лед из колоды выдолбил.
Выглянув из-под занавески, я увидел его сидящего на корточках возле железной печки.
– А ну поднимайтесь, лежебоки, – заметив меня, скомандовал он. – Поможете со скотиной убираться. Ишь, разоспались! Кольша аж храпит. Буди его.
Раза два, когда отпускали морозы, я помогал деду подносить сено в закутку, подгонял к колодцу корову, сгребал в кучки навоз, и мне приятно было сознавать свою сопричастность к нужному делу, пусть малую, но в благо, и некая гордость грела душу, да еще и ощущение взросления добавляло света в мои старания.
Окна еще темнели, пятнались бликами от лампы, но уже угадывалась за ними серая рыхлость близкого утра.
Кольша проснулся сразу, как только я его толкнул в бок.
– Ты чего? – угрюмо проворчал он.
– А ничего, – ответил за меня дед. – Подъем.
– Хоть во время каникул дайте мне послабление.
– Я сейчас и Шуру подниму, – поддержала деда матушка. – Нечего лень разводить в доме…
Утираясь полотенцем, я заглянул в жерло печи. Там густым костром полыхали березовые поленья. Огонь бился ослепительной конской гривой, плясал бликами на прокопченном своде припечка, ярясь до белизны, до рези в глазах. Мягкое тепло растекалось по кухне.
Дед привстал.
– Я пошел открывать закуток. – Он нахлобучил овчинную шапку и вышел.
И мы с Кольшей одевались недолго.
Шагнув на крыльцо, я увидел алый росплеск по окоёму, похожий на раскрытое крыло гигантской птицы, готовый вылететь из-за леса. Перья этого крыла широко прочерчивали небо веером, и дух захватывало от такого размаха, сочности красок, налетного сравнения.
Закуток темнел провалом дверей. Внутри его кто-то вздыхал, пыхтел.
– Не вляпайся, – предостерег дед. – Тут коровьих лепешек за ночь по всему настилу. Тяни вон навозные санки.
– Я пойду сено дергать, – проговорил за спиной Кольша.
Санки были тяжелые – даже пустые я еле осиливал.
Дед стал накидывать на них сырой навоз, а я взял лопату и принялся подбирать то, что сваливалось в снег.
Пока мы возились в закутке, небо побелело. Высветился двор, дали за огородом, щетинистый лес.
– Поехали! – Дед ухватился за веревку, а я уперся сзади в черенок воткнутых в навоз вил.
Медленно, переваливаясь с полоза на полоз, сани мяли рыхлый снег.
– Картошки в радость, – опрокидывая возок, выдохнул дед.
– Как это? – не понял я.
– Навоз смешается с землей и будет удобрение. – Дед был доволен моим старанием, посильной помощью. – Теперь скотину будем поить…
Корова с неохотой выходила из теплого стойла, горбатилась, гнула рогатую голову вниз.
– Пошла, пошла! – покрикивал дед, а я сзади помахивал прутом и тоже кричал, подражая ему.
В глубине колодца мрак и толстые наледи сырого льда. Опуская ведро, журавль со скрипом клюнул вниз и, чуть помедлив, выпрямился. Искристо чистая вода полилась в колоду.
Дед, заметив, что я зябну, махнул рукавицей.
– Беги в избу, а то лытки застудишь. Я тут один управлюсь.
Не особенно мне хотелось уходить с улицы, но и ослушаться деда я не мог.
– Замерз, работничек, – Шура помогла мне раздеться. Она раскраснелась у печки, помогая матери сажать хлеб.
– Лезь на полати, – добавила матушка, – погрейся, – придут мужики – будем завтракать.
Ну как не придремнуть на привычном месте? Да еще и после трудов праведных. Я и придремнул. И не мало.
– Вставай, сынок, – долетел откуда-то сверху матушкин голос, – уже все в сборе.
И я очнулся.
Из окон плавился яркий солнечный свет, печатая на полу крестовины рам. Густо пахло пекущимся хлебом, напревшими щами, и вмиг захотелось есть.
Кольша уже сидел за столом. Рядом с ним – Шура, на моем обычном месте.
– Двинься в свой угол, – попросил я её.
Ну и вкусные же щи варила матушка! Объеденье, а не щи! Хлебал бы да хлебал их с ненасытностью.
– Видишь, проработался, – одобрил моё усердие дед, – ложка так и мелькает. Трудовой кусок завсегда слаще. Но ты оставь место и для жареной картошки, а то не войдет…
Смешно – не войдет. Но я, на всякий случай, послушал его, облизал ложку и положил на стол.
– Там теперь, на пустыре, карусель крутят. – Позволил себе дед разговаривать за столом. – С горки катаются. Так что валяйте туда, резвитесь, пока еще снег не набрал волглости. Еще неделька – и поплывет всё…
Вместо чая – молоко. И свобода!
Мать принялась вытаскивать из печки румяные хлеба и класть на расстеленную вдоль лавки скатерку. Тугой дух пошел по кухне. До того сладкий, что и после сытного завтрака захотелось отщипнуть от какой-нибудь булки хотя бы маленькую корочку. Да разве можно? Вдруг все захотят по корочке?..
Обрызгав булки водой через гусиное крыло, мать накрыла их рушниками.
Широко разбежались красные петушки по краям рушников, застыв друг против друга в боевой стойке. Их когда-то, еще в девичестве, долгими зимними вечерами вышивала мать сама, а отец любил рушниками вытираться. «Чем он теперь вытирается?..» – мелькнула искорка и погасла.
Распахнулась дверь, и через порог прыгнул Паша, за ним незнакомый мальчишка. Я узнал его – видел на санях, когда встречали эвакуированных. Он поздоровался тоненьким голоском и остановился у дверей.
А Паша поманил меня рукой – позвал играть. Один валенок у него щерился протертым носком, из дырки торчала тряпка.
– Э, да ты пальцы поморозишь, – заметил прореху и дед. – А ну давай скидывай обувку – чинить будем!
Паша замялся.
– Скидывай, скидывай, – стоял на своем дед, – погрей ноги. Успеете на свою карусель.
– Так и простудиться недолго, – поддержала его и матушка, а Шура, отвернувшись, прыснула в ладошку.
Не без усилия стянул Паша рваный валенок и попытался прикрыть голую ногу штаниной.
– Ну вот, – дед, заметив его красные пальцы, покачал головой, – уже успел хватануть горячего с обратной стороны, а еще упирался. – Он достал с полки ящичек с шильцами, иголками, дратвой и принялся чинить Пашин валенок.
– А ты чего незнакомца не приглашаешь садиться? – Матушка поглядела на меня строго, но я не успел ничего сказать, как снова скрипнула дверь в сенях – кто-то стал обметать валенки старым полынным веником, всегда валявшимся у входа. Изба как бы вздохнула, и на пороге появился Степа.
– Здорово были! – бодро выкрикнул он. – А где Кольша?
– Здоров, здоров, – в тон ему проговорил дед. – Проходи, садись. Кольша вон в горнице чепуриться.
Тут же появился Кольша. Чуб набок, гладко зачесан, примочен водой.
– Идем? – спросил его Степа.
Кольша кивнул.
– Нас бы подождали, – предложил я.
– Пусть идут, – распорядился дед. – Они вам не ровня – у них свои дела, у вас – свои. Успеете надурачиться…
И дурачились, и играли. Шла война, но было и наше детство.
Глава 6. Весенняя круговерть
1
С каждым днем всё больше и больше чувствовалось неотвратимое дыхание близкой весны. Дали заволакивало дымкой, на припеках истончался в льдистую россыпь верхний покров снега, из-под крыш торчали острые зубья хрустально чистых сосулек.
В один из выходных дней дед засобирался на рыбалку. На мою любознательность, о какой рыбалке идет речь, – лишь улыбался.
– Увидишь – поймешь, – и только.
Пока Кольша доставал с чердака сачок, мы все трое: я, Паша и Славик, стояли у ворот, щурясь от солнечного света и поглядывая на темный лаз чердака.
Подошел дед с пешней – острой железной пикой, насаженной на деревянный черенок с веревочкой на конце, тоже поглядел вверх.
– Что он долго возится.
И Кольша появился в чердачном проёме.
– Держите! – Он бросил сачок в размягченный солнцем сугроб.
Паша оказался проворнее нас и первым ухватил его.
– Пошли, – позвал дед, – Кольша догонит. Не забудь мешок и лопату! – крикнул он ему и зашагал в переулок между нашим двором и двором Лукашовых.
– Что-то Степу не видно, – глядя на огороженный высоким плетнем двор, с сожалением произнес Паша.
– Они уже там, на озере, – дед обернулся, – раньше нас убежали с тем эвакуированным парнем.
– Это Ивлев, – отозвался долго молчавший Славик, – они вместе с нами ехали.
Зажелтели вдали камыши, подернутые легкой дымкой. С тех пор как мы опрокинулись на лодке, проверяя мордушки, я на озере не был. Без взрослых туда не сунешься – опасно, а деду и Кольше все недосуг.
Поле блестело, отражая ярый свет, и наши тени, уродливо длинные, гася этот блеск, покачивались впереди. Снег, покрытый тонкой корочкой, с тихим звоном разлетался под валенками, обнажая сыпучее нутро, и походил на зернистую соль. И чем ближе к озеру – тем глубже и глубже он становился.
Дед махнул рукой:
– Стоп! Дальше надо идти гуськом, а то задохнемся.
Кольше ломанулся первым, за ним – дед, потом – Паша и я, задним оказался Славик.
Идти сразу стало легче. Снег как бы перекатывался под ногами, мягко пружинил. За нами оставалась широкая, сереющая на фоне целины борозда.
Было не холодно, а убродистый снег и вовсе нас распарил. Так и подмывало сбросить шапку и тужурку, но дед разрешил нам только расстегнуться.
– Никогда не думал, что так тяжело ходить по снегу, – тихо донес мне Славик, когда я оглянулся. Лицо его все время было каким-то невеселым, а тут порозовело.
Потянулись камыши, становясь выше и выше. На снегу запестрели мелкие цепочки каких-то следов.
– Мыши набегали, – пояснил Паша, оглянувшись, – а там вон – колонок.
Дед остановился.
– Перекур. – Он полез за кисетом и обернулся к Кольше: – Давай, малый, здесь попробуем. По этому берегу ложбинка идет. Карась в ней может залегать на зимовку. Плес теперь отрезало льдом от озера – вода в заморе. Рыба – тоже.
– Чего тут пробовать! – Кольше не понравилось выбранное место. – Все на большом плесе ловят.
– Пусть. На большом и воды больше. Рыбе вольготнее.
– А тут грязь будет.
– Грязь – ни грязь, а убедиться надо.
– Ничего себе – долби метровый лед впустую. – Кольша снял шапку. От его влажных волос шел пар.
– Расчищай снег вон под тем кустиком. – Дед показал на редкие пучки какой-то травы. – И шапку надень – простынешь.
Кольша нехотя двинулся к указанному месту. И мы за ним. На льду снега было много меньше, чем в поле, и Кольша быстро расчистил площадку с кухонный стол.
Подошел дед с пешней. Надев ремешок черенка на запястье правой руки, он с силой ударил по льду, расколов его прозрачное зеркало. Лед гукнул, затрещал, погнав эти звуки к самым камышам. Ямку, в которое ушло все остриё пешни, дед стал расширять, откалывая новые и новые куски льда по всей её окружности. Когда она стала величиной с большое ведро, он убрал пешню.
– Расчищай! – кивнул он Кольше.
И тот выгреб лопатой колотый лед.
Дед снова взялся за пешню.
Мы стояли вокруг, внутренне вздрагивая при каждом ударе и оберегая глаза от разлетавшихся во все стороны льдинок.
А лунка расширялась все больше и больше.
– Ну-ка, малый, теперь ты попарь спину. – Дед распрямился, краснея лицом, и передал пешню Кольше. – Задел сделан – так и держи. – Он обернулся к нам: – Не озябли?
– Не-е! – Я так мотнул головой, что шапка съехала набок. – А скоро вода будет?
– На прикидку – через пару вершков…
Кольша долбил резвее деда, но лед теперь не брызгал осколками – они все оставались в широкой, похожей на кадушку, лунке.
Несколько раз дед останавливал ретивого работника и выгребал лопатой ледяное крошево.
Удары пешни стали отдаваться от крутых стенок лунки, теснясь в её полуметровой глубине.
– Осторожней! – предостерег дед. – Звук пошел утробный – вода близко. Проткнешь в одном месте дыру – и загубишь дело. Вода не даст вскрыть лунку полностью.
Кольша промолчал, но стал обстукивать лед легкими и частыми ударами.
– Эх, дай-ка мне! – не выдержал дед напряжения. Он опустился на колени и, низко склонившись, стал осматривать дно лунки. Что там можно было увидеть – непонятно. Только он вдруг со всего размаха вогнал пешню в оставшийся на дне лунки лед и пошел, пошел крушить его по кругу. Из пробитых отверстий ударили светлые фонтанчики воды, заполняя лунку.
– Давай сачок! – заторопился дед, откидывая пешню. Быстро и ловко он стал выгребать из лунки остатки плавающего льда, а потом запустил сачок глубоко в воду.
Лунка сразу помутнела, и дед вывалил на лед сгусток серовато-коричневой грязи. Снова сачок ушел в глубину лунки, и что-то яркое сверкнуло среди поднявшейся мути. Рыба!
Ближе всех к ошметку грязи стоял Славик. Он и схватил золотистого карася. Глаза его и без того огромные, распахнулись в умиленном удивлении.
– У нас такие вот статуи из золота!
– Какая статуя? Рыба, как рыба. – Паша потянулся к карасю.
– Фигуры всякие, люди, львы…
В это момент дед выбросил на снег еще пару рыбешек. Они затрепыхались, рассыпая искристые снежинки, удивительно яркие среди этой белизны. Кольша отодвинул их ногой подальше от лунки.
– Целые люди из золота?! – не поверил Паша Славику.
– Еще большие, чем человек. – Славик все разглядывал карася.
– Ты заливай – да не до краев, – осерчал Паша.
Кольша рассмеялся.
– Точно, Паша, – поддержал он Славика. – Есть там такой дворец с золотыми статуями. Теперь он под немцами.
Дед все крутил сачком в лунке, выкидывая на лед карася за карасем.
– Долбите вторую лунку, – с придыханием приказал он. – Есть здесь рыба.
Я поднял одного из карасей и повернул на яркий свет. Его чешуйки, закрытые одна к одной в искусном орнаменте, засверкали искристыми блестками, будто в каждой из них вспыхнуло маленькое солнце.
– Точно, как золотой! – согласился я, но рядом уже никого не было.
Паша со Славиком расчищали лед под новую лунку.
Побежал и я к ним, и мы стали выхватывать лопату друг у друга.
Едва обозначилось небольшое пространство, как Кольша начал крушить лед пешней. Не так ловко у него получалось, как у деда, и я не утерпел:
– Дай мне попробовать!
– А в ногу себе не загонишь? – сдвинув шапку на затылок, предостерег Кольша. Он, намахавшись пешней, глубоко и часто дышал.
– Да не-е.
– Ну испытай.
Пешня оказалась не такой уж легкой, хотя и была с деревянным черенком, да еще и с норовом – тыкалась жалом куда попало.
– Крепче держи! – поучал Кольша. – А то она у тебя углы нюхает.
Тут же следили за моими неловкими движениями и Паша со Славиком. И от их пристальных взглядов совсем плохо стало у меня получаться, руки заныли, сердечко зачастило.
– Теперь я! – заметив эту слабость, выкрикнул Паша. Имея кое-какие крестьянские навыки, он оказался сноровистее – пешня у него дробила лед намного послушнее, чем у меня.
Подошел дед.
– Набаламутил я там воду, разогнал рыбу. Пусть лунка устоится.
– Если из каждой лунки будем вытаскивать по десятку карасей, – оглядывал Кольша застывших в снегу рыбин, – то много долбить придется, чтоб на жареху хватило.
– Ничего, – дед был весел, щурился в доброй улыбке, – и из двух натягаем – курочка по зернышку клюет, и мы так-то будем.
Я взглянул на брошенный сачок и даже вздрогнул от радостной мысли: «Себе попробую!» Пользуясь моментом, что все глядят на Пашины старания, я, воровато оглядываясь, шагнул за Кольшу. И вот он – рыбачий инструмент, а рядом лунка, хотя еще и не с совсем прояснившейся водой. Увесистый сачок бесшумно нырнул в глубину и уперся в недалекое дно озерного плеса. Напрягая руки, я хотел, как большой ложкой, подобно деду, пройтись им в лунке, чтобы зацепить ила, но это оказалось для меня непосильным.
Подбежал Славик. Вдвоем мы стали выкручивать сачок из лунки. Но, то ли мы действовали вразнобой, норовя каждый потянуть его к себе, и непроизвольно отталкивали друг друга, то ли смоченный лед возле лунки стал скользить, только Славик вдруг нырнул куда-то мне под ноги. Выпустив черен, я увидел его в лунке, до пояса в воде и ухватил за воротник курточки. Славик уперся руками в лед и попытался вылезти. Мы еще и не закричали, не позвали на помощь, а Кольша с Пашей были уже тут как тут. Подбежал и дед. Общими усилиями мы вытащили бледного и испуганного Славика.
– Вот до чего баловство доводит! – заругался на меня дед. – А если бы тут глубже было и он с головой нырнул!..
Славик крупно дрожал, мокрые штаны прилипли к его худеньким ногам, и от них шел пар.
– Подштанники есть? – обернулся дед к Паше.
Тот кивнул. Лицо его тоже было испуганным – ведь это он сманил Славика на рыбалку и с него спросят дома в первую голову.
– А ну снимай! – Дед быстро стащил с себя ватную телогрейку и бросил на снег. – Вот на ней.
Широкий Пашин нос как-то побелел, словно подмороженный, глаза в разбеге. Я был уверен, что он не побоится холода, а тем более не пожалеет подштанников, и затаил дыхание.
– Живее, живее! – поторопил его дед.
И Паша проворно скинул один валенок, наступил босой ногой на разостланную фуфайку, затем – второй и быстро спустил штаны. Бумажной белизной обнажились под ними подштанники. Ветерок заиграл ими, хлопая по ногам. Раздумывать было некогда. Мелкими пупырышками покрылось беззащитное от колючего ветерка Пашино тело, и странно было видеть полуголого друга среди колючего снега. Накоротке вспомнилось лето, берег пруда, купанье…
Паша шустро стал одеваться, натягивая штаны прямо на голые ноги.
– А ты чего ждешь? – Дед обернулся к Славику. – А ну спяливай мокроту! Помоги ему! – приказал он Кольше.
Славик слабо засопротивлялся, но Кольша в минуту стянул с него сырые валенки, из которых потекла вода, и штаны. Тонкие, как палки, ноги Славика были влажными и красными.
– Быстро надевай! – Дед протянул ему Пашины подштанники. – Теперь ты. – Он обернулся ко мне.
Я не ожидал такого поворота, но не стал мешкать: надо – значит надо. Лихо, не испытывая ни страха перед холодом, ни стыда, я снял валенки, стоя на тужурке, спустил штаны. Мороз хотя и был сиротский, но ожег мгновенно, как прутом стеганул, ринулся под одежду. Животу сразу стало холодно, по телу побежала ощутимая дрожь.
– Чего медлишь? Одевайся! – замешкавшись на несколько секунд, словно испытывая свое терпение на холоде, услышал я.
Славик надел двое подштанников, но все не мог согреться, заметно трясясь и вздрагивая…
– А теперь бегом до дома! – снова скомандовал дед, отряхивая снег с фуфайки и надевая её.
– Я останусь! – Мне не хотелось домой, хотя без подштанников мороз, как комар, пробивал не толстую ткань штанов и покалывал коленки.
– Останусь я с Кольшей! – твердо произнес дед. – А вы все по домам. И быстро!
Я знал, что перечить деду и не принято, и бесполезно: в своих решениях он непоколебим. Знал об этом и Паша и побежал первым. За ним – Славик, потом – я.
– Да трусцой, трусцой, – донеслось вдогонку, – а то запалитесь.
Солнце ослепительно светило в лицо, но тепло его лучей не ощущалось. По пробитой тропинке мы бежали и бежали к чернеющим у леса дворам деревни, и внутренний жар поднимался к голове, обливал горячим дыханием спину, шею, лицо. В груди что-то ныло и жгло, но отставать не хотелось. Славику и вовсе было труднее – он бежал в сырых валенках. Белые подштанники трепыхались вокруг его ног при каждом шаге. Видел ли кто нас – неизвестно. Только, если и видел, вряд ли мог догадаться, в чем дело.
Ребята и не остановились у моего дома, побежали через пустырь к Пашиной избушке.
* * *
Проснулся я от громкого разговора. На печи, за ситцевой занавеской, царил полумрак, а в незакрытые промежутки видно было, что на улице все еще буйствует солнце. В избе пахло озером, рыбой, камышами. Тепло нагретого печного верха разморило меня и вставать не хотелось.
– Полведерка отнесем горе-рыбакам, – услышал я голос деда. – Как-никак, приняли крещение…
Откинув занавеску, я высунулся наружу. Дед сидел на скамейке, напротив него – Кольша. Между ними стояло ведерко, до половины наполненное карасями. Рядом лежал влажный мешок – тоже с рыбой. На полу блестела чешуя.
Услышав шорох, дед поднял глаза.
– Слазь, а то разомлел весь, как вареный. Рыбы вот отнеси своим приятелям…
Радостно стало и светло.
2
С самого раннего утра пригрел я место на лавке, у окна, наблюдая, как из горки белой рассыпчатой муки выкатывался тугой комок теста, из которого рождались чудные птички-жаворонки. С короной на округлой головке, с хвостом, развернутым веером, с распахнутыми крыльями… Жаворонков лепила матушка, а Шура насекала ножом узоры на хвосте и крыльях, выводя перышки, вводила в клювы соломинки и делала глаза из сушеных ягод смородины. Птички получались одна к одной: нарядные, гордые, казалось – открой окно, и их веселая стайка разлетится по проталинам, запоет в воздухе. Чем-то они походили на Шуру: тот же вздернутый клювик-нос, те же хитроватые глаза, та же гордая посадка головы. Да и не мудрено: Шура горела за работой. Глаза её синели, как небо над крышей, лицо излучало тайную радость. Она даже губами шевелила, что-то нашептывая беззвучно.
«Надо и мне одну сделать, – загорелся я, глядя на Шуру. – Настоящую, похожую на живого жаворонка…»
Выпросив у матушки кусок теста, я принялся обстоятельно трудиться. Хотелось сделать жаворонка с узким хвостиком, прозрачными крыльями, выпуклой грудкой, но тесто будто противилось мне: получался какой-то несуразный комок.
– Брось мучиться, – пожалела меня мать, – это же не статуэтка, а пряник. Нужно, чтобы он равномерно пропекался и был красивым, а так – в одном месте засохнет сухарем, а в другом – полусырым будет. Чего еще надо? Ведь похожи наши жаворонки на птиц?
– Похожи вроде, – согласился я. – Только на Шуру.
Матушка засмеялась.
– Зато – этот на тебя, – не осталась в долгу Шура, кивнув на мою поделку, больше напоминающую сапожок, чем птичку.
– Ну и ладно…
– Дай сюда, горе луковое. – Шура, как могла, поправила моего жаворонка, и он, ссутулившись, занял укромное место в уголке жестяного листа.
Заполненный «жаворонками» лист матушка засунула в протопленную печь и закрыла заслонкой.
– Испекутся и пойдем их пускать на бугры, – прошептала мне на ухо Шура.
– Как это?
– Подкидывать и ловить…
За расспрашиванием, за разговорами текло время, поднималось утро.
С улицы вошел дед, кинул голицы на приступок.
– Весной запахло по-настоящему: и нет еще никого из птиц, кроме воробьев, а вроде каждая щепка поет, каждая соломинка играет, и солнце вон что творит – с зари тепло гонит. Пару таких дней – и снега не будет. Радоваться бы да вот…
Я поглядел в окно, жмурясь от яркого света.
Над лесом вставало солнце, выплескиваясь ослепительным огнем на сверкающие от наста дали, на лиловые крыши домов, на широкую улицу с порыжевшей дорогой.
– В сельсовет вызывали, – продолжал дед, – опять заём подписал. Оно понятно – надо, раз беда, немец пол-России сжег, а нам-то как жить?
Я заметил частые сединки, воткнувшиеся в коротко стриженые волосы по всей его крупной голове; как-то печально опустившийся нос с горбинкой; обвисшие кончики закрученных усов, и тонкая жалость ворохнулась в груди, и радость, все утро будоражившая меня, стала таять.
– Выхожу от председателя, – все выговаривался дед, – навстречу Нинка-почтальонша с красными глазами. Она почту сортировала, когда я пришел. «Кому?» – спрашиваю. «Не вам», – говорит и мимо меня в кабинет прошмыгнула.
Мать наклонилась к печке, сдвинула заслонку.
– Снова какой-то семье горе…
Оказывается, вот так просто, в любой из дней, можно получить немыслимую по восприятию, ошеломляющую своей страшной неотвратимостью весть. Я даже почувствовал легкий озноб от налетевшей врасплох мысли.
Но тут показался из печи жестяной лист с выпечкой, и тревога отлетела. От обласканных жаром светло-коричневых жаворонков поплыл по кухне такой щекочущий под ложечкой дух, что я не выдержал и кинулся к лавке, на которую мать поставила лист.
– Осторожно! – осадила мой порыв матушка. – Очень горячие. Пусть немного остынут.
– Любуйся, Ленька, и ешь на здоровье, – с некоторой грустью в голосе поощрил меня дед. – Думаю, что недолго тебе придется довольствоваться коврижками – война всё выметет, и после неё еще сколь лет придется терпеть нужду, пока не оклемаемся от разрухи. Может, и повзрослеть успеешь.
Мудрым был дед – как в воду глядел.
– Своего бери! – крикнула Шура, заметив, что я приноравливаюсь к самой привлекательной «птичке».
– Давайте вначале позавтракаем, а уж потом будем чаевничать.
Пока ели, я нет-нет да и бросал взгляды то на испеченных жаворонков, то в окно, на пустырь, на котором вот-вот должны были появиться Паша со Славиком. Об этом еще вчера было договорено. Но они почему-то не появлялись. Больше и больше я наливался нетерпением. Уж так тянуло меня на улицу. В тот залитый солнцем, обласканный теплым ветерком простор.
– Наелся, – наконец заявил я, не выдержав муки ожидания, и поднялся из-за стола.
– А как же чай? – вскинула глаза матушка.
– Потом. Я жаворонка с собой возьму.
– Одежонку береги, – понял моё состояние дед, – и её вскорости не добудешь…
Осторожно, чтобы не обломать крылышки, я засунул одного жаворонка в карман и выбежал на улицу.
Солнце ослепило, как ударило, от ядреного воздуха на миг закружилась голова; непривычно потянуло запахом подтаявшей земли, навозом и сеном. В ушах затрепетали азартные крики гоношистых воробьев. Едва уловимый тонкий звон висел в воздухе. Он прилетал откуда-то издалека, от сиреневых лесов, голубеющих степных просторов, щекотал душу, поднимая смутную, сладко щемящую тревогу. Волнуясь и радуясь, я побежал через пустырь к Пашиной избушке. Справа и слева от тропы желтели узкие проталины со старой травой. Так и хотелось прыгнуть на них, ощутить земную твердь, но я торопился.
Два темных окна в отраженных пятнах света с немым терпением уставились на меня. Но в низкой и глубокой землянке ничего не было видно. «Неужели куда-нибудь убежали?» – подумалось с преждевременной обидой, и я дернул двери. С яркого света в избушке все было черным, но я уловил какие-то стоны и остановился у порога. То, что я через мгновения увидел, приклеило меня к земляному полу. На кровати, растрепанная, голоногая, в одной ночной рубашке, лежала тетка Тая, неузнаваемо изменившаяся, с заплывшими глазами, некрасиво перекошенным ртом, и странно вздрагивала всем телом, будто обо что-то укалывалась. Причем дергалось ни только тело, но и голова, и длинные голые ноги, и отброшенная на подушку рука.
Спиной ко мне, на табуретке, сидела другая женщина. К её плечу притулился Славик, и я понял, что это его мать.
Паша стоял рядом с кроватью, склонив голову на грудь. Его волосенки свисали дрожащими прядями, закрывая лицо.
Так вот кому пришла похоронка! – понял я всё, и дышать стало трудно. Как же так? Ведь дедушка говорил, что Пашин отец пропал без вести, а тут похоронка? Видно, на войне всяко бывает… И вновь мысли тоненькими звонцами забили тревогу о родном отце. Как никогда, я вдруг осознал, что в любой день, пасмурный или веселый, могло прийти и ко мне это выворачивающее душу известие.
– Пашенька, сынок, – услышал я полустон, полушепот и заметил, как рука поднялась с подушки и стала быстро ощупывать Пашу. – Как же жить будем! Кто нас согреет…
Меня никто не замечал. Я был лишним в накатившейся беде. Непроизвольно дрожа от непонятного испуга, я попятился назад и тихо закрыл двери.
Буйный свет снова ослепил глаза, темные пятна побежали по снегу. Но волглая свежесть будто смыла с меня незримую тяжесть, словно я вырвался из чего-то тесно сжимающего. Опять стало слышно веселое чириканье воробьев, дробное шлепанье обо что-то частой капели, игривый шум налетного ветра.
Я остановился у ворот, вынул из кармана расписного жаворонка, и посадил его на столбик у калитки, на самом видном месте.
* * *
Паша пришел к нам дня через четыре, один, без Славика, и, не заходя в избу, вызвал меня на улицу. Вероятно, что-то горело в его душе, и вкупе с потаенной завистью – мой-то отец еще воевал – возникла и некая отчужденность. Уровнять нас теперь могло лишь еще одно страшное известие, но об этом не мыслили ни я, ни он.
На пустыре темнели пробитые солнцем проталины, на которых, среди жухлой прошлогодней травы, что-то выискивали коровы и овцы, а больше грелись, подремывая в ожидании настоящей весны, живой травки.
Придерживаясь бугров, мы с Пашей шли гуськом и молчали. То ли он ждал, когда я заговорю первым, то ли боялся касаться того страдания, которое пришлось пережить.
Тянул и я с разговором, остерегаясь неловким словом огорчить друга, всколыхнуть в его душе притихшую горечь утраты, но и совсем ничего не спросить о его беде было не по-дружески. «Но как спросить? Что сказать в утешение? Сумею ли?..»
На одном из бугров, почти в средине пустыря, Паша остановился, долго глядел в неясные дали, залитые солнцем, не оборачиваясь ко мне, маявшегося в противоречивых помыслах, и тихо произнес совсем не то, чего я ожидал с некоторым трепетом:
– Хотел на фронт податься, да мамушку жалко.
Я промолчал, понимая его, да и не нашелся, что ответить. Вспомнилась Пашина мать, разметанная на кровати, её надрывный голос, плачь, и острая жалость тронула душу, но донести её до сердца друга я не мог: нужных в таком случае слов не знал – жизнь наша еще только-только начинала подниматься в том тонком восприятии человеческих тайн, которое приходит с возрастом, с долгим опытом познаний, и то не к каждому, а лишь к избранным Богом.
Шумела весна, горело солнце, а мы слушали её и смотрели без прежней радости.
3
Долго плавилось солнце над крутыми сугробами, и сперва открылись проталины по возвышенным местам, а потом налились синью все мало-мальские ложбины. За околицей неохватные взору разливы и вовсе уплыли к горизонту, и на них появились первые прилетные птицы.
Какие-то голоса слышались мне, но я никак не мог проснуться – сон не отпускал.
На фоне белого-белого снега, синей-синей воды я видел жар-птицу с утиной головой. Она уплывала от меня, работая хвостом, как плоская рыба. А я гнался за ней, полупаря в воздухе, касаясь гребней волн, и не мог догнать. Все меньше и меньше становилась чудная птица, пока её не закрыл розоватый туман…
– …Красивый какой! – все же распознал я сквозь дрему голос матери.
– И как ты его подкараулил? – Это уже дед пробасил.
– Да на лывину вон прилетел, чуть ли не под самые окна! – с радостью рассказывал Кольша. – Я его и снял из-за плетня.
Что-то необычное таилось в их разговоре, и едва уловимый запах, от которого дрогнуло сердце, терпкий, знакомый с осенней охоты, вмиг смыл остатки сна. Заученным движением я приподнял занавеску: у дверей, на ящике, сидел Кольша с ружьем в руках, а на скамейке – дед. Он разглядывал какую-то большую птицу, нарядно красивую. Рядом, у стола, стояла матушка.
Едва ли не слетев с печки, я подбежал к деду и схватил длинношеею птицу, утопая пальцами в мягком пуху.
– Дай поглядеть, дедушка!
– Проспал охоту-то. – Он улыбнулся. – А Кольша вон селезня острохвостого подстрелил.
Раньше я видел только серых уток, а этот селезень – в сизо-зеленоватых пестринках, с коричневой головой, тонким и длинным пером в хвосте, голубым клювам – был изумителен!
– Чего меня не разбудил? – разглядывая необычную птицу, с обидой спросил я Кольшу.
– А когда было? Он прилетел на лыву, в наш проулок. Время не терпело.
В окно было видно блестевшую от солнца воду, залившую обширную впадину правее нашего двора.
– Да ты не расстраивайся, – потрепал он меня по голове, – весна только еще начинается. Походим еще за этими утками…
* * *
На другой день Кольша принялся снаряжать патроны. Я не отходил от него, то с дрожью в руках трогал тяжеловатые шарики дроби, то с суетливой готовностью подавал закопченные, пропахшие пороховой гарью латунные гильзы, и необъяснимое волнение охватывало меня, с которым грезились таинственные дали, млело сердце. И сразу, под опьяняющий этот зов, я стал лелеять мысль о совместной с Кольшей охоте: сперва тихо, едва слышно, а потом внятнее начал просить его об этом. К моей жгучей радости, Кольша не долго упирался, и мы вдвоем пошли на кухню уговаривать матушку.
– Да куда ему в поле тащиться! – сразу засопротивлялась она нашей затее. – Удумали…
– Пусть привыкает, – поддержал нас дед, – глядишь, и пригодится охотничий навык. Война еще невесть сколько времени будет…
Втроем мы кое-как убедили матушку.
Путаясь в рукавах и петлях, с горячим ознобом во всем теле, надел я ватную куртку и с трудом натянул на ноги изрядно стоптанные сапоги. А тут еще и шапка куда-то задевалась…
Кольша терпеливо ждал, с понятием поглядывая на мои метания.
Наконец, весь открывшийся передо мной мир полыхнул в каком-то новом качестве: все вокруг сияло, искрилось, жило, издавало звуки в иных, необычных измерениях. Еще бы – первый охотничий поход за утками! Пусть за околицу, к ближнему разливу, но это уже не простая прогулка, а стремление добыть дичь. Деревянное чучело утки, искусно вырезанное опытным мастером и не менее тщательно раскрашенное, я даже не чувствовал в руке и не отставал от Кольши.
Неоглядный разлив полыхнул ярким отсветом, заложил уши птичьим перекликом и лягушачьим кваканьем. Кольша остановился, кивнул на приметный кустик:
– Тут и спрячемся. Это я вчера, по пути из школы, скрадок поставил. – Он взял чучело и опустил на воду. Мелкая рябь вынесла его на чистое место и, будто живая утица, закачалась на легких волнах недалеко от скрадка.
Кое-как мы поместились в тесной ямке, застланной соломой и прикрытой с боков прутьями. Я свернулся калачиком и стал глядеть в промежуток между ветками, прикрывая то один, то другой глаз. Видимое мною пространство ограничивалось частью разлива и жухлой травой бугорка, на котором мы прятались, дальше во всю ширь голубело чистое небо.
– Ты только не высовывайся, – предупредил Кольша и несколько раз прокрякал губами в кулак.
Я еще пуще сжался, затаиваясь и напрягаясь в ожидании чудного появления дичи. Но её не было. А Кольша все продолжал крякать, и зов его относило ветром в сторону разлива.
Через прореху между прутьями струился в глаз ветерок, и выжитая им слеза застила, искажала пространство. Тихо-тихо двинув рукой, я смахнул ненужную слезу и тут же уловил легкий шум, а потом и увидел садящуюся на воду нарядную птицу. Красные лапки у неё были растопырены, крылья изогнуты. Всплеснув воду неподалеку от чучела, дикий селезень мягко закрякал, поворачивая изумрудную голову то а одну, то в другую сторону.
Я замер, не дыша, не моргая и не сводя взгляда с этой дивной птицы. Мгновенье – и гром выстрела оглушил, встрепенул, отрывая от земли. Дымок, метнувшийся над разливом, отлетел, открыв пространство. На воде в искрящихся брызгах трепыхался подбитый селезень. Дикий азарт поднял меня на ноги и, раздав прутья, я выскочил из скрадка.
Кольша что-то закричал, но я не понял его, с разгона влетел в воду и, не чувствуя, как холодные струи заливаются за голенища сапог, с жарким восторгом схватил еще подрагивающего селезня.
Что говорил Кольша, когда я подскочил к скрадку, не улавливалось. Дрожа не то от озноба, не то от холодной воды, хлюпающей в поношенных сапогах, я подал ему селезня.
– Ну ты и шальной! Что теперь матери скажешь?..
Я молчал, все еще не понимая его: какие вопросы? О чем? Ведь у нас в руках желанная добыча! Но Кольша рассудил по-своему: с мокрыми ногами, с тяжелым селезнем в руках погнал он меня домой, наотрез отказав в просьбе остаться. И радость, притихшая было во мне оттого, что Кольша теперь будет один сторожить уток, вновь согрела душу и тело. Я чуть ли не бегом заторопился к дому, представляя, как обрадуются добыче мать и дед, удивятся, что я её достал и один принес домой, а вдруг еще и Паша со Славиком окажутся поблизости!
Новые охоты рисовались в моем возбужденном воображении, в которых один на один с природой уже был другой охотник – я сам. От этих мыслей все во мне замирало, подчиняясь лишь тому единому, тайному зову.
4
Лес, залитый тонкой синью, уплывал в мареве в заозерье, в дрожащую осветленную пустоту, стиравшую границу между небом и землей, и так загадочно манил к себе, что дух захватывало в радостной истоме.
В той теплой тишине стоял несмолкаемый птичий гомон, и мы, воспринимая всё, как должное, обычное, лишь переглядывались, всматриваясь в фиолетовые дали, в светлую чистоту березовых колков.
– Погодите, вот ведро под сок пристроим, – грозил Паша гоношившимся на тальниках сорокам и воронам, – и начнем шерстить ваши гнезда.
Его неприязнь к этим птицам нам была непонятна, и мы помалкивали, следуя за Пашей в качестве помощников: я нес лопату, а Славик ведерко. Паша держал на плече большой топор. Он изредка останавливался и оглядывал размашистые березы, определяя, с какой бы покачать сок.
– У этой должен быть сладкий, – кивнул Паша на одну из них у опушки, – бугровая, отдельно стоит, света ей вволю, а внизу вон лощинка с водой. – Слегка тюкнув топором по шероховатой коре, он выждал, когда потекли светлые капельки сока, и приложился губами к надрубу. – Самое то! – Паша откинулся. – Тут и поставим.
Я невольно облизал губы.
– Чё, охота попробовать? Вот ведерко поставим и напьемся. – Он стал надрубать твердую древесину косым развалом, и частые капли прозрачного сока бойко запрыгали по уступам шероховатой коры.
Вогнав струганный колышек, прихваченный из дома, в прорубленное отверстие и приспособив под него ведерко, Паша распрямился.
– Пока по гнездам полазим – полведра набежит, – заверил Паша. – Теперь солодку поищем. – Он положил топор под куст ивняка и замаскировал старой травой.
День разгорался, захлебываясь парным теплом и накатным светом, вытягивая сырость и холод из оттаивающей земли.
Мы стали обходить лесной отъем по высокой опушке, опять же следуя за Пашей, ничего не зная и не понимая из лесных премудростей.
– Вон сорочье гнездо! – показал он нам на большую округлую кучку хвороста. – Новое. В нем точно будут яйца.
Уклоняясь от хлестких веток, мы ринулись за вожаком. Остро потянуло сыростью и прелью. Тревожно застрекотала сорока.
– Ну, кто из вас смелый?! – Пашин взгляд скользнул по нашим лицам.
Я никогда не лазил по деревьям: ни из баловства, ни по гнездам – и не подозревал, что это нелегко и опасно, но уж больно с нескрываемым превосходством глядел на нас деревенский друг, и решился, молча, пошел к березе, на которой чернело гнездо.
– Погоди, подсажу! – крикнул Паша. – А то сучья высоко, не дотянешься.
С его помощью я влез на нижние сучья, толстые и надежные.
– Вниз не гляди! – предостерег он меня. – А то голова без привычки закружится!
Я, с затаенной боязнью, стал осторожно подниматься по шершавому стволу березки: сук, еще сук, еще… Дальше – выше они становились тоньше, чуточку прогибались. Закачалось и само дерево, хотя ветра и в помине не было, и я решил перевести дух.
Далеко открылись мне желтовато-серые поляны, белесая ткань оголенных лесов, глубокая лазурь неба. Я глянул вниз: Паша и Славик показались маленькими карликами, далеко-далеко. И тут пошло, поехало всё: и усыпанный старым листом колок, и поля, и небо, и сучья… Едва успел я обнять пахнущий корой березовый ствол и закрыть глаза. Сердце сжалось в остром замирании, звон пошел из головы по спине, в ноги. Какой-то особый страх обволок меня всего. «Назад! Вниз! – забились торопливые мысли. – Скорее! – Но что-то слабое-слабое удержало меня от неуправляемой паники. – Струсил? – будто стукнул кто в затылок. – А как же потом? Что скажут Паша и Славик? Как с ними дружить?.. Нет! Уж лучше упасть!..» Подняв глаза, я увидел совсем близко сплетенное из хвороста гнездо на фоне светлого, удивительно ласкового неба, и страх отпустил сердце. Не без волевого усилия я потянулся к ближнему суку.
Еще раза два сжимал меня страх, кружа голову и лишая силы, но до гнезда я все же добрался. Передохнув, не опуская глаза, я отыскал взглядом входное отверстие и, покрепче охватив ствол дерева ногами и левой рукой, решил проверить, есть ли в гнезде яйца. Округлый шар хвороста мешал тому, и пришлось изрядно отстраняться от дерева, чтобы нащупать твердые, тепловатые яйца на мягкой подстилке. Одну за одной я начал опускать их за пазуху, как наставлял Паша, и, выбрав все, стал слезать, не глядя ни вниз, ни по сторонам. Приближаться к земле было куда отраднее, чем лезть вверх. С нижних сучьев я прыгнул на мягкий слой прошлогодних листьев.
Только Паша понял моё состояние – он-то через это уже проходил.
– С тобой и на войну можно, – только и произнес он.
– А где моё гнездо? – захорохорился Славик.
– Найдем и тебе, – благоразумно удержал его Паша. – Сейчас давайте солодки накопаем. Вот она, на поляне. Запоминайте – пригодиться. – Он показал на сухие, темно-коричневые стебли ни то кустарника, ни то жесткой травы и с натугой потянул один из стеблей – корень его отслоил дерн шага на два и ушел в глубину. – Видите, куда полез? Его теперь только лопатой и можно достать, да и то не весь. А нам и того, что откопаем, хватит…
Ощутимо пригревало. Дали подернулись маревом. От земли и от всего того, что высвечивало солнце, исходили тонкие запахи, взбадривали и волновали.
В тени ивняков Паша развел костерок, чтобы испечь набранные яйца и высушить Славикову одежду. Ему опять не повезло: сломалась сухая талина, и он, вместе с сорочьим гнездом, грохнулся в воду. Хорошо, что низко было.
– Ты в самый жар их не кидай, – поучал меня Паша, когда я стал выкатывать зеленовато-пестрые яйца в угли, – полопаются. На краешек, в мелкие угли с золой прячь…
Отворачивая лицо от реденького дыма, я сделал так, как советовал друг.
Славик сидел на пеньке и жевал терпкую и сладкую солодку.
Паша суетился возле костра и сушил его одежду. Я смотрел на него с потаённым уважением и думал: «Повезло мне с другом – без Паши мы бы ничего не знали и ничего не добыли: ни сока, ни солодки, ни птичьих яиц… И лазить на высоту я бы не решился, не осилил бы того едкого страха, что наваливается там, над землей». Но вслух я спросил:
– Паш, а почему ты не любишь сорок и ворон? Гнезда их разоряешь?
Он и глаза не поднял от костерка.
– А вредные они, яйца у других птиц долбят, птенцов, да еще и воровки…
5
– Леня-яя, сыно-ок, – услышал я родной голос и проснулся.
Надо мной склонилась матушка. Её похудевшее лицо было грустным. Но серые глаза под черными, словно нарисованными бровями ласково лучились. Из-под платка выбились густые пряди темно-русых волос.
– Пора, сынок, вставать, – заметив, что я открыл глаза, произнесла она мягко и погладила меня по голове. – Мы все уже работаем, и тебе пора привыкать к труду. – От материнского прикосновения полностью прошел сон. На душе стало радостно и светло.
В избе буйствовало солнце. В короткое мгновенье я увидел его в боковые окна и отвернулся, одеваясь.
– Молоко на столе – ешь и к нам, в огород…
Утро было чудным! По небу растекались невероятные краски, утопая в пугающей глубине, и каждая крыша, каждая изгородь горели огненным наметом, и словно боясь спугнуть это чудное сияние, выстоялась звенящая тишина.
Торопясь, я прошел до открытых ворот и увидел черную, вскопанную лопатами землю. В середине огорода сгибались в работе дед с матушкой и Кольша, а Шура граблями собирала в кучки старую ботву и мусор, накопившийся за зиму.
– А, помощник явился. – Дед распрямился. – Бери вон грабли и помогай убирать ботву. Мы уже нагрелись. Видишь? – Он повернулся ко мне спиной – старенькая рубаха темнела от пота.
Взлохмаченная, красная от натуги, Шура поглядела на меня с каким-то укором, и Кольша не подмигнул, как обычно, и стыдно стало за свой долгий сон. С поспешной суетливостью схватил я лежавшие у плетня свободные грабли и принялся орудовать ими, как это делала Шура.
На первых минутах было не тяжело отрывать высушенную еще по осени, слежавшуюся картофельную ботву, но уже через некоторое время заныли руки и грабли стали почти неподъемными.
На дальних пряслах изводилась в пении какая-то птичка с оранжево-синим нагрудником. Она то вспархивала, мельтеша крыльями, то стремительно бежала по верхней жердочке, поставив хвост торчком. Легкая зависть к маленькой задорнице щекотнула меня: ни работы ей, ни заботы… Но я понимал, что на этой освобожденной мною и вскопанной взрослыми земле вырастут овощи, и в первую голову – картошка, без которой не пережить долгую зиму, и упирался до дрожи в коленях, ломоты в руках.
– Перекурил бы, а то запалишься, – услышал я дедов голос и оглянулся. В спине что-то болезненно шевельнулось, в глаза полыхнул солнечный свет. Синеющее небо очистило взгляд от земной серости.
– Куда-то люди бегут! – тоже разогнувшись, произнес Кольша.
За огородом, в сторону пустыря, бежало несколько ребятишек и женщин.
– Что-то случилось, – встревожилась и матушка.
– А ну, узнай! – приказал дед. – Ноги у тебя резвые. С Шурой вон наперегонки.
И мы побежали вдоль длинной изгороди.
На пустыре, там, где летом буйствовали лопухи, толпились люди.
– Корова Танюхина в яму завалилась, – услышал я чей-то голос. И мы с Шурой пролезли вперед.
В глубокой яме с водой лежала вверх брюхом корова с круто подвернутой головой, растопыренными ногами, как бы устремленными к небу.
Неприятным холодком обнесло спину.
– Шею сломала и каюк, – предположил кто-то.
– Теперь горя хватят. В иное бы время другую купили, а теперь попробуй…
– Пораньше бы нашли – хоть мясо взяли, а сейчас – падаль.
– И как её угораздило?
– Может, на травку зеленую по краю погреба позарилась, да и земля под ней обвалилась…
Смерть, даже коровья, тронула остро, с горечью и страхом. «А как же там людей убивают?» – От хлесткой пронзительной мысли свело дыхание, потяжелели ноги. Воображение метнулось представить человека на месте коровы, но сорвалось, оттиснутое все тем же страхом, уплыло, растворилось в не цельных образах. Дальше смотреть и слушать не захотелось, и я, не найдя Шуру среди толпившихся людей, тихо двинулся назад.
6
Трепетное слово – косачиный ток долгое время билось у меня на слуху, распаляя воображение, и вот сбылось.
– Ночью на ток пойдем, – шепнул за ужином Кольша. – Так что ложимся пораньше, чтобы не проспать…
Какой там проспать? Под тонким одеялом меня долго потрясывал внутренний озноб, загадочные виденья наплывали одно за другим, мешая явь со сном: стены уснувшей избы расплылись, открывая дали и уводя мое затуманенное сознание в лесные просторы… Я и успокоиться не успел, поплыть по этим просторам, как почувствовал толчок в плечо:
– Поднимайся, пора!..
В окна тихой, пахнущей домашним очагом избы гляделась серая ночь, однотонная, без каких-либо внешних звуков. Но едва мы вкрадчивыми шажками выбрались на крыльцо, как отовсюду поплыли ясные и неясные голоса очарованных весной птиц. Ближе всех исходилась в песне обитательница нашего палисадника. Дальше – за околицей, на разливах, то и дело вскидывались в тревожных криках кулички, потаенно подавали призывы утки и гуси, и только непроглядный лес таинственно молчал.
Деревня спала, плавая в рассеянном свете рыхлой ночи, однообразно темная, непривычно раскинутая западшими среди близких рощиц проулками. Одно небо искрилось звездной россыпью, из мутного пространства которого нет-нет да и доносились нетерпеливые переклики перелетных птиц, шушукающие шумы их крыльев. То шли с юга тучевые стаи северных уток.
– Чернушки потянули, – вскидывая голову, с тихой радостью в голосе извещал меня Кольша. – Даже землю обдало воздухом – как скворцов!..
С особой чуткостью улавливал я все эти звуки и запечатлял в памяти расплывчатые контуры ночной околицы…
Лес встретил нас тишиной, прохладой, сыростью, терпкими запахами прели, оживших деревьев, кустарников, трав… Повсюду маслянисто темнела вода в колках, белесо бледнели лужи в низинах, с которых то и дело поднимались утки. Недовольно и лениво покрякивая, они растворялись в этой сонной мути.
В таинственной той тишине и неясности пространства задрожала душа. То ли от робости, то ли от напряжения – в ожидании чего-то необычного, остро пугающего, или от того и другого. Оно и Кольша тревожился, хотя и пытался бодриться. Я это угадывал по тому, как он озирался и держал в руках ружье. Но боязнь эту мы несли дальше, не останавливаясь, не признаваясь в ней друг другу, и в тоже время тонко и обоюдно чувствуя это наше общее состояние. И объяснимо то было: военное время, глубокая ночь, дикий лес. Храбрись не храбрись, а человек всегда робел перед тайнами природы…
Обходя и колки, и лужи, и плотные, пугающие чернотой тальники, мы пришли в большой березовый лес, непроницаемый взгляду, пестро-серый в ночном полумраке. Широким клином раздала его вольготная поляна, набежав от кочковатых подзаболоченных ивняков. У одного из кустиков на опушке леса Кольша остановился.
– Тут и замаскируемся, – еле слышно продышал он мне в ухо, и, прислонив к березе ружьё, начал собирать сухие прутья.
Мне не нужно было пояснять, что и зачем: стал и я искать сушняк по краю леса, зорко вглядываясь в каждое темное пятно и внутренне напрягаясь…
Вскоре небольшой кустик превратился в хорошо замаскированную засидку.
– Хватит, пожалуй, – Кольша поглядел на небо, – будем прятаться, а то косачи вот-вот полетят…
Мы залезли в куст, приминая ненужные побеги, раздали его и затихли, и сразу заметно потемнело вокруг – ниже свету было меньше, лес его не пускал, свято храня свои ночные тайны. Но теперь, когда мы были скрыты от любого взгляда, стало спокойнее и легче: мы могли первыми заметить любую живность, появившуюся в поле нашего зрения…
Тишина вроде поплотнела и нигде не вспугивалась даже маломальским шорохом. Все застыло в глубоком оцепенении. И как не напрягал я и без того обостренный слух, не изучал взглядом очертания видимого пространства, ничего не улавливал и не замечал. Лишь одно Кольшино дыхание да редкий его шорох слышно было в чуткой пустоте скрадка…
Это сонное однообразие начинало утомлять. Сознание ослабевало, гасло…
И вдруг глухой шлепок о землю поймал мой слух, и дрожь прокатилась по вмиг встрепенувшемуся телу, и по тому, как Кольша повернулся ко мне лицом, я понял, что и он услышал этот звук.
Кто мог кинуть горелыш на поляну?! Вот он лежит неподалеку от скрадка головешкой?..
Пока я, не мигая, вглядывался в черное образование, возникшее невесть откуда, и гасил непонятный страх, полыхнувший по спине, комок этот задвигался, мелькнул чем-то белым и необычно громко для напряженного слуха и такой же тишины – зашипел. Я еще не успел как следует воспринять это странное шипение, успокоится, как глухие стуки беспорядочно заколотились в разных местах поляны. И сразу заурчал кто-то мягко, почти по голубиному, и пошло: шипение, хлопанье, урчание…
Поляна будто населилась какими-то сказочными существами, затеявшими свои игры на исходе ночи. Тут я и понял, что начался косачиный ток – тот самый долгожданный, много раз представляемый воображением, и вмиг пропала тревожная робость перед всем непонятным, и трепетный восторг осветил меня.
– Началось! – как выдохнул Кольша и приник к веткам куста. Темные косачи-кочки двигались по поляне, мелькая белыми перьями, чуфыкали и урчали, а к ним еще и еще прибавлялись токовики. И все они наперебой подпрыгивали друг перед другом, хлопали крыльями, издавая свистяще-шипящие звуки, вперемежку с булькающим воркованием. Шум поднялся такой, что можно было разговаривать. Но Кольша все жался к сучьям, все не трогал ружье, хотя косачей можно было неплохо разглядеть, особенно близких. Чуфыкая, они высоко вскидывались, изгибали шеи и гордо осматривались. Прыжки их сопровождались короткими взлетами, хлопаньем распущенных крыльев и резкими криками, похожими на куриные сигналы тревоги…
Один косач до того разошелся, что подскакал к самому нашему скрадку. Тут я его и рассмотрел до каждого перышка: алые брови налиты, шея раздута, перья натопорщины, как у рассвирепевшего индюка, отчего сам тетерев казался необычно большим, хвост распущен веером, вертикально, края его загнуты к самой земле. Он побежал быстро-быстро, будто заскользил по гладкой поверхности, и Кольша, просунув руку между веток, хотел схватить храбреца за отвисшее крыло, но промахнулся. Косач высоко и косо подпрыгнул, глянул через спину на непонятную живность и, отбежав немного, зачуфыкал еще азартнее, К нему подлетел еще один петух, и, подпрыгивая и хлопая крыльями, они стали теснить друг друга, сшибаясь грудью. И везде по поляне, насколько я мог видеть в стремительно наплывающем свете утренней зари, трепыхались в брачном азарте тетерева. И, несмотря на бессистемность их тока, все же был в нем какой-то едва уловимый общий ритм.
– Вот дают! – Кольша улыбнулся широко. – Как пьяные…
Где-то за нами, в лесу и дальше по опушке, заквохтали тетерки, и сразу шум тока усилился, поднялся в своих звуках на новую тональность. Вся поляна взлохматилась прыгающими, хлопающими, подлетающими птицами. Черными космами взрывались они тут и там над старой травой и бились в единоборстве, и чуфыкали, и бурчали…
Лишь отдельные птицы по краю тока сидели неподвижно, наблюдая.
Забубнил в небе бекас-барашек, запела в лесу зарянка. Восторг, долгое время державший меня в своей узде, стал гаснуть, отходить. Новые, глубоко запрятанные чувства набирали силу: ведь мы пришли не только любоваться этим чудом, но и за добычей. И Кольша будто угадал мои мысли – стал медленно проталкивать ствол ружья между прутьями. Я затаил дыхание, пытаясь угадать – каких драчунов он выцелит. Грохот выстрела погасил все звуки. Какое-то мгновенье после этого держалась тишина. Черной тучей взметнулся косачинный слет, закрыл над поляной небо. Миг, два и стало тихо и тревожно. Лишь слышно было, как яростно колотил крыльями по земле один из подстреленных тетеревов.
Кольша перезарядил ружье, довольный верным выстрелом: оба черныша остались в траве.
– Теперь, поди, не прилетят больше…
Я молчал, не зная тонкостей косачинного тока, все еще находясь под действием птичьего таинства. Как стремительно все произошло – словно ничего и не было!..
Свет накатывался отовсюду, угоняя серость предутренних сумерек в плотную чащу. Новые звуки поплыли по лесу, напоминая, что в разгаре весна. Но они как-то уже не радовали особо, воспринимались без остроты…
Большим черным веретеном протянул вдоль опушки одинокий косач и опустился на дальнем краю поляны.
– Пришел один, – тихо прошептал Кольша. – Может, опять начнут.
Тетерев чуфыкнул, раз, другой и забормотал, залился в торопливой песне, и над поляной вновь замелькали подлетающие к току черныши. Так внезапно прерванное чудо разгоралось сильнее и сильнее, хотя той мощи, того азарта уже не было. Да и число игроков заметно поубавилось…
Вновь два драчуна, перескакивая друг через друга, приблизились к нашей схоронке, сшиблись в петушиной ярости, и Кольша снова стал подталкивать ружье вперед. Я сжался, ожидая выстрела. Резко стукнул затвор, но выстрела не последовало – осечка. Косачи все метелили друг друга крыльями, подкатываясь ближе и ближе…
После тугого хлопка так же взорвалась поляна черными хлопьями. Один из петухов забил крыльями по земле, пытаясь взлететь, а другой подлетел к самой опушке леса и упал в густую траву.
Кольша выскочил из скрадка. Я – за ним. Без особого труда мы нашли всех четырех косачей и, щурясь на всходящее солнце, радостные, довольные удачей, полные светлой энергии, заспешили домой, с жаром обсуждая недавнее чудо…
7
Эх, картошка, картошка! Жареная, пареная, толченая, печеная, с молоком, маслом, или без всего! А хрустящие ломтики! Нелегко тебя вырастить и сохранить хлопотно. Но на ней мы выжили в то губительное время. Она заменила нам и хлеб, и мясо, и многие другие продукты, теперь обычно привычные, в достатке, без которых современная жизнь вроде бы и немыслима.
С утра парило. Солнце и ветер высасывали лишнюю влагу из напитавшейся весенними паводками земли, гнали марево куда-то за горизонт, в недоступные воображению края, в дальние страны…
Кольша копал лопатой ямки в подсушенной земле, а я с Шурой накидывал в них семенную картошку. Шаг – картошка, еще шаг – еще картошка и так до самых прясел, а затем – назад. И сколько таких шагов я сделал за то время, пока мы обсаживали не малое огородное поле – несчетно. Вроде и не трудная эта работа, но к каждой лунке надо было подойти, каждой поклониться – иначе упадет картофелина на край или ростками вниз и не жди добрых клубней осенью. Шаг – наклон, шаг – наклон… И до того я нанаклонялся за полдня, что спина заныла и ноги одеревенели.
* * *
А весна налилась полной силой. Раскидистый клен в нашем палисаднике выкинул острые язычки проклюнувшихся листьев. Покатые бугры, оставшиеся на пустыре от бывших усадеб, подернулись зеленой накипью. Легкая дымка зелени затянула и леса. Зыбкие ветры доносили оттуда едва уловимые запахи цветущих ивняков, молодого березняка и осинника, ранних трав и цветов, а по утрам – дробные переливы тетеревиного токования.
И степные разводья потеряли свою желтизну, накрылись тонкой фиолетовой сеткой, над которой плыли родниковые трели жаворонков, несмолкаемые даже ночью. А над приозерьем качался такой гул птичьего восторга, в созвучии с мягкой пляской лягушачьего кваканья, такой угар торжества жизни, что в ушах вибрировало и сердце радовалось. И этот особый настрой в купели биения жизненного пульса поднимал светлую веру в неотвратное торжество будущего, в бессмертность мира сотворенного Богом. И трудно было осознавать, что где-то идет война, бьется в ином пульсе гибельная непоправимость.
А вечером мы читали письмо от отца.
Часть вторая. Второй круг
Глава 1. Летние хлопоты
1
У войны был свой отсчёт времени, свой годовой круг: от конца до конца июня, и каждый год войны вершился теми или иными непредсказуемыми событиями, и так до неведомого предела.
Потянулся второй год войны, второй круг, а жизнь шла своим чередом, несмотря не на что. Тревожная, трудная, с горем, страданиями, смертельными вестями… Но люди бились и за эту жизнь, в душевной маяте, в не менее маятном быту, в изматывающем до изнеможения общем труде. Бились и стояли. И с высоты стороннего осмысления вся эта жизнь могла казаться обычной, простой, плоской, но это далеко не так…
* * *
В дровнике дед с Кольшей пилили дрова, а я складывал подле поленницы нарубленный ими хворост. Было жарко и тихо. Солнце едва-едва перекатилось во вторую половину дня. На лугу, за огородом, паслись чьи-то телята. Видно было, как они помахивали хвостами, отгоняя слепней. Занятой работой, я все же заметил некое там оживление – возле телят появилась большая серая собака. Она по-домашнему заигрывала с ними: припадала к земле, отпрыгивала, когда телята пытались ее бодать, вновь наскакивала. Интересно было, и я сказал деду:
– Какая-то собака с телятами забавляется.
– Что еще за собака? – Дед задержал пилу, распрямился и стал глядеть за околицу. – У нас на деревне таких вроде нет…
Тут собака сделала резкий прыжок и вцепилась в шею ближнего к ней теленка, крутанула его почти по кругу, и теленок упал.
– Волк это! – выкрикнул Кольша и схватил полено.
Будто колодезной воды плеснули мне на спину: так закоробило по хребту кожу.
А дед быстро и ловко вырвал топор из чурки, на которой рубили хворост, и они, без слов, кинулись за ограду. Сорвался с места и я, не осознанно, подчиняясь охвату неведомых чувств.
Кольша что-то кричал, размахивая поленом, опередил деда, огибая огородное прясло. Но ближе к лугу приостановился.
Дед, широко разбрасывая в беге ноги, выскочил вперед, вскинув топор.
Зверь подпустил нас совсем близко, шагов на десять, словно знал, что мы без оружья, и, отпрыгнув в сторону, присел, ощерившись. Дед взмахнул на него топором, наступая, и волк, щелкнув зубами, нехотя побежал в сторону ближнего болота. Но напрасно мы спешили: теленок уже дрыгал ногами, из разорванного его горла хлестала яркая кровь.
– Совсем зверь обнаглел, – наклонившись над зарезанным теленком, горестно проговорил дед, – среди белого дня скотину рвет, а поди-ка ты его сейчас достань…
Непонятный страх и колючая жалость ожгли меня, впервые так близко столкнувшегося с глубинными тайнами природы, с ее вольной дикостью, язык не шевелился, дыхание замерло, мысли – будто остановились.
– Тимохиных это теленок, – глуховато отозвался Кольша, – побегу скажу – пусть забирают. Хоть какое-то мясо будет…
2
Солнце только-только выплыло над лесом, а мы уже миновали первые лесочки, теснившиеся друг к другу за огородами крайних дворов. Дед нес вилы и сумку с едой, а матушка деревянные грабли и бидончик с квасом. Я шел налегке.
Горела сенокосная страда, и Кольша упирался на колхозной работе, а Шура пропалывала овощи. Мы втроем шли сгребать свое сено, накошенное пару дней назад дедом и Кольшей.
Лес еще не полностью очнулся от ночного оцепенения, и листья деревьев понуро висели в полной неподвижности.
Тихо, тепло, мягко.
Обойдя длинный лесной отъем, дед свернул с травянистого проселка, и перед нами открылась широкая поляна с длинными стежками желтеющих рядков сена.
У раскидистого куста ивы дед остановился, повесил на сучок сумку с едой и снял пиджак. И матушка сунула бидончик в затененную траву.
– Начнем, поклонясь, – весело проговорил дед и принялся вилами сдвигать пласты сена в кучку.
Взялась за грабли и матушка.
– Вот так закатывай рядки. – Она показала мне незамысловатые приемы сгребания сена. – Да большие валки не делай.
Тревожно зачирикала в кустах какая-то птичка, и где-то далеко, на приозерных лугах, перекликались журавли.
Оглядевшись, я поднял небольшие грабли с лоснящимися зубьями и принялся за работу. Не сразу удалось наловчиться собирать сено в ёмкие кучки: грабли вертелись в руках, не подчиняясь моему усердию. Но от рядка к рядку я все успешнее справлялся с ними, и уже через некоторое время закатывал валки не хуже матери.
Удивленное солнце старалось подняться выше и выше, чтобы уследить за моей работой, и распалялось в благодати, щедро нагревая воздух.
Становилось жарко. Высушенные цветы и мелкая трава сыпались в ботинки, и от их трухи неприятно зудели ноги. А ладони натерлись до красноты, и тело потяжелело. К тому же глаза устали от однообразной смены желтого и зеленого цветов и хотелось бросить отяжелевшие грабли, уйти в тень тальникового куста, но дед таскал огромные навильники в большую копну, и рубаха на спине у него потемнела от пота. Да и матушка прикрыла лицо косынкой и не с такой быстротой, как вначале, ворошила рядки.
– Устал, сынок? – участливо заглянула она мне в глаза, когда мы поравнялись. – Покажи-ка ладони. Волдырей не натер?
Я и головой повертел – не устал мол, и руки показал. И то ли заметив нашу усталость, то ли услышав разговор, или в действительности время подошло, но дед вдруг воткнул вилы в намет сена и махнул рукой:
– Шабаш – обедать пора.
Расположились в тенечке, что еще держал плотный ивняк, на примятой траве. Вареная картошка с зеленым луком да вареные яйца, а к ним по ломтю хлеба, вот и вся еда. Но какой вкусной она показалась! Будто никогда и не ел ни такой картошки, ни таких яиц, ни такого хлеба. А прохладный и терпкий квас!
– Подремлем часок и будем копны вершить. – Дед лег на спину и прикрыл лицо кепкой.
И меня обволокла истома. Свернувшись на бок, я прикрыл глаза и провалился в некое желто-зеленое пространство.
Любопытное солнце зашло с другой стороны леса, нагнало света на лицо, и я проснулся.
Дед уже таскал увесистые навильники сена в омет, а матушка помогала ему, набирая ёмкие охапки.
«Проспал!» – подумалось со стыдом. Я резво вскочил и побежал по кошенине, царапая о жесткие травяные срезы щиколотки.
– Не торопись, – понял моё состояние дед. – Вот сейчас доложу стожок и полезешь наверх утаптывать сено.
Я обрадовался: все лучше, чем однообразное закатывание валков.
– Ты вон лучше принеси из околка хворосту наверх, а то ветром может завернуть не улежавшееся сено.
Едва я вошел в лес, как вокруг загудели оводы, поднялись к лицу неуёмные комары – только успевай отмахиваться. Но я уже был не тем городским жителем, боявшимся их малейшего укуса – попривык. Ухватив длинную валежину, я потянул её на поляну.
Дед перекинул валежину через копну и велел мне лезть наверх, держась за неё.
Матушка подсаживала меня под зад, и я не без труда влез на омёт. Далеко развернулась скошенная поляна передо мной, обрамленная куртинами кустов, извилистая опушка леса, узкие перешейки между колками.
Навильник сена едва не опрокинул меня.
– Втаптывай под ноги, – крикнул дед, – и трамбуй сильнее, чтоб дожди не промочили…
Солнцу надоело наблюдать за моей работой, и оно медленно, но неуклонно стало сползать к лесу. Застрекотали кузнечики, оживились птицы. Иволга засвистела, сороки застрекотали. Прохладой потянуло.
Мы завершили второй стожок, когда уставший дед отер потное лицо.
– Славно поработали, не зазорно и домой подаваться, а то хозяйство без догляда осталось.
Вечер оседал на лесостепь с мягкой поволокой, гнал волны предзакатного света по изнеженным травам, по кронам деревьев, пробиваясь в самую потаенную гущину листьев, по крышам домов и дворовых построек, по накатной дороге, и затаивался где-то в недоступных взору далях, в иных просторах.
И, несмотря на усталость, благостно было мне и спокойно. Даже некоторое чувство довольства самим собой за то, что помогал матери и деду в серьезной, нужной работе, теплым облачком таилось где-то в груди. Сопричастным к хозяйствованию, к крестьянскому делу, подлинно важному в заволоке, выпавшего на нашу долю, жизненного течения, ощущал я и подражал деду в походке, в молчании, в размеренном покачивании тела. Дед – хозяин, я – помощник, а куда иголка – туда и нитка. И отрадно было осознавать нашу неразрывность не только в кровном родстве, но и в бытовом осмыслении, в тех вешках, что зримо или незримо обозначались в будущем. У меня хотя и не было жизненного опыта, но детская интуиция повыше взрослой. Она и вела меня к определенному поведению.
Светло, умиротворенно и упоительно.
3
Мы с Шурой поливали огурцы, когда через прясла, в огород, перемахнули мои друзья – Паша и Славик.
– Иди посмотри, кого мы нашли! – взволнованно сообщил Паша.
По тому, как они дышали, как глядели с изумлением, я понял, что в действительности они увидели нечто необычное.
– Я еще огурцы не полил.
– После польешь! Пошли!
– Иди уж, – разрешила Шура. – Тут немного осталось – я одна управлюсь.
Пока бежали – не до разговоров было, а когда оказались у заднего плетня Пашиного огорода, он кивнул:
– Вон там, где кол длинный. Прямо под ним.
Раздвигая траву, я даже откачнулся, заметив крупную, почти с голубя, серо-пеструю птицу с розовым, широко раскрытым ртом, желтыми немигающими глазами. Она резко: раз-другой метнула вверх голову с раскрытом клювом, и неприятный озноб плеснулся на спину.
– Он, видно, какой-то паразит, голышат клюёт, – подал свою догадку Паша. – Пасть-то вон не птичья.
На жердях появились какие-то красногрудые и черноголовые птички, запорхали с тревожными криками: чик-чик, чик-чик… Одна из них держала в клюве червяков.
– Ничего не пойму, – следил за птичками Славик. – Неужели они его так раскормили?!
Я разглядел под оперением птицы валики травяного гнезда, а возле них усохшие трупики птенцов-голышат.
– Не-е, Паша, птенчиков он вытолкнул из гнезда. Вон они засохшие лежат. Это чужой кто-то.
– Вот нахлебник! – изумился друг. – И угрожает еще. Сейчас звездану палкой – и каюк.
Я поглядел на тревожно летающих вокруг нас птичек и предостерег друга от неприятного поступка.
– Не надо! Тут что-то не так. Пойдем у Шуры спросим. Она небось, знает.
– Кукушонок там, – с насмешкой пояснила нам Шура. – Кукушка гнезда не вьет, так ей природой положено, а яйца свои в чужие гнезда подкладывает. Птички её детей и выкармливают. Паразитство, но, видно, так надо. Иначе бы зачем этой птице быть. Не трогайте вы его…
Дня два нам было не до кукушонка. Сенокосная страда заметала и старых и малых, а когда выбрали время и пошли смотреть необычное гнездо, кукушонка уже не было. Улетел ли он или какой зверек по нашим следам отыскал его – не ведомо. Только в лесу еще нет-нет да и можно было услышать грустное: ку-ку, ку-ку… А может, кукушка знала о том своем подкидыше и тосковала по нему. Кто знает?
4
Вышел я на крыльцо спросонья и, поёживаясь от вмиг опахнувшей тело холодной сырости, обомлел от изумления: и надворные постройки, и соседние дома плавали в густой белизне, утонув в ней почти наполовину – ни травки-муравки у палисадника, ни дороги вдоль улицы, ни ближнего леса, лишь раскат зари на полнеба и всё. Глянул я себе под озябшие ноги, а ступней нет – размыло их плотным туманом. Забавно как-то – вроде все на месте и в то же время ущербно. И тихо-тихо, ни ветерка, ни какого-либо шевеления. Будто замерло всё или вовсе впало в оцепенение. Ни тебе птичек, ни домашних кур с гусями, ни другой живности. Даже надоедливые мухи где-то затаились. Такого зрелища я еще не видел и ёжился, очарованный столь редким явлением, стараясь руками нащупать это неощутимое покрывало. Но пальцы мои лишь трогали друг друга, будто растворяясь в чем-то. Я попытался разогнать туман, закрывший мои ноги, вспомнив, как дед отмахивает от лица табачный дым, но ничего не получилось – руки мои лишь несуразно замелькали, то появляясь, то исчезая.
– Груздевой туман-то, – увлеченный необычным для меня состоянием, я даже не услышал, как сзади подошел дед. – Дня через два-три после него будем грузди брать. – В его голосе слышалась скрытая радость.
– Какие грузди? – не понял я дедова восторга.
– Грибы, малый Ленька, грибы. И отменные! Вот засолим нашу большую кадку, что в кладовке стоит, и зимой – на тебе к отварной картошке: ешь – не хочу, за уши не оттянешь.
Чудной дед, говорит какие-то странности – я представил себе Шуру над чашкой и тянувшего её за уши деда и не удержался от потаённого смеха. Дед услышал мой слабый смешок и, не поняв его причину, добавил:
– Их и собирать одно удовольствие. Сам испытаешь. А теперь, пожалуй, пошли в избу, а то и насморк схватить немудрено от такой сырости.
* * *
Мягкий августовский день едва перевалил середину, когда мы выехали за деревню. На телеге, едва ли не во всю её длину, стоял плетеный из ивняка объёмистый короб. Мы с дедом умостились на передке, а Кольша с Шурой залезли в короб и сидели на его обводной раме.
Не тряская, дорога повела нас между тихих, дремотных лесов, мимо затканных густым разнотравьем полян и дозревающих хлебов. И, глядя на это чудо, на залитые солнечной позолотой дали, на бледный окоём неба, не хотелось ни говорить, ни думать, чтобы не спугнуть ту сладость, что вливалась в душу вместе с лесной негой и ароматом увядающих трав.
На опушке редкого лесного отъема дед остановил лошадь у раскидистой березы и, бодро спрыгнув в траву, почему-то негромко проговорил:
– Вот здесь и будем брать грузди.
– А почему здесь, деда? – Я тоже стал прицеливаться, куда бы сигануть, чтоб не угодить на дудочник.
– Березы тут, вековые, стоят редко и на высоком месте. Дождик между ними напрямую увлажняет почву, а ни через листья, на которых влага наполовину испаряется, и солнечные лучи греют её через невысокую, что та отава, травку – самая благодать для груздей. Так что – за дело!
Нащупал я в кармане штанов свой заветный ножичек, подаренный зимой ночевавшим у нас военным, и, опережая всех, кинулся в лес. Тут же что-то хрустнуло под ногами, подошвы ботинок скользнули в стороны, и я упал на четвереньки. Резкий запах пахнул в лицо – прямо перед глазами я увидел раздавленную шляпку какого-то гриба.
– Не дави грузди, раззява! – крикнул Кольша.
Рядом, в траве, я заметил еще несколько белеющих шляпок и не удержался от восторга:
– А вот еще грузди! Еще!
– Вот и срезай их ножичком под шляпку, – подсказал подошедший дед, – и в мою корзину. Да осторожно, не выворачивай корешки с землей, не повреждай грибницу, иначе на следующее лето тут пусто будет, а мы здесь из года в год собираем грузди.
С ямкой посредине, немного заполненной дождиком или капельками росы, с увлажненной бахромой в коричневатых прожилках, грибы были чуть больше моей ладони и отдавали таким сложным запахом лесной прели, что голову закружило. Ощущая их легкую осклизлость, я срезал шляпку за шляпкой и складывал в дедову корзину, оставленную подле меня. Краем зрения я видел, что с таким же азартом режут грузди и Кольша с Шурой и дед. А грибы будто вырастали на глазах, то тут, то там появляясь из травы целыми семействами.
Быстро наполненную корзину дед отнес к телеге и перевалил набранные грибы в короб. И после, по мере наполнения корзин, то дед, то Кольша совершали ходки к коробу.
Уже через некоторое время у меня заныла спина от постоянного наклона и стало постукивать в висках. Грибной азарт начал сходить на нет.
Между тем потянуло прохладой, упали на траву длинные тени от берез, зажурчали крыльями стрекозы, охотясь на мошек.
– Пожалуй, хватит на засолку, – решил и дед. Он тоже заметно подустал. – Ведер десять – двенадцать нарезали. Да и домой пора – скоро скотину с пастбища пригонят.
Низкое солнце расплылось в ширину, потянуло через дорогу пестрые тени. Леса затемнели, подернулись красноватой поволокой разводья полян. Тихо, тепло, радужно. Но мысли о том, что где-то идет война и там мой отец, нет-нет да и рвали тонкую вязь душевного умиротворения.
5
Старая травянистая дорога тянулась по отлогим степным гривам, уводя нас к далеким, едва различимым в лучах низкого солнца, одиноким березам у широкого приозерья. По краям дороги выспевали высокие бурьяны, над которыми сверкали прозрачными крыльями стрекозы, а на побуревших от семян головках нежились выводки певчих птиц. Кругом, насколько было видно, выстилались буйные травы нетронутой степи…
Кольша шагал широко, и мне не удавалось держаться с ним рядом – кое-как я поспевал семенить сзади. Он нес на спине холстяную сумку с веревочными лямками, набитую короткими поленцами, отчего его тень на траве была несуразно горбатой…
Безветрие, мягкий вечерний свет, тихие травы, бабочки, стрекозы и спокойные птицы – проникновенная явь дикого мира, дар особых ощущений и особого настроя…
Ноги у меня заметно потяжелели, когда Кольша остановился на опушке глухих зарослей кустарника. Они закрыли и степь, и солнце, и острый запах распаренной ивы наплывал от них, съедая все другие запахи. На дальних сухих деревьях, торчащих вразброс по этим зарослям, неподвижно сидели большие темные птицы, и Кольша, сбрасывая со спины сумку, кивнул:
– Коршуны на ночлег расселись. А тот вон – дальний, орел…
С легким душевным трепетом я осматривался по сторонам, слушая его пояснения.
А Кольша полез в ближний куст ивняка и стал топориком срубать в его середине лишние побеги.
– Здесь наш скрадок будет, – сразу отсек он мои возможные вопросы. – Помогай маскировать, рви траву…
Загрубевшая трава с трудом поддавалась моим усилиям, но кое-что я все же наскреб. Кольша за это время успел нарвать целую охапку разнотравья. Мы поплотнее обложили ими куст и подстилку внутри выстлали.
Неподалеку от куста, на бугорке, среди низкой травы, Кольша стал особым способом укладывать принесенные березовые срезки.
Быстро темнело. Скрылись из вида и сухостойны с хищными птицами, и редкие деревья по увалу, и дальняя оконечность кустов. Тишина нарушалась лишь одним звоном комариков, поднимавшихся из остывающих трав.
Когда огонек заметался под сложенными чурбачками, Кольша живо потянул меня в куст, на подстилку. Там мы и затаились, не двигаясь и не разговаривая. Лишь комаров приходилось отгонять легкими движениями. Всю эту канитель Кольша не стал мне объяснять, отрезав одной фразой:
– Сам увидишь, что к чему…
Напряжение нарастало по мере того, как разгорался костерок, обливая траву теплым светом. Пламя его из-за отсутствия ветра лишь слегка трепетало, робко перебираясь с одного полешка на другое.
Тихо, таинственно, темно… Причудливо размытые темнотой кусты вроде бы колебались, и пугающие мысли прокрадывались в сознание, и трепетно было на душе… И вдруг эту плотную тишину потряс низкий протяжный рев, накатившийся откуда-то сзади, из глубины зарослей. От его звука сжалось сердце и похолодела спина. Я не успел перекинуться взглядом с Кольшей, как к угасающему на самом низком тоне реву припал резкий вибрирующий вой, быстро набирающий силу в подъеме, истончаясь до жуткого срыва. И тут же, дробясь о еще не потухший отзвук дикого вопля, вразнобой затявкали щенячьи голоса. Голову мне покрыло холодным налетом, и волосенки от этого задвигались. Мелкие укольчики покатились с затылка на шею и вниз по хребту, коробя на спине кожу. А рев вновь повис в темноте и вновь его поддержал поднимающийся в небо тягучий вой и нестройное тявканье. Взгляд мой наконец поймал Кольшины глаза и показалось, что они у него необычно светятся – это играли в зрачках отблески близкого костра. Лицо у Кольши непривычно белело, и трудно было понять, от страха это или опять же причина в мягком свете тихого костра. Одно уловил я: Кольша сжимал ружье так, что пальцы рук чуть-чуть плющились.
– Волки! – едва выдохнул он. – Но к нам они не сунутся – костер горит. Да и ружье вот оно – в случае чего.
А жуткий звериный перепев в той же очередности и в том же ритме не прекращался, давя на душу. И в этот момент я краем зрения заметил какое-то движение в отблесках костра, и острая судорога прошила тело с головы до ног, полыхнув зарницей в остановившихся глазах. Но в следующий миг я разглядел не страшного зверя, а серых птиц, робко цепочкой выходящих к костру из гущины трав. И сразу оборвался парализующий звериный вой – стало тихо-тихо, до отчетливого звона комариных крыльев. Теплом обдало лицо и потеплело в груди.
Кольша тоже заметил птиц, но молчал и не двигался. А их вереница почти кольцом окружила костер и двигалась вокруг него с поочередным поворотом шеи и покачиванием головы то в сторону костра, то в направлении кустов. Казалось, что похожие на оперившихся цыплят птицы совершают некое чародейство, связанное каким-то образом с волчьей спевкой. Я, еще не до конца осознав увиденное и услышанное, с тайным трепетом наблюдал этот необычный кордебалет, все же понимая, что перед нами какие-то известные птицы и скорее всего их и ждал Кольша. Не зря же он все это затеял? А раз так, то должен быть выстрел. Но его не было, а причудливая птичья толкотня отвлекала, поднимая в душе светлые чувства.
Кольша сидел все в той же позе, сжимая берданку. И непонятно было: то ли он не отошел еще от легкого оцепенения, вызванного волчьим воем, то ли ждал удобного момента.
Вдруг мелькнуло что-то в темном небе, отбивающим вниз свет костра, и птицы мгновенно юркнули в траву. Большая сова, похожая на огромного мотылька, метнулась над нами в сторону зарослей. И вновь стало напряженно тихо, мертво и как-то печально.
Костер догорал, и Кольша полез из скрадка, держа ружье наготове.
– Кто это был? – не выдержал я игру в молчанку, сдерживая голос и озираясь по сторонам.
– Серые куропатки. Их почему-то огонь в это время интересует. Как завороженные к нему выбегают.
– А чего ты не стрелял?
– Да не успел, сова помешала. – Кольша принялся присыпать остатки костерка землей, ковыряя её топориком.
Но я ему не поверил: времени для верного выстрела было предостаточно. И, чуть помедлив, я сказал об этом.
– Говорю – не успел, – стоял на своём Кольша. – Да и видел же, как они забавно кружатся – залюбуешься…
«А как же охота? Добыча? – метнулись мысли. – Впустую?» И я вдруг ощутил теплоту каких-то иных чувств, иных понятий, связанных с красотой окружающего мира. И новые раздумья овладели моим сознанием.
– Не всегда же нужно стрелять, – словно понял мое состояние Кольша. – Можно и что-то интересное подглядеть в природе…
Темнота обложила нас сразу, едва мы отошли от едва теплившихся углей бывшего костра: ни огонька, ни чего-либо приметного. И я не мог понять, как Кольша определил нужное нам направление, и боялся отстать от него, цепляя ногами густые переплетения вязелей. И эта тревога гасила налетные мысли о том, что пришлось услышать и увидеть в скраде, у костерка. И до самой деревни мною владели лишь ощущения безбрежности и черноты глухого пространства.
Глава 2. Школа
1
Еще летом, задолго до начала учебного года, Паша, уже окончивший первый класс, сводил меня к школе, показал все потайные места её двора, где они по переменам играли в войну, обвел вокруг бревенчатого строения с непривычно широкими окнами, вдоль тенистого палисадника с высоким заборчиком из штакетника и торкнулся в наружную дверь, но она оказалась закрытой. Лишь через мутноватые стекла окон, подсаженный Пашей на его горбушку, проглядел я и длинный, казавшийся необычно большим в сравнении с комнатами знакомых мне изб, коридор и классы, и даже учительскую. И заронившаяся в глубинах души некая робость перед всем тем, что связано со школой, еще больше усилилась, хотя бояться мне вроде было нечего: читал я хотя и не бегло, но вполне сносно, и считать не хуже Паши научился. Тем не менее тревога с накатами радости все сильнее и сильнее охватывала меня по мере приближения заветной даты.
* * *
Я плохо спал, боясь опоздать на уроки в первый школьный день. Но перед утром сон все же поборол меня, и я очнулся лишь после настойчивой побудки.
– Разоспался, как барин, – сердилась Шура, – не успеешь поесть и собраться.
Из кухни пахло хлебом и древесными углями. Нагретая печь дышала мягким теплом.
Я прижмурился от яркого света, лившегося через окна.
Дед сидел на скамейке и пил чай с пирогами. Улыбнулся:
– Продремал малость. Давай умывайся – да за стол, пироги стынут. Кольша вон уже смылся к Лукашовым, хотя ему и во вторую смену учиться.
Матушка хлопотала возле печки. Лицо её румянилось от близкого жара.
– Теперь не поспишь, как прежде, – она обернулась ко мне с радостной улыбкой, – теперь ты ученик. Одногодки твои уже во втором классе, а ты – октябрьский, и потому в прошлом году тебя в школу не взяли. Так что – догоняй, старайся.
Я и так старался: еще с вечера сложил в портфель старый букварь, пенал и ручку с чернильницей, повесил на спинку кровати новую рубашку и костюм, примерил новые ботинки. Все это купил перед войной отец, рассчитывая отдать меня в школу в том, прошлом, году. Вещи и лежали в сундуке в ожидании своего времени. Правда, все они были мне несколько маловаты, но вполне сносны.
Едва я уселся за стол, как в избу ввалился Паша. Без портфеля, с какой-то тряпичной сумкой, в старых, разношенных сапогах, похоже – материнских, и, поздоровавшись, уселся на дедов сундук у порога.
Выходило, что зря меня торопили – уж Паша-то никогда не опаздывает, проверено.
Глядя на его обувь и подштопанную рубаху, мне стало как-то мучительно стыдно. Потянулись безотрадные мысли, и, соскользнув с лавки, я пальцем поманил мать в горницу.
– Чего ты? – негромко спросила она, поправляя платок, закрывавший её густые волосы.
– Давай отдадим Паше одну мою рубашку, а то он в застиранной идет в школу.
Матушка оглянулась, как будто опасаясь, что нас услышат.
– Я уже думала об этом. Но он постарше тебя – не подойдет, поди, ему твоя рубашка.
– А ты ту самую, которую покупали на вырост.
Мать открыла чемодан с вещами, достала новую рубаху и вышла в кухню.
– Померь-ка, Пашенька, вот эту, а то твоя уж больно неприглядная для школы.
Паша покраснел, нагнул голову, но не пошевелился.
– Померь, померь, – обернулся на разговор и дед – он сразу понял, что к чему.
– Новая, Паш, не надевал ни разу, – подтолкнул и я друга в бок. – Бери насовсем.
Кое-как мы уговорили его надеть предлагаемую рубаху, и Паша сразу стал заметнее, красивее вроде.
– Прямо, красный молодец! – не обошлась без насмешки Шура. Она, как мне показалась, не очень одобрила наш поступок.
– Маленько тесновата, но сойдет, – оглядывая друга, порешила матушка. – Носи на здоровье да старайся учиться.
Я рад был за друга, и на улицу мы выскочили бегом, забыв, что идем не играть, а в школу.
День выдался солнечный, игривый, но с блестками изморози на жухлой траве. Попискивали, обследуя застреху сарая, желтогрудые синицы, возились с щебетом щеглы в палисаднике, бились в драке юркие воробьи, что-то не поделив, а мы бежали к школе, навстречу первого дня учебы.
Веселый гомон ребятни мы услышали издали, не дойдя до ограды. Гурьбой носилась они по двору в какой-то игре. Взрослых не было, и это ясно – в страду все работали. Мы было направились к заплоту, на котором сидели знакомые ребята: Мишаня Кособоков и Антоха Михеев, но из школы вышла маленькая старушка и зазвонила в колокольчик.
Всех учеников – от первого до шестого классов – построили в одну шеренгу, и мы вытянулись почти во всю ограду. Юркая невысокая женщина начала что-то говорить с торжественными нотками в голосе, но я плохо улавливал смысл её речи, дрожа всем телом от охлажденного ночным морозцем и еще не согретого воздуха. Да и сердечко трепетало от волнения. Но что удивительного, краем зрения я заметил стоявшего в отдалении того самого старика, который приходил к нам смотреть корову и потчевался дедом за столом. Опершись ладонями на палку, он ни то слушал директрису, ни то сам что-то нашептывал, поглядывая на наш разновозрастный ряд. Его роскошная, словно выбеленная ночным инеем, борода прикрывала полусогнутые колени, волосы на голове дыбились седой куделью, но самое непонятное – дед был босиком. И это на траве, еще не обсохшей от растаявшего инея, выпавшего ночью! Широкие и узловатые его ступни будто и не ощущали холода: не было заметно хоть какого-либо их шевеления.
Вновь резкий и звучный звон колокольчика отпугнул и сердечную тревогу, и несостоявшиеся предположения по поводу непонятного деда. Смешавшись в тесной гурьбе, мы ринулись в коридор, растекаясь в классы. Их оказалось всего два. С нами, в первую смену, определили сидеть третьеклассников – они и заняли два ряда ближе к окнам. А после нас, с обеда, предполагался на учебу второй и четвертый класс. Так что с Пашей – второклассником учиться в одну смену не получалось. Зато Шура была пятиклассницей, и я, как-никак, оказывался под надзором, да и с поддержкой в случае чего. Пятый и шестой классы тоже должны были заниматься с утра – за стенкой от нас.
А Кольша шел в седьмой класс, во вторую смену, и с ним мы не совпадали по времени.
Вбежав в класс, я увидел учительский стол, крашеные в черный цвет парты, в углу – круглую, под самый потолок, печку, обшитую листовым железом, тоже черную. Толчея, споры – кто, где?..
Я не стал претендовать на первые места и сел за парту третьего ряда. Вошла пожилая, высокая и худощавая учительница. Как потом оказалось – она была из тех эвакуированных, которых завезли в нашу деревню зимой. Поздоровавшись, учительница внимательно оглядела едва ли не каждого первоклассника, а было нас не меньше двух десятков, и низким голосом произнесла:
– Во-первых, когда учитель входит в класс, все обязаны вставать, и в ответ на приветствие – дружно его приветствовать. Во-вторых, посторонних разговоров, а, тем более, лишних движений, не должно быть. В-третьих, запомните одно из основных правил – никаких опозданий на уроки. А теперь давайте знакомиться: меня зовут Екатерина Дмитриевна.
Началась перекличка. Учительница поднимала по очереди каждого и спрашивала имя, фамилию, сверяя ответы со списком. Не обошлось и без курьезов. Один мальчишка на вопрос учительницы, как его фамилия, ответил:
– Глухушкин.
Раздались смешки, невнятные возгласы.
– Но у меня такая фамилия не значится?
– Это по-уличному, – выкрикнул кто-то из третьеклассников. – У него мать глухая – вот и прозвали Глухушкиным. Шатков он.
– А прозвища давать нехорошо.
Но оказалось Шатков был не единственным, кто путал прозвище и фамилию. Прозвучали: Варюшкины, Аксюткины, Лизкины, Мишкины и иные – все по именам родителей. И тому причиной являлись не только прозвища: в деревне жило немало однофамильцев и, чтобы не путаться, их удобнее было называть по именам матерей или отцов.
Не очень понравился мне первый день в школе: все, о чем говорила нам учительница, в том числе и домашнее задание, было почти доподлинно знакомо и не вызывало какого-либо познавательного интереса. Одно тешило: на длинной, минут в двадцать, перемене мы большими командами играли в войну, и мне пригодился тот, первый летний, опыт под руководством первейшего друга Паши.
2
Школьные задания давались мне легко, и ясный солнечный сентябрь пролетел быстро, в тех же прошлогодних хлопотах по хозяйству: возили сено, копали картошку, заготавливали дрова, но теперь, во всех делах, я уже был не наблюдателем или суетливым недотепой, а достаточно весомым по своим годам помощником.
В начале октября зачастили напористые ветра. За несколько дней они сбили с деревьев листву, и обнаженный лес потемнел, ощетинился голыми ветками, и дед забеспокоился.
– Надует этот ветер непогоду. Надо последний стожок вывезти, а то по снегу не дадут лошадей гробить. Они хотя и колхозные, но теперь ценнее ценного. Выездных жеребцов отрядили в армию, а оставшихся надолго не хватит – без жеребца, какой приплод.
– Поедем пораньше, чтобы косачей почучелить, – заиграл глазами Кольша.
Дед поддержал его. А куда я от них… И вот наступил долгожданный момент. Я и молоко пить не стал, и говорить старался меньше, так тряс меня внутренний озноб. Дед улыбался, щурясь, понимая мое состояние, а Кольша подтрунивал:
– Чтой-то ты зубами чакаешь? Замерз или боишься?
– Это у него от волнения, – стал на мою сторону дед. – А ты иди-ка за чучелами в сарай, да топор не забудь и вилы. – Он задул лампу, и мы тихо вышли в сени.