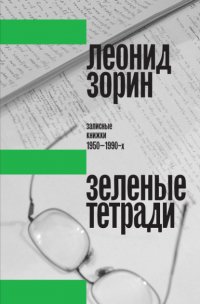Читать онлайн Покровские ворота бесплатно
- Все книги автора: Леонид Зорин
Римская комедия (Дион). Древняя история в двух частях
Действующие лица
Дион.
Мессалина – его жена.
Домициан – император.
Сервилий – поэт.
Фульвия – его жена.
Клодий.
Лоллия.
Афраний – прокуратор.
Бен-Захария – вольноотпущенник.
Бибул – пожилой корникуларий.
Полный римлянин.
Плешивый римлянин.
Глашатай.
Юноша.
Молодой корникуларий, римляне и римлянки.
Действие происходит в Риме в конце первого века.
Часть первая
1
Послеобеденное гуляние в районе Капитолия. Римляне неторопливо прохаживаются, наслаждаясь теплым вечером. Негромкий говор, взаимные приветствия. Выходит глашатай. Быстро поднимается на ступени, машет рукой, призывая к тишине. Все умолкают.
Глашатай. В добрый час! Слушайте свежие римские новости. Никогда наш Рим не был так горд, могуч и прекрасен. Достойные римские граждане с удовлетворением следят за возвышением столицы Империи и радуются ее растущей красоте. Что же произошло за истекшие сутки? А вот послушайте внимательно и соблюдая порядок.
Аппий Максим Норбан, занимавший, как известно, пост претора, получил новое ответственное назначение. Император Домициан утвердил его в качестве наместника Ретии. Сопровождаемый пожеланиями плодотворной деятельности, Аппий Максим отбывает к месту новой работы.
Полный римлянин. Крупно шагает Максим Норбан, – ох и крупно…
Плешивый римлянин. Что вы хотите, Танузий, сейчас время молодых.
Глашатай. Вчера, после ужина, от разлития желчи скончался рекуператор Эфиций. Каждый римлянин согласится с тем, что это поистине невозместимая потеря. Мудрость, справедливость и обаяние Эфиция неизменно ощущали и его сослуживцы, и те, кто прибегал к его авторитету, и те, кого он судил. Нет сомнения, что светлый образ покойного навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
Полный римлянин. Ах, бедняга Эфиций… Интересно, что он такого съел?
Плешивый римлянин. Увидите, теперь назначат Сеяна. Сеян давно метит на это место.
Глашатай. Вчера император Домициан увенчал лаврами поэта Публия Сервилия. Новый лауреат хорошо известен гражданам Империи. Истинный сын Рима, он по праву может считаться певцом его величия. Прекрасные сюжеты сочетаются в его стихах с нежной, изысканной мелодикой. Нет сомнения, что увенчание Сервилия будет с удовлетворением встречено населением.
Полный римлянин. Вот это здорово! Я и сам люблю его стихи.
Глашатай. Продолжается странное заигрывание наместника Верхней Германии Луция Антония Сатурнина с хаттами. Император Домициан вчера за обедом выступил с речью, в которой подчеркнул, что подобные действия наместника вызывают самое пристальное внимание Рима.
Полный римлянин. Ох и штучка, доложу вам, этот Антоний Сатурнин! Никаких устоев.
Плешивый римлянин. Я его знал юношей. Постоянно грыз ногти.
Глашатай. Городская хроника. Завтра в цирке состоятся большие квесторские игры. Будут проведены решающие гладиаторские бои. В боях примут участие женщины и карлики. Император Домициан почтит игры своим присутствием.
Полный римлянин. Пойдете? Я уже заказал места.
Плешивый римлянин. Какие теперь гладиаторы… Ни один не может нанести стоящего удара…
Полный римлянин. Помните Спикула? Вот это был боец…
Плешивый римлянин. А Тибул-фракиец? Нынешние – подмастерья, а те были мастера…
Глашатай. Завтра же, по окончании игр, во дворце императора Домициана состоится большой вечер по случаю очередной годовщины его правления. Всем достойнейшим гражданам разосланы соответствующие приглашения. На этом я заканчиваю. В добрый час!
Полный римлянин. Вы получили приглашение?
Плешивый римлянин. Я с утра не был дома. А вы?
Полный римлянин. Вот и я, – с самого утра…
Плешивый римлянин. Смотрите, Танузий, – прокуратор Афраний…
Идет Афраний, высокий, дородный мужчина. Выражение величественной снисходительности не покидает его лица.
Афраний (вглядываясь в проходящую толпу). Эй, вольноотпущенник!
Появляется маленький смуглый человек.
Смуглый. Слушаю вас, справедливейший.
Афраний. Гуляешь?
Смуглый. Гуляю.
Плешивый римлянин. Вы его знаете? Бен-Захария. Ученый секретарь при прокураторе.
Полный римлянин. С этим пройдохой не шутите. Прокуратор без него как без рук.
Они смешиваются с толпой.
Афраний. Послушай, Бен-Захария, где ты был вчера вечером?
Бен-Захария. Можете себе представить, ко мне приехал земляк.
Афраний. Из Иудеи?
Бен-Захария. Из нее.
Афраний. И есть свежие анекдоты?
Бен-Захария. Как не быть.
Афраний. Тогда – другое дело. У меня было несколько мыслей по поводу последних законоположений, и я, по правде сказать, был сердит, что ты отсутствовал. Но если твой земляк привез новые анекдоты, то это другое дело. О чем же они?
Бен-Захария. Разумеется, о Риме.
Афраний. Обожаете вы сочинять о Риме анекдоты.
Бен-Захария. Справедливейший, что нам еще остается? Победителям – пожинать лавры, побежденным – сочинять о победителях анекдоты.
Афраний. Ну, рассказывай, не тяни…
Бен-Захария. С удовольствием, справедливейший. Встречаются как-то два консула…
Они проходят. Появляются Лоллия и Клодий. Лоллия – энергичная красивая римлянка лет тридцати. Клодий – римлянин из знатного рода, прямая ей противоположность, его небольшие умные глаза устойчиво хранят сонное выражение.
Лоллия. Мы опоздали, Клодий, – все люди, мало-мальски стоящие внимания, уже разошлись.
Клодий. Лоллия, вы слишком скромны, – они здесь только что появились. (Целует ей руку.)
Лоллия. Клодий, друг мой, вы льстите так, как льстили наши деды, – грубо и прямолинейно. Вы-то знаете, что я совсем не скромна.
Клодий. Друг мой Лоллия, установлено, что лесть тем действенней, чем она грубей. В лести не должно быть недомолвок, – все должно быть ясно, определенно и не допускать толкований. Когда Гораций льстил Цезарю, он отбрасывал всю свою тонкость.
Лоллия. Но ведь то был простой солдатский век, не отягченный современными сложностями. И кто читает теперь Горация? Дети и ученые. И Гораций и Виргилий – это почтенное прошлое Рима. Его можно уважать, но оно никого не волнует.
Клодий (вновь целует ей руку). Либо я опоздал родиться, либо крайне глупо устроен.
Лоллия. Неужели вас трогает традиционный стих с его вялыми ритмами? Да, мой друг, вы становитесь старомодны.
Клодий. Я старею.
Лоллия. Хуже – устареваете.
Клодий. Лоллия, мне сорок два года.
Лоллия. Клодий, римлянке важен не возраст мужчины, а его время. Ей нужно знать, прошло оно или нет.
Клодий. Мое время либо прошло, либо не настало.
Лоллия. Это громадная разница, друг мой, ее необходимо установить. В сущности, она и определяет, чего вы стоите.
Клодий. Что делать, вы женщина практического ума, и в этом ваше очарование. Сюда идет Публий Сервилий, человек, лишь вчера увенчанный лаврами. Уж с ним-то по крайней мере все ясно.
Лоллия. Вы отрицаете его дарование?
Клодий (пожав плечами). Дион с его эпиграммами занимает меня больше.
Лоллия. Клодий, оригинальничанье так же старомодно, как любовь к Горацию. Чем вас может занимать Дион – побойтесь Бога… Неудачник, изливающий свою желчь, ничего больше. Завтра или послезавтра его вышлют из Рима, и этим все кончится.
Появляется Публий Сервилий, высокий круглолицый римлянин, веселый и обаятельный.
Вот и наш триумфатор, обожествленный настолько, что ему нет смысла замечать смертных.
Сервилий. Лоллия, вы славитесь умом, как могли вы это подумать? Именно теперь я буду замечать всех и каждого. Недоступность нужна, пока ты не признан. После признания к ней прибегает только болван. Привет вам, Клодий.
Клодий. Привет и поздравления, Сервилий. Вы рассуждаете очень здраво.
Сервилий. Я нуждаюсь в людях и не намерен их отпугивать. С успехом их могут примирить только несчастье или демократизм. Обзавестись какой-нибудь большой бедой, сами понимаете, себе дороже, зато демократизма во мне хоть отбавляй.
Лоллия. Вот, Клодий, что такое человек современный.
Сервилий. Кроме того, я по натуре доброжелателен. Никакого насилия над характером.
Лоллия (кивнув на Клодия). Мы только что спорили. Наш друг расхваливал Диона.
Клодий. Скорее, вы его бранили.
Сервилий. Бедняга, он никогда не нравился женщинам. В конце концов, у него есть свои достоинства.
Лоллия. Неужели вам не надоели его обличения? Вы действительно добрая душа.
Сервилий. Что ж, когда у человека дурное здоровье, слишком заботливая жена и хроническая неудовлетворенность, он становится либо пьяницей, либо сатириком. Я рад, что встретил вас, Лоллия, вы мне необходимы.
Лоллия (прерывая его). Одно мгновение. Клодий, вы видите, там Цезония. Скажите ей, что я жду ее вечером.
Клодий. Слушаюсь. (Отходит в глубину.)
Сервилий. Вам нужна Цезония?
Лоллия. Мне не нужен Клодий. Нет, не вообще, а сейчас.
Сервилий. Я так и понял.
Лоллия. Вы остановились на том, что я вам необходима. В его присутствии вам пришлось бы объяснять – почему. А ведь у поэтов такое слабое воображение, когда дело касается обыденной жизни.
Сервилий. Боже, как вы умны.
Лоллия. Вы, конечно, просили бы меня прочесть ваши новые стихи.
Сервилий. Верно. Но мне и в самом деле нужно ваше одобрение.
Лоллия. Одобрение женщины? Зачем оно вам? У вас есть одобрение императора.
Сервилий. Вы больше чем женщина. Вы – общественное мнение. Я хочу вас видеть. Мне кажется, со вчерашнего дня я получил надежду…
Лоллия. Я все-таки женщина, и у меня слабость к победителям. Когда и где?
Сервилий (задумывается). Когда и где?
Лоллия. Быстро, Клодий уже идет.
Сервилий. Вот проклятье, не дадут подумать…
Лоллия. Вот и ваша жена… Может быть, посоветуетесь с нею?
Сервилий. Вы знаете дом моего друга Энния Цинны, вблизи театра Марцелла?
Лоллия. Разумеется.
Сервилий. Завтра в полдень я буду там один.
Лоллия. Хорошо. Вы не будете там один.
Вместе с Клодием к ним подходит Фульвия, жена Сервилия, полная краснощекая женщина, богато одетая.
Мой привет, Фульвия, мы поздравляем здесь вашего знаменитого мужа. Расскажите, что чувствует жена лауреата?
Фульвия. Могу вам сказать, что я удивлена. Пожалуй, это самое сильное чувство. Посудите сами, свет не видел такого лентяя, как мой муж Сервилий. Все, что им написано, друзья мои, это мой пот, мои слезы, мои усилия. Дай ему волю, он бы только и делал, что кутил с приятелями и плел всякую чушь доверчивым дамочкам.
Лоллия. Подумайте! Как обманчива внешность!
Сервилий. Ты преувеличиваешь, жена.
Фульвия. Все, что угодно, лишь бы не работать. А на мне дом, на мне – поместье, и все это, видите ли, должно быть достойно его имени. Сам-то он человек беспорядочный, но порядок и чистоту обожает.
Лоллия. Ах, Фульвия, к поэтам надо быть снисходительной.
Фульвия. Вот-вот, говорите это при нем, для него подобные речи – мед. А все дело в том, что он родился под счастливой звездой, нашел женщину, которая из него сделала человека. Его счастье, что кроме меня никто не читает его черновиков.
Сервилий. В конце концов, ты знала, на что идешь.
Фульвия. Так вот всегда: ему главное – отшутиться. И при всем том он неприлично ревнив. Иногда я жалею, что не родилась кривобокой. Лоллия, вы непременно должны нас навестить. И вы, Клодий, – ведь вы еще не видели нашего поместья.
Клодий. Чрезвычайно польщен. Лоллия, пора. (Супругам.) До завтра у императора.
Лоллия. До завтра. Прощайте, Фульвия. Прощайте, Сервилий. Мой привет вашему другу Эннию Цинне, который живет близ театра Марцелла.
Сервилий. Он будет счастлив.
Лоллия и Клодий уходят.
Охота тебе срамить меня и срамиться самой.
Фульвия. Что нужно от тебя этой… кукле? Стоило Домициану нацепить на тебя венок, она уже тут как тут. Я знаю наперечет всех ее любовников. Можешь поверить, тебе нечем гордиться, ей важно одно: чтоб они были на виду.
Сервилий. Видит небо, Фульвия, я покладистый человек, у меня легкий характер. Чего ради тебе нужно мне портить настроение и аппетит? Я-то ведь снисходителен и умею не замечать. Слава богу, терплю за столом твоего центуриона, хоть он болтлив, как старая баба, и твоего грамматика, хотя он не может связать двух слов. Живи, но дай жить другим.
Фульвия. Негодяй, ты посмел сказать это честной римлянке? И лишь потому, что у нее есть бескорыстные друзья?
Сервилий. «Честной римлянке»… При чем тут Рим, хотел бы я знать? Честной можно быть и в Афинах.
Фульвия. Фарисей, лицемер, ты и в словах блудишь, как на ложе. Разве это не ты писал:
Нет таких дев на земле, чтоб могли они с римлянкой спорить,
Римлянке только одной эта стыдливость дана…
Сервилий. Ах, Фульвия, мало ли что я писал?..
Фульвия (продолжает).
Нет, я ничто не сравню с римским носом и с римской осанкой,
С римской глубокой душой, с римским открытым лицом…
Сервилий. Что ж ты думаешь, я и в самом деле так глуп, чтобы считать римские носы вершинами цивилизации?
Фульвия. Ну, дождешься ты у меня! Когда-нибудь я встану у храма Юпитера и крикну: «Люди, не верьте ему! Он лжет!»
Сервилий. Почему бы тебе не избрать для этого Большой Рынок?
Фульвия. Со вчерашнего дня ты забыл, что обязан мне всем!
Сервилий. Забудешь, как же. Ты твердишь это с утра до вечера. И довольно! Сюда идет Мессалина. Не хватает мне попасть на язычок ее мужу…
Входит Мессалина, жена Диона, полная женщина с постоянно озабоченным лицом.
Фульвия. Мессалина, мой привет. Вы кого-то ищете?
Мессалина. Привет и вам. Вы не видели моего Диона?
Фульвия. Нет, к несчастью. Он, верно, бродит один и обдумывает свои эпиграммы.
Сервилий. Уж будто он пишет одни эпиграммы. Он талантливый человек, и, бесспорно, его занимают значительные сюжеты.
Мессалина. Не знаю, что его там занимает, только ночью он не давал мне спать, так он кряхтел. У него было колотье в левом боку, и я смазала его коринфской амброзией.
Фульвия. Хиосская настойка верней, дорогая Мессалина. Ее и Филимон рекомендует.
Мессалина. Не верю я врачам, и все тут. Напускают на себя умный вид, а знают столько же, сколько мы.
Фульвия. И все-таки – обратитесь к Филимону.
Мессалина. Ну его; говорят, он берет за визит не меньше тысячи сестерциев. Пусть уж лечит знатных господ, а нам он не по карману.
Фульвия. Где вы проводите лето, дорогая?
Мессалина. Где ж нам быть? Снимаем, как всегда, домишко на Аппиевой дороге.
Фульвия. Милая, вы делаете большую ошибку. Отдыхать можно только на Альбанском озере. На Аппиевой дороге никакого купания и публика на редкость вульгарная. Всякие менялы, нажившиеся вольноотпущенники…
Мессалина. А на озере цены втрое выше. Пусть уж туда едут знатные господа.
Фульвия. Что поделаешь, мой Сервилий очень капризен. Он говорит, что может творить только под плеск волны. Вы обязательно должны побывать в нашем новом поместье, дорогая Мессалина. И вы, и Дион.
Мессалина. Еще говорят, на этом озере ужасные нравы. Семейной женщине просто нельзя появиться одной. Эти господа считают, что им все позволено.
Сервилий. Сильно, сильно преувеличено. Добродетель римлянок охраняет сон их мужей. Помнится, я об этом писал.
Мессалина. Прекрасные, возвышенные стихи. Я постоянно ставлю вас в пример Диону. Вы счастливая женщина, Фульвия. Мой муж умеет только раздражать людей, а больше, кажется, он ничего не умеет.
Фульвия. У каждой из нас свой груз, дорогая. Быть женой Публия Сервилия, может быть, и приятно, но совсем не просто. Прощайте и не забывайте нас. Вы будете завтра у императора?
Мессалина. Ну, что вы… Когда же мы у него бывали?
Фульвия. Жаль, а то бы мы там поболтали. Всяческих благ, Мессалина.
Сервилий. Передайте мой дружеский привет Диону. Я ведь поклонник его пера.
Фульвия и Сервилий уходят.
Мессалина. Послушайте-ка вы ее, – оказывается, быть женой Сервилия не просто. А что же тут трудного, хотела бы я знать? Уж верно, у нее не пухнет голова, где взять денег на обед?
Гуляющих становится все меньше.
Уславливайся с этим Дионом! Уже темнеет, а его все нет. Точно он не понимает, оболтус этакий, что порядочной женщине неприлично стоять одной.
Появляется Дион. Ему немногим больше сорока, лицо его изрезано морщинами и складками, он высок и очень худ.
Есть ли у тебя совесть, Дион?! Заставляешь торчать меня здесь на потеху прохожим. Долго ли так наскочить на обидчика?
Дион. Месса, никто тебя пальцем не тронет, не хнычь. Виноват я, что ли, что встретился мне этот баран-ритор?
Мессалина. Новое дело, какой еще ритор?!
Дион. Юлий Тевкр, скучнейшее и глупейшее из всех животных нашего славного города. Честное слово, нет ничего несносней проповедника, когда он туп и напыщен. Люди, делающие красноречие своей профессией, должны хоть что-то иметь за душой. Красноречие хорошо лишь тогда, когда служит истине, когда его диктует страсть. Но самодовольное, надменное, уверенное в себе красноречие невыносимо! Оно отвратительно! Оно исполнено фальши! Женщина, торгующая телом, жалка, но мужчина, торгующий фразой, бесстыден.
Мессалина. И ты выложил все это Юлию Тевкру?
Дион (пожимая плечами). Что я сказал такого, что надо скрывать?
Мессалина. Несчастная я. Тевкр преподает красноречие императору, это знает весь Рим.
Дион. Ну и что?
Мессалина. Недаром я жаловалась на тебя Сервилихе.
Дион. Нашла кому – стыд и срам! Только что я их встретил – надутую индюшку и ее лавроносного индюка.
Мессалина. С ними хоть ты ничего не выкинул?
Дион. Ничего, ничего, успокойся. Я только сказал Сервилию, что если Юлий Цезарь носил венок, чтоб скрыть нехватку волос, то он будет его носить, чтоб припрятать нехватку мыслей.
Мессалина. Несносный человек, зачем ты это сделал? Он попросту решит, что ты завидуешь ему.
Дион. Не решит, не так уж он глуп.
Мессалина (тоскуя). Он тебя так хвалил!
Дион. Сатириков либо хвалят, либо убивают. Больше с ними нечего делать.
Мессалина. Их еще морят голодом, дуралей. Мы всем задолжали.
Дион. По правде говоря, я хотел перехватить у Юлия Тевкра тысчонки три динариев, но, сказав ему все, что я о нем думаю, я посчитал это неудобным.
Мессалина. А что мы будем завтра есть?
Дион. На твое усмотрение.
Мессалина. Ну да, воевать с целым миром – его дело, а думать о нашем обеде – мое. Гораций Флакк тоже писал сатиры, но у него был друг Меценат.
Дион. Это пошло на пользу его желудку, но не таланту. Перестань точить меня, Месса. Ты же знаешь, что это бессмысленно.
Мессалина. Посмотри на себя. Худее, чем Нинний. Ночью ты стонал во сне.
Дион. Я подыскивал слова – это адская работа.
Мессалина. Возможно, но я не спала до утра.
Дион. Нечего меня оплакивать. Я здоров.
Появляется корникуларий Бибул. Это пожилой человек с неизменно недовольным лицом.
Бибул. Если я не ошибся, вы – поэт Дион?
Дион. Нет, достойнейший, вы не ошиблись. Дион это я, а эта славная женщина – Мессалина, моя жена.
Бибул. Рад за вас. Надеюсь, вы в добром здравии?
Дион. Слава богу! А вас, друг, мучают зубы?
Бибул. Нет, зубы мои здоровы, но вы не смущайтесь, этот вопрос мне задают часто. Что поделаешь, такое уж у меня выражение лица. Согласитесь, однако, что трудно улыбаться человеку, который в моем возрасте все еще корникуларий.
Мессалина. Сдается мне, что вы сделаны из того же теста, что мой муж.
Дион. В самом деле, застряли вы на служебной лестнице. Давно бы вам пора выйти в центурионы.
Бибул. Интриги, почтеннейший, грязные интриги. По натуре я не карьерист и к тому же начисто лишен протекции. Приходят сынки центумвиров, иной раз и суффектов, им все дороги открыты. А ведь я подавлял восстание в Иудее…
Дион. И подобные заслуги не отмечены! Мир действительно несправедлив!
Бибул. Однако у меня к вам дело. Может, слышали, завтра после квесторских игр у императора – большой прием. Мне велено передать приглашение вам и вашей жене.
Дион. Приглашение – от кого?
Бибул. Странный вопрос. От Домициана.
Дион. Не шутите, воин.
Бибул. Этим не шутят.
Дион. Но что у меня общего с императором?
Мессалина. Ради всего святого, Дион, помолчи.
Бибул. Ни у кого из нас нет чего-либо общего с божеством, но у него есть общее с каждым из нас. Приходит срок, и он обращает свое внимание на того или на другого. Признаться, только эта мысль и поддерживает меня. Вдруг я еще стану центурионом. Всего наилучшего. Желаю удачи. (Уходит.)
Мессалина. Ах, Дион, а что, если настал твой час?! Ну подумай, почему бы великому императору в конце концов не оценить честного человека?
Дион (растроганно). Месса, бедная моя Месса, ты все еще надеешься? Всегда надежды, всю жизнь – надежды, вечные глупые надежды…
Мессалина. Довольно, Дион, не так уж я глупа.
Дион. Что ты, что ты, я не думал тебя обидеть. Да и не мне над тобой смеяться! Милая женщина, я не умнее тебя. Стыдно сказать, я и сам еще до сих пор полон надежд. Самых вздорных, самых невероятных надежд!
Занавес.
2
Большой зал в знаменитом дворце Домициана. В глубине – терраса с видом на сад и озеро. Прохаживаются гости. На первом плане – прокуратор Афраний и Бен-Захария.
Афраний. Прекрасный вечер, Бен-Захария, не правда ли?
Бен-Захария. Истинная правда, справедливейший.
Афраний. Только в Риме бывают такие праздники. Сознайся, ничего подобного ты в своей Иудее не видел.
Бен-Захария. В этом нет ничего удивительного. Мы ведь бедная пастушеская страна.
Афраний. Вечер на диво, что и говорить, а все-таки мне не по себе. И каждому в этом доме сегодня не по себе, хоть и не следовало бы мне говорить об этом вольноотпущеннику.
Бен-Захария. В этом тоже нет ничего удивительного. Мерзавец Луций Антоний взбунтовался совсем уж открыто.
Афраний. Чего доброго, через несколько дней он появится в Риме.
Бен-Захария. Это будет крупная неприятность!
Афраний. Скажу тебе по секрету, Бен-Захария, это способнейший человек.
Бен-Захария. Если мне придется свидетельствовать перед ним, я присягну, что вы о нем хорошо отзывались.
Афраний (смущенно). Бога ты не боишься, Бен-Захария!
Бен-Захария. Не боюсь, справедливейший.
Афраний. Значит, ты не веришь в него?
Бен-Захария. Он мне просто не нравится. Что это за Бог, который не дает человеку покоя? То он требует око за око, то зуб за зуб. Не Бог, а какой-то подстрекатель.
Афраний. Но, Бен-Захария, без Бога нет народа.
Бен-Захария. Так ведь я сторонник ассимиляции.
Афраний. Вон что… Ну, это другое дело. (Проходят.)
Появляются Лоллия и Сервилий.
Сервилий. Все-таки танцы, заимствованные у галлов, заслуживают своей популярности.
Лоллия. Дорогой друг, сейчас не до танцев. Я хочу вам дать несколько советов.
Сервилий. Неповторимая, я весь – внимание.
Лоллия (тихо). Не торопитесь обличать Луция Антония.
Сервилий. Проклятье, но почему? Он изменник!
Лоллия. Возможно, но это выяснится не раньше, чем через десять дней.
Сервилий. Что еще должно выясниться, разрази меня гром?!
Лоллия. Изменник Луций Антоний или…
Сервилий. Или?
Лоллия. Или император.
Сервилий. Но ведь я поэт, у меня есть гражданские чувства.
Лоллия. Ах да! Вы такой прелестный возлюбленный, что я иной раз забываю, что вы к тому же лауреат. Простите, это случается со мной редко.
Сервилий. Кроме того, кем будет Антоний Сатурнин, еще неизвестно, а Домициан – император, это знает каждая курица.
Лоллия (нетерпеливо). Сервилий, курица не в счет. Как вы думаете, почему здесь Дион?
Сервилий (живо). Представьте, я сам хотел вас спросить!..
Лоллия. Пишите стихи, а думать за вас буду я. Не делайте шагу без моего одобрения. Как вы провели ночь?
Сервилий. Ругался с Фульвией.
Лоллия. Я вижу, вы не теряли времени. (Не глядя на него.) Она идет сюда. Уходите.
Сервилий исчезает. Показываются Фульвия и нелепо одетая Мессалина.
Мессалина. Почему вы разрешаете Сервилию беседовать с этой женщиной? О них уже шепчутся на каждом углу.
Фульвия. По крайней мере, все поймут, что он – со щитом. Лоллию не занимают неудачники.
Мессалина. Напрасно Диона сюда позвали. Семейному человеку нечего здесь делать.
Они останавливаются рядом с Лоллией.
Фульвия. Дорогая, вы сегодня прекрасны.
Лоллия. Напротив, я чувствую себя усталой. Вы смотрели новую пьесу у Бальбы?
Фульвия. Ну разумеется. Там был весь Рим.
Мессалина. Меня не было. Впрочем, я десять лет не ходила в театр.
Лоллия. Милая, вы ничего не потеряли. Фаон в главной роли невыносим.
Фульвия. Ни жеста, ни голоса, ни внешности.
Лоллия. Как это ни грустно, театр вырождается. Он доживает последние дни.
Фульвия. Я совершенно с вами согласна.
Лоллия. Он мог процветать у наивных греков с их верой в мифы. Наше время все меньше допускает условности.
К ним подходит Клодий.
Клодий. Условности утомительны, но без них немыслима общественная жизнь. Фульвия, дорогая, вас ищет ваш знаменитый супруг.
Мессалина. А не попадался вам мой Дион?
Клодий. Я и сам бы хотел его встретить.
Мессалина. Странное это местечко, скажу я вам. Можно найти что угодно, кроме собственного мужа.
Фульвия. Идемте, Мессалина.
Они уходят.
Клодий. И вы ополчились против условностей! Но ведь чем мы сложнее, тем нам меньше доступно все естественное. Ваша мирная беседа с Фульвией только потому и возможна, что вы обе соблюдаете правила игры.
Лоллия. Вы ревнуете меня к Сервилию, Клодий?
Клодий. Ревновать вас? Это бессмысленно. Разве можно ревновать Капитолий, Базилику Юлия, храм Аполлона? Вы не можете принадлежать одному римлянину. Вы принадлежите Риму.
Лоллия. Теперь я вижу, что дела Рима плохи. Государство, в котором мужчины разучились ревновать, обречено.
Клодий. Мне и самому кажется, что на этих стенах появились Валтасаровы письмена. Все танцуют, шутят, слушают музыку, а в небе рождается гроза.
Лоллия. Антоний Сатурнин собрал легионы.
Клодий. Антония еще можно остановить, но как справиться с нашей усталостью? Боюсь, что вы правы, моя дорогая.
Подходит Дион. Мессалина заставила его принарядиться, и он чувствует себя стесненно. Вместе с тем внимательному наблюдателю нетрудно заметить, что он возбужден.
Друг мой, это такая приятная неожиданность – видеть тебя здесь.
Дион. Я всю ночь ломал голову, зачем это я мог понадобиться Домициану, и так ничего не смог придумать. Но даже если это пустая прихоть, я использую эту возможность.
Лоллия (чуть высокомерно). Что же вы намерены совершить?
Дион. Я открою ему глаза, только и всего. В мире происходит беспрерывное надругательство над идеалом. Уж нет ни достоинства, ни стыда. Три четверти людей, гуляющих в этих залах, – клятвопреступники, мошенники, тайные убийцы, предатели, наконец, просто мелкие льстецы, ничтожества, не имеющие ни взглядов, ни убеждений. И что же? Если не принимать во внимание их забот о месте в прихожей цезаря, то жизнь их – вечный праздник. Может быть, вы находите это справедливым? А между тем человек, облеченный властью, мог бы сделать много добра.
Клодий. Дион, что это вдруг на тебя напало? Когда же этот мир жил по другим законам?
Дион. Да, если б все это творилось до нашей эры, я бы молчал. Но ведь все это происходит уже в нашей эре! В нашей эре! Ты должен меня понять.
Лоллия. В нашей эре смешно изображать пророка, Дион. Император может спросить вас, кто дал вам право выносить людям приговоры? Для начала вас должны признать хотя бы гением. Иначе ваш гнев объяснят дурным характером или скверным пищеварением.
Дион. При чем тут мой характер или мой желудок? Есть же интересы Рима…
Клодий. Боже, Дион, как ты наивен. Ты сокрушитель основ или ты дитя? Неужели это ты пишешь сатиры? Тебе буколики надо писать, воспевать пастушек и пастушков. Интересы Рима… Рим сам не знает, в чем его интересы. Сегодня – они одни, завтра – другие. Сегодня – союз с дакийцами, завтра – война, послезавтра – снова союз. Вчера Луций Антоний был верным сыном, сегодня он враг, завтра он снова сын. Интересы Рима изменчивы, искусство вечно. Конечно, Лоллия права – великим тебя еще не объявили, но ты об этом не думай, пиши стихи.
Лоллия. Прощайте, Дион, и не вздумайте просвещать императора. Мне кажется, он этого не любит.
Уходит с Клодием, дружески кивнувшим Диону.
Дион. Клодий – лучший из всех, и что же он мне советует: смириться! Ни больше ни меньше. (Задумчиво.) Но как красива эта женщина! Вся порядочность моей Мессалины не перевесит такой красоты. (После паузы.) И все-таки если случай представится, я буду откровенен, умно это или неумно.
Неслышно появляется большелобый человек, узкобровый, с крупными глазами навыкате, – это Домициан.
Домициан (живо). Дион? Это ведь ты, приятель мой. Я ведь тебя узнал. У меня отличная память на лица.
Дион. Это я, цезарь, и я приветствую вас.
Домициан. Говори мне «ты», Дион.
Дион. Но для этого мы еще недостаточно знакомы.
Домициан (весело). А ведь ты прост, приятель мой, хоть и печешь эпиграммы. Ничего, валяй, я не обижусь. Когда человека называют на «вы», ему оказывают уважение, но когда Богу молятся, к нему обращаются на «ты».
Дион. В таком случае, как тебе будет угодно.
Домициан. Нравится тебе мой дом?
Дион. Прекрасный дом, цезарь.
Домициан. А мой вечер? Мои гости? Много красивых женщин, не правда ли? Ты любишь женщин, Дион?
Дион. Я плохо их понимаю.
Домициан. Тем больше оснований любить их. Упаси тебя Небо их понять, ты тогда на них и не взглянешь. Моя жена – прекрасная женщина и, однако же, как бы это попристойней сказать… симпатизировала одному актеру. Как тебе это нравится? Смех да и только. Понятно, из этого вышли неприятности. Актера я казнил, ее прогнал. Правда, потом я снова ее приблизил, потому что получилось, что я наказываю самого себя, а это было вовсе уж глупо, и, кроме того, так хотел мой народ, а ведь мы, императоры, служим народу.
Дион. Что же, ты рассудил мудро.
Домициан. Тем более актера-то я казнил. Что делать, – вы, люди искусства, часто преувеличиваете свою безнаказанность. Не правда ли, приятель ты мой?
Дион. Я не задумывался над этим.
Домициан. Ну и напрасно, клянусь Юпитером. Когда что-либо затеваешь, всегда надо думать о последствиях, это я тебе говорю как политик, а уж в политике я зубы съел. Ведь у тебя, по правде сказать, совсем неважная репутация.
Дион (гневно). А кто мне ее создал? Люди без совести?!
Домициан. Люди, которые мне служат. И подумай здраво, запальчивый ты мой, не могут же быть такими дурными люди, которые мне служат. Я того мнения, что при желании ты мог бы найти для них более правильные слова.
Дион. Домициан, слова не существуют сами по себе, слова рождаются из дел. Прикажешь мне выдумывать события?
Домициан. Вот и неправ ты, дружище, совсем неправ. Я ведь и сам в печальной своей юности писал стихи, и знающие люди говорили даже, что вкус у меня отличный. Выдумывать события глупо, но их можно по-своему увидеть, вот и все. Представь себе, например, что природа послала на нас ураган. Как напишет об этом истинный римлянин? «Свежий ветер, – скажет он, – радостно шумел над Римом». И, наоборот, от солнца, от дара небес, он отвернется, когда оно светит варварам. «Бессмысленное солнце, – скажет истинный римлянин, – глазело на их бесплодную почву». Глаза – зеркало души, братец ты мой.
Дион. Домициан, не время играть словами. От этой игры гибнет Рим. Где чувство, питающее слово? Где убеждение, дающее ему силу? Чего хотят мои сограждане? Наслаждений? Во что они верят? В случай? Этого слишком мало, чтоб быть великим обществом. Подумай об этом, Домициан.
Домициан. Дион, ты гнусавишь, как вероучитель. Вспомни, чем кончили христиане.
Дион. Как раз преследуемые учения выживают. Тем более что человек, покуда мир несовершенен, будет искать утешения. А ищут не всегда где следует.
Домициан. Не будем спорить, откровенный ты мой, по чести сказать, я от этого отвык. Как ты думаешь, почему я тебя позвал? Ведь не для того же, чтоб слушать твои советы.
Дион. Я не знаю, зачем я тебе понадобился.
Домициан. Ты, должно быть, слышал, как ведет себя губошлеп этот, Луций Антоний? Полнейшее ничтожество, мешок дерьма, ведь я его, можно сказать, поднял из грязи, назначил ни много ни мало наместником, – и он, видишь ли, восстает против меня, возмущает моих солдатиков. Вот, друг мой, как я плачу́сь за свою доброту. Не приложу ума, что мне делать с моей мягкой натурой. Всеми уроками жизни она пренебрегает, больше того, даже горькая юность, которую я провел на Гранатовой улице, ничему не может меня научить. Однако же и кроткого человека можно ожесточить, клянусь Юпитером! Будь уверен, срублю я этому предателю голову, если он, понятно, не предпочтет быть моим другом.
Дион. И ты согласишься дружить с этим скопищем пороков?
Домициан. Только бы он уступил, я найду в нем достоинства. Я ведь обязан думать о моем народе, о моих детях – римлянах. Поэтому, если этот подлец придет в чувство, я готов с ним сотрудничать. А для этого нужно, чтобы он понял, что в Риме у него союзников нет, что мои сенаторы едины, как мои поэты, а поэты все равно что мои солдаты. И поэтому ты здесь, братец мой, и знаешь теперь, чего мне от тебя надо.
Он хлопает в ладоши, и зал наполняется всеми без исключения приглашенными. В дверях стоит пожилой корникуларий Бибул с обычным недовольным выражением лица.
Вот что я хотел вам сказать, дорогие гости. Жизнь наша полна обязанностей, а они отвлекают нас от возвышенных мыслей. Между тем не только для повседневных дел живет человек. В конце концов, он и для будущего живет. Вот об этом-то нам напоминают поэты. Уж так они устроены, счастливчики эти, что, пока мы копаемся в нашем… пыли, они заглядывают за горизонт. И там они видят величие Рима и оправдание наших усилий. Ясное дело, такие способности не должны оставаться без награды, и мы их награждаем по мере возможности. Да вот недалеко ходить, стоит среди нас Публий Сервилий рядом с привлекательной своею женой. Совсем недавно мы его увенчали лаврами. Надо думать, это поощрение вдохновило поэта, и сегодня порадует он нас новыми плодами. Ну-ка, Сервилий, выскажись, друг.
Все аплодируют.
Сервилий (делая несколько шагов вперед). Сограждане, в моих стихах вы не найдете никаких славных качеств, кроме искренности. Впрочем, голос сердца всегда безыскусствен.
Афраний. Отлично сказано, не правда ли, Бен-Захария?
Бен-Захария. Истинная правда, справедливейший.
Сервилий (откашлявшись).
Сладко смотреть на расцвет благородного города Рима,
Всюду величье и мощь, всюду довольство и мир.
Дети и те говорят, что на долю их выпало счастье
Чистую римскую кровь чувствовать в венах своих.
Ходим, свой стан распрямив, не гнетут нас тяжелые думы,
Знаем, что ночью и днем думает цезарь за нас.
Афраний (аплодируя). Ах, негодник, он довел меня до слез.
Бен-Захария. Вы правы, я и сам чувствую какое-то щекотание.
Афраний. Ты не можешь этого понять, Бен-Захария, хоть и умен. Для этого надо родиться римлянином.
Бен-Захария. И на этот раз вы правы.
Домициан. Вот так-то, уважаемые, придет поэт и откроет нам все то, что вроде мы и чувствуем, а выразить не в силах. А он в силах… Дар небес, что говорить. Впрочем, каждому свое. Спасибо тебе, Публий Сервилий.
Сервилий кланяется.
Здесь среди нас и другой поэт, о нем вы тоже слышали немало. Зовут его Дионом, и хотя нрав у него, говорят, колюч, да и родом он, как известно, из Пруса, духом своим он также – сын Рима. Что же, Дион, почитай и ты нам, и будем надеяться, что хоть ты здесь и в первый раз, да не в последний.
Мессалина (негромко). Только читай отчетливо и не проглатывай окончаний.
Дион (так же). Месса, хоть тут меня не учи. (Выступает вперед.) Собрат мой Сервилий тронул ваши сердца, мне трудно с ним в этом тягаться. Но если искренность – главное свойство его стихов, то истинность – достоинство моих. (Читает.)
Боги, как расцвел наш город! Просто удивительно!
Просыпаясь, мы ликуем, спать ложась, блаженствуем.
Полный римлянин (тихо). Начало многообещающее.
Плешивый римлянин (еще тише). Посмотрим, каков будет конец.
Дион.
И, от счастья задыхаясь, не умея выразить,
Дети в чреве материнском Риму удивляются.
Афраний. Что-то не нравится мне это удивление.
Бен-Захария. Еще отцы говорили: дивись молча!
Дион.
Через край от ликованья кровь переливается.
Оттого она струится, чистая, по улицам.
Если жизнь – вечный праздник, что же непонятного,
Что иные от восторга… потеряли голову?
Афраний. Бен-Захария, поддержи меня, силы меня оставляют.
Бен-Захария. Император улыбается, значит, он взбешен.
Дион.
Что за люди в нашем Риме? Что за превращения!
Стал законником грабитель, стал судья грабителем.
Или есть один сановник, не обучен грамоте,
Но зато меня, Диона, учит философии.
Домициан (подняв руку). Остановись, друг. Вижу я теперь – недаром боятся мои подданные твоего пера. Бойкое, бойкое перо, клянусь Юпитером. Но объясни мне чистосердечно, откуда такая ярость? Чем тебе не угодил Рим, скажи на милость? Быть может, тебе приглянулись свевы? Или у варваров-хаттов приятней жить образованному гражданину? Значит, ты полагаешь, что раскрыл уши и глаза? Мало же ты увидел, приятель, да и услышал не больше.
Мессалина. Мы погибли! Я его предупреждала.
Дион. Домициан, и я считаю, что Рим – солнце вселенной. Да и будь Рим в сто раз хуже, он – моя родина, а родины не выбирают. Но тем больней видеть, как торжествуют лицемеры, как белые одежды прикрывают разврат.
Домициан. Постой, постой, это куда же тебя несет, ожесточенный ты мой? Какой еще разврат, когда нравственности я придаю особое значение, это знает весь мир. Скажи непредубежденно, в каком городе есть еще весталки? Девушки, отвергающие, как бы это поприличней сказать… услады плоти во имя вечной чистоты. Разве это не символ римской морали?
Дион. Домициан, нам ли кичиться весталками? Да ведь это самое уродливое порождение Рима! Взгляни на этих несчастных баб, сохнущих под грузом своей добродетели. Не глупо ли этим дурам носиться со своей невинностью, вместо того чтоб рожать славных маленьких пузанчиков? Небо милосердное, что за нелепость – поклоняться собственной недоразвитости, что за участь – стоять на страже у входа в свой дом! Это не только не гостеприимно, это постыдно! Ты говоришь, эти девушки – символ Рима? Ты прав, таков наш Рим – что бы ни было, он охраняет фасад.
Домициан (очень спокойно). Пошел вон!
Дион (с достоинством). Могу и пойти, но кто будет читать историю, увидит, что я был прав.
Домициан. Заткнись, говорят тебе, не выводи меня из себя.
Дион. Если б все это было до нашей эры, я бы слова не сказал. Но все это ведь происходит в нашей эре! Только вдумайся – в нашей эре!
Домициан. Вон отсюда, сказано тебе или нет? Ты замахнулся на мораль – это уж слишком! Таковы все моралисты, я это знал давно. Такие типы, как ты, приятель, вредны, и в особенности для римской нашей молодежи. Мы-то мужи зрелые, а у юных умы еще неокрепшие, хрупкие у них умы. Кто же о них позаботится, если не взрослые люди? Запрещаю тебе находиться ближе, чем в одном дне пути от столицы, и упаси тебя бог показаться на этих улицах. Скажи уж спасибо чувствительной моей натуре, проще было б срубить тебе голову. Все. Я сказал.
Дион. Спасибо, цезарь. Ты в самом деле добр. Идем, Месса.
Клодий (еле слышно). Прощай, неразумный.
Лоллия (тихо). Или этот человек сумасшедший, или у него есть хорошо осведомленный друг.
Клодий. Он сумасшедший, Лоллия. Можете мне поверить.
Мессалина. Горе мне, горе…
Бибул (у входа). Н-да… Зря, выходит, принес я тебе приглашение.
Дион. Что делать, друг. По всему видно, нам с тобой не дождаться производства в чин. Будь здоров.
Уходит с Мессалиной.
Афраний. Бен-Захария, этот человек глуп. Чего он хотел?
Бен-Захария (со вздохом). Неважно, чего хотел, важно, что из этого вышло.
Вбегает молодой корникуларий.
Молодой корникуларий (задыхаясь). Цезарь, Луций Антоний перешел Рейн!
Общее смятение.
Занавес.
3
Скромный домишко примерно в дне пути от Рима.
Примостившись у порога, Дион пишет. Мессалина стирает белье.
Мессалина. Слушай, Дион, шел бы ты в дом. По-моему, у тебя нос заложен.
Дион (не отрываясь от работы, бормочет). Все она знает.
Мессалина. Как же мне не знать, если ты сопел всю ночь.
Дион (не отрываясь от работы). Соглядатай ты, а не жена. Чем прислушиваться ко мне, спала бы.
Мессалина. Заснешь тут… В этом доме каждая половица скрипит.
Дион. Скажи спасибо, что хоть его удалось найти.
Мессалина. До ближнего поселения три часа ходьбы.
Дион. Ничего, прогулки полезны для тела.
Мессалина. Вот и ходил бы. Ему б только согнуться крючком да выводить буквы.
Дион. Месса, можешь ты помолчать?
Мессалина. В этакую дыру загнал нас со своим правдолюбием. Ну что, открыл ему глаза?
Дион. Пора бы тебе знать, ни одно слово не пропадает.
Мессалина. А вот мы с тобой пропадем. Есть-то ты хочешь, несмотря на любовь к истине.
Дион. Что ты скажешь, опять она спугнула мысль!
Мессалина. Ничего, у тебя их хватит – ровно столько, чтоб нас совсем погубить.
Дион. И когда издадут закон, запрещающий браки? Столько бессмысленных законов, а разумного – ни одного!
Мессалина. Вот уж бы ты развратничал тогда, бесстыдник.
Дион. Месса!
Мессалина. Думаешь, я не видела, как ты пялил глаза на всех женщин в тот вечер!
Дион. Месса, до того ли мне было?!
Мессалина (всхлипывает). У тебя на все есть время, кроме жены. Верно сказал император, что на мораль ты плюешь.
Дион. Ну и ступай к своему императору, раз ты с ним заодно. Мир отравлен предательством.
Мессалина (плача). Уж и весталки ему понадобились, распутнику. Хоть бы весталок оставил в покое.
Дион. Дай-ка мне валек, сейчас я тебя проучу.
Мессалина. Спасибо цезарю, что послал тебя от греха подальше. Сразу видно, он думает о семье. А ну попробуй только подойди… (Поднимает валек.)
Дион (возвращаясь на место). Можешь беситься хоть до утра – слова от меня не дождешься.
Пауза.
Мессалина. Похудел ты, Дион.
Дион. Ничего я не похудел.
Мессалина. Щеки совсем ввалились.
Дион. Подумаешь, горе!
Мессалина. Один нос на лице…
Дион. Хватит и одного.
Мессалина. На ночь я натру тебя настоем из сухих трав. (Помолчав, не без кокетства.) Дион, а я очень изменилась?
Дион. Увы, ничуть.
Мессалина. Грубиян ты, хоть и поэт.
Пауза.
Смотри-ка, кто-то идет.
Дион. Что тебе до того?
Мессалина. Все-таки интересно.
Показывается человек в плаще, наполовину скрывающем его лицо. Он ступает осторожно, поминутно озираясь.
Прохожий. Вот дом, в который, должно быть, редко заглядывают. Не можете ли вы приютить меня, добрые люди?
Дион (не оборачиваясь). А кто ты такой?
Прохожий. Человек.
Дион. Ого, как ты занесся. Да знаешь ли ты, что человек это больше, чем цезарь?
Прохожий. Теперь знаю, Дион. (Отбрасывает плащ.)
Мессалина. Силы небесные?!
Домициан (меланхолично). Да, это я.
Дион. Не объяснишь ли, что все это значит?
Домициан. Скрыться мне надо, дружок, вот какие дела. Исчезнуть, растаять, словно и не было меня вовсе. Луций Антоний Сатурнин, разрази его гром, может через два дня появиться в Риме. Сложная ситуация, братец ты мой, напряженная обстановка. Да и неблагодарных людей в наши дни развелось предостаточно, – того гляди, получишь кинжал меж лопаток, а то и другую какую-нибудь неприятность. Мало ли охотников найдется отличиться перед Луцием за мой счет. Одним словом, приюти меня, друг, покамест гоняются за мной недоброжелатели. Людям известно, что был у нас спор, у тебя-то меня искать не станут.
Мессалина. Вот как ты заговорил, чудеса да и только! Выгнал моего мужа взашей и называешь это спором.
Домициан. Женщина, каждый спорит как может.
Мессалина. Будь я Дионом, приняла б я тебя, как ты его принял, невоспитанный человек!
Домициан (обидевшись). Дион, если ты хозяин в своем доме, прикажи ей не вопить так, точно ее плетьми стегают, – в Риме слышно!
Мессалина. Дион, если ты мужчина, не разрешай каждому встречному оскорблять твою жену!
Домициан. Дион, сатирики лежачих не бьют. А в тебе, голубка моя, рассчитывал я найти больше участия. Что поделаешь, озверели люди, совсем в них теплоты не осталось.
Мессалина. Какое участие хотел ты во мне найти? Я семейная женщина.
Домициан. Дион, заткни ей рот и объясни, что жена поэта должна что-то и днем соображать.
Мессалина (всплеснув руками). Бессовестный, откуда тебе знать, какова я ночью?!
Домициан (с досадой). Прости меня, женщина, за то, что я тебя похвалил.
Дион. Ну, тихо. Не пристало вам ссориться, как менялам на Большом Рынке. Оставайся, никто тебя не тронет. Мессалина, дай нам вина.
Мессалина (ворчит). Благодаря его милостям вина-то осталось на самом донышке. (Уходит.)
Домициан. Терпеливый ты человек, приятель, что и говорить.
Дион. Чтобы быть нетерпеливым, у меня мало возможностей. Ладно, Домициан, садись.
Входит Мессалина с вином, кружками и сыром.
Мессалина. Лакайте его, не видеть бы мне вас обоих, беспутные. (Уходит.)
Домициан. Не устает же она!
Дион. Сыра все-таки она нам дала. Будь здоров.
Домициан. В добрый час. (Пьют и закусывают.) Хорошо у тебя, братец ты мой. Ты, видно, сердит на меня, а по чести сказать, должен мне быть благодарен. Прислушайся только, какая тишина, какая умиротворенность! Что наши жалкие заботы перед лицом природы? И зачем мне, скажи на милость, императорский венец, если есть на свете такой ветерок, такое солнышко, кружка вина и круг сыра? Эх, если бы Луций Антоний, дурачок этот властолюбивый, понял, что не нужно мне от него ничего, кроме неба да воли. Правь, идиот, коли тебе этого так хочется. Я уж своего хлебнул вдосталь. Но ведь ему голову мою подай, несмышленышу этому, вот что скверно.
Дион. Ах, Домициан, как мудр человек в несчастье!
Домициан. Не всегда, разумный ты мой, не всегда. Опыт необходим человеку, пожить ему надо среди людей. Я ли не был несчастлив в юности своей, на Гранатовой улице? Благодаря сквалыге-отцу моему, божественному Веспасиану, и ханже-братцу моему, божественному Титу, бывало, что и голодал я, приятель, вел нищенский образ жизни, можно сказать. И о чем же я тогда думал, спроси-ка меня? А все о том, как я порезвлюсь, когда стану цезарем. Ну вот, стал я цезарем, слава Юпитеру. Много же радостей я узнал.
Дион. Сам виноват. Ты мог сделать людей счастливыми, а значит – и самого себя.
Домициан. Каких людей, сатирик ты мой? Каких? Я сатир не пишу, а уж их знаю лучше твоего. Все они, как один, неверны, корыстны, суетны. По-твоему, мало я сделал добра? Кто, скажи мне, навел в суде порядок? Кто между тем укрепил нравы? Может быть, не я, не Домициан? А кто был первым врагом кровопролития, даже быков запрещал приносить в жертву? Наконец, ответь по совести, кто, как не я, отказался от наследств, если завещатель оставлял потомство? Все это факты, хозяин ты мой, одни только факты. И чего ж я достиг подобным великодушием? Завоевал уважение, приобрел друзей? Нет, приятель, люди не доросли до гуманности, и неизвестно, когда дорастут. Поэтому правителей, расточавших мало наказаний, следовало бы назвать не добрыми, а удачливыми. Вот папаша мой, божественный Веспасиан, строил из себя доброго дяденьку, а сам был скуп, как последний торгаш, даже нужники обложил налогом, уж не зря его звали селедочником. А ведь как его превозносят! Братец мой, божественный Тит, общий любимчик, красавчик этакий, не брезговал наемными убийцами. Простака Авла Цецину пригласил к обеду, угостил на славу, и только тот встал из-за стола, как его и прирезали. Так за что ж брата славят, правдолюбец ты мой? Уж не за то ли, что он беднягу накормил напоследок? Нет, приятель, не твори добрых дел, а натворил – скрывай их.
Дион. Вижу, цезарь, что ты отменный софист. Только не думай, что ты убедил меня. Ты вот жалуешься мне на людей, но какие же люди те, кто тебя окружают?
Домициан. Новое дело, кто же они?
Дион. Отбросы общества, вот кто. Сам подумай, кого ты к себе приближаешь? Льстецов без совести, деревяшек без мысли. Что они могут? Кланяться, угодничать, дрожать? Зависеть от твоего настроения? Клеветать на друзей? И в этих куклах ты ищешь человеческое, а не найдя, торжествуешь?
Домициан. Но ведь мне же с ними жить, в конце-то концов! Где мне других-то взять?
Дион. Не изворачивайся, цезарь, как раз другие тебе не нужны. Другие возражают, а зачем тебе возражения? Другие говорят правду, а от правды уши болят. Другие думают, а ты не любишь, когда люди думают. Это ведь не их дело, не так ли?.. Другие… Зачем тебе другие, когда есть ты?
Домициан (упрямо). Все неблагодарны, все до одного. Ну, объясни-ка, если ты такой умный, почему хатты кинулись помогать дурачку этому Антонию? Кто они были? Варвары, дикари… Может быть, не я приобщил их к культуре?
Дион. До чего простодушны завоеватели! Покоряют народы и уверены, что те их благословляют…
Домициан (махнув рукой). Кажется, и в самом деле правду говорят христиане. Все суета, все тлен. Из праха вышли мы и в прах обратимся, разложившись на элементы. И власть – прах, и слава – прах.
Дион. Подожди причитать, кто-то сюда скачет.
Домициан. За мной, за мной… Пронюхали, негодяи. Этакая неудача, приятель, пришел все-таки последний мой час.
Дион. Спрячься внутри, я попытаюсь сбить их со следа.
Домициан. Ну и ну, – один нашелся человек, и тот сатирик! (Скрывается в доме.)
Дион (кричит). Месса, запомни, у нас никого не было и нет!
Мессалина (выходит). Сначала убери эти кружки, а потом учи меня.
Уносит кружки в дом. Стук копыт совсем рядом. Слышно, как всадник спешивается, привязывает коня, наконец он показывается, это – Сервилий.
Дион. Вот уж кого не ждал, так не ждал!
Сервилий. Здравствуй, друг. Очень у тебя мило. Так и должен жить поэт.
Дион. Ну и живи так, что тебе мешает?
Сервилий. Во-первых, обязанности перед обществом. Во-вторых, я сказал – поэт, но не человек. Человек как раз так жить не должен.
Дион. Смотря какой человек.
Сервилий. Умный человек, разумеется. Я ведь к тебе с поручением прибыл.
Входит Мессалина.
Здравствуйте, Мессалина. Горячий привет от Фульвии. Очень вы посвежели на воздухе, скажу вам по чести. Просто замечательный у вас цвет лица.
Мессалина. Наконец-то я поняла, почему нас сюда загнали. О внешности моей заботились, вот что.
Сервилий. Нет, нет, несправедливо, грубо с вами обошлись. Я уж Фульвии об этом говорил, и она мне тоже. «Ну, говорю, что это такое, услать человека в такую даль, на что это похоже?» А она говорит: «Публий, чудак, чего и ждать от этого Домициана?» Очень мы с ней возмущались, слово римлянина.
Мессалина (холодно). Стоило вам портить себе настроение.
Сервилий. Вообще в Риме все симпатии на вашей стороне. Клодий о вас тепло говорил, Лоллия тоже очень сочувствует. Да кого ни встретишь – все руками разводят: как это можно было, говорят, с поэтом так обойтись?
Дион. Ближе к делу, Сервилий. Ты сказал, у тебя ко мне поручение…
Сервилий. Верно, Дион, дело – прежде всего. Есть такой человек – Руф Туберон.
Дион. Знаю прохвоста.
Сервилий. Отнюдь он не прохвост, друг мой, а доверенное лицо Луция Антония, победоносного нашего вождя, которого в течение суток с нетерпением ожидаем мы в Риме.
Дион (с интересом). Ну-ка, продолжай, да говори внятно.
Сервилий. Должен сказать тебе, что наш Луций отлично осведомлен о всех делах и о твоем споре с Домицианом уже наслышан. Вот Руф Туберон и делает тебе от его имени предложение помочь своим даром правому делу, а заодно и возвысить голос против общего нашего врага, который, как последний трус, скрывается неизвестно где… Что это там скрипит в твоем доме?
Мессалина. Половицы скрипят, что ж еще? Гнилье это, а не дом.
Сервилий. Ничего, ничего, вам недолго здесь жить. Справедливость, образно говоря, в пути уже. Но ты должен морально поддержать победителя.
Дион. Не рано ли ты празднуешь его победу?
Сервилий. Что ты, Дион, я себе не враг. Посуди сам, Домициан бежал, город открыт, на помощь Антонию спешат полчища варваров. Нет, милый, дело сделано, тут уже – все… Спроси Мессалину, она умная женщина.
Дион. Значит, и варвары сюда идут?
Сервилий. Временно, до стабилизации положения. Кстати, об их вожде тебе тоже следует написать несколько теплых слов.
Дион. Да ведь он их даже прочесть не сумеет, он неграмотен!
Сервилий. Он?! Что за чушь?! Интеллигентнейший человек! Зачем ты слушаешь всякие сплетни? Он всего Горация наизусть знает. Особенно эту строчку: «Презираю невежественную чернь».
Дион. Ты-то уж наверно написал хвалебную песнь.
Сервилий. Само собой, милый. Нельзя терять времени. Хочешь послушать?
Дион. Зачем? Я ее знаю заранее.
Сервилий. Ты хочешь сказать, что я банален? Между прочим, банальность – отличное качество. Она приятна уж тем, что доступна. Ладно, не будем вести литературных споров. Я ограничусь только началом.
Дион (косясь на двери). Ну, хорошо. Читай, только громче…
Сервилий. Ты стал плохо слышать?
Дион (шутливо). Я хочу, чтоб твои стихи слышали все.
Сервилий. Могу и погромче. Тем более они – не для нежного шепота. (Декламирует.)
Рад мой восторженный Рим торжество триумфатора видеть,
Луций Антоний стремит в Рим белогривых коней…
Какова инструментовка стиха, ничего себе? Обыграл звук «эр» по всем правилам!
Дион. Дальше.
Сервилий.
Рядом с Антонием – друг, властелин проницательных хаттов,
В братском союзе они нас от тирана спасут.
Ну как? Все-таки нельзя отрицать, что как мастер я сделал большие успехи.
Дион. Еще бо́льшие – как человек.
Сервилий (обидевшись). Странно, что ты еще не объелся иронией. Говоришь с ним по большому счету, на профессиональном языке…
Дион. Не сердись, ты растешь, это ясно даже младенцу. Более того, я убежден, что ты откроешь в поэзии целое направление…
Сервилий (радостно). Ты серьезно так думаешь?
Дион. …и по твоему имени его назовут сервилизмом, а твоих последователей – сервилистами. Тебя же будут изучать как основоположника.
Сервилий (вздохнув). Не верю я тебе, все-то ты язвишь, все-то намекаешь, а зря, честное слово – зря. Слушай, я ведь, в сущности, простой парень, я хороший парень и знаю, что места хватит всем. И еще я знаю, что через несколько лет от нас останутся только прах и пыль, что милость цезарей непрочна, судьба бессмысленна, и говорю я про себя: да идите вы все в…
Мессалина. Тихо, тихо, – здесь женщина!..
Сервилий. Прости, Мессалина. Идите вы подальше, говорю я про себя, желаете выглядеть красивыми, – отлично, в моих стихах вы будете красивыми. Будете мудрыми, остроумными, смелыми, что угодно, только дайте и мне кусок пирога.
Мессалина. Слышишь, Дион? Я всегда говорила, что он умный человек.
Сервилий. Так что же мне передать Руфу Туберону?
Дион. Передай ему, что я обладаю прямолинейным мозгом, и гибкости в нем ни на грош. Передай, что измена для меня всегда измена, и никогда я не назову ее государственной мудростью. А властолюбие для меня всегда властолюбие, и никогда оно не станет в моих глазах заботой об отечестве. Еще передай, что нельзя освободить народ, приведя сюда новых завоевателей, которые окончательно его разорят. Словом, скажи, что я остаюсь.
Мессалина (махнув рукой). Все пропало, так я и состарюсь в этой дыре! (Уходит в дом.)
Дион (вслед, со вздохом). Женщина остается женщиной. Прощай, Сервилий. Счастливого пути.
Сервилий. Прощай, Дион. Странный это ум, от которого его хозяину одни неприятности. (Со смехом уходит.)
Дион (вспылив, кричит вслед).
Пролетел орел однажды над садами цезаря,
И червя он обнаружил на вершине дерева.
– Как попал сюда, бескрылый? Объясни немедленно.
– Ползая, – червяк ответил, – путь известен: ползая!
Но Сервилий уже ускакал. Дион обрывает стихи.
Странный, он говорит? А возможно, и странный… Возможно, и внуки посмеются надо мной, как сегодня смеются их деды… Ведь годы действительно идут… ведь я старею… и все меньше сил… и надежд все меньше… И ожиданий почти уже нет. В самом деле, что может ждать человека, которому скоро пятьдесят?
Выходит потрясенный Домициан.
Домициан. Ну люди! Ну и подонки же, братец ты мой. И это – Сервилий, которому я дал все, о чем может мечтать поэт: лавры, признание, положение. Богатство дал, разрази его гром! И уже он пишет песни в честь идиотика этого толстогубого Луция. И что за стихи, приятель?! Ни ладу, ни складу. Это я тебе точно говорю, вкус-то у меня отличный. В суровой юности моей, на Гранатовой улице, я сам едва не стал поэтом, от чего, правда, Бог меня уберег. (Разводя руками.) «Луций Антоний стремит в Рим белогривых коней…» Это как же один человек стремит… коней? Да еще Луций, который со старым мулом не справится, все это знают. (С еще большей иронией.) «Рядом с Антонием – друг, властелин проницательных хаттов…» Да уж, один стоит другого! Дурак и дикарь – теплая компания, нечего сказать. «Проницательные хатты»… Да ведь это ж только в насмешку так скажешь! Неужели он, Сервилий этот, считает, что на такую дешевую приманку можно клюнуть?
Дион (глядя на него, с еле заметной усмешкой). Кто его знает… бывает, что и клюют…
Домициан (в запале). «В братском союзе они нас от тирана спасут…» Это я-то тиран? Ах он, бедняга замученный! Спасать его, видишь ты, от меня необходимо! Уже не знал, куда золото девать! За последнюю песнь я ему отвалил двести тысяч динариев! Гусыня его Фульвия натаскала в свое новое поместье вещи от всех ювелиров Рима! Спасти его просит, мошенник этакий! А стихи-то, стихи! «В братском союзе они нас…» «Они нас»… Никакого чувства слова, приятель! «Они нас…» Графоман, просто-напросто графоман!
Дион. Успокойся, цезарь, каждый пишет как может.
Домициан. Никакой морали у людей, любезный ты мой, мораль у них и не ночевала!
Дион. По этому поводу, помнится, мы с тобой и схлестнулись. И уж, ради небес, не строй из себя голубя. Дело прошлое, а если бы позвать сюда мужчин и женщин, которых ты обижал, выстроились бы они до самого Рима.
Домициан. Совсем это другое дело, приятель, и не о том мы поспорили. Ты моралист, отрицающий мораль, а я грешник, признающий ее необходимость. Моралисты опасны, но мораль нужна.
Дион. Домициан, ты уже не на троне, можно оставить игру в слова.
Домициан. Слава Юпитеру, что я не на троне. И готов дать любую присягу, суровый ты мой, с этим делом у меня покончено. Все, все! Приди за мной сам Марс, и тот не заставил бы меня вновь надеть венец. Сыт я этим императорством до конца дней.
Дион. Такие речи и слушать приятно. (Стук копыт.) Опять сюда скачут. Видно, снова Сервилий…
Домициан. Должно быть, забыл свои последние стишки, бездарность! (Прячется в доме.)
Выходит Мессалина.
Мессалина. Кто еще к нам?
Дион. Беспокойный день!
Появляется запыхавшийся Бибул.
Ба, старый знакомый!
Бибул. Здравствуй и до свидания! Тороплюсь, ни минуты свободной! Кружку воды по старой дружбе! В глотке – сухота!
Мессалина идет в дом.
Ищу Домициана, друг. Ничего о нем не слыхал?
Дион. Откуда мне слышать? А зачем он тебе?
Бибул. Дивные вести, друг, поразительные новости!
Мессалина выносит ему кружку воды.
Спасибо, женщина! (Жадно пьет.)
Дион. Что там за новости? Расскажи…
Бибул. На Рейне лед тронулся, представляешь? (Пьет.) Ну и вода… Словом, хатты не смогли прийти к Луцию на помощь… Никогда в Риме не пил такой воды… вода у нас вязкая, теплая, а уж проносит от нее, не приведи бог!..
Мессалина. Да говори же ты наконец!
Бибул. В общем, Максим Норбан расшиб Луция вдребезги! Говорят, в Рим уже доставили его череп.
Дион. Точно ли это, воин?
Бибул. Своей головой отвечаю, а она у меня, сам видишь, – одна.
Дион. Как и у Луция Антония.
Из дому выбегает Домициан.
Домициан (Бибулу). Ты мне отдашь своего коня!
Бибул. Гром и молния! Цезарь…
Домициан. Где он у тебя? Живо!
Дион. Слушай, неужели ты снова ввяжешься в эту гонку?
Домициан (весело). Непременно, Дион, непременно!
Дион. Вспомни, что только что ты говорил!..
Домициан. А что оставалось мне говорить в тех обстоятельствах? Нет, друг, не такая вещь мой венец, чтоб ею кидаться! Давай коня, корникуларий!
Бибул. Он здесь, цезарь!
Дион. Боже, как мудр был ты минуту назад!
Домициан. Прощай, Дион! Встретимся в Риме! (Убегает.)
Бибул (спешит за ним, поплевывая через левое плечо). Тьфу, тьфу, тьфу, теперь-то я, кажется, буду центурионом!..
Стук копыт.
Занавес.
Часть вторая
1
Вновь – место гулянья у Капитолия. Озираясь, прохаживаются горожане. Лица их опасливы и озабоченны. Среди гуляющих – полный и плешивый римляне.
Полный римлянин. Вы здесь, Вибий?
Плешивый римлянин. Мой привет, Танузий. Вышли, значит, невзирая на приступ?
Полный римлянин. Что поделаешь? Надо послушать глашатая. Чем-то порадует цезарь сегодня?
Плешивый римлянин (оглядываясь, громче, чем требуется). А люблю я слушать его повеления. Ясный, отточенный стиль. Ничего лишнего.
Полный римлянин. Превосходный стиль, что говорить. А уж сколько государственной мудрости!..
Плешивый римлянин (значительно). Знаете, что я скажу вам, Танузий. Повезло Риму, сильно повезло.
Полный римлянин. Мои слова, Вибий. Этот город родился под счастливой звездой.
Плешивый римлянин (понизив голос). Элий Стаций-то… загремел… (Жест.)
Полный римлянин (хватаясь за сердце). Как, и Элий?
Плешивый римлянин (кивая). И Матий Нобилиор – тоже…
Полный римлянин (вскрикнув). Что? Матий? (Утирая пот.) Я всегда говорил, что плохо они кончат…
Плешивый римлянин (со вздохом). Это всем было ясно с самого начала. Что с вами, Танузий?
Полный римлянин. Лихорадит меня, Вибий. Годы, годы… То одно болит, то другое…
Плешивый римлянин. На ночь жена мажет мне чресла галльской лавандой…
Полный римлянин. А меня моя – мажет египетским варевом.
Плешивый римлянин. Помогает?
Полный римлянин. Как вам сказать… (Вздыхает.) Годы…
Плешивый римлянин (вздыхает). Годы… (Помолчав.) А поэт Дион – все еще в почете…
Полный римлянин. Говорят, он оказал императору важные услуги.
Плешивый римлянин. Это не значит, что ему все позволено. (Оглянувшись.) Вы слышали его последнюю эпиграмму на Туллия?
Полный римлянин (в ужасе). На консула-суффекта!
Плешивый римлянин (негромко). Наклонитесь… (Шепчет ему на ухо.)
Оба долго хохочут. Потом, словно по команде, смолкают.
Не наглец ли?
Полный римлянин. Разбойник! Разбойник с Соляной дороги… (Оглянувшись.) А про Афрания – не слыхали?
Наклонившись, что-то шепчет. Оба заливаются.
Плешивый римлянин (отхохотавшись). Ну, это уж, знаете… даже нет слов.
Полный римлянин. Для того, чтобы так марать сановника, нужно быть по крайней мере ему равным.
Плешивый римлянин. Доиграется он!.. Глядите, Афраний со своим иудеем.
Полный римлянин. Легок на помине.
Оба смеются.
Сильно увял Бен-Захария. На приемы-то его больше не пускают.
Плешивый римлянин. Это как раз мудрая мера. Все римляне очень ею довольны.
Полный римлянин. У этих людей наглость в крови. Теперь им указали их место.
Приближаются Афраний и Бен-Захария.
Мой привет, Афраний. (Внезапно что-то вспомнив, прыскает и, едва кивнув Бен-Захарии, проходит.)
Плешивый римлянин (с трудом подавив смех). Дорогой Афраний, привет… (Уходит, «не замечая» Бен-Захарию.)
Афраний. Слушай, некоторые завистники утверждают, будто Дион написал обо мне что-то непотребное.
Бен-Захария. Враки, им просто этого хочется.
Афраний. Вот мерзавцы! Впрочем, Дион способен…
Бен-Захария. Не в этом случае. Уважение к вам…
Афраний (махнув рукой). Э, никого он не уважает. И сколько еще цезарь будет его терпеть?
Бен-Захария. Если цезарь лишь терпит его, это будет недолго.
Афраний. Ты думаешь?
Бен-Захария. Терпение – свойство подданных, а не правителей.
Афраний (с интересом взглянув на собеседника). Слушай, Бен-Захария, а ведь общение со мной пошло тебе на пользу.
Бен-Захария кланяется.
Стой… не он ли это идет?
Бен-Захария (обернувшись). Он, его жена и какие-то юноши.
Афраний. Пойдем. Не здороваться с ним нельзя, а здороваться – нет никакого желания.
Оба уходят. Появляются Дион, Мессалина и несколько молодых людей, ее сопровождающих. Дион рассеян и мрачен, Мессалина, напротив, весьма нарядна, выглядит помолодевшей.
Мессалина. Так мы встретимся здесь, Дион.
Дион (задумчиво). Хорошо.
Мессалина. Я не буду брать тебя с собой в лавки, ты только путаешься под ногами.
Дион. Верно.
Мессалина. Эти юноши помогут мне. Они из знатных семей, и у них отличный вкус.
Дион. Наверно.
Мессалина. Ты, видно, думаешь, это так просто – обставить дом?
Дион. Я не думаю.
Мессалина. Мне еще надо зайти к врачу за лекарством для тебя.
Дион. Ладно.
Мессалина. Так жди меня здесь. Не ходи никуда, понял?
Дион. Понял.
Мессалина. И не пяль глаза на девиц. Ты уже старый человек.
Дион. Слышал.
Мессалина. Запахни шею. Идемте, молодые люди.
Мессалина и юноши уходят. Дион задумчиво прохаживается под внимательными взглядами прохожих. Появляется пожилой корникуларий Бибул. У него обычное выражение лица. Нерешительно приближается к Диону.
Бибул. Прославленный, разреши мне прервать твои раздумья.
Дион. Прерывай, что с тобой делать… У тебя все еще не прошли зубы?
Бибул. Худы мои дела.
Дион. Ты еще не центурион?
Бибул. Я уже не корникуларий.
Дион. Как это понять?
Бибул (вздохнув). Уволили меня.
Дион. За что?
Бибул. Цезарь сказал, что своим видом я напоминаю ему дни, которые он хотел бы забыть. Он предложил мне перевестись в Мезию.
Дион. А ты отказался?
Бибул. Дион, как мне уехать из Рима? У меня здесь жена, дети, – попробуй заикнись им об этом. Младший учится у кифариста. Говорят, обнаруживает способности.
Дион. Словом, тебя выгнали.
Бибул. Уже неделю живем в долг. А какие сбережения у солдата? Сам понимаешь.
Дион. Хорошо, я поговорю с Домицианом. Думаю, твое дело не составит труда.
Бибул. Спасибо. Я бы не решился тебя тревожить, но супруга проела мне череп. Пойду обрадую ее. (Уходит.)
Дион. Он напоминает цезарю дни, которые тот предпочел бы забыть. Любопытно, какие дни напоминаю ему я?
Показывается женщина, закутанная в черный платок.
Это еще кто?
Женщина. Дион, я у ваших ног. (Она приподнимает платок – это Фульвия.)
Дион (подхватывая ее). Что с вами, Фульвия? Человек – и на коленях?..
Фульвия. Мой дорогой, мне сейчас не до ваших принципов. Если вы не поможете мне, я стану на голову, поползу за вами на животе. Спасите Сервилия!
Дион. Но что же я могу? Ведь он действительно изменил…
Фульвия. Велика важность. Кто он такой? Сенатор, легат, начальник стражи? Что за военные тайны он знал? Как строится александрийский стих, в чем различие между эпосом и лирикой? Да и в этом он толком не разбирался, мне еще приходилось ему объяснять, говорю вам как родному. Он поэт, поэт с головы до ног, импульсивный человек, широкая натура. Он просто увлекся Луцием. Как женщиной. Уж и не знаю, чем он там увлекся, – то ли тот губами своими ему импонировал, то ли его имя укладывалось в размер…
Дион. Боюсь, в этом случае я бессилен.
Фульвия. Вы призывали всех нас к человечности, докажите, что это не только слова. Мы-то с мужем всегда вас поддерживали. Даже когда от вас все отвернулись. Помню, Сервилий мне как-то сказал: «Жаль мне Диона». Сервилий ведь очень отзывчивый человек, решительно все видит в розовом свете. Я вам откровенно скажу, как родному (понижает голос): всему виной влияние этой страшной женщины, вы знаете, кого я имею в виду. Один-единственный раз он не посоветовался со мной, и вот вы видите – какие последствия. Ведь я же все ему объясняла, – что писать, как писать, кому писать. У него есть врожденная музыкальность, а все мысли, чувство формы, вкус, наконец, темперамент, – все это мое. Один Бог знает, сколько я вложила в этого человека, говорю вам как своему. Когда мы сошлись, на него никто не возлагал надежд.
Дион. Тише, Фульвия, дайте передохнуть. Я попытаюсь, но ничего не обещаю.
Фульвия. Ладно уж, все знают, что цезарь к вам неравнодушен. Уж и не пойму, чем вы там его купили, а только это так. Впрочем, не мое дело, я как раз рада, пользуйтесь, сколько можно. Передайте мой привет Мессалине, я очень счастлива за нее. И думайте о несчастном Сервилии, вы обязаны ему помочь. (Изменившись в лице.) Боже мой! Эта женщина сюда идет, – я не хочу с ней встречаться. (Закутывается в платок и уходит.)
Появляется Лоллия, энергичная и сияющая, как обычно.
Лоллия. Здравствуйте, мой друг. Я кого-то спугнула?
Дион. Может быть.
Лоллия. Не огорчайтесь, она вернется. В этих делах женщины упрямы.
Дион. Относится это и к вам?
Лоллия. В меньшей степени – я мужчина в душе. Не люблю баб, слишком хорошо их знаю. Знаменитый человек им важен не тем, что он человек, а тем, что знаменитый.
Дион. В самом деле, это, должно быть, так.
Лоллия. Именно так, сколь ни грустно, мой милый. Хотела б я знать, где они были, эти коровы, когда Дион сражался, как лев, один против всего мира? Тогда они видели в нем лишь чудака, выброшенного из жизни.
Дион. Боюсь, что и вы, Лоллия, – тоже.
Лоллия. Если б я могла стать вровень с вами, я была бы не Лоллией, а Дионом. По крайней мере я не смеялась, мне только хотелось вас уберечь. Точно гения можно уберечь…
Дион. Вот и Месса этого хочет.
Лоллия. Ваша Месса прекрасная женщина, но ей только кажется, что она вас оберегает. На самом деле она оберегает себя.
Дион. Во всяком случае, она об этом не думает.
Лоллия (мягко коснувшись его руки). Очень возможно, но это так.
Короткая пауза.
Дион. Вы знаете, Лоллия, она добрая женщина, но почему-то вечно мной недовольна.
Лоллия (не снимая ладони с его руки). Это естественно. Вы живете в разных мирах.
Дион. Наверно, я трудный человек для совместной жизни…
Лоллия. С торговцем тканями жить, безусловно, легче…
Дион. Послушать ее, я разваливаюсь на части. Она лечит меня с утра до ночи.
Лоллия (пожимая плечами). Что за мысль внушать сильному, здоровому мужчине, что он инвалид?
Дион. И всегда жалуется на мой характер. Хорошо, попробуем быть объективными…
Лоллия (улыбаясь). Попробуем.
Дион. Допустим даже, я вспыльчив…
Лоллия (гладит его руку). Допустим.
Дион. Угловат, неуживчив. Ну и что из этого?
Лоллия (мягко). Ну и что?
Дион. Кажется, я не вор, не доносчик…
Лоллия. Надо думать.
Дион. Могут же быть и у меня недостатки…
Лоллия. Мой друг, без этих недостатков не было бы ваших достоинств. Вы такой, какой вы есть, другим вы быть не можете.
Дион. Клянусь небом, Лоллия, легко с вами беседовать!
Лоллия. Просто-напросто я хороший товарищ.
Дион (ревниво). А Сервилий?.. Он тоже так полагает?
Лоллия. Если б он слушал меня… Но ведь вы знаете его жену. Она постоянно боится упустить случай. Впрочем, его вы тоже знаете… в сущности, он маленький человек.
Дион. А вы – умница, Лоллия.
Лоллия. Вы добры, как положено великану. (Понизив голос.) Вечером приходите ко мне.
Дион. Уж и не знаю, отпустит ли Месса…
Лоллия. Не можете же вы сидеть у ее юбки, когда есть еще весь Рим. В конце концов, Рим стоит Мессы.
Дион. Рим – это вы. Обольстительный Рим.
Лоллия. И между тем я совершенно естественна. (Со вздохом.) Ничего не поделаешь, женщину с мало-мальски терпимой внешностью всегда принято подозревать. Прощайте, Дион. (Идет.)
Дион. Лоллия, я провожу вас.
Они уходят. Появляется глашатай. Со всех сторон стекаются римляне. Воцаряется мгновенная тишина.
Глашатай. В добрый час! Слушайте свежие римские новости. Никогда еще наш Рим не был так горд, могуч и прекрасен. Достойные римские граждане с удовлетворением следят за возвышением столицы. Что же произошло за истекшие сутки? Послушайте внимательно и соблюдая порядок.
С большим восторгом встретили архитекторы Рима повеление императора возвести в каждом квартале ворота и арки. Предусмотрено, что они должны быть украшены колесницами и триумфальными отличиями, с тем чтобы ежечасно напоминать гражданам, в особенности молодым и совсем юным, о славе и величии римских побед.
Полный римлянин. Доброе дело, ничего не скажешь!
Глашатай. Вчера вечером цезарь подписал повеление о сооружении на Палатине золотых и серебряных статуй в его честь. Вес статуй должен составить не менее ста фунтов. Проекты будет рассматривать сам император совместно с советом из лучших художников Империи. Присланные проекты обратно не возвращаются.
Плешивый римлянин (вздохнув). Сколько золота уйдет, пошли Небо ему долгих лет жизни.
Полный римлянин. Для такого цезаря ничего не жаль!
В толпе показывается Клодий.
Глашатай. Вчера вечером цезарь опубликовал новый список запрещенных книг. Список вывешивается во всех кварталах. Согласно повелению цезаря, книги подлежат сожжению, а авторы – изгнанию из пределов Империи.
Плешивый римлянин. Давно пора! Цезарь и так уж был слишком терпелив.
Полный римлянин (негромко). Только начать этот список следовало бы с Диона.
Глашатай. И наконец – внимание, внимание! Сенат на своем заседании утвердил новое обращение к цезарю. Отныне императора Домициана надлежит именовать «Государь и бог». Цезарь сообщил, что он принимает решение сената. На этом я заканчиваю, сограждане. В добрый час!
Негромко обсуждая известия, римляне расходятся небольшими группами. Появляется возбужденный Дион.
Клодий. Дион, ты опоздал услышать славные новости.
Дион (весело). Новости нужно не слушать, а переживать.
Клодий. Я только что видел тебя рядом с Лоллией. Сдается мне, что ты потерял разум.
Дион. Что за женщина, Клодий! Чистейшая жемчужина, или я парфянский осел и ничего больше. Сколько в ней глубины, понимания, а какое сердце!
Клодий. Дион, император вывесил новый список запрещенных книг.
Дион (не слушая). Друг мой, Месса – добрая женщина, но она умеет только ворчать на меня. Ты представляешь, каждое утро и каждую ночь – слышать одни жалобы, одни упреки! Можешь поверить, она была бы счастлива, если б я торговал тканями на Большом Рынке. Мне кажется порой, что в жизни моей так и не было любви, той, от которой перехватывает дыхание.
Клодий. Книги будут сожжены, а авторов отправят в изгнание. Завтра это может коснуться тебя.
Дион. «Завтра»! Что мне думать о «завтра»?!
Клодий. Боже, как глупеют величайшие умы, когда рядом оказывается женщина.
Дион (смеясь). Как они расцветают, Клодий!
Клодий. Ты слышал, что цезарь велел называть себя богом?!
Дион. Что мне бог, если я нашел человека!
Клодий (озираясь). Тише ты… Парфянский осел!
Дион (обнимает его). Я нашел человека! Я нашел человека!
Занавес.
2
Торжественный вечер у Домициана. Небольшими группами стоят гости. Негромкий взволнованный разговор.
– Вы в этом уверены?
– Самые точные сведения.
– Откуда же?
Собеседник молча показывает пальцем на потолок.
– Тогда – другое дело.
– Источник надежный, не сомневайтесь.
– Молчу, молчу. Бедняга Дион…
– Император в ярости.
Афраний. Я и сам в ярости.
Полный римлянин. Я это предвидел. Это не могло длиться до бесконечности.
Плешивый римлянин. Дион – неблагодарнейшая скотина, вот что я вам скажу. Будь я на его месте, цезарь не разочаровался бы в людях.
– Он здесь?
– И он и Мессалина…
– Поделом ему! Не ценил такого отношения!
– Друзья мои, здесь Сервилий!
– Невероятно! Он осмелился?
– Значит, воля цезаря была такова.
– Разумеется, его позвал император.
– В конце концов, он прав, Сервилий – полезный человек.
– Однако он писал Луцию хвалебные песни.
Афраний. Да, но ведь это его профессия…
Полный римлянин. В самом деле, каждый делает что может. – Тише… Вот он и сам…
Появляются Сервилий и Фульвия. Их радушно приветствуют.
Афраний. Привет, Сервилий, привет, Фульвия. До чего нам всем приятно вас видеть.
Плешивый римлянин. Давненько вас не было. Как здоровье?
Сервилий. Бедняжка Фульвия что-то хворала…
Полный римлянин. Но ничего серьезного, надеюсь?
Сервилий. Нет, чисто женское. Уже все в порядке.
Афраний. Надо отпраздновать ее выздоровление. Завтра вы обедаете у нас.
Полный римлянин. А послезавтра – у меня!
Входит Лоллия.
Лоллия. Фульвия, радость моя, вы уже здоровы?
Фульвия. Лоллия, я стосковалась по вас.
Они бурно целуются. Мужчины окружают Фульвию.
Сервилий (улучив мгновенье, еле слышно обращается к Лоллии). Не знаю, как Фульвии, а мне вас действительно недоставало.
Лоллия. Занятно, – оказывается, я рада вас видеть.
Сервилий. Это правда?
Лоллия. У вас красивая голова, – было б жаль, если б вы ее потеряли.
Сервилий. Представьте, мне тоже. Красивая или нет, я к ней привык. (Еще более понизив голос.) Как поживает мой друг Дион?
Лоллия. Это все, что вы хотели спросить?
Сервилий. Есть еще вопрос, – когда мы увидимся?
Лоллия. Приходите позавтракать со мной, если вам удобно.
Сервилий. Вы – великая женщина, я это знал.
Уходит вместе с Фульвией.
Афраний. Что ни говорите, а без Публия Сервилия Рим не Рим.
Плешивый римлянин. Друг мой, вы даже не предполагаете, как вы правы.
Афраний (самодовольно). Мой ученый секретарь – умнейший из вольноотпущенников, а послушали б вы, сколько раз на дню он говорит, что я прав.
Полный римлянин (прикладывая палец к губам). Мессалина!..
Входит Мессалина. У нее, по обыкновению, растерянный, озабоченный вид.
Привет, достойнейшая!
Мессалина. Бога ради, вы не видели Диона? Я его потеряла.
Плешивый римлянин. Я всегда говорил, что Диона надо держать в руках.
Мессалина. А я всегда говорила, что здесь семейному человеку не место. Слишком много тут потаскух. (Видит Лоллию.) Ах, Лоллия, и вы здесь? Не встречался ли вам мой муж?
Лоллия. Может быть, и встречался, Мессалина, не помню. У меня уже в глазах рябит от чужих мужей.
Обе уходят в разные стороны.
Полный римлянин. Идет Дион, я исчезаю…
Плешивый римлянин. Я с вами, Танузий.
Оба уходят.
Афраний. Гуляй, паршивец, недолго тебе разгуливать. (Уходит.)
Голоса. А он изменился…
– Щек у него совсем не стало…
– Должно быть, он все-таки что-то чувствует…
– Ну вот еще… Он всегда был таким…
Зал заметно опустел. Появившийся Дион подходит к стоящему в дверях Бибулу.
Дион. А, приятель, ты здесь?
Бибул. Я – на дежурстве. Меня сменит третья стража.
Дион. Ну, как служится?
Бибул. Что тебе сказать… Благодаря твоей защите цезарь простил меня за то, что я видел его в тот день. Но похоже, мне в самом деле стоило покинуть Рим.
Дион. Ты так думаешь?
Бибул. Да и тебе со мной вместе.
Дион. Почему же?
Бибул. Он так смотрит на меня, что я тревожусь о тебе.
Дион. Не волнуйся, ничто мне не угрожает. (Живо.) Прошу тебя, стань-ка за дверь, приятель.
Бибул выходит. Дион стремительно бросается к показавшейся Лоллии.
Я вас не вижу какой уж день…
Лоллия. Это вы?! Вы меня испугали…
Дион. Простите… но стоит мне прийти к вам, и я узнаю, что вас нет дома.
Лоллия. Мой дорогой, у меня много дел, вам-то это известно. Слава богу, мужа у меня нет, и я могу себе это позволить.
Дион. Лоллия, не пытайтесь казаться такой несокрушимой. Я знаю вас лучше, чем вы себя сами. Вы – беззащитное существо.
Лоллия (ошеломлена). Мой друг, вы все-таки ненормальны.
Дион. Может быть, поэтому я вижу то, чего не видят другие. За вашей деловитостью кроется усталость, за общительностью – одиночество. Вас окружает мир, мечтающий вас проглотить, ведь красота не вызывает здесь иных желаний. Вы беззащитны, Лоллия, и я призван вас защитить.
Лоллия (холодно). Подумайте, как защитить себя, смешной человек. Сдается мне, самое время об этом подумать. (Уходит.)
Дион. Я ее обидел… но чем? (Задумывается.)
Входит Клодий.
Похоже, она меня не любит.
Клодий. Он тебя не любит, это важней.
Дион. Кто?
Клодий. Домициан.
Дион. Неужели и ты считаешь, что любовь господина важнее любви подруги?
Клодий. Чудак, твоя жизнь в опасности. Об этом шушукаются все гости.
Дион. Вот как?
Клодий. Каждая сплетница в городе это знает. Только ты глух и слеп.
Дион. Так ты предупредил меня? Спасибо.
Клодий. Я не понимаю твоей усмешки.
Дион. Ты очень достойный человек, Клодий, ведь у тебя нет желания творить зло. Ты очень честный человек, Клодий, когда тебе не хочется произнести правду – ты молчишь. Ты очень умный человек, Клодий, – ты не станешь биться за безнадежное дело. Ты очень счастливый человек, Клодий, – проживешь сто лет и умрешь с гордо поднятой головой. Спасибо тебе – и прощай.
Клодий. Ты несправедлив, не я тебя предал, а Домициан.
Дион. Домициан не вечен.
Клодий (махнув рукой). Ах, Дион, уходят тираны, а тирании остаются.
Дион. Рухнут и тирании.
Клодий. Ты все еще веришь в это?
Дион. Иначе не стоило бы родиться на свет. А ведь все-таки это великая удача – родиться.
Клодий. Дион, пока не поздно – уйди.
Дион (взорвавшись). Удивительный человек, ему лишь бы уйти! Не видишь ты, что ли, – Рим выжил из ума. Что ни день, все те же бодрящие новости: кого-то судили, кого-то казнили; что ни день – что-нибудь запрещается: сегодня говорить, завтра – думать, послезавтра – дышать. Мало того, к границам двинулись легионы, в любой миг мы можем оказаться «воюющей стороной». Об этом сумасшествии ты уже слышал? С песнями и плясками мы идем в бездну! Словом, отвали, мне нужен Домициан.
Клодий. А ты ему – нет. Он беседует с мошенником Сервилием, за которого ты же хлопотал.
Дион. Гуманнейший, ты меня осуждаешь за это? Я не просил цезаря венчать его новыми лаврами, но у меня есть слабость – терпеть не могу, когда рубят головы.
Клодий. Тогда позаботься о своей. Прощай.
Хочет идти, но в этот миг, сопровождаемый всеми присутствующими, в зал входит Домициан.
Домициан. Ну, милые мои подданные, недаром я вас сегодня собрал. День, безусловно, торжественный, исторический, можно сказать, день. Потому что сейчас, пока мы с вами тут веселимся, наслаждаясь избранным обществом, к легату Саллюстию скачет гонец с приказом обрушиться на сарматов, а заодно и на свевов, естественно во имя достоинства и безопасности Рима. Что говорить, проявили мы немало терпения, однако и терпению приходит конец.
Гости. Слава цезарю!
– Слава воинам!
– Слава тебе, Государь и Бог!
Домициан. Чем вот прекрасны такие часы? А тем, что хоть и не очень как будто люди похожи друг на друга, а тут все различия исчезают, и остается только любовь к отечеству. Большое дело эта любовь, священное, можно сказать, чувство. Взгляните на какого-нибудь простодушного менялу, – немало я их встречал в скромной своей юности, на Гранатовой улице, – что, казалось бы, может его волновать, кроме драхм и сестерциев? А услышит он, например, о победе бодрых наших солдат, и плясать готов добряк от радости, и вина выдувает неимоверное количество, и кричит во всю мочь патриотические речи, – словом, становится другим человеком.
Афраний. Истинно так, цезарь! Золотые слова!..
Домициан. Потому-то войны и необходимы, преданные вы мои… Они напоминают нации, что она – нация, а не сброд. Они молодят общественную кровь, не говоря уж о прямых выгодах, которые несут. Одним словом, с этого часа должны быть едины все мои римляне и мои поэты в том числе. Ведь поэзия – это как-никак голос народа. Так, друзья мои, или не так?
Гости. Все верно, цезарь!
– Лучше не скажешь!
Домициан. Вот среди нас – наш Публий Сервилий, можно сказать, испытанный мастер. Что говорить, люди здесь все свои, есть за ним один грешок, какой – мы знаем… Но ведь он поэт, в нем божественная искра, жалко гасить ее раньше срока. Я и сам в молодые, трудные свои годы писал, как говорят, недурные стихи, и, должен сказать, не такое уж это простое дело. Так вот, проступочек этот мы, конечно, запомним, но все же пусть уж наш Сервилий творит. Так говорю я, широкие вы мои, или не так?
Гости. Так, цезарь!
– Так, золотое сердце!
Полный римлянин. Выше неба твоя доброта!
Домициан. Ну-ка, Сервилий, какие стихи посвятил ты нашим солдатикам?
Сервилий. Государь и Бог! Я посвящу им еще много стихов, а покамест позволь прочесть несколько строк, сложенных тут же, в горячке, по следам событий. Искренность, единственное мое свойство, пусть оправдает несовершенство.
Домициан. Валяй.
Сервилий (читает).
Снова готовится Рим торжество триумфатора видеть,
Снова наш цезарь стремит в бой белогривых коней.
Скоро узнают сарматы, а с ними надменные свевы:
Римлянин лучше умрет, чем посрамит свою честь,
Высшее счастье отдать свою жизнь за Домициана,
Домициан это Рим, Рим это Домициан.
Гости (единодушно). Слава лавроносному Сервилию!
– Слава цезарю!
Домициан (треплет Сервилия по голове). Сервилий, такую голову надо беречь.
Сервилий. Понимаю, божественный…
Дион. Разреши и мне, цезарь.
Домициан. Вижу я, Дион, разогрел тебя наш Сервилий. Ну что же, порадуй нас и ты.
Гости перешептываются. Домициан поднимает руку.
Тишина.
Дион (читает).
Снова трубят трубачи, созывая в поход легионы,
Юность, рожденную жить, ждет уж довольная смерть.
Снова – печаль в городах, виноградники вновь опустели,
По разоренной земле грустно бредет нищета…
…Друг мой, ответь, наконец, будет ли разум в почете,
Будет в соседе сосед видеть не только врага?
Будет ли слово «свобода» не только ругательным словом?
Будут ли в мире царить честь, справедливость, закон?
Тяжелое молчание.
Афраний. Неслыханно!
Полный римлянин. В час общей радости!
Плешивый римлянин. Цезарь, он оскорбил всех!
Гости, угрожающе крича, подступают к Диону.
Домициан. Тихо!
Все смолкают.
Оставьте нас вдвоем.
Возбужденно переговариваясь, гости покидают зал. Последней выходит Мессалина. Домициан и Дион остаются одни.
Ну что нам с тобой делать?
Дион. К чему спрашивать, когда ты уже решил?
Домициан. Зачем тебе это понадобилось, можешь ты мне сказать? Ты что, серьезно думаешь, что меня остановит выкрик? Пора бы тебе понять, слово – это всего-навсего звук.
Дион. Да, пока его не подхватят.
Домициан. Перестань изображать из себя оракула, олух. И не смей путаться у меня под ногами.
Дион. Буду путаться. Я человек честный. Не хочу вводить тебя в заблуждение.
Домициан. Да на что мне твоя честность?! Весталка ты, что ли? По мне, бесчестье лучше твоей честности.
Дион. Потому ты и завел одних лизоблюдов?
Домициан. Помолчи, выскочка. Что ты в этом понимаешь? Пороки нужны не меньше добродетелей.
Дион. Подведет тебя эта мудрость под чей-нибудь кинжал!
Домициан. Не каркай, белая ты ворона, не твоя печаль. Чего ты добиваешься, в конце концов?!
Дион. Домициан, перестань убивать. Убивают в походах, убивают по подозрению, убивают книги, потом – их создателей. Рим стал какой-то огромной бойней. Не видишь ты, что каждый уже и тени своей боится?
Домициан. Боится – повинуется. Мне уговаривать некогда. Задачи мои велики, а жизнь коротка. (Кивая на Диона.) Чего ради я должен терпеть крикунов, которые мне мешают?
Дион. А поэты всегда кому-то мешают. Упраздни их – это единственный выход.
Домициан. Плевать я хотел на твоих поэтов. Накормлю их сытней, и они успокоятся. Тоже мне герои, пачкуны несчастные… А уж сатирики, те вовсе отпетая публика. (Многозначительно глядя на Диона.) Характеры мерзкие, сердца как ледышки. Их-то я хорошо изучил.
Дион. Плохо ты их изучил, император. Самые нежные люди – это сатирические поэты. Почему, по-твоему, негодовал Гораций? Слишком он был добр, чтоб прощать несправедливость!
Домициан. Все поэты – мерзавцы! До одного!
Дион. Но не тогда, когда они тебе кадят?
Домициан. Ну, что же ты хочешь, я все-таки человек!
Дион. Наконец Бог вспомнил, что он человек!
Домициан. Богом я стал в силу государственной необходимости. Не можешь ты понять: людям льстит, что не смертный ими правит, а Бог.
Дион. Поймешь тебя! Это, знаешь, не так просто. Я и не надеялся спасти Сервилия, а это оказалось легче легкого. А из-за честного Бибула я унижался перед тобою полдня.
Домициан. Так бы и сказал, что завидуешь Сервилию. Все вы на один лад!
Дион (укоризненно). Домициан!.. Надо все-таки совесть иметь.
Домициан. Ты что ж, так и не сварил, почему я его простил и возвысил? А еще обижаешься, что я скромного мнения о твоих мозгах.
Дион. Но не мог же ты не раскусить его после всего?!
Домициан. Давным-давно я его раскусил, успокойся. И само собой, я его презираю и, наоборот, как это ни глупо, уважаю тебя. Но зато этот прохвост, в свою очередь, уважает начальство, чего о тебе уж никак не скажешь. В этом его преимущество перед тобой.
Дион. О чем ты говоришь? Разбудите меня, люди! А кто прославлял Луция Антония?
Домициан. Он. Он. Потому что Луций показался ему начальством. Если хочешь, его измена была доказательством его благонамеренности, его предательство – залог его верности мне. Разумеется, только покуда я император, но если я перестану им быть, то, сам посуди, на что мне Сервилий? Ну что же, ясно тебе теперь?
Дион (рассеянно). Еще бы не ясно.
Домициан. Наконец ты задумался. Думать надо было раньше.
Дион. Думать, цезарь, всегда полезно. А сейчас я думаю, как правнуки будут смеяться. Просто покатываться со смеху они будут. «Ну и мир это был, – скажут они, – поразительный, непостижимый мир!»
Домициан. Больше всего они будут смеяться над тем, что говорил ты это – мне.
Дион. «И подумать! – скажут они еще. – Все это было на девяностом году нашей эры!»
Домициан. Заладил! Ну и унылый ты тип, прости тебя Боже. И надоел же ты всем с этой «нашей эрой»! Слишком много придаешь ты значения словам, вся беда твоя именно в этом. Чтобы быть великим, нужно больше рассудка.
Дион (качая головой). Как можно меньше, Домициан!
Домициан. Так или иначе, не состоялось наше содружество. Грустно мне, приятель, а не сошлись мы характерами. Надеюсь, ты сам это понял…
Дион. Вполне.
Домициан хлопает в ладоши. Зал наполняется людьми.
Домициан. Хочу объявить вам, лояльные вы мои, печальную новость. Друг наш Дион по собственной воле покидает Рим. Этакая нелепость, – вреден наш климат для его здоровья. А здоровье, как говорится, прежде всего. Ни к чему тебе денежки, почет, ни даже, стыдно сказать, утехи любви, если нет у тебя здоровья.
Дион. Прощай, цезарь.
Домициан молча ему кивает.
Мессалина. Ну и слава богу, цезарь прав, вдали от Рима ты всегда чувствуешь себя лучше.
Гости смеются.
И нечего гоготать, это сущая правда. Может, для вас он трибун, громовержец, бич пороков, а для меня – пожилой человек со многими хворями, за которыми нужно следить и следить, чтоб он, не дай боже, не занемог. И надо ему настоем из трав растирать на ночь ключицы, и пускать иной раз кровь, и выгонять желчь. А лучше меня с этим никто не справится. Идем, Дион.
Дион. Идем, Месса. (Глядя на Лоллию.) Рим не стоит тебя.
Лоллия отворачивается.
(Он тихо произносит.) Сколько глупцов она еще погубит, и – боже мой! – как я завидую им!
Гости стараются его не замечать. Только Сервилий с веселой улыбкой напутственно машет рукой.
Клодий (тихо, так, чтобы слышал один Дион). Выздоравливай, друг.
Дион (усмехнувшись). Ты добр, Клодий, ты очень добр. (Смотрит на Бибула, замершего в дверях.) Прощай, Бибул. Сдается мне, не ходить тебе в центурионах.
Бибул. Мне что? Я – солдат… Вот младшего жаль… Того, что учится у кифариста. Говорят, у мальчишки большие способности.
Дион. Тогда он не пропадет.
Домициан. Музыки!
Звучит музыка. Бледный юноша, неотступно следивший за Дионом, приближается к нему.
Юноша. Я с вами, учитель.
Дион. Фу, как ты ко мне обращаешься? Словно мы с тобой трагические герои. Мы персонажи римской комедии, сынок, только и всего.
Юноша. Я не шучу, учитель. Я с вами. Пусть трусы отворачиваются, я считаю за честь стоять рядом. Признаюсь, я тоже пишу сатиры, уж очень мне хочется улучшить мир.
Дион. Ты славный парнишка, как твое имя?
Юноша. Децим Юний Ювенал.
Дион (мягко треплет его волосы). В добрый путь, мальчик! Ничего они с нами не сделают.
Звучит музыка. Гости танцуют. Весело глядя вокруг, Дион, сопровождаемый женой и Ювеналом, идет к выходу.
Занавес.
КОНЕЦ
Варшавская мелодия. Драма в двух частях
Действующие лица
Гелена.
Виктор.
Часть первая
Прежде чем вспыхивает свет и начинается действие, мы слышим слегка измененный записью голос Виктора.
– В Москве, в сорок шестом, декабрь был мягкий, пушистый. Воздух был свежий, хрустящий на зубах. По вечерам на улицах было шумно, людям, должно быть, не сиделось дома. Мне, во всяком случае, не сиделось. А таких, как я, было много.
Свет. Большой зал консерватории. Где-то высоко, у барьера, сидит Геля. Появляется Виктор. Садится рядом.
Геля (мягкий акцент придает ее интонации некоторую небрежность). Молодой человек, место занято.
Виктор. То есть как это – занято? Кто смел его занять?
Геля. Здесь будет сидеть моя подруга.
Виктор. Не будет здесь сидеть ваша подруга.
Геля. Молодой человек, это есть невежливость. Вы не находите?
Виктор. Нет, не нахожу. У меня билет. Этот ряд и это место.
Геля. Ах, наверное, это там… (Жест вниз.)
Виктор. Как же там… Именно тут.
Геля. Но это есть анекдот, комизм. Я сама доставала билеты.
Виктор. Я тоже сам достал. (Протягивает ей билет.) Смотрите.
Геля (смотрит). Вы купили на руках?
Виктор. Вы хотите сказать – с рук?
Геля. О, пожалуйста, – пусть будет с рук. У брюнетки в рыжем пальто?
Виктор. Вот теперь все верно. Чу́дная девушка.
Геля. Не хвалите ее, пожалуйста. Я не хочу о ней слышать.
Виктор. Что-то, видно, произошло. Она страшно спешила.
Геля. Так, так… Я знаю, куда она спешила.
Виктор. А вокруг все спрашивают билетика. Представляете, какая удача?
Геля (небрежно). Вы часто бываете в консерватории?
Виктор. Первый раз. А что?
Геля. О, ничего…
Виктор. Иду себе – вижу: толпа на квартал. Значит, дело стоящее, все ясно. Бросаюсь в кассу – дудки, закрыто. Администратор меня отшил. Что за черт, думаю, – чтоб я да не прорвался? Такого все же еще не бывало. И тут эта ваша, в рыжем пальто… А что сегодня будет?
Геля. Если вы не возражаете – будет Шопен.
Шум, аплодисменты.
Виктор. Шопен так Шопен. У вас есть программа?
Геля. Пожалуйста, тихо. Теперь – надо тихо.
Свет гаснет. Музыка.
Свет снова вспыхивает в антракте между первым и вторым отделением.
Геля. Почему вы не идете в фойе? Там можно прогуливаться.
Виктор (не сразу). Что-то не хочется. Шум, толкотня…
Геля. Вы не любите шума?
Виктор. Смотря когда. Сейчас – нет.
Геля. Вы любите музыку?
Виктор. Выходит – люблю.
Геля. Стоило прийти, чтоб сделать такое открытие.
Виктор. Глупо, что я сюда не ходил. Честное слово.
Геля. О, я вам верю без честного слова.
Виктор. А вы – из Прибалтики?
Геля. Нет, не из Прибалтики.
Виктор. Но ведь вы не русская.
Геля. Я богатая дама, совершающая кругосветный тур.
Виктор. Ваша подруга в рыжем пальто тоже путешествует вокруг света?
Геля. Моя подруга… Не будем говорить про мою подругу. Она – легкомысленное существо.
Виктор. Все-таки скажите, вы – откуда?
Геля. Не верите, что я богатая дама?
Виктор. Не знаю. Я никогда их не видел.
Геля. Я из братской Польши.
Виктор. Вот это похоже. Я так и подумал, что вы не наша. То есть я хотел сказать – не советская. То есть я другое хотел сказать…
Геля. Я понимаю, что вы хотите сказать.
Звонки.
Антракт оканчивается.
Виктор. А что вы делаете у нас?
Геля. Я у вас учусь.
Виктор. В каком это смысле?
Геля. В консерватории, если вы ничего не имеете против. И моя подруга тоже в ней учится. Но она – ваша… То есть я хотела сказать – советская. То есть я хочу сказать – мы живем в одном общежитии.
Виктор. Спасибо, я понял.
Геля. В одном обществе и в одном общежитии. Она тоже будущий музыкант. И между тем продала свой билет.
Виктор. Для вас, наверное, большая скидка. Я даже не думал – довольно дешево.
Геля. Еще не хватало, чтобы она, как это… немножко спе-ку-ли-ровала. Довольно того, что она решила пойти слушать молодого человека, а не Шопена.
Виктор. В конце концов, ее можно понять.
Геля. Пан так считает? Я ее презираю.
Виктор. Молодой человек тоже не валяется на каждом углу.
Геля. Я не знаю, где он валяется, но это скучный молодой человек. Он не любит музыки и этим отличается от вас. У бедной Аси постоянный конфликт. Любовь и Долг. Любовь и Дело. Совершенно ужасное положение.
Виктор. Я-то уж на него не в обиде. Из-за него я здесь.
Геля. Вам повезло.
Виктор. Мне всегда везет. Я счастливчик.
Звонки.
Геля. Это очень интересно. Первый раз я вижу человека, который этого не скрывает.
Виктор. Зачем мне скрывать?
Геля. А вы не боитесь?
Виктор. Чего мне бояться?
Геля. Люди узнают, что вы счастливчик, и захотят испытывать, так это или не так?
Виктор. Вот еще! Я Гитлера не испугался.
Аплодисменты.
Геля. Все. Теперь – тишина.
Виктор (шепотом). Как вас зовут?
Геля. Тихо. Слушайте музыку.
Свет гаснет. Музыка.
Снова свет. Фонарь. Переулок.
Геля. Вот наш переулок. А там в конце – наше общежитие. Спасибо. Дальше идти не надо. Можно встретиться с Асей. Если она увидит, что меня провожают, я потеряю… как это… моральное превосходство.
Виктор. Значит, Геля – это Гелена. По-русски вы просто Лена.
Геля. Значит, вы – Виктор. По-русски вы просто победитель. Я – просто Лена, а вы – просто победитель. И все-таки не стоит переводить. Мне нравится мое имя.
Виктор. Мне тоже.
Геля. Каждое произведение в переводе теряет. Пан будет спорить?
Виктор. Пан не будет спорить. Вас в комнате много?
Геля. Еще две девушки. Две чайные розы. Первая – Ася, она певица, как я. Вы ее видели. Она милая, но совершенно без воли. Молодой человек делает из нее веревки. Зато другая совсем другая. Она имеет твердый характер, огромный рост и играет на арфе.
Виктор. А ее как зовут?
Геля. Езус-Мария, ему все нужно знать. Вера.
Виктор. Подумать только, придешь когда-нибудь в оперу, а Кармен – это вы!
Геля. Я не буду петь Кармен, у меня другой голос. И в опере я не буду петь… Я буду… как это… камеральная певица.
Виктор. Вы хотите сказать – камерная.
Геля. Просто беда. Я вечно путаю.
Виктор. Мне бы так шпарить по-польски. Сколько лет вы у нас?
Геля. Другий год.
Виктор. Рассказали бы – не поверил.
Геля. Хорошо, я открою секрет, хотя мне это совсем невыгодно. Здесь есть еще маленькое обстоятельство. Мой отец знал по-русски и меня учил. Он говорил: «Гельця, тебе надо знать этот язык. В один прекрасный день ты мне скажешь спасибо». Видимо, он имел в виду сегодняшний день.
Виктор. Ну, это само собой. Но все равно. Вы – молодчина.
Геля. Я просто способна к языкам. Как всякая женщина.
Виктор. Так уж и всякая…
Геля. Так, так. Что такое способность к языкам? Способность к подражанию, я права? А все женщины – обезьянки.
Виктор (с подчеркнутой грустью). Даже вы?
Геля. Пан не хочет, чтоб я была как все. Это мило. И натурально. Мы ценим правила, а любим исключения. Очень жаль, я ужасная обезьянка. Я смотрю вокруг и все примериваю на себя. Это мне не годится, а это мне подойдет! Красивая прическа – немножко задор, немножко поэзия, немножко вызов – беру себе. Или вижу – красивая походка. И грациозно, и очень стремительно – почти полет. Это совсем смертельная рана – такая походка, и не моя! Она будет моя! Я ее беру. Потом я встречаю девушку: у нее задумавшийся взгляд, он показывает на глубокую душу – очень хорошо, я беру этот взгляд.
Виктор. Задумчивый взгляд.
Геля. Ну все равно, вы меня поняли. В общем, я – Жан-Батист Мольер. Он говорил: «Je prend mon bien оù je le trouve».
Виктор. Хотя в переводе и потеряет – переведите.
Геля. Я вас немножко давлю своим французским? Так? Это значит: я беру свое добро там, где его нахожу. Ходят слухи, Мольер взял себе две сцены у Сирано де Бержерак. Он был гений, ему все было можно.
Виктор. А вам?
Геля. Мне тоже – я женщина. Но почему вы все время задаете вопросы? Вы опасный человек.
Виктор. Я хочу еще спросить…
Геля. Подождите – спрашиваю я. Вы учитесь?
Виктор (кивая). В институте имени Омара Хайяма.
Геля. Святая Мадонна, он надо мной смеется.
Виктор. На отделении виноделия, вот и все. Омар Хайям – покровитель виноделов. Певец, идеолог и вдохновитель. Мы его учим наизусть почти в обязательном порядке. Наш профессор сказал, что когда-нибудь над входом будут высечены его слова:
Вино питает мощь равно души и плоти,
К сокрытым тайнам ключ вы только в нем найдете.
Геля. Я поняла – вы будете дегустатор?
Виктор. Молчите и не срамитесь… Ничего вы не поняли. Я буду технолог. Буду создавать вина.
Геля. Так, так. Если вы не сопьетесь, вы прославите свое имя.
Виктор. Виноделы не спиваются. Это исключено.
Геля. В самом деле, я почему-то забыла, что вина создаются.
Виктор. Еще бы – отношение потребителя. Между тем вино рождается, как человек.
Геля. Я надеюсь, это шутка.
Виктор. Когда-нибудь я вам расскажу. Прежде всего нужно найти те качества, которые создадут букет. А потом вино надо выдерживать. Букет создается выдержкой.
Геля. Это надо будет запомнить. Но уже поздно, пора.
Виктор. Геля…
Геля. Так, так. Интересно, что вы скажете дальше.
Виктор. Я хочу вас увидеть.
Геля. Я знаю, но вы не должны были это показывать. Как надо сказать – показывать или показать?
Виктор. Я действительно очень хочу вас увидеть.
Геля. Надо небрежно, совсем небрежно: «Когда мы увидимся?» У вас мало опыта. Это плохо.
Виктор. Когда мы увидимся?
Геля. Откуда я знаю? В субботу. В восемь.
Виктор. Где?
Геля. Вы так будете спрашивать всё? На углу Свентокшисской и Нового Свята. В Варшаве я назначала там.
Виктор (хмуро, почти без выражения). Там.
Геля (с интересом). Пан полагает, он будет первый?
Виктор (еще более хмуро). Пан не полагает. Так где?
Геля. Но при этом вы можете улыбнуться. «Где, где?» Вы еще в консерватории должны были подумать где. Езус-Мария, совсем мало опыта.
Виктор. Ну хорошо. Командую я. На углу Герцена и Огарева. Рядом с остановкой.
Геля. Ах, эта Ася… Не могла продать старичку!
Свет гаснет.
Вновь – свет. На углу. Виктор взглядывает на часы.
Подходит Геля.
Геля. Не надо смотреть на часы. Я уже здесь.
Виктор. Очень боялся, что вы не придете.
Геля. Так все-таки вы чего-то боитесь.
Виктор. Представьте, выяснилось, что это важно.
Геля. Именно что?
Виктор. Чтоб вы пришли.
Геля. А-а… Это я как раз представляю.
Виктор. Я правду говорю.
Геля. Так я верю, верю. Конечно, правду. Конечно, важно. Меня совсем не нужно убедить. Можно подумать, к вам каждый вечер приходят на угол варшавские девушки.
Виктор. Варшавские девушки знают себе цену.
Геля. Все девушки должны знать себе цену. Непобедимость идет от достоинства.
Виктор. Куда мы пойдем?
Геля. Спасите меня. Он опять задает вопросы. Матерь Божья, о чем он думал три дня? Вы должны меня ослепить, показывать себя в лучшем свете. Разве вы не зовете меня в ресторан?
Виктор. Получу стипендию и позову.
Геля. Так. Это рыцарский ответ. Ответ безумца. Не возмутитесь. Я знаю – вы создаете вина, но вам еще нечем за них платить. Будьте веселый, все впереди. Вы видите, я не надела вечерний наряд, и у моих туфель тоже другая миссия. Есть еще варианты?
Виктор. Покамест нет.
Геля. Вы и в самом деле счастливчик. Вам не нужно делать выбор.
Виктор. Как знать, у меня есть свои заботы.
Геля. Этот вечер единственной вашей заботой должна быть я.
Виктор. Это я понял.
Геля. Тем более ваш Хайям говорит:
Красавиц и вина бежать на свете этом
Разумно ль, если их найдем на свете том?
Виктор. Вы прочли Хайяма. Мне это приятно.
Геля. Вы так его любите?
Виктор. Приятно, что вы готовились к встрече.
Геля (оглядывая его). Вот что?.. Спасибо за предупреждение.
Виктор. А это не понял.
Геля. Вы не так безопасны, как мне показалось. С вами надо быть настороже.
Виктор. Это – ошибка. Ничуть не надо.
Геля. Я готовилась? Ну хорошо. Не забуду этого ни вам, ни Хайяму.
Виктор. Не стоит сердиться, будем друзьями.
Геля. Все равно – у вас нет никакого опыта. Даже если вы что-то заметили, вы должны были промолчать. Тогда вы смогли бы когда-нибудь воспользоваться своим открытием. Все-таки – куда мы идем?
Виктор (веско). Я полагаю, мы сходим в кино.
Геля. Я так и знала, что этим кончится. А что нам покажут?
Виктор. Не имею понятия. Мне все равно.
Геля. Хотите сказать, что не будете смотреть на экран?
Виктор. Почему? Буду. Время от времени.
Геля. Вы откровенный человек.
Виктор. От неопытности, должно быть.
Геля. Отец меня предупреждал – с кино все начинается.
Виктор. Мы ему не скажем.
Геля. Безусловно, не скажем. Его уже нет.
Виктор. Простите.
Геля. Что с вами делать, прощаю. Когда взяли Варшаву, мы перебрались в деревню, но его это не спасло. (Неожиданно.) Что бы вы сделали, если б я не пришла?
Виктор. Явился бы в общежитие.
Геля. Это хорошо. Это значит – у вас есть характер. Почему вы стали такой серьезный? Лучше мы переменим тему. Теперь вы знаете, что я сирота и меня обидеть нельзя. Как надо правильно – обидеть или обижать?
Виктор. Можно и так и так.
Геля. И так и так – нельзя. Нельзя обижать.
Виктор. Я ведь – тоже. У меня и матери нет.
Геля. Бедный мальчик… И он убежден, что счастливчик.
Виктор. Конечно, счастливчик. Это уж факт. Сколько не дожило, а я дожил. Полгода в госпитале и – вот он я. На углу Герцена и Огарева.
Геля. Витек, ни слова больше про войну. Ни слова.
Виктор. Договорились: миру – мир.
Геля. Если б я знала, вы бы минуты не ждали на этом вашем углу.
Виктор (щедро). Вот еще… Вы опоздали по-божески. Я приготовился ждать полчаса.
Геля. Так много?
Виктор. Девушки это любят.
Геля. Але то есть глупство. Просто глу-пость. Зачем испортить настроение человеку, если ты все равно придешь. Я читала: точность вежливость королей.
Виктор (с лукавством). И королев.
Геля. Каждая женщина – королева. Это надо понимать раз навсегда.
Виктор. Вы хотите сказать – понять раз навсегда.
Геля. Добже, добже. Вы всегда лучше знаете, что я хочу сказать.
Свет гаснет.
Снова свет. Пустой зал. Переговорный пункт. Доносится голос, усиленный микрофоном: «Будапешт, третья кабина. Будапешт на проводе, третья кабина».
Виктор. С кем ты собираешься говорить?
Геля. Если пан позволит, с Варшавой.
Виктор. А точнее?
Геля. Пусть это будет тайна. Маленькая тайна освежает отношения.
Виктор. Рано ты начала их освежать.
Геля. Это никогда не бывает рано. Это бывает только поздно.
Виктор. В конце концов, это твое дело.
Геля. На этот раз пан прав.
Виктор (оглянувшись). Здесь не слишком уютно.
Геля. Зато тепло. Когда будут страшные морозы и мы совсем превратимся в ледышечки, мы будем сюда приходить и делать вид, что ждем вызова.
Виктор. Тебе надоело ходить по улицам. Я тебя понимаю.
Геля. Витек, не унывай. Мы нищие студенты. Я бедненькая, зато молоденькая, и у меня… как это… свежий цвет лица.
Виктор. Обидно, что я не в Москве родился. По крайней мере был бы свой угол.
Геля. Я охрипла. Я не знаю, как буду разговаривать.
Виктор. Совсем не охрипла. Голос как голос.
Геля. Ты не знаешь, меня лечили два дня. Меня закутали в два одеяла. Потом мне давали чай с малиной. Потом аспирин. Потом я пылала. Как грешница на костре. Потом я не выдержала и сбросила с себя все. Это был восторг. Я лежала голая, ела яблоко, Вера играла на арфе – все было словно в раю.
Виктор. Жаль, меня там не было.
Геля. Старая история. Стоит создать рай, появляется черт. Ты и так во всем виноват. Из-за тебя я потеряю голос и погублю свою карьеру. Певица не может быть легкомысленной.
Виктор. Ты никогда не была легкомысленной.
Геля. Альбо ты управляешь своим темпераментом, альбо он управляет тобой.
Виктор наклоняется и целует ее в щеку.
Браво, браво.
Виктор. Могу повторить. (Стараясь скрыть смущение.) А который час?
Геля смеется.
Что тут смешного?
Геля. Я заметила, человек интересуется временем в самый неподходящий момент.
Виктор (хмуро). Не знаю. Не обращал внимания.
Геля. Слушай, я тебя развеселю. Один раз отец нагрузил телегу большой копной сена. В этой копне были спрятаны евреи. Я должна была довезти их до другого села. И только меня отпустил патруль, мы не проехали даже два шага – из копны высовывается голова старика, в белой бороде зеленая травка, и он спрашивает: «Который час?» Матерь Божья, я еще вижу патруль, а ему нужно знать – который час?
Виктор. Ты меня очень развеселила. Тебя убить могли. Или – хуже…
Геля. Что может быть хуже?
Виктор. Ты знаешь сама.
Геля (мягко, не сразу). Ты чудак, Витек.
Виктор. Перестань. Какой я чудак?
Геля. Зачем ты злишься? Я люблю чудаков. С ними теплее жить на свете. Когда-то в Варшаве жил такой человек – Франц Фишер, мне о нем рассказывал отец. Вот он был чудак. Или мудрец. Это почти одно и то же. Знаешь, он был душой Варшавы. Она без него осиротела.
Голос, усиленный микрофоном: «Вызывает Варшава.
Кабина шесть. Варшава на проводе – шестая кабина».
Это – меня.
Голос: «Варшава – кабина шесть».
Подожди, я – быстро. (Убегает.)
Виктор закуривает, ждет. Голос: «Вызывает Прага. Кабина два. Прага на проводе – вторая кабина». «Вызывает София – кабина пять. София, София – пятая кабина». Виктор тушит папиросу.
Возвращается Геля.
Геля. Как было хорошо слышно. Как будто рядом.
Виктор. С кем ты говорила?
Геля. Витек, разве ты не видишь – я хочу, чтоб ты мучился и гадал.
Виктор. Ты сама мне сказала, что мать уехала к тетке в Радом.
Геля. Ты знаешь, Радом – это удивительный город. Его называют – столица сапожников. Когда-нибудь я поеду в Радом и мне сделают такие туфли, что ты тут же пригласишь меня в «Гранд-отель».
Виктор. Если она в Радоме, с кем же ты говорила?
Геля. О, трагическая русская душа. Она сразу ищет драму.
Виктор. Если пани предпочитает комедию, она может не отвечать.
Геля. Я еще не пани. Я панна. Альбо паненка.
Виктор. Прости, я ошибся.
Геля. И я ошиблась. Я думала, у нас будет такой легкий, приятный роман.
Виктор. Не самая роковая ошибка.
Геля (смиренно). Добже. Я сознаюсь. Успокойся. Это был молодой человек.
Виктор. Как его зовут?
Геля. Какая разница? Предположим, Тадек.
Виктор. А фамилия?
Геля. Езус-Кристус! Дымарчик. Строняж. Вечорек. Что тебе говорит его фамилия?
Виктор. Я хотел знать твою будущую, вот и все.
Геля. Для концертов я оставлю свою. Ты будешь посетить мои концерты?
Виктор. Посещать!
Геля. Посетить, посещать – какой трудный язык!
Короткая пауза.
Витек, а если я говорила с подругой? Такой вариант тоже возможен.
Виктор. Почему я должен верить в такой вариант?
Геля. Хотя бы потому, что он более приятный. Который час?
Виктор. Действительно, в самый неподходящий момент.
Геля. Я же тебе говорила. О, как поздно. Скоро двенадцать. Или лучше – скоро полночь. Так более красиво звучит. Более поэтично. В полночь общежитие закрывают и девушек не хотят пускать.
Виктор. Пустят. Я тебе обещаю.
Геля. Идем, Витек. Ты проводишь меня до дверей и скажешь мне: «До свидания». Это прекрасное выражение. Так должны прощаться только влюбленные, правда? До свидания. Мы прощаемся до нового свидания. Несправедливо, что точно так же прощаются все. Влюбленных постоянно обкрадывают.
Виктор. Это идиотизм – сейчас прощаться. Просто неслыханный идиотизм. А что, если я пойду к тебе? Попрошу эту Веру, чтоб она побряцала на арфе.
Геля. Нет, все-таки ты чудак. Такое мое счастье – отыскать чудака. После войны их почти не осталось. Должно быть, их всех перестреляли.
Виктор. Честное слово, иду к тебе в гости. Не прогоните же вы меня. Может, еще напоите чаем. Ну? Решено?
Геля (смеясь). У тебя сейчас вид, как в поговорке… пан или пропал?
Виктор (почти серьезно). Пан пропал.
Свет гаснет.
Снова свет. Музей. Статуи и картины.
Геля. Только что была Москва и – вот… В каком мы веке? Витек, это чудо. Ты веришь в чудеса?
Виктор. Все в мире – от электричества.
Геля. Ты ужасно шутишь, но я тебе прощаю за то, что ты меня сюда привел.
Виктор. Что делать, если некуда деться.
Геля. Витек, не разрушай настроения.
Виктор. Из нас двоих я – разумное начало.
Геля. Это новость для меня. Смотри, какая красавица. Ты бы мог ее полюбить?
Виктор. Красавиц не любят, любят красоток.
Геля. Ты невозможен. Она прекрасна.
Виктор. Уж очень несовременна. Лед.
Геля. Мы тоже будем несовременны.
Виктор (беспечно). Когда это будет!
Геля. Скорей, чем ты думаешь. Вспомни, что пишет Хайям.
Виктор. А что он пишет?
Геля.
Еще умчался день, а ты и не заметил.
Виктор. И далее он говорил: по этому поводу выпьем.
Геля. Здесь – хорошо. Ты отлично придумал.
Виктор. У меня светлая голова.
Геля. Мне жаль, что ты не был в Кракове. Я бы водила тебя в Вавель.
Виктор. А что это – Вавель?
Геля. Это древний замок. Там похоронены все польские короли. И многие великие люди. Словацкий, Мицкевич…
Виктор. Все-таки это занятно, правда? Поэты плохо живут с королями, а хоронят их вместе.
Геля. Видишь, Витек, музей действует и на тебя. Ты стал очень… как это… глубокомысленный.
Виктор. Я всегда такой.
Геля. В Вавеле еще лежит королева Ядвига. Она была покровительница университета, и все ученики до сих пор пишут ей записки.
Виктор. Что же они там пишут?
Геля. «Дорогая Ядвига, помоги мне выдержать экзамен». «Дорогая Ядвига, пусть мне будет легче учиться».
Виктор. Ты тоже писала?
Геля. О, когда я приехала в Краков, я сразу побежала к Ядвиге.
Виктор. Хотел бы я прочесть твою записку.
Геля. Я тебе скажу, если ты такой любопытный. «Дорогая Ядвига, пусть меня полюбит учитель математики».
Виктор. И как, Ядвига тебе помогла?
Геля. Должно быть, помогла, я сдала экзамен.
Виктор. Слушай, у меня родилась идея.
Геля. Надеюсь, ты шутишь.
Виктор (кивая на статую). Спрячемся за этого типа и поцелуемся.
Геля. Я говорила, ты сегодня… в ударе.
Они заходят за статую и целуются.
Какая прекрасная идея.
Виктор. Дежурная, по-моему, спит.
Геля. Я боялась, что здесь будут экскурсии. Я очень не люблю экскурсии, это мой недостаток. Правда, ничего не надо объяснять? Пускай люди думают сами.
Виктор (быстро целует ее). Пока дежурная не проснулась.
Геля (прислонясь к статуе). В крайнем случае нас защитит наш атлет.
Виктор Мы сами себя защитим.
Геля. Но он очень сильный. Смотри, какие у него мышцы.
Виктор. Видишь, что значит заниматься спортом.
Геля. Я знаю, знаю – у тебя под кроватью две гири.
Виктор. А что тут плохого?
Геля. Я немножко боюсь спорта. Спортсмены слишком ценят силу.
Виктор. Это не грех.
Геля. Ты очень сильный?
Виктор. Не слабый, конечно.
Геля. Приятно быть сильным?
Виктор. Очень приятно.
Геля. А что тебе приятно?
Виктор. Я сам не знаю… Должно быть, какая-то независимость.
Геля. Может быть, зависимость других?
Виктор. Я не драчун. Но надо уметь дать сдачи.
Геля. Так. Но сегодня человек дает сдачи, видит, что это получается, и завтра он бьет первым.
Виктор. Хорошо. Я буду подставлять другую щеку.
Геля. Наверное, я очень глупая, Витек, и надо мной нужно весело смеяться, но я ничего не могу с собой сделать. Для меня сила почти всегда рядом с насилием.
Виктор. Геля, ты говоришь про фашизм…
Геля. А я теперь часто думаю про фашизм. И слушай – иногда он выглядит очень эффектным. Оптимизм. Уверенность в будущем. Он целые страны соблазнил своими мускулами.
Виктор. Слушай… война кончилась в сорок пятом.
Геля. Так. Правда. (Пауза.) Это смешно. Я тебя просила не говорить о войне, а сама не могу ее забыть ни на минуту. Мы в Польше все такие. Витек, ты веришь в счастье?
Виктор. Да, Геля, верю.
Геля. А я боюсь верить. И жизни я боюсь. Это очень стыдно, но я ее боюсь. Говорят, после первой войны с людьми было то же самое.
Виктор. Не знаю. То была совсем другая война. Не нужно сравнивать. И не нужно бояться. Просто ты насмотрелась на оккупантов. На их патрули, на их автоматы. Это пройдет.
Геля. Витек, у тебя пальцы как у пианиста.
Виктор. Мне медведь на ухо наступил.
Геля. Я уверена, что это не так.
Виктор. Слушай…
Геля. У тебя снова идея?
Виктор. За этой богиней нас никто не увидит.
Геля. Помни, букет создается выдержкой.
Виктор. Ты действительно обезьянка.
Заходят за статую и целуются.
Черт знает, до чего хорошо.
Геля. Не богохульствуй.
Виктор (целует ее). Бог нам простит.
Геля. Он ведь прощает не тем, кому нужно. Теперь я бы не вступила в переписку с Ядвигой.
Он снова ее целует.
А куда мы отправимся завтра?
Виктор. Что-нибудь придумаю.
Геля. Хорошо знать, что кто-то придумывает за тебя. Какой ты умный.
Виктор. Ты же не любишь, когда за тебя думают.
Геля. В том-то и ужас, что это приятно. Должно быть, это женская черта, но уж слишком много мужчин ее имеют. Смешно, правда?
Виктор. Диалектика, Геля.
Геля. О, какое великое слово. Оно объясняет решительно все. Как твое электричество.
Виктор. Гражданка, надо верить в электричество или в Бога. Третьего не дано.
Геля. Пане профессоже, я стала бояться богов. Любых. Даже тех, что зовут к милосердию. Как только человек творит Бога, он начинает приносить ему жертвы.
Виктор. Значит, вам остается одно электричество.
Геля. Электричеству тоже приносят жертвы.
Виктор. Геля, без жертв ничего не бывает.
Геля. Я знаю, знаю… Наука их требует, искусство их требует, и прогресс требует жертв. Витек…
Виктор. Что, Геля?
Геля. Теперь идея появилась у меня.
Она заходит за статую.
Свет гаснет. Снова – свет. Комната в общежитии. Геля – в халатике и домашних туфлях – укладывает перед зеркалом волосы. Стук.
Геля. Проше.
Входит Виктор с коробкой в руках.
Как ты поздно.
Виктор. Прости. (Стягивает варежку.)
Геля. Пока мы до них доберемся – уже будет Новый год.
Виктор. Ты еще не готова.
Геля. Я тут же буду готова. Просто я хочу быть самой красивой. Я ведь не принадлежу себе. Иначе мне было бы все равно, лишь бы пан был доволен.
Виктор. Кому ж ты принадлежишь?
Геля. Я должна поддерживать традицию моей родины и показывать, что Польска еще не сгинела.
Виктор. Она не сгинела.
Геля. Ах, Витек, какой ты милый. Ты сейчас мне оказывал моральную помощь. Когда охраняешь традицию, чувствуешь большую ответственность. Она давит.
Виктор. Ты будешь королевой, не бойся.
Геля. Что за коробка у тебя в руках?
Виктор. Банальнейший новогодний подарок.
Пока она торопливо развязывает, он садится и прикрывает глаза.
Геля. Езус-Мария! Какие туфельки.
Виктор. Я боялся, что ты уедешь в столицу сапожников – город Радом.
Геля. Витек, ты – чудо. Дзенкую бардзо. Я бы тебя поцеловала, но боюсь измазывать.
Виктор. Измазать. (Зевает.)
Геля. О, пусть. Ты всегда меня учишь. Але откуда у тебя пенендзе?
Виктор. Я разбогател. (Зевает.)
Геля. Фуй, не смей зевать. Это неуважение к моей красоте, к моей стране и ее флагу. Я тоже купила тебе подарок. Правда, он не такой шикарный. Я не так богата, как ты. У меня другие достоинства. (Протягивает ему галстук, примеряет.) О как красиво! Как красиво!
Виктор. Спасибо. Никогда не носил галстуков.
Геля. Это – ложно понятый демократизм. С этим надо заканчивать.
Виктор. Хорошо.
Геля. Вино стоит на окне. Не забудь его взять. Это наш вклад на общий стол. Я сейчас натягиваю платье, залезаю в мои новые туфельки – и мы идем.
Он не отвечает. Она заходит за шкаф.
Только сиди и не двигайся. Я рассчитываю на твое благородство. Почему ты молчишь, Витек? Это согласие или протест? (Она выходит, уже в платье, с туфлями в руках.) Что с тобой? Ты спишь?
Виктор действительно спит. Она тихо ставит туфли на столик и подходит к нему. Осторожно берет его руку. Виктор не шелохнулся – спит. Геля, еле слышно ступая, отходит в сторону, гасит большой свет. Теперь только ночник освещает комнату. Она садится напротив Виктора, внимательно на него смотрит. Тишина. Медленно начинают бить далекие часы. Двенадцать. Геля сидит неподвижно. Откуда-то доносится музыка. Вновь – уже один раз – бьют часы. Геля продолжает сидеть все в той же позе. Музыка едва слышна. Виктор открывает глаза.
С Новым годом, Витек.
Виктор. Который час?
Геля. Как всегда, в неподходящий момент. Уже четверть второго.
Виктор. Я заснул?
Геля. Как дитя. И спал, как ангел.
Виктор. Прости меня. Я – бандит.
Геля. Слишком сильно.
Виктор. Я поступил как свинья.
Геля. Напротив – как патриот. Теперь королевой красоты будет Наташа.
Виктор. Может быть, все-таки пойдем?
Геля. Уже не имеет никакого смысла. Мы только вызовем улыбки и вопросы.
Виктор. Какая глупость…
Геля. Витек, где ты был?
Виктор. Разгружал вагоны.
Геля. Это ты там разбогател?
Виктор. Всякий труд почетен.
Геля. Ничего, мы выпьем вино сами. Я очень хочу за тебя выпить.
Виктор (открывая бутылку). Где у тебя стаканы?
Геля. Вот стаканы. Это хорошее вино?
Виктор. Обычное вино.
Геля. А ты можешь пить обычное вино? Или это… профанация?
Виктор. Вшистко едно, панна.
Геля. Как удается настоящее вино, Витек?
Виктор. Это долгий путь. От винограда до вина – долгий путь. Когда фильтропресс отделяет мезгу…
Геля. А что такое – мезга? Ты прости, я дикарь.
Виктор. Ягода, мякоть, косточки… Я говорю, в этот час мы еще не знаем, какое нас ждет вино. Все выяснится позже. Как с ребенком.
Геля. И виноделы волнуются?
Виктор. Виноделы ужасно волнуются.
Геля. Ты говоришь со мной снисходительно. Ты подчеркиваешь свое превосходство.
Виктор. Я когда-нибудь возьму тебя с нами на практику. Ты посмотришь, как делают анализ на сахаристость, как бродит сусло и как выдерживают вино.
Геля. Букет создается выдержкой.
Виктор. Я вижу, ты это крепко затвердила.
Геля. Мне это понравилось.
Виктор. Марочное вино хранится много лет. Его выдерживают в дубовых бутах. Дубовый бут придает ему благородство.
Геля. А мы пьем марочное вино?
Виктор. Ординарное, Геленька.
Геля. Что это значит?
Виктор. Его выдерживали меньше года.
Геля. Какой позор! И им не стыдно?
Виктор. Здесь равенства нет.
Геля. Ну пусть. Я пью за тебя, хотя это вино недостойно тебя.
Виктор. А я за тебя.
Геля. Я пью, чтоб тебе было хорошо в сорок седьмом году.
Виктор. И тебе.
Геля. Чтоб мне было хорошо с тобой в этом сорок седьмом году. Наверное, я ужасный… консерватор, но я не хочу раскрывать в тебе новые черты. Даже если это черты будущего.
Виктор. Но я хочу расти над собой.
Геля. Не надо. Кто знает, куда ты вырастешь? Мне с тобой так спокойно сейчас, так ясно.
Виктор. Не надо тебе пить. У нас нет закуски.
Геля. Ничего, у меня трезвая голова, я не сделаю глупостей. А закуски нет. Ты проспал закуску. И главное – удивительный торт. Наташина мама – великий маэстро. Я сегодня ночью видела во сне этот торт.
Виктор. Лакомка.
Геля. Если б ты знал, какие частки на Новом Святе! Больше нигде не бывают такие частки. Я на них тратила последний злотый. Святая Мария, что мне делать, я так люблю сладкое. Певицы и без него становятся толстухами, а я к тому же его люблю.
Виктор. Сладкие слова ты тоже любила?
Геля. Любила, любила. Зачем скрывать? Но теперь ты открыл мне глаза. Теперь каждому слову я буду делать анализ на сахаристость. Доволен?
Виктор. Ты знаешь, что отличает настоящее вино? Послевкусие.
Геля. Дивное слово. Только ты мне его объясни.
Виктор. Вкус, который остается после того, как ты выпил. Послевкусие. Есть такие круглые вина, они точно перекатываются во рту.
Геля (пьет). Это не перекатывается.
Виктор. Само собой. В нем недостаточно тела.
Геля. Какая бесстыдная наука – твое виноделие. Неужели к вам принимают девушек?
Виктор. Паненка к паненке.
Геля. Но ведь я лучше. Ты должен честно признать – я лучше. Я родилась на географическом перекрестке. Во мне смешалось все, все, все! Римская католическая церковь и язычество древних славян. Где ты еще найдешь такую?
Виктор. Такую трезвую?
Геля. Витек, я трезвей тебя, и ты в этом убедишься. А сейчас я хочу танцевать в новых туфельках.
Виктор. Вы позволите вам их надеть?
Геля. Проше пана.
Он ее обувает.
Включи репродуктор.
Виктор включает. Музыка. Они танцуют.
Во всех домах сейчас танцуют. Во всех городах сейчас танцуют. Во всех странах. И желают друг другу счастья. Витек, мне почему-то грустно.
Виктор. Я говорил – не нужно пить.
Геля. Не то, не то. Как тебе объяснить? Ты решишь, что я истеричка. Я просто думаю, сколько людей живут со мной в одно время. И я их никогда не узнаю. Всегда и всюду границы, границы… Границы времени, границы пространства, границы государств. Границы наших сил. Только наши надежды не имеют границ.
Виктор. Но я же тебя нашел.
Геля. Ты случайно меня нашел.
Виктор. Не важно. Же пран, же пран… Одним словом: беру добро, где нахожу.
Геля. Это очень умно с твоей стороны. (Пауза.) Витек.
Виктор. Что?
Геля. У тебя нет никаких идей?
Виктор. Есть одна. (Целует ее.)
Геля (оторвавшись). Что за после-вку-сие!.. Как, я правильно говорю?
Виктор. Ты прирожденный винодел.
Геля. Если б я им была, мы бы спились. (Остановившись.) Эта музыка не отвечает моей внутренней мелодии.
Виктор. Тогда ей придется умолкнуть. (Выключает радио.)
Геля. Лучше я спою сама. Хочешь?
Виктор. Голос звучит?
Геля. Как колокольчик.
Виктор. Пой.
Геля заходит за ширму.
Геля (оттуда). Выступает Гелена Модлевска. (Выходит. На плечах ее царственно покоится мех.)
Виктор. Где ты взяла эту собаку?
Геля. Это не собака, это Верин воротник.
Они обнимаются.
Ой, ты меня задушишь!
Виктор (смахивая с губ волоски меха). Сними эту собаку – она лезет.
Геля. Да, она немножечко лезет.
Виктор (иронически). Немножечко…
Геля. Ну, так я ее сниму. (Поет веселую старинную песенку.) «Страшне чен кохам, страшне чен кохам, страшне кохам чен…»
Виктор. Публика в восторге.
Геля. Артисты устали. (Садится.)
Виктор. «Страшне чен кохам» – эта значит «страшно люблю»?
Геля «Страшно тебя люблю». Ты уже все понимаешь.
Виктор. Я бы хотел научиться польскому.
Геля. Ну так я буду тебя учить.
Виктор. Но сначала выйди за меня замуж.
Геля. Витек, ты плохо соображаешь.
Виктор. Ты этого не хочешь?
Геля. Витек, все точно сговорились, чтоб мы помешались. Первая ночь Нового года, вино, в общежитии пусто – мы одни на всем свете. Но это не так. Завтрашний день уже наступил, и мы с тобой – не одни на свете. Необходимо смотреть вперед.
Виктор. Ты мудрая девушка.
Геля. Я тебе говорила, что я трезвей тебя.
Виктор. К несчастью.
Геля. Может быть, это порок воспитания. Мы приучены думать о завтрашнем дне.
Виктор. Хватит шутить. У нас много юмора. Держимся за юмор, как за соломинку. Как за лазейку. Юмор – наш тыл. Наша заранее подготовленная позиция. Путь к отступлению. Что еще? Но я совсем не хочу отступать.
Геля. Ты прав. Я просто боюсь быть серьезной. Я тебе уже говорила – боюсь.
Виктор. А я не боюсь. Я кое-что знаю. Я знаю, что ты нужна и нужна. Что же еще я должен знать? Разве этого мало? Я просыпаюсь, чтоб тебя увидеть. Услышать твой голос, твое вечное «как это»… твое бесконечное «показывать» вместо «показать», «понимать» вместо «понять», «обнаруживать» вместо «обнаружить». Не дай бог, если ты все будешь говорить правильно, мне кажется, это уж будешь не ты. Я сейчас надел на твои ноги туфли и понял, что за все двадцать четыре года еще никогда не был так счастлив. Я тащу к тебе все и гружу на тебя все, иногда ты этого даже не знаешь. Я знаю, что никогда с тобой не соскучусь, не захочу от тебя отдохнуть. То, что ты есть, всему придает смысл и вносит жизнь решительно во все.