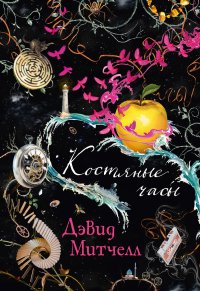Читать онлайн Утопия-авеню бесплатно
- Все книги автора: Дэвид Митчелл
© А. Питчер, перевод, примечания, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство ИНОСТРАНКА®
Я считаю Чехова своим святым покровителем. Конечно, так думают многие писатели, но я читаю Чехова каждый год. Он напоминает мне о том, что самое главное в литературе – это не идеи, а люди. Очень люблю Булгакова. Он достаточно популярен в англоязычном мире. Булгаков очень изобретателен, и у него большое «чеховское» сердце. Например, Набоков тоже изобретателен, но у него «платоновское» сердце. Его волнуют идеи, а не люди. Ну и конечно же, Толстой. Например, «Анна Каренина» – 700 страниц, но не скучно ни на секунду, Толстой умудряется оставаться увлекательным даже на такой большой дистанции.
Дэвид Митчелл
Сравнения Митчелла с Толстым неизбежны – и совершенно уместны.
Kirkus Reviews
Митчелл – один из лучших писателей современности.
San Antonio Express-News
Гениальный рассказчик. Возможно, именно Дэвид Митчелл окажется наиболее выдающимся британским автором нашего времени.
Mail on Sunday
Замечательная книга! Два дня не мог от нее оторваться…
Брайан Ино
Классный рок-н-ролльный роман – чистосердечное признание в любви к гениальной музыке. Именно такой книги и не хватало рок-н-роллу.
Тони Парсонс
Гигантский электрический мозг Митчелла создает уникальный сцений, устанавливая связи между Японией эпохи Эдо и далеким апокалиптическим будущим. Грандиозный проект, великолепно исполненный и глубоко гуманистический. «Утопия-авеню» – на удивление пророческое название для романа, потому что сейчас, в 2020 году, мысль о том, чтобы встречаться, записывать альбомы, выступать с концертами и создавать сцений, действительно кажется утопической. И все-таки в один прекрасный день мы с вами вернемся в райские кущи…
Los Angeles Times
Непрерывное наслаждение… Яркий, образный и волнующий портрет эпохи, когда считалось, что будущее принадлежит молодежи и музыке. И в то же время – щемящая грусть о мимолетности этого идеализма… «Утопия-авеню» подтверждает, что настоящий талант – а возможно, и гениальность – Митчелла заключается в его умении пересказывать старые истины новыми, неожиданными способами…
Spectator
Захватывающее, бурное, увлекательное повествование с искрометными диалогами… и рассуждениями о природе творчества, также затрагивает темы психического здоровья, бытового насилия, войны во Вьетнаме, скорби, родительской ответственности и отношения общества к независимым женщинам-музыкантам в недавнем прошлом. В своем новом романе Митчелл бесстрашно пытается раскрыть непостижимые тайны музыки и ее влияния на людей.
Independent
Митчелл избрал для своего нового романа линейный нарратив и отринул литературные пируэты, однако же с невероятной точностью передал дух конца 1960-х годов и создал правдоподобных персонажей… Описание концертов и выступлений воспроизводит дурманящую, головокружительную атмосферу живого звучания… Митчелл бережно, с пронзительной точностью воссоздает для нового поколения крошечный отрезок прошлого во всем его эфемерном великолепии. «Утопия-авеню» добивается того же эффекта, что и музыка: она объединяет время.
Daily Telegraph
Митчелл умело вскрывает глубинные пласты человеческих страстей и убедительно показывает, как из дерзких стремлений и счастливой случайности возникает фундамент будущей славы… C первой же страницы погружаешься в стремительный поток повествования и с огромным удовольствием читаешь этот захватывающий, мастерски написанный роман…
Guardian
Поразительно, с какой правдоподобностью роман воссоздает эпоху и как глубоко раскрывает темы творчества и тонкостей исполнительского мастерства…
Sunday Times
В безудержном воображении Митчелла история переплетается с вымыслом в головокружительно пьянящей смеси Карнаби-стрит с отелем «Шато Мармон»…
The Washington Post
Насыщенный и гибкий стиль изложения доставляет невероятное удовольствие… как поездка в открытом кабриолете по голливудским бульварам…
Slate
Митчелла сравнивали с Харуки Мураками, Томасом Пинчоном и Энтони Берджессом, но на самом деле он занимает особое место в литературном ландшафте. Восемь его книг экспериментальны, но удобочитаемы. Его предложения лиричны, но повествование стремительно мчится вперед. Под наслоениями аллюзий и необычных конструкций скрывается прозрачный нарратив. В созданной Митчеллом фантастической метавселенной его интересуют общечеловеческие проблемы: как за отпущенный нам краткий срок раскрыть свой потенциал и понять, кто ты и как связан с окружающими.
Time
Творчество Митчелла отличается жанровым и стилистическим многообразием, но его проза всегда кристально ясна и динамична, однако больше всего впечатляет его способность описывать от третьего лица измененные состояния сознания – физические и психические страдания, безумие… Банальный рассказ о становлении рок-группы превращается в историю, происходящую в совершенно ином измерении…
The New Yorker
Британская поп-фолк-рок-группа «Утопия-авеню», о которой повествует роман, кажется настолько реальной, что одному критику (не будем называть его имени) пришлось ее погуглить, дабы удостовериться, что она – плод авторского воображения.
AARP
«Утопия-авеню» – настоящий роман о роке: в нем есть секс, наркотики и разбитые мечты, а вдобавок камео Джона, Джерри, Дженис и Леонарда.
The Philadelphia Inquirer
Митчелл слышит музыку окружающей действительности и, не сбиваясь с ритма, глубоко погружается в нее.
Booklist
Изящная интерпретация строк из песен реальных исполнителей и описания выступлений вплетены в искрометное, жизнерадостное повествование… Митчелл на пике литературной формы…
Publishers Weekly
Новый роман Митчелла особенно понравится тем, кто любит музыку 1960-х годов и современную литературу.
Kirkus Reviews
Настоящий рок-н-ролльный роман.
Evening Standard
Дэвид Митчелл не столько нарушает все правила повествования, сколько доказывает, что они сковывают живость писательского ума.
Дин Кунц
Дэвиду Митчеллу подвластно все.
Адам Джонсон (лауреат Пулицеровской премии)
Дэвид Митчелл давно и по праву считается одним из лучших – если не самым лучшим современным писателем, который способен держать читателя в напряжении каждой строчкой и каждым словом…
Джо Хилл
Околдовывает и пугает… истинное мастерство рассказчика заключается в том, что Митчелл пробуждает в читателе неподдельный интерес к судьбе каждого из героев.
Scotland on Sunday
Дэвида Митчелла стоит читать ради замысловатой интеллектуальной игры, ради тщательно выписанных героев и ради великолепного стиля.
Chicago Tribune
Дэвид Митчелл – настоящий волшебник.
The Washington Post
Ошеломляющий фейерверк изумительных идей… Каждый новый роман Митчелла глубже, смелее и занимательнее предыдущего. Его проза искрометна, современна и полна жизни. Мало кому из авторов удается так остроумно переплести вымысел с действительностью, объединить глубокомыслие с веселым вздором.
The Times
Митчелл – непревзойденный литературный гипнотизер. Как жаль, что в обычной жизни так редко встречаются изящество и воодушевление, свойственные его романам. Он пишет с блистательной яркостью и необузданным размахом. Воображаемый мир Митчелла радует и внушает надежду.
Daily Telegraph
Митчелл – один из самых бодрящих авторов. Каждый его роман отправляет читателя в увлекательнейшее путешествие.
The Boston Globe
Дэвида Митчелла бесспорно можно назвать самым многогранным и разноплановым среди всех писателей его поколения. Он пишет стильнее Джонатана Франзена, его сюжеты стройнее, чем у Майкла Шейбона, повествование глубже и сложнее, чем у Дженнифер Иган, а мастерством он не уступает Элис Манро…
The Atlantic
Митчелл – прекрасный писатель. Один из секретов его популярности и заслуженной славы заключается в том, что его творчество совмещает неудержимый полет воображения гениального рассказчика с приземленным реализмом истинного гуманиста. Его романы находят отклик у всех, будь то любители традиционного реалистичного повествования, постмодернистского нарратива или фантастических историй.
The New Yorker
Митчелл – писатель даже не глобального, а трансконтинентального, всепланетного масштаба.
New York
Я хочу продолжать писать! Почему по-настоящему хорошие, многообещающие произведения пишут тридцатилетние писатели, которые в свои шестьдесят не всегда могут создать нечто столь же потрясающее и великолепное? Может, им мешает осознание собственного выхода на пенсию? Или они когда-либо сотворили безумно популярное произведение, а потом строчили все менее качественные дубликаты своего же успеха? А может, просто нужно быть жадным и всеядным в чтении, в размышлениях и в жизни, пока вы еще на это способны, и тогда каждый ваш роман будет лучше предыдущего. Я на это надеюсь.
Дэвид Митчелл
Рай – это дорога в Рай
Первая сторона
Оставьте упованья
Дин спешит по Чаринг-Кросс-роуд, мимо театра «Феникс», огибает слепого в темных очках, ступает на мостовую, обгоняя медлительную мамашу с коляской, перепрыгивает через грязную лужу и сворачивает за угол, на Денмарк-стрит, где тут же оскальзывается на черной корке льда. Ноги взмывают к небу. На лету Дин успевает заметить, как сточная канава и небо меняются местами, и думает: «Черт, больно же будет», но тут тротуар с размаху ударяет по ребрам, по коленке и по лодыжке. Черт, больно-то как. Никто не бросается на помощь. Чертов Лондон. Какой-то биржевой маклер, при бакенбардах и шляпе-котелке, усмехается невезению длинноволосого растяпы и проходит мимо. Дин осторожно встает, не обращая внимания на боль и надеясь, что обошлось без переломов. Мистер Кракси не оплачивает больничных. Так, руки и запястья целы. Деньги. Дин проверяет карман куртки, где покоится чековая книжка с драгоценным грузом – десятью пятифунтовыми банкнотами. Полный порядок. Дин ковыляет дальше. Через дорогу, в кафе «Джоконда», у окна маячит Рик (Один Дубль) Уэйкман. Дину ужасно хочется посидеть с ним за кружкой чая с сигареткой и потрепаться о сейшенах, но утро пятницы – утро платы за комнату, и миссис Невитт громадной паучихой уже обосновалась в гостиной. На этой неделе по деньгам Дин укладывается в обрез. Вчера он наконец-то получил от Рэя банковский ордер и сегодня сорок минут торчал в очереди, чтобы его обналичить, поэтому Дин тащится дальше, мимо музыкального издательства «Линч и Луптон», где мистер Линч сказал ему, что почти все его песни – дрянь, а некоторые – просто фигня. Мимо музыкального агентства Альфа Каммингса, где Альф Каммингс потрепал пухлой рукой Динову ляжку и шепнул: «Мы оба знаем, что я могу для тебя сделать, а вот что ты, паршивец мой прекрасный, можешь сделать для меня?» – и мимо студии «Пыльная лачуга», где Дин собирался записывать демку с «Броненосцем „Потемкин“», но его погнали из группы.
– Помогите… – Багроволицый тип хватает Дина за лацкан и хрипит: – Я… мне… – Он корчится от боли. – Ох, умираю…
– Спокойно, приятель, сядь вот на ступеньку, переведи дух. Где болит?
Из перекошенного рта капает слюна.
– Грудь давит…
– Ничего, мы… сейчас тебе помогут. – Дин оглядывается, но прохожие спешат мимо, поднимают воротники, сдвигают на лоб кепки, отводят глаза.
Человек повисает на Дине, стонет:
– А-а-ах!
– Дружище, тебе надо «скорую»…
– В чем дело? – К ним подходит какой-то парень, сверстник Дина, с короткой стрижкой и в неприметном дафлкоте. Он заглядывает в глаза бедолаге, ослабляет ему узел галстука. – Сэр, меня зовут Хопкинс. Я врач. Кивните, если вы поняли.
Несчастный морщится, охает, с трудом кивает.
– Вот и славно. – Хопкинс оборачивается к Дину. – Это ваш отец?
– Не-а, в первый раз вижу. Он жаловался, что ему грудь сдавило.
– Ах грудь… – Хопкинс снимает перчатку, прикладывает пальцы к жилке на шее больного. – Гм. Пульс прерывистый. Сэр? По-моему, у вас сердечный приступ.
Бедолага широко раскрывает глаза и тут же жмурится от боли.
– Тут, в кафе, есть телефон, – говорит Дин. – Я вызову «скорую».
– Она не успеет, – возражает Хопкинс. – На Чаринг-Кросс-роуд жуткие пробки. Вы знаете, как пройти на Фрит-стрит?
– Да, конечно. Там рядом, на Сохо-Сквер, есть больница.
– Совершенно верно. Бегите туда, объясните, что человеку плохо. Сердечный приступ. Скажите, что доктор Хопкинс просит прислать санитаров с носилками к табачной лавке на Денмарк-стрит. Немедленно. Запомнили?
Хопкинс, Денмарк-стрит, носилки.
– Запомнил.
– Отлично. А я пока окажу первую помощь. Ну, бегите что есть ног. Бедняга долго не протянет.
Дин трусцой пересекает Чаринг-Кросс-роуд, сворачивает на Манетт-стрит, сквозит мимо книжного магазина «Фойлз», ныряет под арку и выбегает на Грик-стрит у паба «Геркулесовы столпы». Тело уже не помнит боли недавнего падения. Дин проносится мимо дворников, которые опоражнивают бачки в мусоровоз, мчится по проезжей части к Сохо-Сквер, распугивает голубиную стаю, сворачивает за угол на Фрит-стрит, снова оскальзывается, чудом не падает, взбегает по ступенькам на больничное крыльцо и врывается в приемный покой, где санитар читает «Дейли миррор». На первой странице – кричащий заголовок: «ГИБЕЛЬ ДОНАЛЬДА КЭМПБЕЛЛА».
– Я от доктора Хопкинса… – выпаливает Дин. – На Денмарк-стрит… сердечный приступ. Пошлите бригаду с носилками… скорее.
Санитар опускает газету. К усам прилипли хлебные крошки. Он равнодушно глядит на Дина.
– Там человек умирает! – кричит Дин. – Вы слышите?
– Слышу, конечно. Только орать не надо.
– Так пошлите бригаду! Здесь же больница.
Санитар громко фыркает:
– А ты небось только что в банке деньжат снял. А потом встретился с доктором Хопкинсом.
– Ну да, снял. Пятьдесят фунтов. А что такого?
Санитар смахивает крошки с лацкана:
– Деньги-то на месте, сынок?
– Да. – Дин лезет в карман за чековой книжкой. Ее нет. Не может быть! Он проверяет все карманы куртки. Мимо со скрипом провозят каталку. Какой-то малыш заливается слезами. – Черт. Наверное, выронил.
– Эх, сынок, облапошили тебя.
Дин вспоминает, как краснорожий тип привалился к его груди.
– Нет, что вы… Сердечный приступ. Человек на ногах не стоял.
Он снова шарит по карманам. Денег нет.
– Ну, мне тебя утешить нечем. Пятый случай с ноября. Все больницы в центре Лондона в курсе. На вызов к доктору Хопкинсу никого не посылают – бесполезное дело. Бригада прибудет, а там никого нет.
– Но они… они… – Дина мутит.
– Что, не похожи на мошенников?
Именно это и хотел сказать Дин.
– А откуда они узнали, что я при деньгах?
– Вот что бы ты сделал, если б хотел разжиться пухлым бумажником?
Дин задумывается. Банк.
– Они видели, как я снимал деньги, поэтому увязались следом.
Санитар надкусывает слойку с мясом:
– Браво, Шерлок.
– Но… мне же надо заплатить за басуху и… – Дин вспоминает о миссис Невитт. – Черт. И за жилье. Как же я теперь?
– Обратись в полицейский участок, но толку от этого не будет. Для лондонских копов Сохо – огороженная территория с предупредительной надписью: «Входящие, оставьте упованья».
– Моя хозяйка хуже фашиста. Она меня выставит с квартиры.
Санитар прихлебывает чай.
– А ты ей объясни, что хотел стать добрым самаритянином. Может, она над тобой сжалится.
Миссис Невитт сидит у высокого окна. В гостиной пахнет сыростью и топленым салом. Камин заколочен досками. Перед квартирной хозяйкой раскрыт гроссбух. Постукивают и щелкают вязальные спицы. С потолка свисает люстра, которую никогда не включают. Цветочный орнамент обоев тонет в сумраке джунглей. Из позолоченных рам таращат глаза трое покойных супругов миссис Невитт.
– Доброе утро, миссис Невитт.
– Это кому как, мистер Мосс.
– Я тут… – У Дина пересохло в горле. – Меня обокрали.
Вязальные спицы замирают.
– Печально.
– Не то слово. Я взял в банке деньги за квартиру, а на Денмарк-стрит меня обнесли два карманника. Видели, как я деньги снимал, и увязались следом. Грабеж среди белого дня. В буквальном смысле слова.
– Ай-ай-ай. Вот незадача.
«Решила, что я все вру», – думает Дин.
– Вот не надо было бросать работу в «Бреттоне». У королевских печатников. Приличное место. В приличном районе. В Мэйфере никого не обносят.
«Ага, гнуть спину в „Бреттоне“ – то еще удовольствие», – думает Дин.
– Я же говорил, миссис Невитт, с «Бреттоном» не заладилось.
– Ну, это не моя забота. Моя забота – квартплата. Я так понимаю, вы хотите отсрочки?
Дин переводит дух. С некоторым облегчением.
– Если честно, я был бы очень благодарен.
Она поджимает губы, раздувает ноздри:
– Что ж, один-единственный раз можно и отсрочить.
– Ох, спасибо, миссис Невитт. Вы не представляете, как я…
– До двух часов пополудни. Как вам известно, я женщина покладистая.
«Она надо мной издевается, карга старая!»
– До двух часов пополудни… сегодня?
– Больше чем достаточно, чтобы дойти до банка и вернуться. И на этот раз деньги никому не показывайте.
Дина бросает в жар, в холод. Мутит.
– У меня на счету пусто, миссис Невитт. А зарплата только в понедельник. Вот тогда я и заплачу.
Квартирная хозяйка дергает шнурок, свисающий с потолка. Берет с письменного стола табличку: «СДАЕТСЯ КОМНАТА – ИРЛАНДЦАМ И ЦВЕТНЫМ НЕ ОБРАЩАТЬСЯ – СПРАШИВАЙТЕ».
– Нет-нет, миссис Невитт. Погодите!
Квартирная хозяйка выставляет табличку в окно.
– И где мне сегодня ночевать?
– Где угодно. Но не здесь.
«Сначала остался без денег, теперь без комнаты».
– Верните мой залог.
– Залог не возвращают жильцам, которые не вносят квартплату вовремя. Правила вывешены в каждой комнате. Я вам не должна ни фартинга.
– Но это же мои деньги, миссис Невитт!
– А в подписанном нами договоре сказано иное.
– У вас во вторник уже будет новый жилец. В крайнем случае в среду. Вы не имеете права присваивать мой залог. Это воровство.
Она возвращается к вязанию:
– Вот я сразу в тебе признала кокни из канавы. Но сказала себе, мол, дай ему шанс. Все-таки королевские печатники не примут на работу абы кого. Ну и рискнула. И что? Из «Бреттона» ты ушел в какую-то поп-группу. Отрастил патлы, как девчонка. Тратишь все деньги на гитары и бог знает на что еще. Ни пенни не отложил. А теперь обвиняешь меня в воровстве. Вот, будет мне наука. Кто в канаве родился, тот там и останется. О, мистер Харрис! – В дверях гостиной появляется сожитель миссис Невитт, отставной солдафон. – Этот… молодой человек нас покидает. Немедленно.
– Ключи, – требует у Дина мистер Харрис. – Оба.
– А мои шмотки? Или вы их тоже присвоите?
– Забирай свои… шмотки, – говорит миссис Невитт, – и выметайся. Все, что после двух часов дня останется в твоей комнате, в три окажется в лавке Армии спасения. Марш отсюда.
– Да ради бога, – бормочет Дин. – Чтоб вы все сдохли.
Миссис Невитт не обращает на него внимания. Спицы щелкают. Мистер Харрис хватает Дина за шиворот, выволакивает его из гостиной.
Дин задыхается:
– Ты меня душишь, сволочь!
Бывший сержант выталкивает Дина в прихожую:
– Собирай манатки и вали отсюда. А то я тебя не просто придушу, пидорок ты мой сладенький…
Ну хоть работа есть. Дин набивает кофе в портафильтр, вставляет рожок в машину и нажимает на рычаг. Из клапана «Гаджи» вырывается пар. Восьмичасовая смена никак не закончится. Вот не навернулся бы на Денмарк-стрит, не был бы весь в синяках. На улице подмораживает, но в кофейне «Этна» на углу Д’Арблей-стрит и Беруик-стрит тепло, светло и шумно. Студенты и подростки из пригородов болтают, флиртуют, спорят. Здесь собираются моды, перед тем как пойти в клубы, закинуться наркотой и потанцевать. Ухоженные мужчины постарше глазеют на гладкокожих юнцов, которые ищут сладкого папика. Менее ухоженные мужчины постарше забегают за кофе, перед тем как пойти на порнофильм или в бордель. «Тут больше сотни посетителей, – думает Дин, – и у каждого есть жилье». С самого начала смены он надеялся, что в кофейню заглянет кто-нибудь из знакомых, из тех, к кому можно напроситься на ночлег. Но время шло, надежда истончалась, а теперь и вовсе исчезла. Из музыкального автомата вырываются громкие звуки «19th Nervous Breakdown»[1]. Дин с Кенни Йервудом как-то разбирали ее аккорды, в счастливые времена «Могильщиков». Из носика «Гаджи» капает кофе, чашка наполняется на две трети. Дин отсоединяет рожок, вытряхивает кофейный жмых в ведро. Мистер Кракси несет мимо лоток с грязной посудой. «Надо бы стрясти с него аванс, – в пятидесятый раз напоминает себе Дин. – Выбора-то нет».
– Мистер Кракси, можно с ва…
Мистер Кракси оборачивается, не замечая Дина:
– Пру, вытри столики у окна! Свинарник развели, мамма миа!
Он снова протискивается мимо, и Дин замечает, что за стойкой, между кофейной машиной и кувшином холодного молока, сидит посетитель. Лет тридцати, интеллигентного вида, залысины, пиджак в мелкую клетку и модные очки – прямоугольная оправа с дымчатыми стеклами. Наверное, голубой. Но в Сохо никогда не угадаешь…
Посетитель отрывается от журнала – «Рекорд уикли» – и без стеснения смотрит на Дина. Морщит лоб, будто пытается вспомнить, кто это. Будь они в пабе, Дин сразу спросил бы: «Че уставился?» Но здесь он отводит глаза, ополаскивает холдер под краном, чувствует, что посетитель все еще глядит на него. «Может, решил, что я на него запал?»
Шерон приносит новый заказ:
– Два эспрессо и две кока-колы, девятый столик.
– Два эспрессо, две кока-колы, девятый столик. Понял. – Дин поворачивается к «Гадже», нажимает кнопку, и в чашку льется молочная пена.
Шерон заходит за барную стойку, наполняет сахарницу:
– Извини, честное слово, но у меня никак нельзя. Даже на полу.
– Ничего страшного. – Дин посыпает молочную пену какао-порошком и ставит капучино на стойку, для Пру. – Это ты меня извини, нахальство с моей стороны тебя просить.
– Понимаешь, у меня хозяйка – помесь кагэбэшницы с настоятельницей монастыря. Если б я попыталась тебя украдкой провести, она подстерегла бы нас и разоралась, что, мол, тут приличный дом, а не бордель. И выгнала бы обоих.
Дин наполняет рожок кофе, смолотым для эспрессо:
– Понятно. Ладно, тут уж ничего не поделаешь.
– Но ты ж не будешь ночевать под мостом?
– Нет, конечно. Обзвоню народ.
Шерон облегченно вздыхает и говорит, призывно качнув бедрами:
– В таком случае я рада, что ты меня первую спросил. Я для тебя что хочешь сделаю.
Милая толстушка с близко посаженными изюминками глаз на рыхлом, опаристом лице совершенно не привлекает Дина, но… В любви и на войне все средства хороши.
– Слушай, а ты не одолжишь мне деньжат? До понедельника? Я отдам, с получки.
Шерон мнется:
– А что мне за это будет?
«Она еще и кокетничает…»
Дин изображает свою фирменную полуулыбочку, открывает бутылку кока-колы:
– Как только разбогатею, выплачу тебе обалденный процент.
Она сияет от удовольствия, а Дин чувствует себя виноватым.
– Может, шиллинг-другой в сумочке и найдется. Только не забывай меня, как станешь поп-звездой и миллионером.
– Эй, пятнадцатый столик ждет заказ! – кричит мистер Кракси на своем сицилийском кокни. – Три горячих шоколада! С маршмеллоу. Пошевеливайтесь!
– Три горячих шоколада! – отзывается Дин.
Шерон подхватывает сахарницу и уходит. Пру берет со стойки капучино, уносит к восьмому столику, а Дин накалывает листок с заказом на штырь. Штырь заполнен на две трети. Мистер Кракси должен быть в хорошем настроении. Иначе дело швах. Дин начинает делать эспрессо для девятого столика. «Стоунзов» сменяет «Sunshine Superman»[2] Донована. «Гаджа» шипит паром. Интересно, Шероновы шиллинг-другой – это сколько? Вряд ли хватит на гостиницу. Можно заглянуть на Тотнем-Корт-роуд, в хостел ИМКА, но вот будут ли там места? Раньше половины одиннадцатого Дин туда не доберется. Он еще раз мысленно перебирает лондонских знакомых, из тех, у кого (а) можно попросить помощи и (б) есть телефон. Метро закрывается к полуночи, поэтому если Дин с гитарой и рюкзаком заявится куда-нибудь в Брикстон или в Хаммерсмит, а дома никого не окажется, то придется куковать в подворотне. Он даже подумывает, не связаться ли с бывшими приятелями из «Броненосца „Потемкин“», но чувствует, что там не выгорит.
Дин косится на посетителя в дымчатых очках. «Рекорд уикли» сменила книга, «Фунт лиха в Париже и Лондоне». Наверное, битник. В музыкально-художественном колледже некоторые тоже прикидывались битниками. Курили «Голуаз», вели беседы об экзистенциализме и ходили с французскими газетами под мышкой.
– Эй, Клэптон! – Пру всегда придумывает классные прозвища. – Ты че, уснул? Горячий шоколад сам себя не приготовит.
– Клэптон – лид-гитарист. А я – басист, – в сотый раз поправляет ее Дин.
Пру довольно улыбается.
Дворик за кухней «Этны» – закопченный колодец тумана, уставленный мусорными баками. По водосточной трубе к подсвеченному квадратику ночных облаков карабкается крыса. Дин в последний раз затягивается последним «Данхиллом». Девять вечера, смена закончилась. Шерон уже ушла домой, но сначала вручила Дину восемь шиллингов. Если нигде еще не подфартит, то хоть на билет в Грейвзенд хватит. Из-за двери слышно, как мистер Кракси разговаривает по-итальянски с очередным сицилийским племянником. Парень не знает английского, да ему и не нужно. Будет поливать спагетти горячим соусом болоньезе – других блюд в «Этне» не готовят.
В дверях появляется мистер Кракси:
– Мосс, ты хотел поговорить?
Дин швыряет окурок на брусчатку дворика, затаптывает. Мистер Кракси сердито смотрит на него. Черт! Дин поднимает окурок:
– Извините.
– Что, так и будем всю ночь стоять?
– Вы не могли бы выдать мне авансом?
– Выдать тебе авансом? – уточняет мистер Кракси, будто не расслышал.
– Ага. Ну, зарплату. Сегодня. Сейчас. Прошу вас.
Мистер Кракси изумленно смотрит на него:
– Зарплата по понедельникам.
– Ну да. Но я же объяснял, меня ограбили.
Жизнь и Лондон сделали мистера Кракси очень недоверчивым человеком. А может, он таким родился.
– Да, не повезло. Но зарплата только по понедельникам.
– Я знаю. Просто мне некуда деваться. Меня выставили с квартиры за неуплату. Я вон даже на работу пришел с гитарой и с рюкзаком.
– А я думал, ты в отпуск собрался.
Дин притворно улыбается – мало ли, вдруг мистер Кракси шутит.
– Какой тут отпуск… Мне очень нужны деньги, честное слово. Хотя бы на койку в хостеле или что-то в этом роде.
Мистер Кракси обдумывает услышанное.
– Да, ты вляпался, Мосс. В кучу собственного дерьма. Ты сам ее навалил. А зарплата только по понедельникам.
– Ну хоть одолжите мне пару фунтов тогда.
– У тебя есть гитара. Иди в ломбард.
«От него жалости не дождешься», – думает Дин.
– Во-первых, я еще не выплатил за нее последний взнос, так что гитара пока не моя. А деньги у меня украли.
– Ты же говорил, это были деньги за жилье.
– Часть – за жилье, а часть – за гитару. Во-вторых, уже десять вечера, пятница. Все ломбарды закрыты.
– У меня тут не банк. Зарплата по понедельникам. Разговор окончен.
– Как же я выйду на работу в понедельник, если до понедельника придется ночевать в Гайд-парке и я слягу с двусторонним воспалением легких?
Мистер Кракси дергает щекой:
– Не выйдешь в понедельник, тоже не беда. Я тебе тогда вообще ничего не заплачу. Выдам бумажку для налоговой – и гуляй. Ясно?
– Да какая вам разница, когда платить – сейчас или в понедельник? Я же в эти выходные все равно не работаю!
Мистер Кракси складывает руки на груди:
– Мосс, ты уволен.
– Да что за фигня! Вы не имеете права.
Короткий толстый палец утыкается Дину в солнечное сплетение.
– Еще как имею. Всё. Вон отсюда.
– Никуда я не пойду! – (Сначала отняли деньги, потом жилье, теперь вот работу…) – И не надо тут! – Дин отпихивает палец Кракси. – Вы мне должны за пять дней.
– Докажи. Подай в суд. Найми адвоката.
Дин, в котором всего пять футов и семь дюймов росту, а не шесть футов и пять дюймов, выкрикивает Кракси в лицо:
– ТЫ ДОЛЖЕН МНЕ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ, ВОРЮГА! КРЫСА ПАРШИВАЯ!
– Si, si, я тебе должен. Вот и отдам должок.
Кулак с силой впечатывается Дину в живот. Дин сгибается вдвое и, сбитый с ног, валится на землю. Задыхается. Второй раз за день. Лает собака. Дин встает, но Кракси уже исчез. На пороге кухни появляются два сицилийских племянничка. У одного в руках Динов «фендер», у другого – его рюкзак. Они хватают Дина за локти и выводят из кофейни. Музыкальный автомат играет «Sunny Afternoon»[3], с четвертого альбома The Kinks. Дин оглядывается. Кракси, сложив руки на груди, стоит у кассы и мрачно смотрит ему вслед.
Дин показывает бывшему работодателю средний палец.
Кракси проводит ребром ладони по горлу.
Идти с Д’Арблей-стрит совершенно некуда. Дин раздумывает, что будет, если зафигачить кирпичом в витрину кофейни. Безусловно, арест решит проблему ночлега, но с полицией связываться неохота, да и зачем оно ему потом, криминальное прошлое. Он подходит к телефонной будке на углу. Внутри будка оклеена листочками с женскими именами и номерами телефонов, посаженными на скотч. Дин прижимает к боку «фендер», рюкзаком припирает полузатворенную дверь. Вытаскивает шестипенсовик и листает синюю записную книжку. «Этот переехал в Бристоль… этому я задолжал пять фунтов… этого нет…» Дин находит номер Рода Демпси. С Родом Дин едва знаком, но они оба из Грейвзенда. Месяц назад Род открыл в Кэмдене магазинчик, продает косухи и прочие байкерские прибамбасы. Дин набирает номер, но трубку никто не берет.
И что теперь?
Дин выходит из телефонной будки. Ледяная морось растушевывает очертания, стирает лица прохожих, туманит неоновые вывески – GIRLS GIRLS GIRLS! – и наполняет легкие. У Дина есть пятнадцать шиллингов и три пенса – и два способа их потратить. Можно дойти по Д’Арблей-стрит до Чаринг-Кросс-роуд, на автобусе доехать до вокзала Лондон-Бридж, а оттуда махнуть в Грейвзенд, разбудить Рэя, Ширли и их сына, признаться, что честно заработанные Рэем пятьдесят фунтов – о которых Ширли ни сном ни духом – украли спустя десять минут после того, как Дин обналичил банковский ордер, и попроситься на ночлег. Но не навеки же там поселиться…
А завтра что? Неужели ему, двадцатитрехлетнему оболтусу, придется жить с бабулей Мосс и Биллом? А на следующей неделе отнести «фендер» в «Сельмер» и умолять, чтобы вернули хотя бы часть уже выплаченного. За вычетом износа. Покойся с миром, Дин Мосс, профессиональный музыкант. Гарри Моффат, конечно же, обо всем узнает. И от смеха пупок надорвет.
Или… Дин глядит в конец Беруик-стрит – на клубы, огни, шумные толпы, стрип-бары, игровые аркады, пабы… Попытать счастья еще разок? Может, в пабе «Карета с упряжкой» сидит Гуф. А Ник Ву проводит пятницы в клубе «Мандрейк». Ал, наверное, в «Банджи» на Личфилд-стрит. Может, Ал приютит до понедельника? А завтра надо будет найти новую работу в какой-нибудь кофейне. Желательно подальше от «Этны». До получки можно протянуть на хлебе с «Мармайтом».
Но… А вдруг Фортуна благоволит осмотрительным? Что, если Дин попытает счастья в последний раз, потратит деньги на вход в клуб, познакомится с девчонкой побогаче, у которой свое жилье… и она сбежит, как только он пойдет отлить? Такое уже случалось. Или в три часа утра Дина, пьяного вусмерть, выбросят из клуба на подмерзший заблеванный тротуар, а денег на дорогу как не бывало. И придется топать в Грейвзенд на своих двоих. На противоположной стороне Д’Арблей-стрит какой-то бродяга роется в мусорном баке под освещенным окном прачечной-автомата. А вдруг он тоже когда-то попытал счастья в последний раз?
– А вдруг все мои песни и вправду дрянь и фигня? – говорит Дин вслух.
«Вдруг я просто сам дурю себе голову? Какой из меня музыкант?»
Надо что-то решать. Дин снова вытаскивает шестипенсовик.
Орел – Д’Арблей-стрит и Грейвзенд.
Решка – Беруик-стрит, Сохо и музыка.
Дин подбрасывает монетку…
– Прошу прощения, вы – Дин Мосс?
Монета летит под бордюр тротуара и укатывается из виду. «Мой шестипенсовик!» Дин оборачивается и видит гомика-битника из «Этны». На нем меховая шапка, как у русского шпиона, а вот акцент похож на американский.
– Ох, простите, вы из-за меня монетку выронили…
– Ага, выронил нафиг.
– Погоди, вот она. – Незнакомец наклоняется и поднимает с земли шестипенсовик. – Держи.
Дин сует монету в карман:
– А ты вообще кто?
– Меня зовут Левон Фрэнкленд. Мы встречались в августе, за кулисами в брайтонском «Одеоне». Шоу «Будущие звезды». Я был менеджером «Человекообразных». А ты был с «Броненосцем „Потемкин“». Исполнял «Мутную реку». Классная вещь.
Дин вообще с сомнением принимает похвалу, особенно когда она исходит от вроде бы гомика. С другой стороны, конкретно этот гомик – менеджер музыкальной группы. А в последнее время Дина не балуют похвалой.
– Так я ее и написал. Это моя вещь.
– Я так и понял. А еще я понял, что вы с «Потемкиным» разбежались.
У Дина замерз кончик носа.
– Меня выгнали. За ревизионизм.
Смех Левона Фрэнкленда зависает рваными облачками мерзлого пара.
– Ну, это все-таки не творческие разногласия.
– Они сочинили песню о Председателе Мао, а я сказал, что это все фигня. Там был такой припев: «Председатель Мао, председатель Мао, твой красный флаг – не шоколад и не какао». Вот честное слово.
– Тебе с ними не по пути. – Фрэнкленд достает пачку «Ротманс» и предлагает Дину.
– А без них я в тупике. – Дин берет сигарету закоченевшими пальцами. – В тупике и по уши в дерьме.
Фрэнкленд подносит к сигарете Дина шикарную «Зиппо», потом прикуривает сам.
– Я тут невольно подслушал… – Он кивает в сторону «Этны». – Тебе сегодня ночевать негде?
Мимо проходят моды, разодетые по случаю вечера пятницы. Закинулись спидами и топают в клуб «Марки`».
– Угу. Негде, – отвечает Дин.
– У меня есть предложение, – заявляет Фрэнкленд.
Дин ежится:
– Да? А какое?
– В кофейне «Ту-айз» выступает одна группа. Мне хотелось бы узнать мнение музыканта об их потенциале. Если пойдешь со мной, то потом можешь заночевать у меня на диване. Я живу в Бейсуотере. Там не «Ритц», конечно, но теплее, чем под мостом Ватерлоо.
– Но ты же уже менеджер «Человекообразных».
– Бывший. У нас творческие разногласия. Я… – (Где-то разбивается стекло, звучит демонический хохот.) – Я ищу новые таланты.
Дин обдумывает предложение. Очень соблазнительное. Будет тепло и сухо. Вдобавок наутро светит завтрак и душ, а потом можно обзвонить всех знакомых из записной книжки. У Фрэнкленда наверняка есть телефон. Вот только чем придется расплачиваться за такую роскошь?
– Если боишься спать на диване, – с улыбкой говорит Левон, – можешь устроиться в ванной. Она запирается.
«Ну точно голубой, – думает Дин. – И знает, что я догадываюсь… Но если сам он этим не заморачивается, то и мне не стоит».
– Диван меня вполне устроит.
В подвале кофейни «2i’s» по адресу: 59, Олд-Комптон-стрит – жарко, влажно и темно, как в подмышке. Над сценой – низеньким помостом из досок, уложенных на ящики из-под молока, – висят две голые лампочки. Стены в испарине, с потолка капает. Всего пять лет назад кофейня «2i’s» была самым крутым местом в Сохо. Здесь начинались карьеры Клиффа Ричарда, Хэнка Марвина, Томми Стила и Адама Фейта. Сегодня на сцене «Блюзовый кадиллак» Арчи Киннока: Арчи – вокал и ритм-гитара; Ларри Ратнер – басист; ударник в футболке (ударная установка едва помещается на сцену) и высокий тощий нервный гитарист, рыжий и узкоглазый, с молочно-розовой кожей. Колышутся полы лилового пиджака, рыжие пряди свисают над грифом. Группа играет старый хит Арчи Киннока – «Чертовски одиноко». Дин тут же замечает, что у «Блюзового кадиллака» вот-вот отвалится не одно, а сразу два колеса. Арчи Киннок либо пьян, либо укурился в хлам, либо и то и другое. Он по-блюзовому стонет в микрофон: «Мне черто-о-о-о-овски одино-о-о-о-око, крошка, мне черто-о-о-овски одино-о-о-о-око», но путается в аккордах. Ларри Ратнер не попадает в ритм и, подпевая: «Тебе то-о-о-оже одино-о-о-о-о-о-око, крошка, тебе то-о-оже одино-о-о-о-о-око», отчаянно фальшивит, а на полдороге вдруг орет ударнику: «Че так тянешь?!» Ударник морщится. Гитарист начинает соло с витой гулкой ноты, держит ее на протяжении трех тактов, а потом превращает в утомленный рифф. Арчи Киннок снова вступает на ритме: ми-ля-соль, ми-ля-соль, а гитарист подхватывает мелодию и чудесным образом отзеркаливает. Второе соло еще больше завораживает Дина. Зрители тянут шеи, зачарованно глядят, как пальцы летают по грифу, скользят по ладам, щиплют, прижимают, гладят и перебирают струны.
Как это у него получается?
После кавера Мадди Уотерса «I’m Your Hoochie Coochie Man»[4] звучит еще один номер Арчи Киннока, не такой хитовый, «Полет на волшебном ковре», который переходит в «Green Onions»[5] Стива Кроппера. Гитарист и ударник играют со все возрастающей живостью, а старые клячи, Киннок и Ратнер, еле плетутся следом. Лидер группы заканчивает первое отделение, обращаясь к двум десяткам зрителей так, словно только что отыграл на ура в переполненном Ройял-Альберт-Холле:
– Лондон! Я – Арчи Киннок! Я снова с вами! Не расходитесь, скоро второе отделение.
«Блюзовый кадиллак» уходит в подсобку сбоку от сцены. Из дребезжащих колонок раздается «I Feel Free»[6] с дебютного альбома Cream, и половина зрителей отправляется наверх, за кока-колой, апельсиновым соком и кофе.
– Ну как тебе? – спрашивает Фрэнкленд Дина.
– Ты привел меня посмотреть на гитариста?
– Угадал.
– Он классный.
Левон изгибает бровь: мол, и это все?
– Офигительно классный. Кто он такой?
– Его зовут Джаспер де Зут.
– Ничего себе. В моих краях за такое имечко линчуют.
– Отец – голландец, мать – англичанка. В Англии всего шесть недель, еще не освоился. Плеснуть тебе бурбона в колу?
Дин протягивает свою бутылку, получает щедрую порцию бурбона.
– Спасибо. Он просирает свой талант у Арчи Киннока.
– Точно так же, как ты – в «Броненосце „Потемкин“».
– А кто ударник? Он тоже классный.
– Питер Гриффин, по прозвищу Грифф. Из Йоркшира. Гастролировал по северу Англии, с джазом Уолли Уитби.
– Уолли Уитби? Который трубач?
– Он самый. – Левон делает глоток из фляжки.
– А Джаспер как-его-там и играет, и пишет музыку? – спрашивает Дин.
– Вроде бы да. Но Арчи не дает ему исполнять собственные композиции.
Дину становится немного завидно.
– В нем точно что-то есть.
Левон промокает взопревший лоб платочком в горошек.
– Согласен. А еще у него есть проблема. Он слишком самобытен, чтобы вписаться в существующий коллектив, вот как к Арчи Кинноку, но и сольная карьера тоже не для него. Ему нужна группа единомышленников, таких же талантливых, чтобы они подпитывали друг друга и работали на взаимной отдаче.
– Это ты про какую группу?
– Ее пока еще нет. Но ее басист сидит рядом со мной.
Дин прыскает:
– Ага, щас.
– Я серьезно. Я подбираю людей. По-моему, ты, Джаспер и Грифф обладаете тем самым волшебным притяжением.
– Издеваешься, да?
– Неужели похоже?
– Нет, но… А что они говорят?
– Я еще с ними не беседовал. Ты первый кусочек мозаики, Дин. Очень трудно найти басиста, который одновременно удовлетворил бы Гриффа своей скрупулезностью, а Джаспера – артистизмом исполнения.
Дин решает ему подыграть:
– Ну а ты, конечно, будешь менеджером.
– Разумеется.
– Но Джаспер с Гриффом уже в группе.
– «Блюзовый кадиллак» – не группа, а полудохлый пес, которого давно пора прикончить. Из чистого сострадания.
Капля с потолка падает Дину за воротник.
– Их менеджеру это не понравится.
– Бывший менеджер Арчи сбежал, прихватив кассу. Так что теперь менеджером у него стал Ларри Ратнер. А из него такой же менеджер, как из меня прыгун с шестом.
Дин отпивает колы с бурбоном.
– Это и есть твое предложение?
– Это мой план.
– А может, сначала попробовать сыграться, прежде чем мы все… – Дин вовремя осекается, едва не сказав «сольемся в экстазе», – прежде чем строить планы?
– Безусловно. По счастливой случайности твой бас при тебе. Зрителей полон зал. Не хватает только твоего согласия.
«О чем это он?»
– Так Арчи Киннок же выступает. Басист у него есть. Устраивать прослушивание здесь негде и некогда.
Левон снимает дымчатые очки, аккуратно протирает стекла.
– Значит, ты не против сыграть с Джаспером и Гриффом. Так?
– Ну да, наверное, но…
– Погоди. Я сейчас вернусь. – Фрэнкленд надевает очки. – Мне срочно надо отлучиться. Важная встреча. Я ненадолго.
– Что еще за встреча? Вот прямо сейчас? С кем?
– С черной магией.
Дин стоит в углу, ждет Левона, не отходит от гитары и рюкзака. Из колонок несется «Sha-La-La-La-Lee», песня Small Faces. Дин критически вслушивается в текстовку, но его размышления прерывает знакомый голос:
– Эй, Мосс!
Дин видит перед собой знакомую носатую морду с выпученными глазами и дурацкой улыбкой – Кенни Йервуд, приятель по колледжу.
– Кенни!
– А, ты еще жив! Нифига себе, патлы отрастил.
– А ты свои подкорнал.
– Как говорится, «нашел настоящую работу». Если честно, так себе удовольствие. Ты был дома на Рождество? А чего в «Капитан Марло» не зашел?
– Был, но подхватил грипп и все праздники провалялся у бабули. Даже никому из наших не позвонил.
«Стыдно было».
– Ты же в «Броненосце „Потемкин“», да? Ходят слухи про контракт с «И-эм-ай» или что-то в этом роде.
– Не, там не склеилось. Я в октябре от них ушел.
– Ну, ничего страшного. Групп много.
– Хочется верить.
– А с кем ты сейчас?
– Я не… ну… в общем, кое-что намечается.
Кенни ждет от Дина внятного ответа:
– Что с тобой?
Дин решает, что правда выматывает меньше, чем ложь.
– Да день у меня сегодня хреновый. Меня грабанули с утра пораньше.
– Фигассе!
– Ага. Накинулись вшестером, прикинь. Я им пару раз врезал, конечно, но у меня отняли все деньги. За квартиру платить нечем, и хозяйка меня вытурила. Вдобавок выгнали с работы, из кофейни. Так что я по уши в дерьме, приятель.
– И куда ж ты теперь?
– До понедельника перекантуюсь на диване у знакомого.
– А в понедельник?
– Что-нибудь придумаю. Только не говори нашим в Грейвзенде. А то начнут трепать языками, бабуля Мосс с Биллом и брат обо всем узнают, начнут волноваться…
– Не, я никому не скажу. А пока вот, на первое время. – Кенни достает кошелек, засовывает что-то Дину в карман штанов. – Ты не думай, я тебя не лапаю. Там пять фунтов.
Дину ужасно неловко.
– Ты что! Я ж не давил на жалость…
– Да знаю я. Но если б со мной случилась такая хрень, ты сделал бы то же самое, правда?
Целых три секунды Дин борется с желанием вернуть деньги. Но на пять фунтов можно жить две недели.
– Ох, Кенни, спасибо огромное. Я верну.
– Еще бы. Вот как выпустишь первый альбом, так и вернешь.
– Я не забуду, честное слово! Спасибо. Я…
Внезапно раздаются вопли и крики. Сквозь толпу кто-то проталкивается, сбивает людей с ног. Кенни отскакивает в одну сторону, Дин – в другую. Ларри Ратнер, басист «Блюзового кадиллака», стремглав несется к лестнице. За ним бежит Арчи Киннок, но спотыкается о футляр Динова «фендера», падает и стукается головой о бетонный пол. Ратнер взбегает по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, распугивает посетителей кофейни наверху. Арчи Киннок встает, шмыгает расквашенным носом и вопит в лестничный пролет:
– Сволочь, я тебе сердце вырву и растопчу, ты мне в душу наплевал!
Пошатываясь, он карабкается вверх по лестнице.
Все недоуменно переглядываются.
– Чего это они? – спрашивает Кенни.
Дин мысленно превращает угрозу Арчи в строку будущей песни «Рас-топ-топ-топ-чу твое лживое сердце, как ты растоптала мое…».
Появляется Левон Фрэнкленд:
– Вот это да! Вы видели?
– А то. Левон, это Кенни, мой приятель по музыкальному колледжу. Мы когда-то вместе лабали в одной группе.
– Рад знакомству, Кенни. Левон Фрэнкленд. Надеюсь, ураганы Киннок и Ратнер вас не задели?
– Чуть-чуть не зацепили. А что случилось-то? – спрашивает Кенни.
Фрэнкленд выразительно пожимает плечами:
– До меня дошли только слухи, сплетни и домыслы, но кто ж этому поверит.
– Слухи, сплетни и домыслы? О чем? – допытывается Дин.
– О Ларри Ратнере, жене Арчи Киннока, бурном романе и финансовой нечистоплотности.
– Ларри трахал жену Арчи Киннока? – расшифровывает Дин.
– Унция осведомленности, фунт неясности.
– И Арчи Киннок только сейчас об этом узнал? – спрашивает Кенни. – Прямо посреди концерта?
Левон напускает на себя задумчивый вид:
– Наверное, поэтому он и взбесился. А ты как считаешь?
Прежде чем Дин успевает осмыслить услышанное, Оскар Мортон – набриолиненный совоглазый управляющий клуба «2i’s» – сквозит мимо, направляясь в подсобку.
– Кенни, ты не присмотришь за рюкзаком Дина? – спрашивает Левон. – Нам с Дином надо отлучиться.
– Да, конечно, – говорит Кенни, растерянный не меньше Дина.
Фрэнкленд берет Дина за локоть и ведет вслед за Оскаром Мортоном.
– Куда мы? – спрашивает Дин.
– На стук. Слышишь?
– Какой стук? Где? Кто стучит?
– Счастливый шанс.
В подсобке пахнет канализацией. Оскар Мортон так занят допросом двух оставшихся участников группы «Блюзовый кадиллак», что не замечает появления Дина и Фрэнкленда. Джаспер де Зут сидит на низком табурете, держит на коленях «стратокастер». Ударник Грифф сердито ворчит:
– Да пропади оно все пропадом. Черт, из-за этой долбаной хрени я отказался от двухнедельного контракта в Блэкпуле. В «Зимних садах»!
Оскар Мортон поворачивается к Джасперу де Зуту:
– Они вернутся?
– Увы, мне это неизвестно, – равнодушно, с вальяжным прононсом отвечает де Зут.
– Что вообще произошло? – спрашивает Мортон.
– Зазвонил телефон… – Грифф кивает на черный телефон на столе. – Киннок взял трубку, с минуту слушал, морщил лоб. Потом его аж перекосило, и он злобно уставился на Ратнера. Я сразу подумал: «Что-то не так», но Ратнер ничего не заметил. Он струны менял. Потом, так и не сказав ни слова, Киннок повесил трубку и продолжал пялиться на Ратнера. Ратнер наконец увидел, что на него смотрят, и заявил Кинноку, что у того видок – будто в штаны наложил. А Киннок негромко так спрашивает: «Ты Джой трахаешь? И на деньги группы вы уже квартирку прикупили?»
– А кто такая Джой? Подружка Арчи? – перебивает его Оскар Мортон.
– Миссис Джой Киннок, – объясняет Грифф. – Супруга Арчи.
– Охренеть, – говорит Мортон. – И что сказал Ларри?
– Ничего не сказал, – отвечает Грифф. – А Киннок ему: «Значит, это правда?» Ну, тут Ратнер начал ему впаривать, что, мол, они выжидали подходящего момента, чтобы во всем признаться, и что квартиру купили, чтобы выгодно вложить деньги группы, и что сердцу не прикажешь, любовь не выбирают, и все такое. Как только Киннок услышал «любовь», так сразу превратился в Невероятного Халка и… Вы ж его видели. Если б Ратнер не сидел у двери, то быть бы ему покойником.
Оскар Мортон нервно потирает виски:
– А кто звонил?
– Без понятия, – говорит Грифф.
– Вы второе отделение вдвоем потянете?
– Ты че, офонарел? – фыркает ударник.
– Электрик-блюз без баса? – с сомнением уточняет Джаспер. – Звук будет плоский. Без объема. А кто будет играть на гармонике?
– Слепой Вилли Джонсон играл на обшарпанной гитаре, – напоминает Оскар Мортон. – Без всяких там усилителей, ударных установок и прочих прибамбасов.
– Да ради бога, я не обижусь, – говорит ударник. – Только сначала гони мою денежку.
– Мы с Арчи договорились на полтора часа, – заявляет Мортон. – Вы выступали тридцать минут. Вот как еще час отыграете, тогда и расплачусь.
– Господа, – вмешивается Левон. – У меня есть предложение.
Оскар Мортон оборачивается к двери:
– А ты еще кто такой?
– Левон Фрэнкленд, агентство «Лунный кит». Это мой клиент, басист Дин Мосс. Мы с ним хотели бы предложить вам выход.
«Я? – ошарашенно думает Дин. – Мы?»
– Какой еще выход? – спрашивает Мортон.
– Из сложившегося положения, – поясняет Левон. – Сотня зрителей в зале вот-вот потребует вернуть деньги за билеты. А деньги сейчас всем нужны, мистер Мортон. Квартплата растет, рождественские счета подпирают. Возвращать деньги вам сейчас не с руки. Но в таком случае… – Он морщится. – Половина ваших посетителей и без того на взводе, закинулись спидами. Неприятностей не оберешься. Разнесут вам заведение, не приведи господь. И что тогда скажет муниципалитет Вестминстера? Вам просто необходимо продолжить концерт. Вам срочно нужна новая группа.
– А она у тебя как раз при себе? – интересуется Грифф. – Ловко спрятана в заднем проходе?
– А она у нас как раз при себе, – говорит Левон, обводя рукой присутствующих. – Вот прямо здесь. Джаспер де Зут, гитара и вокал; Питер «Грифф» Гриффин, ударные, и позвольте представить вам… – Он хлопает Дина по плечу. – Дин Мосс, чудо-басист, губная гармоника, вокал. Есть «фендер», готов играть.
Ударник косится на Дина:
– И ты совершенно случайно прихватил с собой инструмент как раз тогда, когда наш басист задал драпака?
– И инструмент, и все свои пожитки. Меня сегодня с квартиры выперли.
Джаспер все это время молчит, а потом спрашивает Дина:
– А ты как? Справишься?
– Да уж получше Ларри Ратнера, – отвечает Дин.
– Дин великолепен, – заявляет Левон. – Я с дилетантами не работаю.
Ударник затягивается сигаретой:
– А петь можешь?
– Лучше, чем Арчи Киннок.
– Ха! Лучше его и холощеный осел споет.
– И какие же ты песни знаешь? – спрашивает Джаспер.
– Ну… могу «House of the Rising Sun»[7], «Johnny B. Goode», «Chain Gang»[8]. Вы слабать сможете?
– С закрытыми глазами, – говорит Грифф. – И с одной рукой в заднице.
– Ответственность за концерт лежит на мне, – вмешивается Оскар Мортон. – Эта троица никогда не играла вместе. Вы гарантируете качество исполнения, мистер…
– Левон Фрэнкленд. А качество исполнения вам известно, потому что Джаспер – виртуоз, а Грифф играл с квинтетом Уолли Уитби. За Дина я ручаюсь.
Грифф согласно покряхтывает. Джаспер не отказывается. Дин думает, что терять ему и так особо нечего. Оскар Мортон бледнеет и обливается потом. До принятия решения – один шаг.
– В шоу-бизнесе полным-полно мошенников, – говорит Левон. – Мы с вами это знаем, не раз с ними сталкивались. Но я не из таких.
Управляющий клубом «2i’s» тяжело вздыхает:
– Что ж, не подведите.
– Вы не пожалеете, – заверяет его Левон. – А четырнадцать фунтов за их выступление – сущий пустяк. – Он поворачивается к музыкантам. – Господа, вам – по три фунта на брата, и два фунта – моя комиссия. Согласны?
– Минуточку! – возмущается Оскар Мортон. – Четырнадцать фунтов за трех неизвестных исполнителей? И не мечтайте.
Левон устремляет на него долгий взгляд:
– Дин, я ошибся. Мистеру Мортону не требуется выход из возникшей ситуации. Пойдем-ка отсюда, пока шум не поднялся.
– Погодите! – Мортон понимает, что его блеф раскусили. – Я же не отказываюсь. Но с Арчи Кинноком мы сговорились на двенадцати фунтах.
Левон смотрит на него поверх дымчатых линз:
– Мы с вами прекрасно знаем, что вы обещали Арчи восемнадцать.
Оскар Мортон не находит, что сказать.
– Восемнадцать? – мрачно уточняет Грифф. – А нам Арчи сказал, что двенадцать.
– Вот поэтому все договоры составляются письменно, – веско произносит Левон. – То, что не записано чернилами на бумаге, с юридической точки зрения имеет такую же силу, как то, что выведено ссаками на снегу.
Входит потный вышибала:
– Босс, публика волнуется.
В подсобку из зала доносятся разъяренные выкрики: «Давай концерт! Восемь шиллингов за четыре песни? Нас обобрали! Грабеж! Нас дурят! Вер-ни-день-ги! Вер-ни-день-ги!»
– Что делать, босс? – спрашивает вышибала.
– Дамы и господа! – Оскар Мортон склоняется к микрофону. – В связи с… – Микрофон фонит, что дает Дину возможность проверить подключение к усилителю. – В связи с непредвиденными обстоятельствами «Блюзовый кадиллак» и Арчи Киннок не смогут развлекать нас во втором отделении. – (Зрители разочарованно улюлюкают.) – Но… но вместо них сегодня выступит новая группа…
Дин настраивает гитару, одновременно проверяя усилок Ратнера.
– Начинаем в ля мажоре, – говорит Дину Джаспер и поворачивается к ударнику. – Грифф, давай потихонечку, на три такта, как у Animals.
Драммер кивает.
Дин изображает готовность на лице.
Левон стоит, скрестив руки на груди, сияет, довольный как слон.
«Ну да, его ведь не раздерет на части толпа наамфетаминенных фанатов Арчи Киннока…» – думает Дин.
– Можете объявлять, – говорит Джаспер Оскару Мортону.
– Единственное выступление, эксклюзивно в «Ту-айз». Итак, поприветствуем…
Дин запоздало соображает, что никто не озаботился названием новой группы.
Левон гримасничает, мол, придумайте что-нибудь.
Джаспер смотрит на Дина и одними губами спрашивает: «Как?»
Дин готов выпалить… что? «Карманники»? «Бездомные»? «Нищеброды»? «Бог весть кто»?
– Поприветствуем, – выкликает Оскар Мортон, – группу «Есть выход»!
Плот и поток
В день третий после ссоры Эльф наконец признала, что в этот раз Брюс, наверное, не вернется. Несчастье напоминало о себе постоянно, куда ни повернись. Зубная щетка Брюса, сентиментальная унылая песня по радио, пусть даже самая дурацкая, или его банка «Веджимайта» на полке кухонного шкафчика – все вызывало приступы безудержных рыданий. Невыносимо было не знать, где он сейчас, но она боялась звонить общим друзьям, выспрашивать, не виделись ли те с ним. Если не виделись, придется объяснять, что произошло. А если виделись, то она поставит себя в унизительное положение, а их – в неловкое, потому что начнет выпытывать мельчайшие, мучительные подробности встречи.
В день четвертый она отправилась оплатить телефонный счет, чтобы не отключили телефон. Зашла в «Этну», наткнулась там на Энди из «Les Cousins». Не успел тот и заикнуться о Брюсе, как Эльф выпалила, что он уехал к родственникам в Ноттингем, и тут же устыдилась своей лжи. Невероятно, как быстро она превратилась из современной девушки, которая никому не позволит над собой измываться, в брошенную дурочку. В бывшую подругу. Бывшую. Она чувствовала себя как Билли Холидей в «Don’t Explain»[9], только без трагического флера героиновой зависимости…
Все это лишь отчасти объясняло, почему ключ в дверь собственной квартиры Эльф вставила с воровской осторожностью. Если… если… если вдруг Брюс вернулся, то может испугаться ее прихода и снова сбежать. Глупо? Да. Иррационально. Да. Но разбитые сердца не ведают ни резона, ни логики. Итак, без малейшего шороха, февральским будним днем Эльф вошла в дом, отчаянно надеясь застать там Брюса…
…и увидела его чемодан, поверх которого были брошены Брюсовы пальто, шляпа и шарф. Слыша шаги Брюса в спальне, Эльф впервые за четыре дня задышала как полагается. Уткнулась в шарф, от которого пахло влажной шерстью и Брюсом. Все эти тощие, как Твигги, поклонницы, которые приходили на концерты Флетчера и Холлоуэй, чтобы завороженно глядеть на Брюса и осуждающе – на Эльф, – все они были совершенно не правы. Эльф вовсе не была для него лишь ступенькой к славе. Он любил ее по-настоящему.
– Я дома, Кенгуренок! – окликнула она, ожидая, что Брюс вот-вот приветственно крикнет «Вомбатик!» и бросится к ней с поцелуями.
Но из спальни Брюс вышел с каменным лицом. Из рюкзака высовывались пластинки.
– Ты же сегодня должна давать уроки.
Эльф ничего не понимала.
– Все ученики заболели… Ну, привет.
– Я пришел за остальными вещами.
Она вдруг поняла, что в чемодане у дверей не вещи, с которыми Брюс вернулся, а вещи, с которыми он уходит.
– Ты специально выбрал время, чтобы меня не застать?
– Я думал, так будет лучше.
– А где ты ночевал? Я так волновалась…
– У знакомых. – Сухо, будто это не ее дело.
– У каких знакомых? – не удержалась Эльф; австралиец Брюс назвал бы знакомого мужского пола «дружбаном». – У девушки?
– Ну зачем ты начинаешь? – со вздохом спросил Брюс, будто терпеливый взрослый у ребенка.
Эльф с видом поруганной женщины сложила руки на груди:
– Что я начинаю?
– Ты слишком ревнивая. Поэтому у нас и не сложилось.
– То есть «я буду делать все, что пожелаю, а если начнешь жаловаться, то ты – стерва и истеричка», так?
Брюс прикрыл глаза, словно изнемогая от головной боли.
– Если ты меня бросаешь, то так и скажи, что между нами все кончено.
– Если тебе так угодно. – Брюс поглядел на нее. – Говорю. Все кончено.
– А как же наш дуэт? – Эльф снова забыла, как дышать. – Тоби вот-вот вызовет нас записывать альбом.
– Ничего подобного, – сказал Брюс громко и отчетливо, будто иностранцу. – Никакого альбома не будет.
– Ты не хочешь записать альбом? – просипела она.
– «Эй-энд-Би рекордз» не хотят записывать альбом Флетчера и Холлоуэй. Цитирую: «„Пастуший посох“ не оправдал наших ожиданий». Никакого альбома. От нас отказались. С дуэтом покончено.
На улице взревел мотоцикл. Для курьеров и карманников Ливония-стрит – удобное место срезать угол.
Тем временем двумя этажами выше Эльф замутило.
– Не может быть.
– Не веришь мне – позвони Тоби.
– А как же концерты? В следующее воскресенье в «Кузенах»? Энди дает нам площадку с девяти вечера. А через месяц – Кембриджский фолк-фестиваль…
Брюс пожал плечами и скривил губы:
– Делай, что хочешь, – отменяй, выступай соло. – Он надел пальто. – Шарф отдай.
Эльф машинально протянула ему шарф.
– А если мне понадобится тебя…
Брюс захлопнул за собой дверь.
В квартире стало тихо. С альбомом покончено. С дуэтом покончено. С Брюсом – покончено. Эльф сбежала в кровать – теперь в свою, а не в «нашу», – забилась под одеяло и в утробной духоте рыдала, оплакивая свою горькую долю. В который раз.
В день девятый февральский дождь стучит в окна псевдотюдоровского особняка семейства Холлоуэй, растушевывая слякотный сад и Чизлхерст-роуд. Лоуренс, бойфренд Имоджен, старшей сестры Эльф, облачен в пиджачную пару и ведет себя странно.
– Ну, ммм… – Он привстает, снова садится, подается вперед. – Тут… ммм… – Он поправляет узел галстука. – У нас… э-э… сюрприз.
Имоджен одобряюще улыбается ему, будто Лоуренс – нервный школьник в рождественском представлении.
«Боже мой, – догадывается Эльф. – Сейчас они объявят о помолвке». Она косится на родителей и понимает, что им уже известно.
– Хотя мистера Холлоуэя он не удивит, – продолжает Лоуренс.
– Ну, теперь ты можешь звать меня Клайв, – говорит Эльфин отец.
– Клайв, не порть мальчику звездный час, – вмешивается Эльфина мама.
– Миранда, я никому ничего не порчу.
– Господи! – с притворным беспокойством восклицает Беа, Эльфина младшая сестра. – Он весь пунцовый!
Лоуренс и впрямь заливается краской до корней волос.
– Нет-нет, со мной все в порядке…
– Может быть, вызвать «скорую»? – Беа опускает бокал шампанского на стол. – У тебя приступ?
– Беа, – укоризненно останавливает ее Эльфина мама. – Прекрати.
– А вдруг Лоуренс воспламенится, мамочка? Тогда никакой соды не хватит, чтобы ковер отмыть.
Обычно Эльф смеется шуткам Беа, но после разрыва с Брюсом ей не до смеха. Эльфин отец веско заявляет:
– Продолжай, Лоуренс, если тебя не пугает перспектива жить в сумасшедшем доме.
– Лоуренса ничего не пугает, – возражает Эльфина мама. – Правда, Лоуренс?
– Ммм… нет-нет, не пугает, миссис Холлоуэй.
– Если папа – Клайв, – вмешивается Беа, – значит Лоуренсу положено звать тебя Мирандой, правда, мамочка? Ну, я просто так спрашиваю.
– Беа, если тебе с нами скучно, уходи, – стонет мама.
– Я не хочу пропустить Лоуренсов сюрприз. Не каждый же день объявляют о помолвке сестры. Ой! – Беа зажимает рот ладонями. – Извиняюсь. Это и есть сюрприз? Я наобум сказала, честное слово.
С Чизлхерст-роуд доносится выстрел автомотора. Лоуренс надувает щеки и с облегчением выдыхает:
– Да. Я сделал Имми предложение. И она сказала…
– «Ну давай, если так уж хочется», – сообщает Имоджен.
– Аx, какой замечательный сюрприз! – говорит мама. – Мы с Клайвом так рады…
– Словно Англия взяла Эшес, – заканчивает за нее Эльфин отец, раскуривая трубку, и хитро подмигивает Лоуренсу.
– Поздравляю вас обоих, – говорит Эльф.
– Сестра, показывай колечко, – требует Беа.
Имоджен достает коробочку из сумки. Все толпятся вокруг.
– Ого! – восклицает Беа. – Это явно не бижутерия из хлопушки.
– Кое-кто выложил за него кругленькую сумму, – говорит Эльфин отец. – Ну и ну.
– Вообще-то, мистер Холло… Клайв, оно досталось мне в наследство от бабушки, для… – Лоуренс смотрит, как Имоджен надевает кольцо на палец, – для моей невесты.
– Ах, как трогательно, – вздыхает Эльфина мама. – Правда, Клайв?
– Да, дорогая. – Эльфин отец лукаво глядит на Лоуренса и говорит: – Запомни эти волшебные слова, тебе придется их произносить очень и очень часто.
«Мама с отцом – просто дуэт комиков, – думает Эльф. – Как мы с Брюсом… были. – Сердце разрывается от горя, ведь дуэт „Брюс и Эльф“ исчез навсегда. – Ох, как больно».
– Что ж, тост за счастливую пару, – предлагает Эльфина мама.
Все поднимают бокалы, чокаются и повторяют хором:
– За счастливую пару!
– Добро пожаловать в семейку Холлоуэй, – объявляет Беа голосом из хаммеровского ужастика. – Теперь ты – один из нас. Лоуренс Холлоуэй.
– Спасибо, Беа. – Лоуренс снисходительно смотрит на будущую свояченицу. – Боюсь, так не получится.
– Два предыдущих жениха говорили то же самое, – фыркает Беа. – Они прикопаны под верандой. Каждый год веранду расширяют на ярд, а к Эльфиной душераздирающей балладе «Любовники Имоджен Холлоуэй» прибавляется новый куплет. Странное совпадение, но это факт.
Шутке улыбается даже мама, но Эльф не находит в себе сил присоединиться к общему веселью.
– Давайте накроем стол.
Беа пристально глядит на сестру, которая явно сама не своя.
– Давайте.
Эльф записала сольный мини-альбом «Ясень, дуб и терн» и мини-альбом «Пастуший посох», дуэты с Брюсом; ее песню «Куда ветер дует» американская фолк-певица Ванда Вертью включила в свой альбом, который разошелся миллионными тиражами, а сам сингл попал в хит-парад. На авторские отчисления Эльф купила квартиру в Сохо – вложение капитала, которое одобрил даже отец, хотя и без особого энтузиазма. Эльф умеет полтора часа петь фолк перед трехсотенной аудиторией. Она умеет усмирять подвыпивших слушателей. Она имеет право голосовать, водить машину, пить, курить, заниматься сексом и успешно поставила галочки по всем перечисленным пунктам. Но как только она возвращается домой, к родным, и видит акварель дяди Дерека «Линкор „Трафальгар“», в которую ребенком мечтала перенестись, как герои «Покорителя зари», или золоченые корешки «Британники» в книжном шкафу, как с нее тут же осыпается налет взрослости, обнажая прыщавого, мнительного и закомплексованного подростка.
– Спасибо, папа, мне хватит ростбифа.
– У тебя всего два ломтика… Ты так мало ешь, что тебя скоро ветром сдувать начнет.
– Да, ты что-то бледненькая, – замечает Эльфина мама. – Надеюсь, ты не подхватила этот загадочный Брюсов чего-то-там.
– Доктор сказал, что у Брюса ларингит. – (Ложь растет и ширится.)
– Жаль, конечно, что он пропустил сюрприз Лоуренса и Имми.
Эльф недоверчиво косится на мать, подозревая, что та ведет реестр Брюсовых прегрешений, где уже отмечены и жизнь с Эльф во грехе, и потакание Эльфиным сумасбродствам насчет того, что в музыке можно сделать настоящую карьеру, а помимо этого – принадлежность к мужскому полу, длинные волосы и австралийские корни. «Если она узнает, что мы разбежались, то обрадуется больше, чем помолвке Имми с Лоуренсом».
За окнами капли дождя лупят по крокусам, превращая их в кашу-размазню.
– Эльф? – Имоджен и все остальные смотрят на нее.
– Ох, простите… – Эльф тянется за горчицей, которая ей совсем не нужна. – Задумалась. Что ты говоришь, Имми?
– Нам очень хочется, чтобы вы с Брюсом исполнили пару песен на нашей свадьбе.
«Надо сказать им, что мы разбежались», – думает Эльф и говорит:
– С удовольствием.
– Вот и славно. – Эльфина мама окидывает взглядом тарелки. – У всех есть йоркширский пудинг? Тогда приступайте.
Звенят приборы, мужчины одобрительно причмокивают.
– Ростбиф просто божественный, миссис Холлоуэй, – говорит Лоуренс. – И подлива восхитительная.
– Миранда обожает рецепты с вином, – изрекает Эльфин отец затасканную шутку. – А что не допивает, порой даже добавляет в блюда.
Лоуренс улыбается, будто в первый раз слышит.
– А после свадьбы ты снова станешь преподавать? – спрашивает Беа Имоджен.
– Если и стану, то не в Малверне. Мы подыскиваем дом в Эджбастоне.
– Не пожалеешь? – спрашивает Эльф.
– Жизнь разделена на главы, – говорит Имоджен. – Одна заканчивается, другая начинается.
Эльфина мама отирает губы салфеткой:
– Оно и к лучшему. За всем не поспеешь.
– Очень разумно, – соглашается Эльфин отец. – Быть женой и вести хозяйство – тоже работа. Поэтому наш банк не нанимает замужних.
– А по-моему, – говорит Беа, крутя перечную мельничку, – обычай наказывать женщину за то, что она выходит замуж, надо выдирать с корнем.
Эльфин отец не выдерживает:
– Никто никого не наказывает. Просто учитывают изменение приоритетов.
Беа не унимается:
– А в итоге женщины горбатятся над кухонной плитой и гладильной доской.
Эльфин отец гнет свое:
– Против биологии не пойдешь.
– Не в биологии дело, – не выдерживает Эльф.
– А в чем? – удивляется отец.
– В понятиях. Не так давно женщины не имели права голосовать, требовать развода, владеть недвижимостью или поступать в университет. А теперь имеют. Что изменилось? Не биология, а понятия. И изменение понятий способствовало изменению законодательства.
– Ах, молодость, молодость, – вздыхает отец, тыча вилкой в морковку. – Молодость, разумеется, лучше кого бы то ни было знает, как устроен этот мир.
– На следующей неделе вы с Брюсом начнете записывать новый альбом? – спрашивает Лоуренс.
Эльфина мама накладывает каждому по солидной порции трайфла из хрустальной уотерфордской десертницы.
– Ну, мы собирались, но что-то не срослось… в студии. Очень некстати.
– То есть запись переносится? – недоумевает Беа.
– Да, на пару недель. – Эльф не любит врать.
– А что не срослось в студии? – морщит лоб Эльфин отец.
– Перехлест в графике. Как нам сказали, – говорит Эльф.
– Крайне непрофессионально, на мой взгляд. – Эльфина мама передает десертницу Эльфиному отцу. – Почему бы вам не обратиться в другую студию?
«Ненавижу врать, – думает Эльф. – И к тому же не умею».
– В «Ридженте» хороший звукорежиссер, да и техника уже знакомая.
– В «Олимпике» тебе здорово записали «Пастуший посох», – говорит Имоджен.
– Да, отлично сработано, – соглашается Лоуренс, будто что-то в этом понимает.
Эльф представляет себе, как молодая пара лет через тридцать становится дубликатом Клайва и Миранды Холлоуэй, и содрогается, хотя в глубине души завидует Имоджен и ее безоблачному будущему.
– У всех есть трайфл? – Эльфина мама окидывает взглядом тарелки. – Тогда приступайте.
– А как вы с Брюсом познакомились? – спрашивает Лоуренс.
«Легче удалить себе почки ложкой, чем ответить на этот вопрос, – думает Эльф. – Но если промолчать, то заподозрят неладное, и мама таки вытянет из меня всю подноготную».
– За кулисами в одном ислингтонском фолк-клубе. Позапрошлым Рождеством. Тогда только заговорили об австралийском фолке, всем было интересно послушать. А после концерта я стала расспрашивать Брюса об австралийском гитарном строе, а он сказал, что ему понравилось мое исполнение ирландской баллады… – «…и мы пошли к нему на Кэмденский шлюз, а к Новому году я влюбилась безоглядно, как девчонка из песни, и он меня тоже любил. Ну, я так думала. Хотя, наверное, я подвернулась как раз тогда, когда ему надоело ночевать по знакомым и наливать пиво за стойками в Эрлс-Корте. Но правды я никогда не узнаю. Девять дней назад он выбросил меня, как использованную бумажную салфетку». Эльф натянуто улыбается. – Но ваше с Имми знакомство в лагере христианской молодежи куда как романтичнее.
– Да, но вы – популярные исполнители. – Лоуренс оборачивается к Эльфиной маме. – Миранда, как вы относитесь к тому, что ваша дочь – знаменитость?
Эльфина мама допивает вино.
– Я беспокоюсь, к чему все это приведет. Слава поп-звезды недолговечна. Особенно для женщины.
– А как же Силла Блэк? – возражает Беа. – И Дасти Спрингфилд.
– А в Штатах – Джоан Баэз. И Джуди Коллинз, – добавляет Имоджен.
– И не забывайте про Ванду Вертью, – говорит Беа.
– Ну хорошо, а что будет, когда их нынешние поклонники переметнутся к новым кумирам? – спрашивает Эльфина мама.
– Наверное, тогда они исправятся, – говорит Эльф, – выйдут замуж за того, кто простит им сомнительное прошлое, и станут жить праведной жизнью, утюжа сорочки и воспитывая детей.
Беа облизывает ложку до блеска:
– Бац-бац-бац.
– Отменный десерт, Миранда, – насмешливо заявляет Эльфин отец.
Эльфина мама вздыхает и глядит на сад.
Дождь взбивает воду в прудике.
У садового гнома течет из носа – кап-кап-кап…
– Я пытаюсь себе представить карьеру исполнителя, – говорит Эльфина мама, – но ничего не получается. Все, что я вижу, – твои упущенные шансы обзавестись настоящей профессией.
«Я на нее злюсь, – думает Эльф, – оттого что она озвучивает мои собственные страхи».
Часы в прихожей бьют два.
– А может, Эльф станет первопроходцем, – говорит Имоджен.
Эльф играет на бабушкином фортепьяно, а семья и Лоуренс сидят и слушают. От пения удалось отвертеться – мол, надо беречь голос, – но если не сыграть, то Имоджен, Беа и мама заподозрят что-то неладное. У «Бродвуда» теплые нижние и звонкие верхние. На нем Эльф когда-то разучивала «Ты мерцай, звезда ночная…», потом гаммы, арпеджио и стопку хрестоматий. Акустическая гитара – основной инструмент фолк-исполнителей, однако для Эльф первой любовью – («…еще до парней, еще до девушек…») – стало фортепьяно. Бабушка умерла, когда Эльф было всего шесть лет, но ее слова навсегда сохранились в памяти: «Пианино – и плот, и поток». Много лет спустя, февральским днем, в день девятый разбитого, растерзанного и растоптанного сердца, Эльф подбирает мелодию к этим словам. И плот, и поток, и плот, и поток, и плот, и поток… Это первая музыкальная фраза, пришедшая ей на ум после разрыва с Брюсом. Как здорово хотя бы несколько минут не вспоминать о нем… Ну вот… Мелодия заканчивается. Эльфино семейство и будущий свояк аплодируют. В вазе на каминной полке раскрываются ранние нарциссы.
– Очень мило, – говорит Эльфина мама.
– Ну, вроде бы так придумалось.
– А как называется? – спрашивает Имоджен.
– Пока никак.
– Ты вот прямо так взяла и придумала? – недоверчиво уточняет Лоуренс.
– Аккорды сложились, – говорит Эльф.
– Класс! Сыграй ее нам в июне.
– Хорошо. Если получится что-нибудь подходящее для свадьбы.
– Летние свадьбы – особенные, – поясняет Эльфина мама Имоджен. – Вот мы с твоим отцом тоже сыграли свадьбу в июне, правда, Клайв?
Эльфин отец попыхивает трубкой.
– И всю оставшуюся жизнь сияет солнце.
– Июнь меня вполне устраивает, – заявляет Беа. – К тому времени я закончу школу. Подумать страшно.
– Ты собираешься в Королевскую академию драматического искусства? – спрашивает ее Лоуренс. – Мне Имоджен сказала.
– Да, через месяц первый тур. Если пройду, то на второй пригласят в мае. Как раз во время школьных экзаменов.
– У тебя есть шанс поступить?
– На четырнадцать мест – порядка тысячи желающих. Вот и считай шансы. С другой стороны, были ли шансы у Эльф на контракт со студией звукозаписи?
Из носика кофейника вырывается струя пара.
– Наглядный пример того, что метить следует высоко, – говорит Имоджен.
Часы в прихожей бьют три.
Эльф допивает кофе:
– Ну, мне пора.
– Так вы не отменили сегодняшнее выступление в «Кузенах»? – спрашивает Беа. – Брюс же заболел.
Эльф не отменила выступление в отчаянной надежде, что Брюс все-таки появится и тогда можно будет перечеркнуть девять дней его отсутствия. Теперь приходится расплачиваться за этот самообман.
– Я выступлю соло.
– Но Брюс же не бросит тебя в Сохо посреди ночи? – спрашивает отец.
– Пап, я уже год там живу, и ничего плохого со мной не случилось.
– А можно я с Эльф пойду? Как телохранитель, – предлагает Беа.
– Очень смешно, – говорит мама, к безмерному облегчению Эльф. – Завтра тебе в школу. Хватит с нас и одной дочери, которая шастает по Сохо.
– А ты не хочешь пойти? – спрашивает Лоуренс у Имоджен. – Говорят, «Кузены» – прекрасный фолк-клуб.
– Вам же завтра еще возвращаться в Малверн, – напоминает Эльф. – Вдобавок концерт в «Кузенах» – это как игра на своем поле. Все друзья придут.
Три месяца назад Эльф с Брюсом неслись по платформе станции метро «Ричмонд» – сердце колотилось, ноги ныли, дыхание прерывалось – под фонарями, окутанными туманными нимбами. «ИИСУС СПАСЕТ» – обещал плакат на стене. Сумерки полнились запахом печеных каштанов, приготовленных на жаровне из железной нефтяной бочки. Оркестр Армии спасения играл «Ночной порой у стад своих сидели пастухи…». Длинноногий Брюс первым добежал до поезда и запрыгнул в последний вагон. «Осторожно, двери закрываются! – выкрикнул дежурный по станции. – Осторожно! Двери! Закрываются!» Эльф было решила, что уже не успеет, но в последний момент Брюс втянул ее в вагон, и они, задыхаясь и хохоча, повалились на сиденье.
– Я думала, ты меня бросишь, – сказала Эльф.
– Смеешься, что ли? – Брюс поцеловал ее в лоб. – Мне моя карьера дорога.
Эльф пристроила голову на Брюсову грудь, так, чтобы слышать биение сердца, вдохнула запах замшевой куртки и призрачный аромат лосьона для бритья. Мозолистые пальцы Брюса погладили ее ключицу.
– Привет, подруга, – прошептал он, и по нервам Эльф пробежал электрический разряд, бззззззт.
«Поляроидный взгляд, фотография на память…» – мелькнула в голове строчка. Эльф подумала, что, даже если доживет до ста, никогда не будет так рада жизни, как сейчас. Никогда.
Эльф стоит на той же платформе «Ричмонд», вдоль которой они с Брюсом мчались три месяца назад. Сегодня спешить некуда. Поезда на ветке Дистрикт-лайн задерживаются «ввиду помехи на путях на станции „Хаммерсмит“» – стандартное иносказание администрации лондонского метро для очередного самоубийства. Воскресный вечер сгущается в лондонских садах, сочится сквозь щели и темнит улицы. В западном Лондоне сегодня ни сухого, ни теплого места. Плакат, обещающий «ИИСУС СПАСЕТ», замызган и наполовину отодран. У Эльф катастрофически мало времени как следует подготовиться к сольному концерту. Публика в «Кузенах» увидит, как Эльф Холлоуэй исполняет плохо отрепетированные песни и решит, что не только Брюс Флетчер ее покинул, но и все очарование музыки вместе с ним. «Им наверняка уже известно, что среди фолк-исполнителей я – мисс Хэвишем». Эльф глядит в темное окно закрытого кафе. Обратно пялится ее отражение. Среди сестер Холлоуэй Эльф – дурнушка. Имоджен – милашка, типичная благонравная христианка. То, что Беа – красавица, было ясно с самого ее рождения, и этого не оспаривает никто из родственников. И все соглашаются, что Эльф внешностью пошла в отца. «То есть выгляжу как дебелая начальница районного отделения банка». Недавно в туалете какого-то клуба Эльф ненароком подслушала чей-то разговор: «Эльф Холлоуэй? Да она чистый гоблин…»
Эльфина мама всегда советовала:
– У тебя замечательные волосы, деточка. Не забывай об этом.
Волосы светлые, длинные. Брюс любил зарываться в них. Он восхищался ее телом – но всегда по частям, никогда всем полностью. Он говорил: «Ты сегодня хорошо выглядишь…» «Ну да, а в остальное время я выгляжу как безродная дворняжка». Эльф всегда думала, что ее талант фолк-исполнителя перевешивает внешность, не такую привлекательную, как у Джоан Баэз или у Ванды Вертью. Надеялась, что талант превратит гадкого утенка в прекрасного лебедя. Ухаживания Брюса заставили поверить, что именно это и происходит, но теперь, когда они расстались… «Смотрю на себя и думаю: „Какая я невзрачная“». Ее отражение спрашивает: «А вдруг ты просто много из себя воображаешь, а на самом-то деле – ничего особенного».
Одноногий голубь прыгает по шпалам.
Жирная крыса не обращает на него внимания.
Близ турникетов есть телефонная будка. Может, позвонить Энди в «Кузены» и сослаться на ларингит? На воскресный вечерний концерт замену найти не трудно – в клубе наверняка будет Сэнди Денни, Дейви Грэм или Рой Харпер. Многие из завсегдатаев уже выпустили альбомы – настоящие, долгоиграющие, а не миньоны. Эльф лучше пойти домой, зарыться в одеяло и…
«И – что? Реветь навзрыд, пока не усну? Опять? Спустить отчисления с хита Ванды Вертью, а потом, поджав хвост, вернуться к родителям – без денег, без работы и без контракта со студией. Если сегодня я не выступлю в „Кузенах“, то Брюс выиграл. Выиграют те, кто в меня не верит. „Без Брюса она ничто, дилетант, пустышка, которой раз в жизни повезло с одной-единственной песней“. И мама уверится в собственной правоте. „Если бы ты, как Имми, заранее распланировала свое будущее, то давно бы обзавелась каким-нибудь Лоуренсом“. Нет уж, на хрен оно мне надо», – думает Эльф.
Клуб «Les Cousins» назван в честь французского фильма, но завсегдатаи называют его просто «Кузены». Узенькая дверь под неприметной вывеской втиснута между итальянским рестораном на Грик-стрит и радиомастерской. Эльф спускается по крутой лестнице, скользит взглядом по афишам Берта Дженша и Джона Ренбурна, апостолов фолк-возрождения. Марево голосов, табачного дыма и дури. Внизу стоит Нобби – когда-то он служил в фузилерском полку, а теперь собирает плату за вход и помогает подвыпившим посетителям выбраться на улицу.
– Добрый вечер, подруга. Зябко сегодня, – говорит он.
– Добрый вечер, Нобби, – отвечает Эльф, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не спросить, не появился ли Брюс. Может, если не спрашивать, он придет, попросит прощения и дуэт сохранится. Может, он уже на сцене, устанавливает аппаратуру…
Энди замечает ее и машет рукой из-за угловой стойки, где наливают кока-колу, чай и кофе. Отсутствие лицензии на продажу спиртного позволяет клубу не закрываться и проводить концерты до утра. В «Кузенах» играют все мало-мальски известные фолк-исполнители. Почетные места на стенах клуба занимают фотографии – часть осталась еще с тех времен, когда здесь находился скиффл-клуб: Лонни Донеган, The Vipers, блюзмен Алексис Корнер, Юэн Макколл и Пегги Сигер, Донован, тычущий в надпись на своей гитаре: «Эта машина убивает»; Джоан Баэз, слишком рано умерший Ричард Фаринья, Пол Саймон и Боб Дилан. Четыре года назад он исполнил свою новую песню «Blowin’ in the Wind»[10] на этой самой сцене, под тележным колесом и рыболовными сетями, где сегодня Эльф не ждет золотоволосый австралиец по имени Брюс Флетчер…
– Эльф? – окликает ее Сэнди Денни, одна из завсегдатаев клуба. – Ты как? Я тут узнала про Брюса… Ох, сочувствую…
Эльф притворяется, что с ней все в порядке.
– Да это просто…
– Хрень – вот что это такое, – заявляет Сэнди. – Я видела его с новой пассией в кафешке Музея Виктории и Альберта.
Эльф не может ни вздохнуть, ни слова сказать. А надо.
– А…
«Значит, у него не с абстрактными девушками покончено, а конкретно со мной».
Сэнди зажимает рот рукой:
– О господи! Ты знала?
– Ну да, конечно. Знала.
– Уф, слава богу. Я уж думала, что опять не к месту сболтнула. Так вот, они сидят за столиком, кормят друг друга пирожными, а я вся такая подхожу и говорю: «Милуетесь, голубки?» – и только потом вижу, что он не с тобой. Ну и стою как дура, не знаю, что делать.
«В ту самую кафешку он пригласил меня на первое свидание», – вспоминает Эльф.
– А Брюс так невозмутимо говорит: «Привет, Сэнди. Это Ванесса. Она модель в таком-то агентстве», будто мне это интересно. Ну, я ей: «Привет!» – а она мне: «Очень приятно познакомиться», прям как в пьесе Ноэля Кауарда.
Ванесса. В январе, на вечеринке у кого-то на Кромвель-роуд, была одна Ванесса. Манекенщица.
– Да ну их, этих мужиков, – сочувственно вздыхает Сэнди. – Иногда так и хочется… – Она машет рукой и увесисто задевает проходящего мимо. – Ой, прости, Джон.
Джон Мартин мотает всклокоченной шевелюрой:
– Ничего страшного, Сэнди. Удачно отыграть, Эльф, – и идет дальше.
– Прошу прощения… – Рядом с ними возникает Энди. – Эльф, мне тут рассказали… Если ты отменишь выступление, никто не станет возмущаться. Ясное дело…
Эльф смотрит ему за плечо, на выход из клуба, и представляет себе будущее. Зависнуть на пару недель у родителей, все лето проработать в машинописном бюро, устроиться преподавателем музыки в школу для девочек, выйти замуж за учителя географии и вспоминать вот этот самый миг, когда ее исполнительская карьера растаяла, как песочный куличик под набежавшей волной.
– Эльф? Что с тобой? – встревоженно спрашивает Сэнди.
Энди больше волнует другое:
– Тебя сейчас стошнит?
Эльф подкручивает колок, подтягивает четвертую струну. В сумраке темнеют пятна лиц с белыми точками на месте глаз. Тусклой умброй тлеют огоньки сигарет. В «Кузенах» самому курить не обязательно, можно просто дышать. Эльф нервничает. Она давно не выступала в одиночку. Все-таки дуэт – уже коллектив.
– Приношу извинения тем, кто пришел послушать… – («Да говори уже!») – Флетчера и Холлоуэй. Брюса нет… – в горле стоит ком, – потому что он сменил меня на более привлекательную модель. В буквальном смысле слова.
Публика дружно ахает, ползут шепотки.
Эльф подавляет смешок.
– Наш дуэт… – («Скажи погромче!») – распался.
Дзинь! – звенит кассовый аппарат. Зрители разочарованно переглядываются. Видно, об этом знали немногие. А теперь известно всем.
– Ему же хуже, а не нам, – выкрикивает Сэнди Денни.
Чтобы не разрыдаться, Эльф начинает «Ясень, дуб и терн» – песню, которой обычно открывает выступление. Впервые Эльф спела ее в Кингстонском фолк-клубе, на старой голландской барже, пришвартованной к причалу в Кингстоне. Сейчас голос ломкий, пронзительный, не дотягивает пару верхних до. Упрощенный, безбрюсовый вариант исполнения не то чтобы плох, но не вдохновляет. Эльф берет первые аккорды «Короля Трафальгара», своей лучшей песни с альбома «Пастуший посох»… но после третьего такта вступления передумывает. Без Брюсовой гитары будет звучать скупо и скудно. Что же сыграть? Пауза затягивается. Тогда Эльф снова начинает «Короля Трафальгара», модуляция из соль минора через ми-мажорный септаккорд выходит грязноватой. Заметно только хорошему гитаристу, однако звук получается куцый. Зрители вежливо аплодируют. Следующий номер – «Песня Динка» из антологии Ломакса. Здесь у Брюса замечательная партия банджо, ее сейчас не хватает, как не хватает и его верхней октавы на «прощай, прощай…». Эта песня звучит в десятках фолк-клубов по всей Англии, и повсюду ее исполняют гораздо лучше, чем Эльф сейчас. Тут она соображает, что по-прежнему ведет свою партию в дуэте «Флетчер и Холлоуэй», только без Флетчера. И что теперь? Спеть что-нибудь новенькое? Из четырех новых композиций для альбома «Флетчер и Холлоуэй» две лирические песни посвящены Брюсу, третья – блюзовая ода Сохо для фортепьяно, пока еще безымянная, а четвертая – баллада о ревности под названием «Всегда не хватает». На лирических песнях ей не удержаться от слез. Лучше исполнить «Где цветет душистый вереск…», вот только она забывает поменять слова для женского исполнения, поэтому вместо «Я найду себе другого» звучит «Я найду себе другую», и Эльф представляет, как Брюс раздевает Ванессу… «пока я, дура, пою старые, заезженные песни…».
И внезапно замечает, что перестала играть.
В зале раздаются перешептывания и покашливания.
«Наверное, думают, что я забыла слова. Или: „Может, у нее нервный срыв?“»
На что у Эльф заготовлен ответ: «Хороший вопрос».
Она понимает, что выронила медиатор.
По напудренному лицу струится пот.
«Вот так умирает карьера…»
«Прекращай выступление. Уходи со сцены с достоинством. Пока оно у тебя осталось».
Эльф опускает гитару. С первого ряда кто-то подается вперед. Свет рампы озаряет паренька, ровесника Эльф: овал по-женски миловидного лица, черные волосы до плеч, пухлые губы, умный взгляд. В пальцах зажат ее счастливый медиатор. Эльф берет его из протянутой руки.
Только что она хотела уйти. А теперь нет.
Слева от подавшего медиатор сидит парень повыше, в лиловом пиджаке. Чуть слышно, но четко, как суфлер, он произносит:
– «Если ты меня покинешь, я недолго протоскую…»
Эльф обращается к зрителям:
– С вашего позволения, я поменяю следующие строчки… – она рассеянно перебирает струны, – чтобы отразить всю прелесть моей так называемой личной жизни. – Она берет нужный аккорд и поет: – «Если ты меня полюбишь, то не вынесешь позора… – И продолжает с утрированным австралийским акцентом: – Потому что я Брюс Флетчер, я всех дрючу без разбора…»
Зал взрывается ликующим хохотом. Эльф заканчивает песню, больше не меняя слов, и в награду получает бурные аплодисменты.
«Ну, чем черт не шутит…»
Она подходит к фортепьяно:
– На пробу я исполню три новые песни. Это не совсем фолк, но…
– Сыграй, Эльф! – выкрикивает Джон Мартин.
Будто с головой нырнув в самую гущу жгучей крапивы, Эльф начинает вступление к «Всегда не хватает» и посреди проигрыша переходит на «You Don’t Know What Love Is»[11]. Так сделала Нина Симон на концерте в «Ронни Скоттс» – вплела мелодию одной песни в середину другой, обе словно бы перекликаются. Эльф возвращается к «Всегда не хватает», завершает музыкальную фразу пронзительным фа-диезом. На нее волной обрушиваются аплодисменты. В проходе самозабвенно хлопает в ладоши Ал Стюарт. Эльф берет гитару, исполняет «Поляроидный взгляд» и «Я смотрю, как ты спишь». Потом без инструментального сопровождения поет «Уилли из Уинсбери» – песне ее научила Энн Бриггс. Она держит ладонь «чашечкой» около уха, как Юэн Макколл, произносит слова короля повелительно, слова его беременной дочери – дерзко, а слова Уилли – хладнокровно. Так хорошо она не пела никогда в жизни.
– Ну, у нас осталось время еще на одну вещь, – говорит она, садясь к микрофону.
– Придется спеть, Эльф, иначе Энди тебя не выпустит! – кричит из зала Берт Дженш.
«Куда ветер дует» – альбатрос на шее, но Эльф живет его щедротами.
– Что ж, я исполню для вас свой знаменитый американский хит. – Четвертая струна опять ослабла. – Знаменитый американский хит Ванды Вертью.
Само собой, зрители смеются. Эльф исполняла эту песню задолго до того, как встретила Брюса, который решил, что в ней надо подправить концовку, чтобы создать плавный переход к его балладе про Неда Келли. Эльф закрывает глаза. Касается гитарных струн. Вздыхает…
После продолжительных аплодисментов, десятка объятий, высказываний на тему «Без него гораздо лучше» и похвал новому материалу Эльф наконец-то попадает в чулан, который служит Энди кабинетом. К ее удивлению, кроме Энди, туда втиснулись еще четверо. Двоих Эльф узнает: симпатичный парень, который подал ей медиатор, и его сухопарый сосед, который подсказал ей слова «Где цветет душистый вереск…». У третьего – копна каштановых волос, эффектные усы, как у щеголя эпохи Регентства, насмешливые глаза под тяжелыми веками и в общем плутовской вид. Четвертый, тот, что опирается на картотечный шкаф, постарше остальных. Костлявое лицо, лоб с залысинами, очки с дымчатыми стеклами и костюм цвета берлинской лазури, с закатно-алыми пуговицами. Его окружает ореол уверенности в себе.
– А вот и героиня вечера, – объявляет Энди. – Классный новый материал. Желающих его записать будет хоть отбавляй. «Эй энд Би» изрядно сглупили.
– Очень рада, что тебе понравилось, – говорит Эльф. – Извини, я не знала, что у вас тут встреча. Я загляну попозже.
– Это не встреча, а сходка заговорщиков, – говорит Энди. – Познакомься, это Левон Фрэнкленд, мой давний подельник.
Тип в дымчатых очках прижимает руку к груди:
– Прекрасное выступление. Честное слово. – («Американец», – думает Эльф.) – А новый материал – улет.
– Благодарю вас. – «Наверное, голубой», – думает Эльф и поворачивается к невысокому брюнету. – И спасибо за медиатор.
– Всегда пожалуйста. Меня зовут Дин Мосс. Ты здорово сыграла. На сцене держишься просто класс. А пауза, когда все решили, что ты забыла слова, – чистая драма.
– Вообще-то, это была не драма, – признается Эльф.
Дин Мосс кивает, будто теперь-то ему все понятно.
Эльф смутно знакомо его лицо.
– Слушай, я тебя откуда-то знаю.
– Год назад мы пересеклись на прослушивании в телестудии «Темза-ТВ». Я был в «Броненосце „Потемкин“». А ты исполняла фолк.
– Ой, и правда. В итоге выбрали какого-то ребенка-чревовещателя с куклой-додо, – вспоминает Эльф. – Прости, не признала.
– Да ладно. Про такое хочется поскорее забыть. А еще я работал в кофейне «Этна» на Д’Арблей-стрит. Ты туда часто заходила, только я торчал за стойкой с кофеварками, меня было не заметить.
– Вот я и не заметила. Тебе надо было подойти и сказать: «Эй, мы с тобой встречались, в телестудии».
– Я постеснялся, – потупившись, отвечает Дин.
– Какое честное признание, – растерянно говорит Эльф.
– А я – Грифф, – заявляет встрепанный усатый тип. – Барабанщик. Больше всего мне понравился «Поляроидный взгляд». – (Он явно с севера Англии.) – А вот это, – он кивает на высокого тощего рыжего парня, – Джаспер де Зут. Между прочим, имя настоящее, хоть и не верится.
Будто повинуясь безмолвному приказу, Джаспер пожимает Эльф руку:
– Впервые встречаю человека по имени Эльф.
У него очень аристократический выговор.
– «Эль» – от Элизабет, а «Ф» – от Франсес. Меня так прозвала младшая сестренка, Беа, и так и прилипло.
– Тебе подходит, – кивает Джаспер. – У тебя совершенно эльфийский голос. Я раз сто слушал твой «Ясень, дуб и терн». А в «Короле Трафальгара» замечательная… – он задумчиво крутит пальцем, – мм, психоакустика. Есть такое слово?
– Наверное, – отвечает Эльф и неосторожно добавляет: – Если оно есть, то хорошо рифмуется со словом «кустики».
Джаспер косится на нее:
– Ну да, пустяки, прутики и кустики.
«Ага, среди нас есть еще один стихотворец», – думает Эльф.
Левон снимает очки:
– Эльф, у нас есть предложение.
– Что ж, раз вы с Энди такие друзья, я готова его выслушать.
– А я, пожалуй, пойду, – говорит Энди, вручая ей конверт. – Твой гонорар. Как за дуэт. Ты его отработала.
Он выходит, и Левон Фрэнкленд закрывает за ним дверь.
– Во-первых, позволь, я вкратце объясню предысторию. Так сказать, контекст. Я – музыкальный менеджер. Вырос в Торонто, а потом отправился в Нью-Йорк, чтобы стать фолк-звездой. Мои свитера и водолазки были безупречны, но все остальное подкачало, поэтому я решил освоить нью-йоркскую музыкальную кухню – сперва в музиздательстве, потом у агента, который работал с целой плеядой звезд «британского вторжения». Четыре года назад я приехал в Лондон, устраивать гастроли американских исполнителей, да так здесь и застрял. Поработал в студии у Микки Моуста, потом переключился на поиск и продвижение новых исполнителей, а теперь вот решил попробовать свои силы в менеджменте. Можно сказать, всесторонне развитая личность. Ну, про меня много чего говорят. Я никогда не принимаю это близко к сердцу. Покурим?
– А то, – говорит Эльф.
Левон раздает всем «Ротманс».
– В конце прошлого года я ужинал в компании двух джентльменов, Фредди Дюка и Хауи Стокера. У Фредди фирма по организации гастролей, его контора на Денмарк-стрит. Они работают по старинке, но приветствуют новые идеи. Хауи – американский инвестор, который недавно стал владельцем небольшого рекламного агентства «Ван Дайк талент», в Нью-Йорке. Фредди и Хауи решили объединить усилия и создать единое трансатлантическое агентство по организации гастролей британских исполнителей в США и американских исполнителей в Британии. Сложно устраивать зарубежные гастроли, не зная местной специфики. У музыкальных профсоюзов такие запутанные требования, что проще сразу удавиться. Короче говоря, Фредди и Хауи предложили мне вот какую штуку. Я нахожу группу талантливых исполнителей, они с моей помощью делают демки, заключают контракт со студией звукозаписи, а потом агентство Дюка – Стокера организует им гастроли и превращает их в знаменитостей. Мне предоставят помещение на Денмарк-стрит, а во всем остальном у меня будет творческая свобода. Агентство Дюка – Стокера вложит начальный капитал и обеспечит меня годовым жалованьем в обмен на сравнительно скромную долю будущих прибылей. В общем, нам еще десерт не принесли, а мы уже ударили по рукам. Так появилось на свет агентство «Лунный кит».
– Ну, новых лейблов развелось, как грибов после дождя, – говорит Эльф.
– Да, и, как правило, все они однодневки. – Левон затягивается сигаретой. – Они заключают контракт с первыми попавшимися пижонами с Карнаби-стрит, тратят все деньги на оплату студийного времени, не продвигают материал на радио и через год банкротятся. Нет, по-моему, подбор группы – это тонкая работа. Никаких прослушиваний. И постоянные репетиции, прежде чем дело дойдет до концертов. Наша группа должна быть безупречна с самого начала. А самое главное, я намерен по справедливости делить плюшки с исполнителями, а не урвать лакомый кус, а потом утверждать, что его и вовсе не было.
– Необычный подход, – кивает Эльф. – А что за группа?
– Группа – это мы, – говорит Грифф. – Дин – басист, Джаспер – соло-гитара, я – барабанщик. Эти двое еще поют и сочиняют.
– Только нам не хватает клавишника, – говорит Джаспер.
«Мне предлагают работу», – соображает Эльф.
– Клавишника, который пишет песни, – поясняет Левон. – Обычные группы с трудом наскребают приличный материал для одного альбома. А вот если Дин, Джаспер и еще кто-нибудь сочинит по три-четыре песни, то у нас наберется сразу на долгоиграющую пластинку.
– Среди твоих знакомых такие есть? – спрашивает Дин.
– С правильной психоакустикой, – добавляет Левон. – Из тех, кто и на синтезаторе слабает, и на фортепьяно верный аккорд возьмет.
– По-моему, меня приглашают в бродячий цирк, – говорит Эльф. – На всякий случай уточню: вы ведь не фолк-группа?
– Совершенно верно, – говорит Левон. – За дух фолка в группе будешь отвечать ты. Дин больше склонен к блюзу, Грифф у нас из джаза, а Джаспер…
Все смотрят на Джаспера.
– А он – виртуоз-гитарист, – заявляет Дин. – Потому что это чистая правда, а не потому, что я снимаю у него комнату.
Грифф локтем тычет Дина в бок:
– Между прочим, обычно жильцы платят хозяину деньги, а не берут у него взаймы.
– Эльф, – говорит Левон, – я уже представляю, как великолепно вы будете звучать. Устройте джем-сейшен. В баре на Хэм-Ярде есть помещение для репетиций. Давайте попробуем, а?
– Ну а если тебе наш цирк не понравится, то силой удерживать не станем, – говорит Дин. – К ужину будешь дома.
Эльф затягивается сигаретой:
– А название у вас есть?
– Приблизительное. Мы попробовали «Есть выход»… – начинает Левон.
– …но это не окончательно, – заверяет Дин.
«Вот и хорошо».
– Значит, вы не фолк-группа. А какая же тогда?
– Павлиньепереливчатая. Сорочьелюбопытная. Подземельнопотайная, – говорит Джаспер.
– Он в детстве энциклопедический словарь проглотил, – поясняет Дин.
Эльф пытается зайти с другой стороны:
– А какого звучания вы хотите добиться?
Трое отвечают хором:
– Нашего.
Темная комната
Клуб «UFO» вибрирует – Pink Floyd прокладывает курс корабля к сердцу пульсирующего солнца. Мекка танцует, смотрит на него. У нее глаза цвета берлинской лазури. Разноцветные пятна прожекторов сияющими медузами множатся и скользят по танцорам, и мысли Джаспера начинают дрейфовать.
«Абракадабра, это мальчик. Назовем-ка его Джаспером…» Почему это имя, а не какое-нибудь другое? Знакомый? Драгоценный камень? Бывший любовник? Это известно только матери Джаспера, а она спит в гробу на дне морском, у египетских берегов. Приходим, смотрим, шастаем, пока Смерть не погасит наши свечи… Там, откуда мы приходим, этого добра много. Миллион зачатков жизни в каждой капле жизненной эссенции. Бог сошел бы с ума, если бы следил за каждым. На сцене Сид Барретт водит гребешком по провисшим струнам «фендера». Горестные вопли птеродактиля. Сид далеко не виртуоз, но умение держаться на сцене и байронический облик с лихвой восполняют недостаток техники. Тем временем Хоппи щелкает выключателем за световым пультом и по стенам начинает нарезать круги самурай Куросавы – знаменитое шоу клуба «UFO». Рука Джаспера уже какое-то время выводит восьмерки; цифра 8 – бесконечность стоймя. До него доносятся слова, надтреснутые, шершавые, как радиоволны в сумерках… «Если б расчищены были врата восприятия, всякое предстало бы человеку как оно есть – бесконечным. Ибо человек замуровал себя так, что видит все через узкие щели пещеры своей». Кто это сказал? «Я знаю, что не я». Может, Тук-Тук? Или кто-то из давних предков? Лазурная медуза света проплывает над Риком. Рик Райт, клавишник, в лиловом галстуке и желтой рубашке, играет на «фарфисе». Месяц назад Pink Floyd подписали контракт с EMI. И всю эту неделю провели в студии «Эбби-роуд». Рик рассказывал Джасперу: «К нам заглянул инженер из корпуса Б и говорит, мол, там ребята перерыв устроили, не хотите поздороваться? Ну, мы и зашли. Джон дурачился, у Джорджа болел зуб, а Ринго рассказал похабный анекдот». А еще они слушали новую песню Пола «Прелестная Рита». Мекка сужает круги. Ее слог услаждает слух: – Ich bin bereit abzuheben[12].
Обычно Джаспер понимает немецкий со скрипом, но драгоценные часы, проведенные с Меккой, являются отличной смазкой для мозгов.
– Ты уже отрываешься от земли? – уточняет он.
Судя по всему, фитиль метаквалона запален. Вышибалы на дверях поставляют превосходное зелье, чистейшее во всем Лондиниуме, и вот он приход вот он приход точка точка точка тире тире тире точка точка точка
…и тело Джаспера танцует в клубе «UFO» на Тотнем-Корт-роуд, а разум уносится в просторы космоса, огибает обводненный Марс, мчится все дальше и дальше, к Сатурну, пожирающему своих отпрысков, а потом отверженно, Отче, отчужденно отчаянно летит превозмогая скорость света туда где застывают время и пространство и снова шершавый голос: «И слава Господня осияла их: и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, пристегните ремни безопасности и катайтесь в свое удовольствие». А теперь библейски черно и беззвездно. Хвост кометы серебристой нитью тянется в пространстве. Тук-тук. Кто там? Не отвечай. Думай о нормальных вещах. Ник Мейсон бьет по барабанам. Барабаны были раньше нас. Ритмичное биение материнского сердца. Мекка уезжает в понедельник вечером. Америка проглотит ее, как кит Иону. Мы пульсируем в такт бас-гитаре Роджера, «рикенбакер-фаергло». Улыбка Роджера Уотерса – и плащ и кинжал одновременно. Лицо Мекки изгибается, вдавливается, удлиняется, расширяется, обволакивает его. И вширь и вглубь растет, как власть империй, медленная страсть. Ее лицо отражает его, а его – ее, и какое из отражений догадывается, что оно – отражение?
– Как ты думаешь, реальность – это зеркало для чего-то еще? – спрашивает Джаспер.
Ответ Мекки не поспевает за восковыми мальчишечьими губами:
– Ja, bestimmt[13]. Поэтому фотоснимок всегда правдивее фотографируемого предмета.
Он прикладывает ее ладонь к своему сердцу. Ее лицо принимает обычный вид.
– Поздравляю. Я почувствовала, как он толкается. Ты дату знаешь?
– Я прошел собеседование?
– Пойдем искать такси.
Возле клуба стоит черное такси.
– Челси, Блэклендс-Террас, – говорит Мекка таксисту. – Напротив книжного «Джон Сэндоу».
Мимо проносятся темные улицы. Амстердам прячется в себя, Лондон раскрывается, раскрывается, раскрывается.
Она благонравно держит его за руку. Кое-где на верхних этажах светятся окна. Джаспер все еще слышит стук барабанов. Немного Pink Floyd хватает очень и очень надолго. Такси останавливается.
– Сдачи не надо, – говорит Мекка.
Ветер, ночь, тротуар, дверной замок, лестница, кухня, настольная лампа.
– Я в душ, – говорит Мекка.
Джаспер сидит за столом. Она появляется, одежды на ней гораздо меньше, чем раньше.
– Это приглашение.
Они вместе принимают душ. Потом они в постели. Потом все тихо. Потом где-то вдали громыхает грузовик. На Челси-Хай-стрит? Может быть. Мекка спит. У нее на спине большая выпуклая родинка, очертаниями напоминающая австралийский монолит Улуру. Прошлое и будущее просачиваются друг в друга. Он на площадке дозорной башни, глядит на залив, на коньки крыш, на дома и пакгаузы. Пушечные выстрелы. Наверное, это кино. Громовое стаккато оглушает. Небо, качнувшись, кренится набок. Все собаки лают, вороны словно с ума посходили. Тучный человек в костюме наполеоновской эпохи опирается на поручень, направляет подзорную трубу в море. Джаспер спрашивает его, не сон ли это. Может, в клубе «UFO» что-то подмешали в амфетамин?
Человек с подзорной трубой щелкает пальцами. Вжик-вжик. Джаспер идет по улице. Подходит к пансиону своей тетушки в Лайм-Риджис. Его дядя в инвалидном кресле говорит: «Ты же сбежал от нас к лучшей жизни! Вот и вали отсюда!»
Щелк. Вжик-вжик. Джаспер проходит мимо корпуса Свофхем-Хаус в школе Епископа Илийского. Директор стоит в дверях, как вышибала: «Шагай, шагай, тебе здесь делать нечего».
Щелк. Вжик-вжик. Паб «Герцог Аргайл» на Грейт-Уиндмилл-стрит. Джаспер смотрит сквозь гравированное оконное стекло. За столиком сидят Эльф, Дин, Грифф, Мекка и сам Джаспер.
– Половина моих знакомых считает, что название «Есть выход» похоже на пособие для самоубийц, – объясняет Эльф. – А половина утверждает, что это фразочка из лексикона хиппи. Давайте представим, что название группы мы придумываем впервые. У кого какие идеи?
Все, включая Джаспера за столиком, смотрят в глаз Джаспера за окном.
Щелк. Вжик-вжик. Перед глазами мельтешит подсвеченный грезами снег, или дождь лепестков, или кружевные бабочки. Он теряется в лабиринте улочек Сохо, который запутаннее настоящего. Он ищет указатель. Марево медленно обретает четкость, из тумана проступает лондонская табличка с названием улицы: «УТОПИЯ-АВЕНЮ». Щелк. Вжик-вжик…
В дюймах от его лица появляются буквы P-E-N-T-A-X. Щелк. Фотоаппарат проматывает пленку. Вжик-вжик. На Мекке кремовый аранский свитер, он ей до колен. Она выстраивает следующий кадр. Щелк. Вжик-вжик. В потолочном окне над ней – грязный лоскут неба. Вороны кружат, как носки в сушильном барабане. Что еще? Одеяло. Смятые бумажные салфетки. Электрический камин. Ковер. Одежда Джаспера. К стене пришпилены десятки черно-белых фотографий. Облака в лужах, косые лучи света, пассажиры, бродяги, собаки, граффити, снег, залетающий в разбитые окна, влюбленные в дверных проемах, надгробия с неразборчивыми надписями и прочие фрагменты Лондона, заметив которые Мекка подумала: «Я хочу тебя сохранить». Щелк. Вжик-вжик.
Она опускает фотоаппарат, садится, скрестив ноги по-турецки:
– Доброе утро.
– Ты рано начинаешь работу.
– У тебя глаза… – она напряженно подыскивает нужное слово, – бегали под веками как сумасшедшие. Тебе снился сон?
– Да.
– Может, я сделаю серию фотоснимков: «Де Зут, спящий; де Зут, бодрствующий». Или назову ее «Потерянный рай». – Она натягивает темно-синие носки. – Завтрак внизу.
И уходит.
«Теперь мы с Меккой – любовники, или прошлая ночь была первой и последней?» – размышляет Джаспер и, неторопливо одеваясь, несколько минут изучает фотографии на стене.
На офисной кухне Мекка ест брикеты «Витабикс» из плошки, перелистывает журнал мод. Электрический чайник стонет и сипит. Джаспер выглядывает сквозь жалюзи на улочку Челси. Порывы ветра сгоняют в кучи палую листву, теребят иву и выворачивают наизнанку зонтик викария. Вдоль кухни тянется балкон с балюстрадой по пояс. Джаспер подходит, смотрит вниз, в просторную студию, увешанную драпировками и уставленную переносными ширмами, осветительной аппаратурой и штативами. В углу – декорации для фотосессии: тюки прессованного сена и пара гитар. Джаспер повторяет то, что сказал Дин, когда тот впервые вошел в квартиру на Четвинд-Мьюз:
– Классные хоромы.
– Что такое хоромы? – спрашивает Мекка.
– Жилище. Квартира. Ну или студия.
– А почему хоромы? Это где хоронят, да?
– Не знаю. Это слово не я придумал.
Лицо Мекки принимает выражение, которого Джаспер не понимает.
– С понедельника до субботы здесь находится мой босс, Майк, а еще фотомодели и прочие сотрудники. Я здесь ишачу – помогаю устанавливать декорации и все такое. В хоромах живу за бесплатно, а Майк дает мне пленку и разрешает пользоваться фотолабораторией.
– У тебя особенные фотографии.
– Спасибо. Я пока учусь.
– Там есть серия снимков с пикетчиками…
– А, это забастовка портовых рабочих в Ист-Энде.
– Как тебе это удалось?
– Я просто говорю: «Привет, я фотограф из Германии. Можно вас щелкнуть?» Некоторые говорят: «Отвали». Один сказал: «Хрен мой щелкни, мисс Гитлер». Обычно просто говорят: «О’кей». Когда тебя снимают, то как будто заявляют: «Ты существуешь».
– Такое впечатление, будто они там смотрят в объектив и пытаются сообразить, враг ты или нет. Хотя они – всего-навсего химическая реакция на бумаге. Фотография – странная иллюзия.
– В четверг в хоромах Хайнца ты играл испанскую мелодию.
Чайник глухо булькает.
– Да, «Астурию» Альбениса.
– У меня от нее Gänsehaut… гусиная кожа. Так можно сказать?
– Да.
Чайник закипает и выключается.
– Музыка – это просто сотрясение воздуха. Вибрация. Почему эта вибрация вызывает физическую реакцию? Для меня это загадка.
– Можно изучить, как работает музыка в теории и на практике. – Джаспер снимает крышку с банки кофе. – А вот почему она работает, одному Богу известно. А может, и неизвестно.
– С фотографией то же самое. Искусство – это парадокс. Оно не ощущение, но его ощущают. У этого кофе вкус мышиного помета. Лучше чай.
Джаспер заваривает чай и приносит к столу.
– Куда ты потом идешь? – спрашивает Мекка.
– У нас в два часа репетиция. В Сохо.
– А вы – хорошая группа?
– Мы стараемся. – Джаспер дует на чай. – Мы играем вместе всего месяц, так что все еще ищем свое звучание. Левон говорит, что сначала надо отшлифовать десять песен, а уж потом давать концерты. Он хочет, чтобы мы явились во всей красе и во всеоружии, будто Афина из головы Зевса.
Мекка жует «Витабикс».
– Сегодня твой последний день в Англии. Может быть, у тебя еще много дел или ты хочешь попрощаться со знакомыми? Но если ты свободна, то пойдем со мной на репетицию.
Наверное, полуулыбка Мекки что-то означает.
– Еще одно свидание?
Джаспер опасается сделать неверный шаг.
– Да, если это не преждевременно.
– Преждевременно? – (Кажется, он ее насмешил.) – Мы с тобой только что переспали. Для «преждевременно» уже поздно.
– Извини. Я не знаю правил. Особенно с женщинами.
– Мы с тобой знакомы всего два дня и три ночи.
– Да, а что?
Мекка дует на чай:
– А кажется, что дольше.
Два дня и три ночи назад Хайнц Формаджо распахнул входную дверь апартаментов в одном из роскошных особняков близ Риджентс-парка. Хайнц был в пиджачной паре, при галстуке, расшитом алгебраическими уравнениями, и в строгих очках.
– Де Зут! – (Джасперу пришлось стерпеть крепкие объятья.) – Я так и знал, что это ты! Гости обычно звонят длинным звонком – дзыыыыыыыыынь! – а у тебя получается дзынь-динь-ди-линь-дзынь-дзынь, дзынь-дзынь. Боже мой, ну у тебя и патлы! Длиннее, чем у моей сестры.
– У тебя залысины, – сказал Джаспер. – И ты растолстел.
– Ты, как всегда, образец такта. И к сожалению, я действительно прибавил в весе. На мою беду, оксбриджские профессора едят как короли.
В коридор врываются голоса и звуки колтрейновской «My Favourite Things»[14]. Формаджо ставит дверной замок на предохранитель и выходит наружу:
– Прежде чем войти, скажи мне, как ты?
– В ноябре переболел простудой, а на локте у меня псориаз.
– Я про Тук-Тука.
Джаспер замялся. Он еще не рассказывал об этом никому из группы.
– По-моему, он пытается вернуться.
Формаджо уставился на него:
– С чего ты взял?
– Я его слышу. Или мне кажется, что слышу.
– Стук? Как раньше?
– Очень тихий, поэтому я не уверен. Но… мне кажется.
– Ты обращался к доктору Галаваци?
Джаспер помотал головой:
– Он вышел на пенсию.
Из квартиры Формаджо послышался смех.
– А лекарство у тебя осталось? На всякий случай?
– Нет. – Взгляд Джаспера скользнул по изогнутому коридору полукруглого здания, в котором находится лондонская квартира Формаджева дяди. В коридоре слишком много больших зеркал. – Мне нужно найти психиатра, но я боюсь, что консультация может закончиться плачевно. Если я попаду в лечебницу, то вызволять меня здесь некому.
– Но ведь доктор Галаваци тебе поможет…
Джаспера это не убедило.
– В общем, я подумаю.
– Обязательно подумай. – Лоб приятеля разгладился. – Ну, пойдем. Все жаждут познакомиться с настоящим гитаристом-профессионалом.
– Я пока еще не совсем профессионал.
– Не говори глупостей. Я тебя всем нахваливаю. Кстати, у меня в гостях немецкий фотограф. Женского пола. Очень симпатичная. Все утверждают, что она вундеркинд. Я долго пытался понять, кого она напоминает, а потом меня осенило: тебя. Тебя, де Зут. Она – это ты, только в женском обличье. И вдобавок без пары…
Джаспер не понимал, зачем Формаджо ему все это рассказывает.
Званый ужин у Хайнца Формаджо, будучи мероприятием интеллектуальным и интеллигентным, проходил без наркотических препаратов, в отличие от музыкантских тусовок, на которых побывал Джаспер с ноября прошлого года, когда приехал в Лондон. К полуночи обслуга разошлась, и ночевать остались пятеро гостей. Джаспер собирался пешком вернуться к себе на Четвинд-Мьюз, но мороз, бренди, «Kind of Blue»[15] Майлза Дэвиса, сила тяжести и овчинный коврик заставили его передумать. Он дремал под хмельные голоса, обсуждавшие будущее.
– Капитализму осталось существовать лет двадцать, – предсказывал сейсмолог. – К концу века у нас будет мировое коммунистическое правительство.
Ливерпульский философ громыхнул каркающим смехом:
– Фигня! С тех пор как стало известно о ГУЛАГах, советская империя морально обанкротилась. Социализм подергивается в предсмертных судорогах.
– Верно! – согласился кениец. – Розово-серое человечество никогда не захочет разделить с нами власть. Все вы думаете: «А что, если они сделают с нами то же самое, что мы сделали с ними?»
– Атомная бомба снижает вероятность любого будущего, – заявил климатолог. – Будущее – радиационная пустыня. Если оружие изобретают, то его обязательно применят.
– С водородной бомбой иначе, – сказала Мекка, фотограф. Джасперу нравился ее голос – как щеточки по медным тарелкам. – Если ее применить и если у врага она тоже есть, то погибнут и ваши дети.
– Весело тут у вас, – вздохнул экономист. – А как же освоение Марса? Видеотелефоны? Реактивные ранцы? Серебристые наряды, роботы, говорящие «так точно» вместо «да»?
Кениец фыркнул:
– Спорим, когда разумные роботы увидят, что гомо сапиенс плодятся как кролики и убивают планету, то вполне резонно решат стереть нас с лица Земли нашим же оружием.
– А что на это скажет музыкант? – спросил климатолог. – Куда идет будущее?
– Это непознаваемо. – Джаспер с трудом поднялся и сел. – Кто полвека назад предвидел Хиросиму, Дрезден, блиц, Сталинград, Освенцим? Берлинскую стену? Телевидение? Независимость колоний? Китай и США, ведущих опосредованную войну во Вьетнаме? Элвиса Пресли? «Стоунзов»? Штокхаузена? Джодрелл-Бэнк? Пластмассы? Лекарства от полиомиелита, кори и сифилиса? Космическую гонку? Настоящее – занавес. По большей части мы не способны за него заглянуть. А те, кто способны – по случайности или обладая предвидением, – самим фактом видения изменяют то, что находится за занавесом. Поэтому будущее непознаваемо. Изначально. Принципиально. Мне нравятся наречия.
«Flamenco Sketches»[16] закончилась. Звукосниматель со щелчком поднялся с пластинки. Тишина плескала и поглощала.
– Вот ведь незадача, Джаспер, – сказал философ. – Мы просили предсказания, а в ответ получили великолепное развернутое «Понятия не имею».
Джаспер, сознавая, что ему не хватит умственного потенциала, чтобы опровергнуть утверждения философов, потянулся к гитаре Формаджо:
– Можно?
– Вам, маэстро, можно и не спрашивать, – ответил Формаджо.
Джаспер заиграл «Астурию» Альбениса. Гитара у Формаджо была так себе, но мелодия, полная переливов лунного света, вспышек солнечного жара и бурления крови в жилах, очаровала гостей. Когда Джаспер закончил, никто не шевельнулся.
– Через пятьдесят лет, или через пятьсот, или через пять тысячелетий, – сказал Джаспер, – музыка будет влиять на людей так же, как и сегодня. Вот мое предсказание. А сейчас уже поздно.
Джаспер проснулся на диване Формаджева дяди, пошел на кухню, налил себе кружку молока, закурил сигарету, уселся у залитого дождем окна и смотрел на голые темные кроны деревьев, обрамляющих выгнутую полумесяцем улицу. На газонах пробились крокусы. Молочник в штормовке, переходя от двери к двери, заменял пустые бутылки полными и накрывал крышечки из фольги банками из-под варенья, чтобы не проклевали птицы.
– Ты рано встал, – сказала Мекка.
Худенькая бледная девушка в черном бархатном пиджаке явно собралась уходить.
Джаспер не знал, что сказать.
– Доброе утро.
– Ты великолепно играешь на гитаре.
– Я стараюсь.
– А где ты этому научился?
– В череде комнат, лет за шесть или семь.
Он не понял, что за выражение появилось на лице Мекки.
– Это странный ответ? Извини.
– Ничего страшного. Хайнц сказал, что ты очень wörtlich… буквальный?
– Буквалистичный. Я стараюсь таким не быть, но стараться не быть очень трудно. У тебя очень успокаивающий голос. Как стальные щеточки по медным тарелкам.
Выражение лица Мекки стало таким же, как минуту назад.
– Это тоже странно прозвучало?
– Стальные щеточки по медным тарелкам. Это красиво.
«Спроси ее», – думает Джаспер.
– Ты знаешь Pink Floyd?
– Да, в фотоателье у Майка говорили об этой группе.
– Завтра вечером они играют в «UFO». Я знаком с Джо Бойдом, владельцем клуба. Если хочешь, можем туда сходить, он нас пропустит.
Мекка приподнимает брови. Удивление.
– Это официальное свидание?
– Официальное, не официальное, свидание, не свидание. Как тебе угодно.
– В незнакомом городе одинокой девушке приходится быть осмотрительной.
– Верно. В таком случае давай ты проведешь со мной собеседование. За ужином. А если сочтешь меня чересчур странным, то сможешь сбежать, как только я отлучусь в туалет. Это не заденет мои чувства. Я не уверен, что мои чувства можно задеть.
Помедлив, Мекка спрашивает:
– У тебя есть телефон?
Спустя два дня, три ночи и воскресное утро в ресторане «Хо Квок» – душной парилке – громко и быстро звучит китайская речь. Белый фарфоровый кот машет лапой, заманивает удачу с Лайл-стрит. Джасперу и Мекке удается занять столик у окна.
– Чайнатаун – как Сохо, – говорит Джаспер. – Он создан чужаками, и к нему неприменимы обычные правила.
– Анклав. По-английски называется так же, да?
Джаспер кивает. Официантка приносит жасминовый чай и, не сказав ни слова, принимает заказ – лапша с вонтонами. За окном у прохожих подняты воротники, шапки натянуты на уши. Через дорогу, между лавкой китайского травника и химчисткой, какой-то парень достает обшарпанную гитару, швыряет в раскрытый картонный футляр у ног мелочь из собственного кармана и хрипло заводит «(I Can’t Get No) Satisfaction»[17]. К концу первого куплета появляются три китайские бабуси с метлами наперевес и орут: «Пшел вон!» Незадачливый певец протестует: «У нас свободная страна!» – но бабуси машут метелками, хлопают его по щиколоткам. Прохожие останавливаются, наблюдают за представлением, а худенькая девчушка сгребает монетки из футляра и бросается наутек. Парень бежит за ней, спотыкается и падает в канаву. Гитарный гриф переламывается. Бедолага ошалело смотрит на разбитый инструмент, оглядывается, ищет, кому бы пожаловаться, кого бы обвинить, на кого бы наорать. Вокруг никого. Порывы мартовского ветра гонят по тротуару пустую жестянку. Парень бредет к картонному футляру, укладывает в него гитару и ковыляет дальше, на Лестер-Сквер.
– И никакого удовольствия, – вздыхает Мекка.
– Надо тщательнее выбирать место. Нельзя просто встать где придется, наудачу.
– А ты тоже играешь на улицах?
– В Амстердаме играл, на площади Дам. В Лондоне все гораздо труднее. Ну, ты сама видела. Но иногда прохожие начинают подпевать.
Официантка приносит заказ и четыре пластмассовые палочки. Джаспер наклоняется над горячим озерцом лапши, свинины и пекинской капусты, где плавает половинка крутого яйца в пятнышках соевого соуса. Пар увлажняет веки. Щелк, вжик-вжик. Джаспер косится в круглый глаз «ролекса» на запястье Мекки. Щелк, вжик-вжик. Она закрывает объектив крышечкой.
– Ты всегда на работе?
– Я хочу сувенир. На память о том времени, когда ваша группа еще не прославилась.
– Я тоже хочу сувенир. На память о тебе. Дашь мне фотоаппарат?
– А ты дашь первому встречному свою гитару?
– Нет. Но тебе дам.
Мекка вручает ему «Пентакс». Джаспер глядит в видоискатель на посетителей, которые хлюпают лапшой, кивают, шутят, сидят молча. В кадре – Мехтильда Ромер, необычная женщина. Она смотрит на него, как модель на фотографа.
– Нет, я хочу тебя запомнить не такой, – говорит Джаспер.
– А какой?
– Представь, что ты уже провела в Америке два года. Представь, что наконец вернулась. Представь, что стоишь у двери родного дома. Родители тебя не ждут. Ты устроила им сюрприз. Представь, как в коридоре звучат их шаги… – (Лицо Мекки меняется, но этого еще недостаточно.) – Представь, как щелкает дверной замок. Представь выражение лиц родителей, когда они увидят, что это ты.
Щелк, вжик-вжик.
На третьем этаже Джаспер открывает дверь с табличкой «Клуб „Зед“», и приглушенное звучание буги-вуги Эльф, римшотов Гриффа и Диновой бас-гитары становится громким. Они играют Динову «Оставьте упованья», монструозную двенадцатитактовую блюзовую конструкцию. Мекка медлит на пороге.
– Они не рассердятся?
– С чего им сердиться?
– Я же посторонняя.
Джаспер берет ее за руку и ведет сквозь бархатные портьеры в просторный зал, обставленный в «срединноевропейском» стиле, как салон: кресла с высокими спинками у столиков под тусклыми люстрами. Со стен глядят портреты и фотографии польских героев войны. Над барной стойкой с дымчатыми зеркалами, уставленной сотнями сортов водки, красуется в раме польский флаг, весь пробитый пулями во время Варшавского восстания. Джаспер постепенно осознает, что за многими безликими дверями в Сохо находятся порталы в другие времена и пространства. В клубе «Зед» собираются и поляки, и любители джаза. Здесь стоит прекрасный рояль «Стейнвей» и ударная установка «Людвиг» из восьми компонентов – на них играют Эльф и Грифф, а Дин исторгает завывания из губной гармошки. Зрителей двое: Левон и Павел, владелец «Зед». Оба курят сигары-черуты. Дин замечает Мекку, и «Оставьте упованья» сходит с рельсов. Эльф с Гриффом смотрят на него и тоже прекращают играть.
– Простите, что опоздал, – говорит Джаспер. – Меня задержали.
– А то, – хмыкает Грифф, глядя на Мекку.
– Это она? – спрашивает Джаспера Дин.
– Да, это она, – отвечает Мекка. – А ты Дин, как я понимаю.
Грифф крутит в пальцах барабанную палочку и выстукивает: та-дам!
«Надо ее всем представить», – вспоминает Джаспер.
– Ребята, это Мекка. А это Левон, наш менеджер, и Павел – он разрешает нам здесь репетировать.
Все, кроме Павла, говорят «Привет». Павел как-то по-ленински наклоняет голову набок:
– Немка, если я не ошибаюсь.
– Не ошибаешься. Попробую догадаться, откуда ты родом… – Она окидывает взглядом зал. – Наверное, из Польши.
– Из Кракова. Может, ты слышала о таком городе.
– Мне известна география Польши.
Павел хмыкает:
– А историю вы предпочитаете забыть. Славные дни Lebensraum[18] и все такое.
– Большинство немцев не называют это славными днями.
– Правда? А те, кто лишили меня родного дома, называли. Как и те, кто убил моего отца.
Враждебное отношение Павла к Мекке замечает даже Джаспер.
– Мой отец был учителем истории в Праге, – начинает Мекка, осторожно подбирая слова. – А потом его забрали служить в вермахт и отправили в Нормандию. Если бы он отказался, его бы расстреляли. Перед тем как в Прагу пришли русские, мама увезла меня в Нюрнберг. Так что историю я тоже знаю. Lebensraum. Геноцид. Военные преступления. Я знаю. Но я родилась в сорок четвертом году. Я не отдавала приказов, не бомбила города. Я сожалею о гибели твоего отца. О страданиях Польши. О страданиях всей Европы. Но если ты винишь меня за то, кем я родилась – немкой, – то чем ты отличаешься от нацистов, которые утверждают, мол, все зло от евреев, или от гомосексуалистов, или от цыган? Это нацистские рассуждения. Продолжай так рассуждать, если тебе хочется, а я не собираюсь. Подобные рассуждения привели к войне. Я говорю так: «Ну и хрен с ней, с войной». Хрен с ними, со стариками, которые начинают войны и отправляют молодежь на смерть. Хрен с ней, со злобой, которую порождает война. Хрен с теми, кто разжигает эту злобу даже теперь, двадцать лет спустя. Всё, хренов больше нет.
Грифф выстукивает на барабанах раскатистую дробь и звонко ударяет по тарелкам.
– Если тебе так угодно, я уйду, – говорит Мекка Павлу.
«Не уходи», – думает Джаспер.
Павел глядит на Мекку. Все ждут.
– Мы, поляки, любим хороших ораторов. Ты произнесла отличную речь. Выпьешь со мной? За счет заведения.
Мекка смотрит на него:
– Спасибо. Я с удовольствием выпью самой лучшей польской водки.
– Да нет же! – выпаливает Эльф. – Соль, ля, ре – ми минор.
– Так я ж сыграл ми минор, – оправдывается Дин.
– Ничего подобного, – говорит Эльф. – Это было ми. Вот. – Она быстро записывает что-то в блокноте, выдирает страницу и тычет ее Дину. – Иди в ми минор вот здесь, в конце второй и четвертой строки, на словах «плот проплывает, поток забывает…», а потом на «тот, кто прощен, и тот, кто прощает…». Грифф, а ты, пожалуйста, как-нибудь повоздушнее… как пушинка.
– Повоздушнее? – недоумевает Грифф. – Как Пол Моушен, что ли?
На этот раз недоумевает Эльф:
– Кто-кто?
– Ударник Билла Эванса. Играет с оттяжкой, воздушно, будто шепчет.
– В общем, попробуй. Джаспер, а можно урезать соло на два такта?
– О’кей. – Джаспер замечает, что Левон что-то шепчет Мекке на ухо.
– Ну, вперед, с начала, – говорит Эльф. – И раз, и два, и…
– Стоп. Прошу прощения, ребята. – Левон встает. – Коротенькое производственное совещание.
Грифф сопровождает его слова раскатистым звоном тарелок. Эльф смотрит на Левона. Дин оставляет гитару болтаться на шее. Джаспер не понимает, при чем тут Мекка.
– Нам понадобятся фотографии. Для афиш, для прессы, может быть, даже для обложки альбома. По счастливой случайности к нам заглянул фотограф. Вопрос: согласны ли вы заказать Мекке снимки? Она готова отщелкать пару пленок прямо сейчас.
– Она же завтра уезжает в Штаты, – говорит Эльф.
– Верно, – отвечает Мекка. – Я сфотографирую вас, вечером проявлю-напечатаю и завезу лучшие снимки на Денмарк-стрит завтра утром, по дороге в аэропорт.
– А как же костюмы, прически и все такое? – спрашивает Грифф.
– Мекка сфотографирует вас как есть. In situ[19]. На репетиции. Ничего пошлого или слащавого. Как для обложек «Блю ноут».
– Про «Блю ноут» ты специально сказал, чтобы я согласился, – ворчит Грифф.
– Ты меня насквозь видишь, – улыбается Левон.
– Я – за, – говорит Эльф.
– Мекка, ты только не обижайся, – начинает Дин, – но, может, нам лучше заказать снимки у кого-нибудь из знаменитых фотографов? Типа Теренса Донована, Дэвида Бейли или Майка Энглси?
– На знаменитых фотографов придется знаменито потратиться.
– Ну а почему бы и не потратиться? Знаешь же, за что платишь.
– Больше двухсот фунтов за фотосессию?
– Да? Ну, я всегда говорил, что знаменитости просто дерут деньги почем зря, – заявляет Дин. – Короче, я – за Мекку. Грифф, ты как?
– А ты можешь меня так сфотографировать, чтобы я был похож на Макса Роуча?
– Если наложить грима побольше и отпечатать обратным негативом, то миссис Роуч не отличит тебя от родного сына, – отвечает Мекка.
– Фигассе, да ты острее бритвы и суше долбаной Сахары, – фыркает Грифф. – Принято единогласно.
По воскресеньям паб «Герцог Аргайл» открывается в шесть вечера. Сразу после шести все и Мекка усаживаются за столик в нише у окна. На матовом стекле протравлен щит, через который Джаспер видит прохожих и аптеку через дорогу. Паб обставлен с викторианской роскошью: медные ручки, стулья с обитыми тканью спинками и таблички «НЕ ПЛЕВАТЬ». Из белого бумажного пакета Грифф высыпает в чистую пепельницу горку подсоленных шкварок – их делают в мясной лавке поблизости, специально для паба. Все поднимают разномастные стаканы.
– За фотографии Мекки на обложке нашего первого альбома, – провозглашает Дин и махом выпивает половину пинты биттера «Лондон прайд». – А что такого? Я оптимист.
– За «Плот и поток», – говорит Грифф. – Из нее выйдет неплохой сингл.
– Или отличная сторона Б, – добавляет Дин, утирая пену с губы.
Эльф чокается с Меккой полупинтой шенди:
– За твою поездку в Штаты. Я тебе ужасно завидую. Пока ты там будешь мотаться по дорогам, как герои Керуака, вспоминай иногда обо мне. Представь, как я здесь с этими обормотами…
Дину с Гриффом смешно, поэтому Джаспер тоже улыбается.
– Вы тоже приедете в Америку, и очень скоро, – заявляет Мекка. – В вас чувствуется что-то такое особенное… притягательное. Fühlbar… Как это сказать? Когда можно потрогать?
– Осязаемое? – подсказывает Эльф.
В паб входит компания пижонов: патлы длиннее, чем у Джаспера, наряды из бутиков Карнаби-стрит. На них никто не обращает внимания. В Сохо фриками выглядят обычные люди.
– Ребята, я тут подумала… – начинает Эльф.
– Ой, – говорит Дин, – сейчас будет что-то серьезное.
– Я честно пыталась привыкнуть к названию «Есть выход». Но у меня просто не получается. И половина моих знакомых сразу же начинают говорить «На выход». В общем, как-то не клеится. Может быть, придумаем что-то другое?
– Вот прямо сейчас? – уточняет Дин.
– Потом будет поздно, – говорит Эльф.
Джаспер закуривает «Кэмел».
– Я стрельну курева? – просит Грифф.
– О, «Стрелки курева», – заявляет Дин.
«Он то ли недопонял, то ли притворяется ради хохмы», – размышляет Джаспер.
– Не, не пойдет, – продолжает Дин. – Американцы не въедут. Давайте еще что-нибудь.
– Тебе пора писать книгу про то, как сочинять анекдоты, – говорит ему Грифф. – Начни с того, как выбирать нужный момент.
– А я вот потихоньку привыкаю к названию «Есть выход», – замечает Дин.
– Зачем нам название, к которому нужно привыкать? – спрашивает Эльф. – Почему бы не придумать что-нибудь классное, такое, чтобы запоминалось сразу и надолго. Мекка, вот скажи, тебе нравится «Есть выход»?
– Она с тобой согласится, – говорит Дин. – Вы, девчонки, всегда заодно.
– Я бы с ней согласилась, даже если бы была парнем, – возражает Мекка. – «Есть выход» – пресное название. Никакое. Даже не плохое.
– Ну, ты все-таки немка… – говорит Дин и, спохватившись, добавляет: – Не в обиду сказано.
– Я не в обиде на то, что я немка.
– Но слух у тебя немецкий. А мы – британская группа.
– А вы не собираетесь продавать альбомы в Западной Германии? Нас шестьдесят миллионов. Огромный рынок для британской музыки.
Дин выдыхает дым к потолку:
– Тоже верно.
– Кстати, очевидно же, что все хорошие названия групп – короткие и простые, – говорит Грифф. – The Beatles. The Stones. The Who. The Hollies…
– А зачем нам делать как все? Мы что, бараны в стаде? – спрашивает Дин.
– О, «Стадо», – задумчиво произносит Грифф. – «Бе-бе-бе, барашек наш». «Черная овца».
Дин делает глоток пива.
– Когда мы придумывали название «Могильщикам», одним из вариантов был «Бараны на бойне».
– Замечательно, – вздыхает Эльф. – Будем выходить на сцену в окровавленных фартуках и со свиной головой на палке, как в «Повелителе мух».
Джаспер подозревает, что это сарказм, но сомневается в верности догадки, когда Дин спрашивает:
– А что они поют?
– Кто? – недоумевает Эльф.
– «Повелитель мух».
– Ты это серьезно?
– А че я сказал? – удивляется Дин.
– «Повелитель мух» – роман Уильяма Голдинга.
– Правда? Приношу искренние извинения… – Дин пародирует аристократический выговор. – Не всем посчастливилось изучать английскую литературу в университете.
Джаспер надеется, что это дружеские подколки, а не словесная дуэль.
Негромко рыгнув, Грифф говорит:
– А вот у новых американских групп как раз такие названия, которые застревают в голове. Big Brother and the Holding Company. Quicksilver Messenger Service. Country Joe and the Fish.
Эльф крутит картонный бирдекель.
– Нет, длинного или слишком вычурного нам не нужно, иначе сразу будет ясно, что мы выпендриваемся.
Дин допивает пиво.
– А каким должно быть правильное название, Эльф? «Хоровод феечек»? «Фольклорное сладкозвучье»? Просвети нас, пожалуйста.
Грифф хрустит шкваркой.
– «Просветители».
– Если б у меня было хорошее название, я б его давно предложила, – вздыхает Эльф. – Неужели нельзя придумать что-нибудь получше того, что сдуру ляпнул управляющий в «Ту-айз»? Нужно название, из которого будет ясно, что мы за группа.
– Ну и что мы? В смысле, кто? Как группа? – спрашивает Дин.
– Мы пока еще не совсем определились, – говорит Эльф, – но если судить по нашим песням, то «Оставьте упованья» и «Плот и поток» парадоксальны. Как оксюморон.
Дин подозрительно сужает глаза:
– Как что?
– Оксюморон – это фигура речи, сочетание противоречащих друг другу понятий. Оглушительная тишина. Фолк-ритм-энд-блюз. Циничные мечтатели.
– И все это на основании нашего обширного списка из двух песен, – подводит итог Дин. – Дело за тобой, Джаспер. Счет пока такой: Мосс – один, Холлоуэй – один, де Зут – ноль. Ты как?
– По команде песни не выкакиваются, – говорит Джаспер.
– Не самая подходящая игра слов, – замечает Мекка.
– Ха-ха-ха! – заливается Грифф. – Дамы и господа, прошу любить и жаловать: «Говнопевцы»!
– Как по-твоему, – спрашивает Эльф Джаспера, – нам нужно придумать новое название?
Поразмыслив, Джаспер отвечает:
– Да.
– У тебя в вышитом рукаве ничего не припрятано? – спрашивает Дин.
Джаспер отвлекается, потому что в прозрачном завитке узора на матовом оконном стекле возникает глаз. В дюйме от окна. Зеленый. Смотрит на Джаспера, моргает. Потом владелец глаза идет дальше.
– Ах, прости, – говорит Дин. – Мы тебе наскучили?
«Здесь я уже был…»
– Погодите…
«Метель грез, дождь лепестков, кружевные бабочки… На стене табличка… с названием улицы…»
Джаспер закрывает глаза. Из шелеста воспоминаний проступают слова.
– «Утопия-авеню».
Дин корчит мину:
– «Утопия-авеню»?
– Утопия – это место, которого нет. Нигде. А авеню – место. Как музыка. Когда мы играем слаженно, то я здесь – и где-то еще. Это парадокс. Утопия недостижима. Авеню есть везде.
Дин, Грифф и Эльф переглядываются.
Мекка чокается стопкой водки с бокалом Джасперова «Гиннесса».
Никто не говорит «да». Никто не говорит «нет».
– Меня зовет фотолаборатория, – объявляет Мекка. – Дело на всю ночь. – Она поворачивается к Джасперу. – Не хочешь мне помочь?
Дин с Гриффом хмыкают и переглядываются.
«Это что-то означает, но я не знаю, что именно».
Эльф закатывает глаза:
– Ой, вы оба такие чуткие и деликатные. Прям как кирпич в морду.
Джаспер и Мекка стоят на платформе «Пиккадилли-Серкус». Из пасти туннеля вырывается ветер, приносит стоны эха, превращает его в полуистаявшие голоса. «Не обращай внимания». Джаспер прикуривает «Мальборо» себе и Мекке. Дин говорит, что линия «Пиккадилли» – самая глубокая в центральном Лондоне, поэтому в Блиц станции служили бомбоубежищами. Джаспер представляет, как здесь собирались толпы, как люди вслушивались в грохот взрывов, как с потолка сыпалась пыль. Чуть дальше на платформе какой-то подвыпивший интеллигент гундосит: «Я генерал-майорское сплошное воплощение…» – но постоянно сбивается, забывая слова, и раз за разом начинает снова.
– А можно задать тебе нескромный вопрос? – говорит Мекка.
– Конечно.
– Не думаешь, что Дин тебя использует?
– Да, он не платит мне за комнату. Но я ведь тоже за жилье не плачу. Я присматриваю за отцовской квартирой. А Дин совсем без денег. В квартире Эльф всего одна спальня. Грифф ютится в садовом сарайчике, у дяди. Так что Дину деваться некуда – либо он живет у меня, в свободной комнате, либо уезжает из Лондона, и тогда нам придется искать нового басиста. А я не хочу нового басиста. Дин хороший. И песни у него хорошие.
Рельсы постанывают. Приближается поезд.
– На свое пособие по безработице Дин покупает нам продукты. Готовит. Убирает. Если он использует меня, а я использую его – это плохо?
– Наверное, нет.
По рельсам летит газетный лист.
– С ним я не слишком зарываюсь в свои мысли.
Мекка затягивается сигаретой.
– Он совсем не такой, как ты.
– И Эльф не такая. У нее есть специальный блокнот, куда она записывает все свои расходы. И Грифф не такой. Он – король хаоса. Мы все разные. Если бы Левон нас не собрал, нас бы не было.
– Это сила или слабость?
– Вот когда я это пойму, то обязательно тебе скажу.
В тусклое пространство станции врывается поезд.
Лаборатория в фотоателье Майка Энглси красновато-черная, кроме сияющего квадратика под увеличителем. Воздух жесткий от химикатов. Все тихо, как в запертой церкви.
– Сто секунд, – шепчет Мекка.
Джаспер выставляет время на таймере и щелкает выключателем.
Мекка фотопинцетом опускает снимок в кювету с проявителем, покачивает ее, чтобы жидкость безостановочно омывала бумагу.
– Сколько ни проявляй, каждый раз это волшебство.
Под их взглядами на бумаге возникает призрачная Эльф за Павловым «Стейнвеем», вдохновенно сосредоточенная. У Мекки сейчас такое же выражение лица.
– Как будто озеро возвращает утопленников, – говорит Джаспер.
– Прошлое возвращает миг.
Дзинькает таймер. Мекка поднимает фотографию из лотка, дает стечь проявителю, переносит снимок в фиксажную кювету.
– Тридцать секунд.
Джаспер снова выставляет время на таймере. Мекка просит наклонить кювету с проявителем, а сама записывает время и тип фильтра. По звонку таймера включает лампочку над головой. От желтого света у Джаспера гудят глаза. Мекка смывает закрепитель со снимка:
– Фотографиям, как и всему живому, нужна вода.
Она прищепкой прикрепляет снимок Эльф сохнуть над раковиной рядом с Эльф поющей и Эльф, настраивающей гитару. На той же веревочке прищеплены снимки Гриффа: Грифф, неистовствующий за ударной установкой, Грифф с сигаретой во рту и Грифф, крутящий барабанную палочку. Дальше висит фотография пальцев Дина на гитарном грифе, а лицо Дина не в фокусе, размыто; на следующем снимке Дин играет на губной гармошке, а еще на одном – курит.
«Может быть, прошлое – всего лишь обманка ума?
А здравомыслие – матрица таких обманок?»
Мекка оборачивается к Джасперу:
– Твоя очередь.
Их пульсы замедляются, от обезумевших до акватических. Ее копчик прижат к его шраму от удаленного аппендикса. Он вдыхает ее. Она проникает в его легкие. Его сердце гонит ее по всему телу. Он накрывает их слившиеся тела ее одеялом. В пушистой ложбинке на ее шее собирается пот. Он слизывает его. Ей щекотно, она сонно бормочет:
– Du bist ein Hund[20].
– А ты лиса, – отвечает он.
В углу горбится напольная чертежная лампа.
Чуть позже Мекка высвобождается, соскальзывает с кровати, надевает ночную рубашку, снова забирается под одеяло и засыпает.
На часах 1:11. На проигрывателе «Дансетт» пластинка. Классическая музыка. Джаспер поворачивает ручку «ВКЛ.». Заблудившийся гобой, услышав в терновнике скрипку, ищет тропку к ней, превращается в то, что ищет. «Прекрасное и опасное». Сон уволакивает Джаспера в бездонные гипнагогические глубины. «Она не исчезнет, будет она лишь в дивной форме воплощена…» Далеко-далеко в лиловых водах моря темнеет корпус парохода. «Смотри!» На дно опускается гроб, к поверхности тянутся струи пузырьков. В гробу – мать Джаспера, Милли Уоллес. Из гроба слышится «тук… тук… тук…». Стук тихий, приглушенный, затопленный, да, настойчивый, да, настоящий? Да.
Джаспер просыпается. На часах 4:59. Он вслушивается в стук, пока тот не стихает. Завиток уха Мекки похож на вопросительный знак.
На кухне, под узкой полоской света, Джаспер рассматривает конверт пластинки «Секстет „Облачный атлас“». На обложке слова: «Композитор Роберт Фробишер» и «Накладывающиеся соло для фортепьяно, кларнета, виолончели, флейты, гобоя и скрипки». На обороте и того меньше: «Записано в Лейпциге, Р. Хайль, Дж. Климек и Т. Тыквер, 1952» – и название лейбла: «Augustusplatz Recordings». Не указаны ни исполнители, ни инженеры звукозаписи, ни аранжировщики, ни название студии. Джасперу хочется послушать пластинку еще раз, но проигрыватель в спальне, где спит Мекка. Джаспер находит в ящике стола блокнот и шариковую ручку, чертит нотный стан и по памяти напевает мелодию «Облачного атласа». Она простая, размер четыре четверти, начинается с фа. Нет, с ми. Нет. С фа. Чем дальше, тем больше мелодия отличается от композиции Роберта Фробишера. «…но мне нравится…» К шестнадцатому такту Джаспер понимает, что впервые после приезда в Лондон сочиняет песню. Вспомнив, что в декорациях для фотосессии была гитара, он спускается в студию. На тюке сена лежит гитара – дешевая, без названия мастерской. Ладно, сгодится.
Он сочиняет припев, начинает придумывать текст. Слова Мекки прошлой ночью. Она объясняла, что такое экспозиция. «Без тьмы нет зрения». Что рифмуется со зрением? Трение? Прения? Видения? Столкновение? Освобождение. Неточные рифмы. Но как провести ненарочитую связь между рабством и фотографией? Творчество – лес, в котором переплетаются еле заметные тропы, скрываются ловушки и тупики, неразрешенные аккорды, несовместимые слова, неподатливые рифмы. В нем можно блуждать долгие часы. И даже целые дни.
Джаспер погружается в себя.
– На тебе скатерть. – Мекка стоит в дверях, зевает. – Ты похож на бабушку в «Rоtkäppchen»[21].
На часах 8:07.
– Что? Кто?
– Волк, который съел бабушку. – Волосы Мекки – спутанное темное золото, одеяло, будто пончо, накинуто на плечи. – Девочка, которая заблудилась в лесу.
За кухонным окном еще темно, но Блэклендс-Террас уже просыпается. Мимо проезжает фургон с простуженным карбюратором.
На столе чайник чаю (Джаспер не помнит, как его заваривал), огрызок яблока (Джаспер не помнит, как его ел) и страница, исписанная нотами и стихами (Джаспер знает, что он это написал).
– А на тебе одеяло.
Мекка подходит и смотрит на исчерканный листок:
– Песня?
– Песня.
– Хорошая?
Джаспер глядит на страницу:
– Может быть.
Мекка замечает конверт «Облачного атласа»:
– Тебе понравилось?
– Очень. Я никогда не слышал о Роберте Фробишере.
– Он… obskur. Малоизвестный. Есть такое слово?
Джаспер кивает. Мекка садится на стул, подтягивает колени к груди.
– Роберта Фробишера нет в энциклопедии, но один коллекционер с Сесил-Корт рассказал мне, что был такой англичанин, в тридцатые годы учился у Вивиана Эйрса. Умер молодым. Самоубийство. В Эдинбурге или в Брюгге, не помню. На этой пластинке – его единственное сочинение. На складе случился пожар, поэтому пластинка очень редкая. Коллекционер сразу предложил мне за нее десять фунтов. По-моему, она стоит больше.
– А что ты за нее заплатила?
– Ничего. – Мекка закуривает. – На Рождество Майк, мой босс, устроил здесь вечеринку. А наутро эта пластинка осталась. Не могу же я ее продать, это нечестно. Так что забирай, если тебе нравится.
«Скажи спасибо».
– Спасибо.
– А теперь, – говорит Мекка, – я в последний раз приму ванну в Англии.
– Тебя намылить?
Совершенно непостижимое выражение лица.
– Сначала закончи песню.
– Она закончена.
– Вставь туда меня, – просит Мекка. – Когда песню начнут передавать по радио, я буду всем хвастаться: «А вот это про меня».
– Ты уже там.
– А можно послушать?
– Прямо сейчас?
– Да.
– О’кей.
Джаспер играет песню с начала и до конца.
Мекка серьезно кивает:
– Да. Теперь тебе можно меня намылить.
Первую лестничную площадку конторы на Денмарк-стрит украшает табличка, черным по золоту: «АГЕНТСТВО ДЮКА – СТОКЕРА». Джаспер открывает дверь, говорит:
– Мы просто заглянем.
В приемной стоит письменный стол секретарши и пальма в горшке, по стенам развешаны фотографии в рамках: Хауи Стокер и Фредди Дюк с Гарри Белафонте, Бингом Кросби, Верой Линн и другими знаменитостями. В шумном кабинете за перегородкой на разные лады трезвонят два телефона, стучит пишущая машинка, а Фредди Дюк, которого не видно, но хорошо слышно, рявкает в телефонную трубку: «Двадцать седьмого в Шеффилде, а двадцать восьмого – в Лидсе, а не наоборот. Нет, двадцать седьмого не в Лидсе, а в Шеффилде. В Лидсе – двадцать восьмого. Повтори!»
Они поднимаются на второй этаж, где на двери красуется трафаретный логотип – силуэт кита на фоне луны: «АГЕНТСТВО „ЛУННЫЙ КИТ“». Помещение гораздо меньше, в нем гораздо тише, и сотрудников не так много, как в агентстве на первом этаже. На полу расстелена ремонтная пленка. На стремянке стоит Бетани Дрю, взятая Левоном на работу, чтобы исполнять все то, чего не делает он сам, и водит кистью по карнизу. Бетани лет тридцать, ее часто принимают за Одри Хепберн. Она не замужем, невозмутима и неизменно элегантна – даже в заляпанном краской малярском полукомбинезоне.
– Джаспер и, как я понимаю, мисс Ромер? Добро пожаловать в агентство «Лунный кит». Меня зовут Бетани. Я по совместительству завхоз, девочка на побегушках и маляр-декоратор.
– Джаспер упоминал, что вы очень способная, мисс Дрю.
– Не верьте ему, он всем льстит. Я бы пожала вам руку, но не хочется, чтобы вы улетели в Америку перемазанная краской. Вы от нас сразу в аэропорт?
– Да. Рейс в Чикаго улетает в шесть вечера.
– И что вас ждет в Чикаго?
– Один из моих заказчиков устраивает мне вернисаж. А потом я отправлюсь на поиски приключений и буду фотографировать все, что найду.
Джаспер не понимает, почему Бетани смотрит на него.
– Очень профессионально покрашено, – говорит он.
– А, сойдет. Ну, вперед. – Бетани кивает на раздвижные двери в кабинет Левона. – Вас ждут.
В полураскрытую дверь видно, как Левон расхаживает по кабинету, держа телефон в руках. Телефонный шнур волочится по полу.
– Две минуты, – одними губами предупреждает их Левон.
Джаспер и Мекка садятся на банкетку под окном приемной. Мекка достает «Пентакс», выстраивает кадр. Джаспер закрывает глаза. Не хочется подслушивать разговор Левона, но у ушей нет век.
– Раздел второй, пункт третий, – говорит их менеджер. – Там все черным по белому прописано. Питер Гриффин нанят как сессионный музыкант, а не исполнитель, навечно заключивший контракт с компанией «Боллз энтертейнмент». И никаких отступных им не причитается, потому что не за что.
Джаспер догадывается, что Левон разговаривает с бывшим менеджером Арчи Киннока, фронтмена его бывшей группы.
– Ронни, я не вчера родился. А твоя попытка сделать так называемый ловкий ход позорно провалилась. Ход получился самый что ни на есть дурацкий.
Щелк. Ожил фотоаппарат Мекки. Вжик-вжик.
В телефонной трубке дребезжит злость.
Левон сухим смешком обрывает собеседника:
– Вышвырнешь меня в окно? Ты серьезно, что ли? – Судя по всему, он не напуган угрозой. – Ронни, неужели никто из приятелей никогда с тобой не говорил по душам: мол, Ронни, сукин ты сын, ты превратился в динозавра, тебе пора валить из профессии, пока деньги в банке остались? Или уже поздно? Тебе действительно грозит банкротство? А представляешь, что будет, если внезапно выяснится, что ты занимаешься предпринимательской деятельностью, будучи заведомо несостоятельным?
Левон кладет трубку на рычаг, обрывая поток ругательств.
– Просто цирк! Привет, Джаспер. Мекка, добро пожаловать в мою крошечную империю.
– В крошечную империю с великолепными интерьерами, – заявляет Мекка.
– Высший свет! – говорит Бетани Джасперу, что лишь усиливает его замешательство.
– Это все, с чем ты едешь в Америку? – интересуется Левон, глядя на скромный чемоданчик и рюкзачок Мекки.
– Все мои вещи.
– Я тебе завидую, – вздыхает Левон.
– Это Ронни Боллз звонил? – спрашивает Джаспер.
– Да, – отвечает Левон. – Бывший менеджер Арчи Киннока.
– Арчи называл его «мой цербер».
– Он утверждает, что у Гриффа заключен договор с «Боллз энтертейнмент», но его можно выкупить. Всего за две тысячи фунтов.
– За сколько?
– Ну, Ронни Боллз и сам прекрасно понимает, что все это туфта.
– Вот он, гламурный мир шоу-бизнеса, – говорит Бетани Мекке.
– Очень похоже на гламурный мир фотографии и высокой моды.
– Кстати, о фотографиях, – спохватывается Левон. – Высоко сижу, далеко гляжу и вижу… что-то на букву «П»… портфолио?
Мекка поднимает папку:
– Все готово.
– Что ж, прошу в мою берлогу.
– Обалдеть… – Левон рассматривает снимки, разложенные на бильярдном столе: по четыре портрета каждого – Джаспера, Эльф, Дина и Гриффа, – плюс несколько фотографий всей группы, сделанных в клубе «Зед» и снаружи, в Хэм-Ярде, когда очень удачно выглянуло солнце. – Вот эта… – он указывает на Эльф за фортепьяно, – больше похожа на Эльф, чем сама Эльф.
– Я рада, что вы не зря потратили десять фунтов, – говорит Мекка.
Кажется, Левон улыбается.
– А еще говорят, что немцы не способны на тонкие намеки!
– Говорят те, кто никогда не был в Германии.
Левон вытаскивает металлический ящичек, в котором хранятся наличные, отсчитывает десять фунтовых бумажек и добавляет к ним одиннадцатую.
– Твой первый ужин в Чикаго.
– Я за вас выпью, – обещает Мекка, укладывая банкноты в кошелек на поясе. – Вот контрольные листы и негативы, чтобы можно было напечатать еще.
– Превосходно! – говорит Левон. – Они пригодятся для прессы и для афиш первых концертов. Через месяц.
Джаспер понимает, что это новость.
– По-твоему, мы готовы выступать?
– Через месяц устроим несколько концертов в студенческих клубах. Потренируетесь на подступах к успеху, прежде чем штурмовать вершину славы. Меня беспокоит только недостаток оригинальных композиций.
– Как раз сегодня утром Джаспер сочинил песню, – говорит Мекка.
Левон наклоняет голову, и его брови ползут вверх.
– Я так, баловался… – говорит Джаспер.
– Она называется «Темная комната», – добавляет Мекка. – Настоящий хит.
– Рад это слышать. Очень рад. Так, а теперь – остальные новости. – Левон стряхивает пепел в пепельницу. – Звонила Эльф. Оказывается, группу переименовали. Вчера, в «Герцоге Аргайле».
– Меня спросили, я предложил свой вариант, а потом мы с Меккой ушли, – объясняет Джаспер.
– Эльф сказала, что всем им – Дину, Гриффу и ей самой – нравится «Утопия-авеню». Так что дело сделано.
– «Утопия-авеню» лучше, чем «Есть выход», – говорит Бетани Дрю, входя в кабинет. – Намного лучше. – Она рассматривает фотографии на столе. – Боже мой, какие великолепные снимки!
– Это те, которые мне нравятся, – говорит Мекка.
Левон никак не успокоится:
– «Утопия-авеню»… Мне нравится, но… есть в этом что-то смутно знакомое. Откуда оно?
– Сон подарил, – говорит Джаспер.
На лестнице, ведущей к выходу на Денмарк-стрит, Джаспер с Меккой уступают дорогу человеку в длинном плаще. Плащ развевается, как накидка Супермена. Человек целеустремленно шагает наверх, но вдруг прерывает восхождение и спрашивает:
– Ты – тот самый гитарист?
– Да, я гитарист, – говорит Джаспер. – Насчет того самого – не знаю.
– Недурно сказано. – Человек откидывает со лба длинную челку, открывая худощавое бледное лицо: один глаз – голубой, другой – угольно-черный. – Джаспер де Зут. Отличное имя. Неплохой счет в скрэббле обеспечен. Я тебя видел в «Ту-айз», в январе. Ты отыграл волшебно.
Джаспер пожимает плечами:
– А ты кто?
– Дэвид Боуи, свободный художник. – Он пожимает Джасперу руку и поворачивается к Мекке. – Рад встрече. Прости, а тебя как зовут?
– Мекка Ромер.
– Мекка? Как то, куда ведут все дороги?
– Нет, как то, что англичане не могут произнести «Мехтильда».
– Ты модель? Актриса? Богиня?
– Я фотограф.
– Фотограф? – Боуи теребит золотые пуговицы плаща – они размером с шоколадные медальки. – А что ты фотографируешь?
– Для себя я фотографирую то, что мне хочется, – говорит Мекка. – А для заработка – то, за что платят.
– Ну да, искусство ради искусства, а деньги за ради бога. Судя по акценту, ты не из здешних мест. Deutschland?
Мекка мимикой изображает «Ja».
– Мне недавно приснился Берлин, – говорит Дэвид Боуи. – Берлинская стена была в милю высотой. А под стеной был вечный сумрак, как на картине Магритта «Империя света». И агенты КГБ пытались вколоть мне героин. В пальцы ног. Что бы это значило?
– Не сиди на героине в Берлине, – говорит Джаспер.
– Сны – сор, – говорит Мекка.
– Вполне возможно, что вы оба правы. – Дэвид Боуи закуривает «Кэмел» и кивает наверх. – Вы – друзья мистера Фрэнкленда?
– Левон – наш менеджер, – объясняет Джаспер. – Нашей группы. Я, Дин и Грифф – из «Ту-айз», а на клавишах – Эльф Холлоуэй.
– О, я ее видел в «Кузенах». Интересно будет вас послушать. Как называется группа?
– «Утопия-авеню».
«Классно звучит. Теперь это мы».
Дэвид Боуи кивает:
– Должно выстрелить.
– А ты тоже хочешь работать с Левоном? – спрашивает Джаспер.
– Нет, просто из вежливости решил заглянуть. Я уже заложил душу в другом месте. Через месяц «Дерам» выпускает мой сингл.
Джаспер вспоминает, что нужно сказать:
– Поздравляю.
– Угу. – Дэвид Боуи выпускает из ноздрей струйку дыма. – «Смеющийся гном». Водевильная психоделия. Или психоделический водевиль. Называй, как хочешь.
– Мне нужно проводить Мекку на автовокзал Виктория. Удачи вам с гномом.
– Как сказал Спаситель, «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели обратить музыку в деньги». Ну, до встречи. – Он салютует Мекке, прищелкивает каблуками. – ‘Bis demnächst[22], Мехтильда Ромер! – Взвихрив плащ, Дэвид Боуи продолжает свое восхождение.
Автовокзал Виктория полнится рокотом моторов, выхлопными газами и нервным напряжением. На балках перекрытий сидят голуби. Джаспер ощущает во рту вкус металла и дизельного топлива. Люди, усталые и какие-то несчастные, стоят в очередях. ЛИВЕРПУЛЬ. ДУВР. БЕЛФАСТ. ЭКСЕТЕР. НЬЮКАСЛ. СУОНСИ. В этих городах Джаспер не был. «Из всей шахматной доски Великобритании мне известно меньше одной клеточки».
– Хот-доги! – выкрикивает разносчик с тележкой. – Хот-доги!
Мекка с Джаспером отыскивают автобус в Хитроу за минуту до его отправления. Мекка отдает рюкзак водителю, чтобы тот загрузил его в багажник, а пронырливая толстуха в косынке сует Джасперу поникшую гвоздику:
– Бери, милок. Всего за шиллинг отдаю. Для твоей девушки.
Она имеет в виду Мекку.
Джаспер пытается вернуть цветок.
– Нет, что ты! – отшатывается толстуха. – Удачу упустишь и больше никогда не увидишь. А если вдруг что-то случится, каково тебе будет…
Мекка с легкостью решает Джасперову дилемму: берет у него гвоздику, кладет ее в лукошко толстухи и говорит:
– Фу, гадость.
Толстуха злобно шипит, но отходит.
– Дин говорит, что я притягиваю психов, как магнит, – объясняет Джаспер. – Потому что выгляжу одновременно и беззащитным, и при деньгах.
Мекка морщит лоб. Расшифровать это выражение Джасперу сложнее, чем улыбку. «Сердится?» Она берет его лицо в ладони и целует в губы. Джаспер предполагает, что это их последний поцелуй. «Нажми кнопки „воспроизведение“ и „запись“».
– Не меняйся, пожалуйста, – говорит она. – И спасибо за эти три дня. Жаль, что не три месяца.
Джаспер не успевает ответить. Между ним и Меккой вклинивается индийское семейство, входит в салон автобуса. Последней по ступенькам поднимается старуха, зыркает на Джаспера. Громкоговоритель хрипло объявляет, что автобус в Хитроу отправляется.
Джаспер догадывается, что надо сказать: «Я тебе напишу» или «Когда мы снова увидимся?» – но у него нет никаких прав на будущее Мекки. «Запомни ее, как она есть: лицо, волосы, черный бархатный пиджак, мшисто-зеленые брюки…»
– А можно с тобой?
– В Чикаго? – недоумевает Мекка.
– В аэропорт.
– Тебя же дома ждут Эльф и Дин.
– Эльф обычно догадывается, что случилось.
На лице Мекки появляется новая улыбка.
– Конечно.
На Кенсингтон-роуд дорожные работы, автобус едет медленно. Джаспер и Мекка смотрят в окно: магазины, конторы, очереди на остановках, двухэтажные автобусы, пассажиры читают, спят или просто сидят с закрытыми глазами, ряды закопченных оштукатуренных домов, телевизионные антенны процеживают загаженный воздух, ловят сигналы, дешевые гостиницы, жилища с замызганными окнами, разинутые рты станций метро глотают людей по сто штук в минуту, железнодорожные мосты, бурая Темза, перевернутый стол электростанции Баттерси изрыгает дым из трех труб, в раскисших от дождя парках нарциссы никнут у забытых памятников, разбомбленные развалины, оборванцы играют в лужах среди руин, полудохлая кляча, впряженная в телегу старьевщика, паб «Молчунья», на вывеске – безголовая женщина, цветочница в инвалидном кресле, рекламные щиты сигарет «Данхилл», домов отдыха «Понтинс» и автоцентров «Бритиш Лейленд», прачечные самообслуживания, люди, тупо глядящие в стиральные машины, закусочные «Уимпи», букмекерские конторы, сумрачные задние дворы, где на веревках болтается непросыхающее белье, газовые станции, огороды, забегаловки, где подают жареную рыбу с картошкой, закрытые церкви, где на кладбищах среди могил спят наркоманы. Автобус въезжает на Чизикскую эстакаду и прибавляет скорость. Крыши, трубы и фронтоны проносятся мимо. Джаспер размышляет над тем, что одиночество – изначальное состояние мира. «Друзья, родные и близкие, возлюбленные или группа – это аномальные явления. Рождаешься в одиночестве, умираешь в одиночестве, а в промежутке по большей части ты тоже в одиночестве». Он целует Мекку в висок, надеясь, что поцелуй проникнет сквозь кость и застрянет в какой-нибудь извилине мозга. Небо сияет серым. Проносятся мили. Мекка подносит его руку к губам и целует. Может быть, это ничего не значит. Или значит. Что-то.
Ни Джаспер, ни Мекка никогда еще не были в аэропорту. Все кажется футуристическим. Служащий забирает и «регистрирует» багаж Мекки, взамен билета выдает «посадочный талон» и просит их пройти к двери с надписью «ОТПРАВЛЕНИЕ». Почти все пассажиры наряжены, как на свадьбу или на собеседование при приеме на работу. Мекка с Джаспером приближаются к двери с надписью «ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ».
«Вот и все». Они обнимаются. «Узнай, можно ли навестить ее в Чикаго. Попроси на обратном пути заехать в Лондон». Ее глаза вбирают его. «Вбирай меня». Что сказать? «Скажи, что ты ее любишь… но как я узнаю, что люблю? Дин говорит: „Это просто знаешь“… но как узнать, что „просто знаешь“?»
– Я не хочу, чтобы ты уезжала, – говорит Джаспер.
– И я тоже, – говорит Мекка. – Поэтому я должна.
– Не понимаю.
– Я знаю. – Она подносит к губам костяшки его пальцев.
Очередь сдвигается, утягивает ее с собой. Она в последний раз оглядывается, а все сказки и мифы предупреждают, что этого делать нельзя. В дверях она машет ему рукой, уходит, уходит… ушла. «Человек – тот, кто уходит». Джаспер возвращается, становится в очередь на автобус до Виктории. Холодная мартовская ночь. Он чувствует то, что обычно чувствуешь, когда что-то теряешь, но еще не понял, что именно. «Не кошелек… не ключи…» В кармане куртки он обнаруживает конверт со штемпелем «Фотоателье Майка Энглси». В конверте фотография Мекки – та самая, которую он сделал вчера, в китайском ресторанчике, попросив представить, как она возвращается в Берлин. «Сейчас мне не надо гадать, что она думает. Я знаю». На обороте фотографии написано:
Для начинающего неплохо.
Mit Liebe[23].
M.
Вдребезги
Прохожие и туристы редко удостаивают взглядом дверь дома 13А на тупиковой улочке Мейсонс-Ярд в Мэйфере. Для Дина эта дверь была порталом в волшебную страну, в обитель избранных, где резвятся продюсеры и те, кто отвечает за продвижение исполнителей; критики, способные в одночасье создать или разрушить репутацию, сильные мира сего и их дочери в поисках экзотических рок-н-ролльных приключений и интрижек; модельеры, создающие шедевры будущего сезона, модели, облаченные в эти шедевры, и их фотографы; а еще музыканты – не те, кто пока только мечтает об успехе, а те, кто его уже обрел: The Beatles, The Rolling Stones, The Hollies, The Kinks; залетные птицы, заезжие мартышки и черепахи; Джерри, со спутниками или без оных; где будущие знакомые Дина скажут ему: «Пришли мне демку, в эфир запустить» или «Мы ищем классную группу на разогрев – может, „Утопия-авеню“ согласится?». За дверью дома 13А на Мейсонс-Ярде находится клуб «Scotch of St. James». Попасть туда можно исключительно по особому приглашению.
Дин сказал Джасперу:
– Я все устрою.
Он нажал кнопку звонка, и в двери на уровне глаз открылась узкая прорезь. На приятелей взглянуло всевидящее око:
– Представьтесь, пожалуйста.
– Мы друзья Брайана. Должны быть в списке приглашенных.
– Брайана Джонса или Брайана Эпстайна?
– Эпстайна.
– Погодите, сейчас посмотрю. Да, он ждет… Простите, а вы, случайно, не Ал и Гас?
Дин не поверил своему счастью.
– Да, это мы.
– Превосходно. Дайте-ка я уточню фамилии… Значит, вы будете мистер Ал Конавт, а ваш приятель – Гас Тролер?
– Да-да, это мы, – сказал Дин и лишь потом сообразил, что к чему.
Всевидящее око просияло, прорезь закрылась.
Дин снова нажал кнопку звонка.
Прорезь открылась. Из нее опять выглянуло всевидящее око:
– Представьтесь, пожалуйста.
– Я тут соврал, извините. Но мы действительно музыканты. Из группы «Утопия-авеню». Завтра играем в Брайтонском политехе.
– Платите вступительный взнос, подавайте заявку, и руководство ее рассмотрит. А если попадете на «Вершину популярности», то, может быть, вступительный взнос платить не придется. Освободите проход, пожалуйста.
Мимо Дина пронесся кто-то носатый, с оборчатым воротником и с пышной уложенной прической. Дверь в 13А распахнулась, изнутри донеслось: «Добро пожаловать, мистер Хампердинк!» Дверь захлопнулась.
Дин трижды нажал на кнопку звонка.
Прорезь открылась.
– Представьтесь, пожалуйста.
– Дин Мосс. А это – Джаспер де Зут. Запомните наши имена. В один прекрасный день мы к вам придем.
Он повернулся и зашагал прочь. Джаспер заторопился следом.
– Может, оно и к лучшему. У нас завтра первый концерт. Похмелье нам ни к чему.
– Этот самодовольный говнюк – пидор говняный.
– Правда? По-моему, он очень вежливо с нами разговаривал.
Дин остановился:
– Ты что, вообще никогда не злишься?
– Я пробовал, получается неубедительно.
– При чем тут убедительность? Это же чувство!
Джаспер заморгал:
– Вот именно.
От Ватерлоо до Кройдона машины на трассе еле ползут, так что Дин ведет Зверюгу со скоростью в лучшем случае тридцать миль в час. Рычаг переключения скоростей то и дело клинит, и фургон постоянно застревает на перекрестках. К югу от Кройдона микроавтобус долго тащится в хвосте каравана домов на колесах, и только сейчас, за крохотной (зевни – и проедешь, не заметив) деревушкой Хулей, где шоссе А23 взбирается на отрог Саут-Даунс, Дину удается нажать на газ.
– Да уж, не самое быстроходное транспортное средство, – говорит Дин.
– Не средство, а Зверюга, – поправляет его Грифф с заднего сиденья. – Она, родимая. Которая везет не только четверых музыкантов, но и их инструменты.
Стрелка спидометра подползает к сорока пяти милям в час, и Зверюга начинает зловеще подрагивать и взрыкивать.
– Не нравится мне этот звук, – говорит Эльф.
Дин сбрасывает скорость до сорока миль в час, и дрожь прекращается.
– Грифф, ты вообще садился за руль этого монстра, прежде чем его купить?
– Дареному коню в зубы не смотрят.
Чтобы заплатить свою долю за этот «дар» – пятнадцать фунтов, четверть стоимости, – Дин взял денег взаймы из общей кассы «Лунного кита». «Еще один долг… если так дальше пойдет, придется снова подрабатывать в какой-нибудь кофейне».
– Дареному коню всегда лучше заглядывать в зубы. Дареный конь – не подарок.
– Нам был нужен микроавтобус, и я его нашел, – говорит Грифф.
– Ну да, нам был нужен микроавтобус. А не похоронная колымага двадцати пяти лет от роду и с полом, продырявленным в решето, так что дорогу видно.
– Что-то я не заметил, чтобы ты заморачивался поисками машины, – говорит Грифф.
– А по-моему, наша Зверюга очень самобытная, – замечает Эльф.
– Главное, чтобы она доставляла нас из пункта А в пункт Б, – добавляет Джаспер.
– Всем спасибо за авторитетные мнения, – язвит Дин. – Вот если в два часа ночи у нее на трассе полетит коленвал, так я погляжу, как ты, Эльф, будешь чинить эту самобытность. А ты, Джаспер, вообще-то, собираешься получать права? Чтобы было кому водить из пункта А в пункт Б.
– Я не уверен, что меня можно сажать за руль.
– Клевая отмазка.
Джаспер молчит. Как обычно. «Он сердится? Обиделся? Или ему все равно?» Дин никогда не знает, что думает его соквартирник и согруппник. Все время гадать очень утомительно.
– В Уэльсе есть один тип, который готов выправить водительское удостоверение кому угодно. Платишь двадцать пять фунтов, и через две недели тебе присылают права. Кит Мун свои так получил.
Надо бы что-то ответить, но Дин уже много раз слышал эту шуточку.
– У кого есть сигареты?
Все молчат.
– Эй, дайте курева!
Эльф прикуривает «Бенсон и Хеджес», передает Дину.
– Спасибо. Если Зверюга и дальше будет передвигаться с такой скоростью, то нас ждут долгие поездки, – говорит Дин, затягиваясь сигаретой. – И радио не работает.
– Если б тебе дали миллион, – говорит Грифф, – ты б жаловался, что деньги плохо упаковали.
– Товарищи, – начинает Эльф с интонациями школьной училки, – у нас сегодня первый концерт. Мы входим в историю музыки. Так воцарится же между нами мир и любовь!
Шоссе А23 пересекает лесок и взбегает на холм.
До самого Дуврского пролива простирается Суссекс.
Золотой полдень прошит серебристой нитью реки.
Небо темнеет. Дин сосет ириску. Зверюга проезжает мимо совершенно неинтересной деревеньки с интересным названием Пиз-Поттедж[24].
– Выбрать из всех концертов единственный? Литл Ричард в фолкстонском «Одеоне». Лет десять назад Билл Шенкс нас туда возил. У Билла музыкальный магазин в Грейвзенде, я там купил свою первую настоящую гитару. Так вот, мы с Рэем, моим братом, и еще с парой приятелей набились в Биллов фургон и поехали в Фолкстон. Литл Ричард… Господи, он вообще не человек, а какая-то электротурбина. Орет как резаный, энергия бьет ключом, а уж что на сцене вытворяет… Девчонки заходятся. Я тогда еще подумал: «Вот кем я стану, когда вырасту». А посреди «Tutti Frutti»… ну, он и на рояль вскакивал, и завывал, как оборотень, а потом вдруг схватился за грудь, затрясся так, что аж перекосило, и кулем повалился на сцену.
Зверюга проезжает мимо цыганского табора на обочине.
– Это он нарочно? – спрашивает Эльф.
– Вот мы тоже так решили. Подумали: «Ну дает! Надо же, как прикидывается!» Но тут музыканты на сцене перестали играть. Мертвая тишина. Литл Ричард лежал, подергивался, а потом вдруг замер. Менеджер к нему подбежал, проверяет, бьется ли сердце, кричит: «Мистер Ричард, мистер Ричард!» В зале тихо, как в гробу. Менеджер встает, весь такой бледный, в испарине, спрашивает, нет ли среди зрителей врача. Мы все переглянулись: «Ни фига себе, Литл Ричард и правда при смерти…» Тут кто-то встает с места: «Пропустите, я доктор…» – поднимается на сцену, щупает пульс, подносит к носу Литл Ричарда какую-то бутылочку, а потом… – (Дин обгоняет трактор с прицепом, полным навоза.) – Раздается вопль «А-вуп-боп-а-лу-боп а-лоп-бам-бум»! Литл Ричард вскакивает, и музыканты дружно подхватывают припев. В общем, все было подстроено, конечно. Но так натурально! Все аж зашлись. Такой вот концерт, да.
На лобовое стекло падают капли дождя.
Штырк-штырк – лениво скребут дворники.
Дин сбрасывает скорость до тридцати миль в час.
– Ну, после концерта Шенкс и Рэй и все остальные рванули в паб. А мне куда деваться? Я решил разжиться автографом Литл Ричарда. Сказал вышибале в «Одеоне», что я, мол, племянник Литл Ричарда, пропусти, не то неприятностей не оберешься. Вышибала меня шуганул, понятное дело. Тогда я пошел к черному ходу, там уже толпился народ. Чуть погодя выходит менеджер, говорит, что Литл Ричард давным-давно уехал. Ну, все ему поверили и разошлись. Вот лохи! Поверили тому самому типу, который орал со сцены «Вызывайте врача!» и все такое. А я притворился, что ухожу вместе со всеми, а через минуту вернулся. Гляжу, на третьем этаже открывается окно. А в окне – Литл Ричард собственной персоной, дымит косячком. Сделал пару затяжек, выбросил бычок на улицу и закрыл окно. Тогда я, как любой двенадцатилетний мальчишка, естественно, решил изобразить из себя Тарзана и полез наверх по водосточной трубе.
Зверюга приближается к замызганному типу, голосующему на обочине. В руках у него картонка, на ней выведено: «КУДА-НИБУДЬ». Буквы расплываются под струями дождя.
– Может, подберем? – спрашивает Дин.
– Куда его? В долбаную пепельницу? – уточняет Грифф.
– Ну, полез ты по трубе… – напоминает Эльф.
Зверюга минует автостопщика.
– Так вот, долез я до третьего этажа, двинулся по желобу под окнами, а он – хрясь! – и отошел от стены. А до земли – пятьдесят футов. Я чудом ухватился за трубу, гляжу, а кусок желоба летит вниз – и бац об землю. Ну, пятьдесят футов мигом превратились в полмили. Я кое-как дотянулся до подоконника, стучу в стекло – а оно матовое, ничего не видно. Я цепляюсь за трубу, как коала, но в руках сил не осталось, а ногам упереться не во что. Снова стучу. Безрезультатно. Все, думаю, приплыли. И тут вдруг на третий стук половинка окна поднимается. Высовывается Литл Ричард – налаченная прическа, тоненькие усики – и видит, что за окном мальчишка болтается на честном слове и просит так жалостно: «Мистер Ричард, дайте автограф!»
Мимо проезжает автобус, вода из-под колес фонтаном заливает лобовое стекло Зверюги.
Дин ведет машину вслепую, пока вода не стекает.
– Эй, не останавливайся на самом интересном месте, – требует Грифф.
– Ну, он втащил меня внутрь, начал отчитывать за то, что я чуть сдуру не убился, а я себе думаю: «Класс! Меня сам Литл Ричард ругает!» Потом он спросил, с кем я пришел. Я и объяснил, что с братом, только брат в пабе, сказал, как меня зовут и заявил, что тоже хочу стать звездой. Он поостыл и говорит уже по-доброму: «Знаешь, сынок, с фамилией Моффат в звезды не выбьешься». А я сказал, что мамина девичья фамилия – Мосс, ну, он и говорит: «Дин Мосс – это другое дело» – и подписал мне фотографию: «Дину Моссу, который взбирается к звездам, от Литл Ричарда». Потом кто-то из его помощников провел меня к выходу, мимо того самого вышибалы, который меня не пустил. Так мое приключение и закончилось. Рэй и его приятели мне сначала не поверили, но я им показал фотографию.
На дорожном указателе надпись: «Брайтон, 27 миль».
– А фотография у тебя сохранилась? – спрашивает Грифф.
– Не-а. – «Сказать, что ли?» – Отец ее сжег.
– Почему? Да как он мог?! – ужасается Эльф.
«Эх, людям зажиточным такого никогда не понять».
Шрам на верхней губе Дина едва заметно подергивается.
– А, долго рассказывать.
– Нина Симон в клубе у Ронни Скотта, – говорит Эльф.
Зверюга тарахтит по деревеньке Хэндкросс.
– Мне было семнадцать. Родители в жизни не пустили бы меня одну в Сохо, но Имоджен и парень из нашей церкви вызвались отправиться со мной в логово Сатаны. Я с пятнадцати лет украдкой бегала на баржу Кингстонского фолк-клуба, когда она причаливала в Ричмонде, но Нина Симон – это высший класс. Она вплыла в «Ронни Скоттс», как Клеопатра на барке. Платье с черной орхидеей. Жемчуга размером с гальку. Она села и объявила: «Я – Нина Симон», типа, возражения не принимаются. И все. Никаких тебе «Спасибо, что пришли» или там «Выступать перед вами – большая честь». Это мы должны были благодарить ее за выступление. Это нам выпала большая честь. Вместе с ней были барабанщик, басист и саксофонист. Все. Она исполняла такой фолк-блюзовый сет: «Cotton-eyed Joe», «Gin House Blues», «Twelfth of Never», «Black Is the Colour of my True Love’s Hair»[25]. Безо всяких разговоров. Без шуточек. Без сердечных приступов. Какая-то парочка в зале стала перешептываться, так Нина Симон на них посмотрела и спрашивает: «Мое пение вам не мешает?» Они прям сгорели со стыда.
Дорожный указатель извещает, что до Брайтона осталось двадцать миль.
– При всем моем восхищении и уважении я никогда не хотела быть новой Ниной Симон, – продолжает Эльф. – Я – белая английская фолк-певица. Она – гениальная негритянка с консерваторским образованием, выпускница Джульярда. Способна левой рукой играть блюз, а правой – Баха. Я своими глазами видела. Больше всего мне хотелось заполучить хотя бы чуточку ее уверенности в себе. Пытаться зашикать Нину Симон – все равно что шикать на гору. Немыслимо. И бесполезно. В конце выступления она объявила: «Я исполню одну песню на бис. Только одну». И спела «The Last Rose of Summer»[26]. Когда она выходила из клуба, мы с сестрой как раз стояли у гардеробной. Какая-то женщина протянула ей альбом для автографов и шариковую ручку, а Нина ей говорит: «Я здесь, чтобы петь, а не писать». Перед ней распахнули дверь, и Нина Симон удалилась в свой тайный лондонский дворец. Раньше я думала, что звездой становишься, если у тебя есть хиты. Но после этого концерта я поняла, что хиты появляются потому, что ты с самого начала звезда.
Колесо Зверюги попадает в колдобину.
Микроавтобус подпрыгивает, сотрясается, но продолжает катить со скоростью сорока миль в час.
– Вот поэтому, наверное, я и не звезда.
– Только до сегодняшнего концерта, – говорит Грифф. – До сегодняшнего концерта.
На спуске с холма Зверюгу обгоняет ярко-красный «триумф-спитфайр марк II». «Если „Утопия-авеню“ огребет славы и денег, я обязательно такой куплю, – думает Дин. – Приеду на нем в Грейвзенд, приторможу под окнами Гарри Моффата и газану, мол, „хрен“, а потом газану еще раз – „тебе“».
Настоящий «триумф-спитфайр» скрывается вдали, в будущем.
Лужи на дороге отражают небо.
– А у тебя какой самый памятный концерт, де Зут? – спрашивает Грифф.
Поразмыслив, Джаспер говорит:
– Однажды Биг Билл Брунзи сыграл мне «The Key to the Highway»[27]. Это считается?
– Заливаешь! – говорит Грифф. – Он уже сто лет как помер.
– В пятьдесят шестом мне было одиннадцать. Меня на лето отправили в Голландию. У дедушки есть приятель в Домбурге, пастор, и летние каникулы я обычно проводил у него. В то лето я собрал модель «спитфайра», из бальсы. Она классно летала. Однажды вечером я запустил самолетик, а ветер подхватил его и перенес через высокую стену именно в тот домбургский сад, куда моделям самолетов лучше не залетать. В сад капитана Верпланке. В войну он партизанил в Сопротивлении, и репутация у него была самая что ни на есть устрашающая. Местные ребята сразу сказали, что лучше позвать викария, потому что ни один мальчишка ни за что не постучится в дверь к капитану Верпланке в восемь часов вечера. Но я подумал: «Ничего страшного. Что он такого сделает? В худшем случае выставит меня, и все». Ну и пошел, постучал. Никто не открыл. Я снова постучал. Ответа так и не дождался. Тогда я обошел дом и заглянул в сад. И с острова Валхерен, в двух шагах от побережья Северного моря, я вмиг перенесся на этикетку какого-нибудь миссисипского виски. Веранда, фонарь, кресло-качалка и здоровенный негр. Он играл на гитаре, хрипло напевал по-английски и курил самокрутку. До этого я никогда в жизни не разговаривал с человеком, кожа которого не была белой. И не знал, что такое блюзовая гитара. И тем более никогда ее не слышал. В общем, он с тем же успехом мог быть марсианином и исполнять марсианскую музыку. Я буквально остолбенел. Что это? Как музыка может быть такой печальной, такой разреженной, такой медлительной, такой цепляющей и такой разной и многогранной одновременно? Гитарист меня заметил, но играть не перестал. Он доиграл до конца «The Key to the Highway», а потом спросил меня по-английски: «Ну, что скажешь, кроха?» Я спросил, можно ли научиться играть, как он. «Нет, – ответил он. – Потому что… – я навсегда запомнил его слова, – ты не прожил мою жизнь, а блюз – это язык, на котором невозможно солгать». И добавил, что если мне очень хочется, то в один прекрасный день я научусь играть, как я. Тут пришел викарий, извинился за мое вторжение, и на этом разговор с загадочным незнакомцем закончился. На следующий день экономка капитана Верпланке принесла мне лонгплей «Биг Билл Брунзи и Уошборд Сэм», надписанный «Играй, как ты».
На указателе написано, что до Брайтона осталось всего десять миль.
– Надеюсь, эту пластинку никто не сжег, – фыркает Грифф.
– Вот как придешь ко мне, я тебе ее покажу, – обещает Джаспер.
– А самолетик-то тебе вернули? – спрашивает Эльф.
Пауза.
– Не помню.
Зверюга въезжает на парковку студенческого клуба, где уже ждет Левон Фрэнкленд, опираясь на свой «форд-зефир» выпуска 1960 года. Дин ставит Зверюгу рядом и выключает мотор. Фургона Шенкса еще нет. «Ну, мы рано приехали». Все выходят. Молчать сладостно, как и вдыхать свежий воздух. Из окна несется «Tomorrow Never Knows»[28]. Луна как выщербленный бильярдный шар. На Зверюгу обращают внимание. Какой-то шутник выкрикивает: «Эй, дружище, а где Бэтмен?»
Левон с интересом осматривает новое приобретение группы:
– Что ж, это точно не угонят.
– Наша Зверюга – надежная рабочая лошадка, – говорит Грифф. – И спасибо дядюшке, досталась нам по дешевке.
Левон чешет за ухом:
– А как она на ходу?
– Как танк, – говорит Дин. – Только на поворотах как гроб. И больше пятидесяти миль в час не тянет.
– Мы ее купили перевозить аппаратуру, а не устанавливать мировые рекорды, – говорит Грифф. – Ты давно нас ждешь, Левон?
– Я уже успел вытребовать наш чек у студклуба. Не верю обещаниям, мол, мы вам его по почте отправим, в понедельник.
Мимо проходит девчонка, жует резинку, пялится на Дина так, будто это она – парень, а он – девчонка. «Ага, я в группе», – думает он.
– Так, аппаратура сама себя в зал не занесет и на сцену не установит, – говорит Левон.
– А у наших роуди сегодня выходной? – спрашивает Грифф.
– Вот выпустишь золотой диск, поговорим о роуди, – отвечает Левон.
– Вот организуешь нам контракт с лейблом, поговорим о золотых дисках, – ворчит Грифф.
– Отыграй сотню классных концертов, обзаведись армией поклонников, и контракт появится. А до тех пор оборудование таскаем сами. Управимся за три ходки. Только пусть кто-нибудь остается охранять. Если не подпускать к аппаратуре никого старше пяти и моложе ста лет, то, может, что-нибудь и не свистнут. В чем дело, Джаспер?
– Тут… мы. – Джаспер тычет в доску объявлений.
Дин скользит взглядом по постерам: «СИДЯЧАЯ ЗАБАСТОВКА ПРОТИВ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ», «КАМПАНИЯ ЗА ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ», «КРУЖОК ЗВОНАРЕЙ» – и лишь потом замечает афишу. В квадрате, разделенном на четыре части, – фотографии участников группы, сделанные Меккой. Печать очень четкая. «УТОПИЯ-АВЕНЮ» выведено ярмарочным шрифтом, а под ним – пустой прямоугольник, для указания даты, места проведения и времени начала концерта, а при необходимости – и цены билетов.
– Все по-взрослому, ребятки, – говорит Грифф.
– Классно получилось, – заявляет Эльф.
– Похоже на «Их разыскивает полиция», – говорит Дин.
– Это хорошо или плохо? – спрашивает Джаспер.
– Это как рок-н-ролльщики-разбойники, – говорит Эльф.
Грифф придирчиво рассматривает фотографию Эльф:
– Не разбойница, а передовик производства. Без обид, ладно?
– А я и не обижаюсь. – Эльф изучает портрет Гриффа. – Не разбойник, а призер конкурса на лучшего кинг-чарльз-спаниеля в парике, бронзовая медаль. Без обид, ладно?
Концерт будет проходить в длинном узком помещении, похожем на кегельбанный зал, с баром у дверей и невысокой сценой в дальнем конце. Из окон вдоль одной стены виден вечерний кампус без единого деревца. Дину кажется, что все здесь построено из кубиков лего. В интерьерах преобладает блестящий бурый цвет нечистот. Зал вмещает человек триста, а то и четыреста, но сегодня здесь собралось не больше пятидесяти. Еще десяток играют в настольный футбол у барной стойки.
– Надеюсь, в давке никого не покалечат, – говорит Дин.
– Начало в девять, – напоминает Эльф. – Может, к тому времени сюда подтянутся многотысячные толпы. Твоих грейвзендских приятелей еще нет?
– Как видишь.
«Дурацкий вопрос».
– Ну прости, что я дышу.
К ним направляются двое студентов: парень с мушкетерской бородкой, в лиловой атласной рубахе, и брюнетка со стрижкой каре, большими, густо накрашенными глазами и в безрукавке с геометрическим узором, которая едва прикрывает бедра. «Я б не отказался», – думает Дин, но брюнетка таращится на Эльф.
Мушкетер заговаривает первым:
– Меня зовут Гэз, и мои дедуктивные способности подсказывают, что вы – «Тупик Утопия».
– «Утопия-авеню», – поправляет его Дин, опуская усилок на пол.
– Шутка, – говорит Гэз.
«Укуренный в дым», – думает Дин.
– Я – Левон, менеджер. Мы договаривались с Тигром…
– Тигру пришлось отлучиться по неотложному делу, но он поручил мне сопроводить вас на сцену. Она вон там… – Он указывает в конец зала.
– Меня зовут Джуд, – с характерным протяжным выговором жителей юго-западной Англии представляется брюнетка; oна не под кайфом. – Эльф, я обожаю «Ясень, дуб и терн».
– Спасибо, – отвечает Эльф. – Но сегодня мы будем исполнять песни иного рода. Покруче, чем мои сольные номера.
– Покруче – это здорово. Когда Тигр упомянул, что в группе ты, я ему сразу сказала: «Эльф Холлоуэй? Приглашай их немедленно».
– Ага, так и сказала, – подтверждает Гэз, по-хозяйски хлопая Джуд ниже талии.
«Жаль», – думает Дин.
– Ну, я пойду звук проверю.
– Наяривайте погромче, – говорит Гэз. – Здесь вам не Альберт-Холл.
Эльф смотрит на сцену:
– Прости, а где… где фортепьяно?
Когда Гэз морщит лоб, его брови сходятся на переносице.
– Фортепьяно?
– Тигр меня дважды клятвенно заверил, что для сегодняшнего выступления на сцене установят и настроят фортепьяно, – поясняет Левон.
Негромко присвистнув, Гэз говорит:
– Ну, Тигр много чего обещает.
– Но без фортепьяно совершенно невозможно… – начинает Эльф.
– Обычно к нам приезжают со своей аппаратурой, – перебивает Гэз.
– Пианино никто за собой не возит, – говорит Грифф. – Для него нужен мебельный фургон.
– Меня не интересует, какими такими неотложными делами занимается Тигр, – говорит Левон. – Ему платят за организацию концерта. Тащи его сюда, хоть тушкой, хоть чучелом.
– У Тигра метаморфоза, – объясняет Гэз. – Третий глаз открылся. Вот здесь. – Он тычет себя в лоб, над переносицей. – Тигр как ушел в прошлый вторник, так его больше и не видели. Во вселенском масштабе…
– Слушай, Гэз, – говорит Левон. – Мне плевать на вселенский масштаб. У нас сейчас одна забота – пианино. Организуй пианино.
– Чувак, ну че ты агрессию разводишь?! Я че, у тебя на побегушках? Охолони. И губу закатай. Я Тигру сделал одолжение. За организацию досуга отвечает он, а не я. И вообще, пошли вы все на фиг. – Он косится на Джуд.
Она смущенно отводит глаза, и Гэз направляется к выходу.
Дин бросается следом за укурком:
– Эй, мудак! Не…
– Не гоношись… – Левон хватает Дина за рукав. – В студенческих клубах еще и не такое случается.
– А на хрена ты вообще этот концерт организовал?! Зачем оно нам?
– Студенческие клубы платят неплохие деньги даже за выступление относительно неизвестной группы. И не жульничают. Поэтому мы здесь.
– Ну и как же Эльф без пианино? Как мы сет отыграем?
– Вот я так и знал, что надо было брать «хаммонд», – говорит Грифф.
– А если ты знал, мистер Всезнайка, – огрызается Дин, – то какого черта молчал? Я же спрашивал: «Ну что, берем „хаммонд“?» – а все такие, мол, не надо, Левон дважды проверял, там есть клавиши.
Гриф, набычившись, подступает к Дину:
– Не, ну а ты чего возбухаешь? У тебя-то все в порядке, бас-гитара при тебе. Это Эльф надо возмущаться, а она вон молчит.
– Ладно, проехали, – говорит Эльф. – В следующий раз возьмем «хаммонд». Левон, так что будем делать? Отменять выступление?
– Тогда студенческий клуб отзовет чек, а по закону я не смогу его вытребовать. Вот если вы отыграете хотя бы час, то деньги наши. Сорок фунтов на всех пятерых.
Дин вспоминает о долгах и пустом банковском счете.
– А давайте представим, что это репетиция, – предлагает Джаспер. – Здесь же нет ни журналистов, ни музыкальных критиков.
– Да? И что мне исполнять? – Эльф чешет в затылке. – Была бы гитара, я б спела пару фолк-песен…
Игроки в настольный футбол разражаются восторженными воплями.
– Извините, что встреваю, – подает голос Джуд, которая не ушла с Гэзом, – но у меня гитара с собой. Могу предложить. Если хочешь.
Эльф на всякий случай уточняет:
– У тебя гитара с собой?
– Да, – смущенно говорит Джуд. – Я хотела попросить, чтобы ты ее подписала.
Рэя по-прежнему нет. Из автомата в вестибюле Дин звонит Шенксу (у Рэя нет телефона) – узнать, выехали они или нет. Трубку никто не берет. «Они задержались, стоят в пробке, колесо спустило, забыли… да мало ли что». В зале, за длинным рядом окон, сгущается ночь. «Все тепло на улицу уходит…» Над сценой висит примитивное осветительное оборудование, но светотехник бастует, поэтому зал освещен тусклыми лампами дневного света.
– В морге и то веселее, – говорит Дин.
Грифф возится с ударной установкой. В чулане, пропахшем сыростью и хлоркой, Эльф настраивает акустическую гитару Джуд и смотрится в зеркальце, поправляет помаду.
– Твой брат приехал?
Дин мотает головой.
– Давай уже начинать.
– По-моему, больше никто не придет, – говорит Джуд.
– Чем раньше начнем, тем быстрее вернемся домой, – говорит Грифф.
– Ну, чтоб без сучка без задоринки, – говорит Левон.
– Дайте мне дубинку, я тут всем бока намну, – бормочет Дин.
На сцену ведут три ступеньки. Вокруг столпились человек семьдесят. Джуд начинает аплодировать, к ней присоединяется еще несколько человек. Дин подходит к микрофону. Зал на девяносто процентов пуст. Дину становится не по себе. В последний раз он выступал на сцене в «2i’s», a тогда они исполняли ритм-энд-блюзовые стандарты. Сегодня им предстоит играть свои собственные вещи: «Оставьте упованья» и «Мутную реку», которую Дин написал еще в «Броненосце „Потемкин“», непроверенные на публике «Темную комнату» и инструменталку «Небесно-синяя лампа», которые сочинил Джаспер, Эльфин «Поляроидный взгляд» и написанный для фортепьяно, но сегодня исполняемый без фортепьяно «Плот и поток» и еще парочку фолк-песен.
– O’кей, – говорит Дин в микрофон, – сегодня мы…
Микрофон фонит, пронзительно завывает. Зрители морщатся.
«Вот поэтому всегда нужен саундчек».
Дин поправляет микрофон, отодвигает его на шаг от себя.
– Мы – «Утопия-авеню». Наша первая вещь – «Оставьте упованья».
– Мы так и сделали, чувак! – выкрикивает студент у барной стойки.
Дин беззлобно показывает ему два пальца. В публике одобрительно улюлюкают. Дин обводит взглядом Джаспера, Эльф и Гриффа. Грифф подносит к губам бутылку крепкого пива «Голд лейбл», делает большой глоток.
– Мы подождем, – говорит ему Дин.
Грифф показывает ему средний палец.
– И раз, – начинает Дин, – и два, и раз, два, три…
Грифф хоронит финальные аккорды «Оставьте упованья» в грохоте барабанов. «На репетициях у Павла звучало гораздо лучше», – думает Дин. Зрители аплодируют с прохладцей, но группа и этого не заслуживает.
Дин подходит к Гриффу и говорит:
– Ты слишком частил.
– Нет, это ты тянул, как сонная муха.
Дин раздраженно отворачивается. Гитарные переборы Эльф были совсем ни к чему, да и с гармониями у нее не ладилось. Соло Джаспера не зажигало. Вместо трехминутного фейерверка получилась жалкая хлопушка, которая так и не разорвалась. Сам Дин забыл слова третьего куплета и попытался скрыть это неверными дребезжащими аккордами. Еще недавно он считал «Оставьте упованья» своей лучшей вещью, но сейчас… «Кого я дурю?» Он подходит к Эльф и Джасперу посовещаться. К ним присоединяется Левон.
– Хреново, ребята, – вздыхает Дин.
– Ну, не так уж и… – начинает Левон.
– Без фортепьяно «Темная комната» стухнет, – говорит Дин.
– «Дом восходящего солнца»? – предлагает Джаспер.
– Без синтезатора? – уныло откликается Дин.
– Это старинная американская народная песня, – напоминает Эльф. – Написанная лет за шестьдесят до того, как ее исполнили The Animals.
«Достала уже», – думает Дин.
– Эй, мы вас не задерживаем? – орет кто-то у барной стойки.
– Ну а что ты предлагаешь? – спрашивает Эльф.
Выясняется, что предложений у Дина нет.
– Значит, «Дом восходящего солнца».
– А как разогреются, исполним что-нибудь из своего, – говорит Джаспер.
Дин подходит к Гриффу, который открывает еще одну бутылку «Голд лейбл».
– Забудь про сет, играем «Дом восходящего солнца».
– Да, сэр, нет, сэр, шерсти три мешка, сэр.
– Короче, играй.
Джаспер подступает к микрофону:
– Наша следующая песня о притоне в Новом Орлеане, где…
– Есть в Ноооо-вом Орлеане… дооооом оооооодин… – пьяно вопят игроки в настольный футбол – матч не прерывался с начала концерта.
– Никогда ее не слышал, – ехидно заявляет студент у барной стойки.
Дин всегда считал, что «Дом восходящего солнца» невозможно испортить, но «Утопия-авеню» наглядно демонстрирует обратное. Голос Джаспера звучит зажато, манерно и жеманно. Голос Эльф совершенно не к месту в песне о мужчине, снедаемом чувством вины. Дин слишком далеко отходит от усилка. Провод его долбаной басухи выскальзывает из гнезда долбаного усилителя. Дин бросается втыкать его обратно. Зрители хохочут. Джаспер, вместо того чтобы прикрыть задержку проигрышем, запевает второй куплет, без басового сопровождения. Грифф лениво колотит по барабанам. «Это он нарочно, – думает Дин, – в отместку за то, что я на него наехал». Народ в зале не танцует и даже не раскачивается в такт музыке. Все просто стоят, и в их позах ясно читается: «Ну и фигня». Люди начинают расходиться. Джаспер вяло отыгрывает соло. «Если бы он так играл в „Ту-айз“, – думает Дин, – я бы ни за что не присоединился к этой группе». Распахнутые двери у бара так и не закрываются. Народ уходит. «Мы всех распугали». Дин начинает третий куплет, надеясь, что Джаспер поймет намек и заткнется. Джаспер продолжает играть, перебирает струны на последних четырех тактах, как Эрик Бердон из The Animals во вступлении, но это лишь подчеркивает убогое звучание. «Хрень, а не сценическое мастерство, – думает Дин. – Полная лажа».
На последней строке на усилки идет перегруз, они хрипят и завывают, но не стильно, как у Джими Хендрикса, а непрофессионально и беспомощно, как громкоговоритель на сельской ярмарке. Из зала кричат: «Лажа!» Дин согласен с этой оценкой. Он косится на Левона. Тот стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на расходящуюся публику. Участники группы обступают ударную установку.
– Хреново, – говорит Грифф.
– И это еще мягко сказано, – говорит Дин.
– И что дальше? – спрашивает Эльф. – Без фортепьяно «Плот и поток» никто не услышит.
– А если электрическую версию «Куда ветер дует»? – предлагает Левон. – В клубе «Зед» звучало неплохо.
– Да мы так, просто баловались, – говорит Дин. Вообще-то, он считает, что коронной песне Эльф сопровождение ударника нужно, как пропеллер альбатросу.
– Ну, нам терять нечего, – говорит Грифф.
По сравнению со всем остальным «Куда ветер дует» звучит вполне приемлемо. Грифф задает темп, куда медленнее, чем на записанной Эльф версии, Джаспер расцвечивает каждую строку гитарными переборами. Дин наконец-то попадает с Гриффом в такт. Акустической гитары почти не слышно, но к этому времени в зале осталось человек двадцать. Джуд стоит, прижав руки к груди, улыбается Дину. Он изображает ответную улыбку. Внезапно двери распахиваются, и в зал вваливаются человек шесть или семь. «Приплыли», – думает Дин. Судя по всему, новоприбывшие – не студенты, а моды. Бармен складывает руки на груди.
– Пять бутылок пива! Че, плохо слышишь? – гаркает один, перекрывая музыку.
Зрители оборачиваются. «Утопия-авеню» продолжает играть. Дин отчаянно надеется, что кто-нибудь вызовет блюстителей порядка и что за порядком в Брайтонском политехе следит кто-нибудь покруче одышливого охранника.
– Чё, не будешь нас обслуживать? Тогда мы сами себя обслужим! – доносится от барной стойки.
Пространство у бара стремительно пустеет. Даже игроки в настольный футбол торопливо отходят подальше. Моды расхватывают бутылки пива. Пора вызывать полицию, но копы вряд ли приедут вовремя. Песня заканчивается, Джуд и еще несколько человек вежливо аплодируют. Остальные слушатели расступаются, пропуская к сцене модов с бутылками пива. У вожака бычий загривок, крысиные зубы и акульи глаза. Он тычет бутылкой в Эльф:
– Давай, заголяй сиськи!
– Вы не в тот клуб пришли, – говорит Эльф.
– Посетитель всегда прав, лапушка, – заявляет Акулий Глаз. – Ну чё, ребята?
Моды берут друг друга под локотки и начинают отплясывать канкан, со злобными подергиваниями, характерными для закинутых спидами. Шеренга танцующих приближается к сцене и внезапно останавливается.
– Слабайте чего-нибудь, – требует мод в пиджаке из британского флага.
– Только без этих ваших хипповых заморочек, – предупреждает другой.
Левон подходит к краю сцены:
– Ребята, мы играем то, что играем. Если вам не нравится, дверь вон там.
– Америкос, что ли? – притворно удивляется Акулий Глаз. – Фигассе. Как тебя сюда занесло?
– Я канадец, – отвечает Левон. – Менеджер группы. Так что…
– Если выглядит, как педрила, – Акулий Глаз смачно сплевывает на пол, – одевается, как педрила, и пищит, как педрила…
– Скорее всего, наша музыка не усладит ваш слух, – говорит Джаспер. – Будьте так любезны, уходите.
– Будьте так любезны… Уйдите, противные! – передразнивает его Британский Флаг. – А это еще что за маленький лорд Фаунтлерой?
– Эй! – Грифф приподнимается из-за барабанов. – Не мешайте работать!
Майка и всклокоченная шевелюра придают ему угрожающий вид, но Акулий Глаз покатывается со смеху:
– Охренеть! Педрила-америкос, занюханный аристократишка, хипповая телка и йоркширский троглодит… Прям как из анекдота. А ты кто будешь? – Он тычет пальцем в Дина. – Еще один гомик?
Сбоку взмахивает чья-то рука, бутылка летит в Дина. Он вовремя приседает, а Грифф хватается за голову и под звон тарелок падает на барабаны.
– Сто восемьдесят! – выкликает Британский Флаг, будто объявляя очки на турнире по дартс.
Моды торжествующе вопят и улюлюкают, но Грифф не шевелится. Левон с Эльф бросаются к нему. Дин смотрит на Гриффа: лицо рассечено, из раны сочится кровь. «Либо пивной крышкой задело, либо о край барабана разбил», – думает Дин.
– Грифф? – окликает Левон; его рубашка тоже в крови. – Грифф!
– Вотщаскаквстану… – бормочет Грифф.
– Бармен! – кричит Левон. – Вызывайте «скорую»! Немедленно! Ему глаз выбили!
«Непохоже, чтобы глаз… – думает Дин. – Но моды-то этого не знают…»
– Я позвонил охраннику, – откликается бармен. – Он вызовет «скорую» и полицию!
Дин обращается к зрителям, тычет в модов пальцем:
– Запомните их лица!
Моды больше не ухмыляются.
– Будете свидетелями! А вам, уродам, вот за это… – Дин указывает на Гриффа. – Впарят срок. За тяжкие телесные повреждения. Лет пять, не меньше.
Сверкает вспышка. Джуд наводит фотоаппарат на модов.
Еще одна вспышка. Моды отступают на шаг, другой, пятятся к выходу. Все, кроме Акульего Глаза, который подступает к Джуд и рявкает:
– Дай сюда!
Дин отбрасывает «фендер», спрыгивает со сцены. Акулий Глаз пытается отобрать фотоаппарат у Джуд.
– КОМУ ГОВОРЯТ, СУКА! – орет он.
Джуд даже не сопротивляется – бесполезно. Дин выхватывает бутылку эля у какого-то студента и бьет Акульего Глаза по башке. Что-то хрустит. Акулий Глаз выпускает фотоаппарат, поворачивается, тупо глядит на обидчика. «Вот же ж хрень… – думает Дин. – Это я теперь в тюрягу на пять лет загремлю…» К счастью, дружки Акульего Глаза поспешно уводят своего вожака с места преступления.
Моросит дождь, холодной мокрой пеленой окутывает парковку студенческого клуба и всех, кто на ней еще остался. Почти все студенты разошлись. Моды скрылись в ночи.
– Рана вашего приятеля выглядит хуже, чем она есть на самом деле, – поясняет фельдшер «скорой», – но его наверняка оставят в больнице на выходные. Сделают рентген, наложат швы. Проверят, нет ли сотрясения. Хорошо хоть глаз не выбили.
– В общем, забирайте его, а я поеду следом, – говорит Левон.
– Я с тобой, – заявляет Эльф.
– Не надо, – говорит Левон.
Эльф не принимает возражений.
– Дину надо вести Зверюгу в Лондон, а… – Она осекается, и Дин понимает, что она чуть не сказала: «От Джаспера все равно никакого толку». – Короче, я поеду с тобой.
– Ну хоть попрощаться-то с ним можно? – спрашивает Дин фельдшера.
– Можно, только по-быстрому. И не надейся на содержательную беседу.
– Так он же барабанщик, – говорит Дин, обходит машину «скорой» и заглядывает внутрь, в сверкающую белизну. Грифф с перебинтованным лицом сидит на каталке.
– Вот черт, – вздыхает Грифф, увидев Дина. – Это ты. Я умер и попал в ад.
– Не расстраивайся, – говорит Дин. – Шрам заживет, и ты станешь звездой в фильмах ужасов.
– Как ты себя чувствуешь? – спрашивает Эльф, беря Гриффа за руку. – Бедняжка.
– У нас в Гулле бутылка в голову – обычное дело, – хмыкает Грифф. – А где моя ударная установка? Не доверяю я этим студентам.
– Уже в Зверюге, – говорит Джаспер. – Мы ее ко мне отвезем.
– А если сыграешь в ящик, загоним твоей замене, – говорит Дин.
– Где ж вы найдете ударника, который сможет задать ритм – тебе?
– Извините… – произносит девичий голос.
Дин оборачивается. У дверей «скорой» смущенно переминается Джуд:
– Можно, я…
– Залезай, – говорит Левон.
– Простите, пожалуйста. Мне… Как все ужасно получилось…
– Вот пусть студенческий клуб перед нами извиняется, – говорит Эльф. – А ты ни в чем не виновата.
– Вы классно играли, – говорит Джуд, заправляя за ухо непослушную прядь. – Пока эти грубияны не…
– Спасибо за комплимент, – говорит Дин. – Хоть мы его и не заслужили.
– А вы вернетесь? Ну, чтобы продолжить концерт? – спрашивает Джуд.
Все переглядываются.
– Пусть сначала за этот заплатят, – говорит Дин.
Левон фыркает:
– Вот когда Грифф выздоровеет, тогда и подумаем.
Джуд смотрит на Дина:
– Ну, тогда до встречи…
«Кошачьи глаза» вдоль шоссе А23 по дуге убегают под колеса Зверюги. «То они есть, то их нет…» Усилки, барабаны и гитары ездят по салону. «Уезжали вчетвером, – думает Дин, – а возвращаемся вдвоем». Джаспер ушел в себя. Или спит. «А какая разница?» Жаль, что радио не работает. Дин усиленно размышляет. «Хорошо, что Рэй не видел нашего позора». Шенкс, Рэй и остальные справились бы с модами, но стали бы свидетелями провального дебюта группы. На репетициях – все классно, а на сцене – лажа. Группа становится группой, если все ее участники в нее верят. А Дин подозревает, что он сам, Джаспер, Эльф и Грифф в группу не верят. Они не состыковались. Да и как им состыковаться? Что у них общего? Дин с Гриффом оба из рабочих семей, а Джаспер – как с другой планеты. С планеты экстравагантных чудил. Дин живет в его квартире уже восемь недель, но до сих пор так и не понял, что он за человек. Эльф считает Дина невежей. А как иначе? У нее самое страшное ругательство – «черт возьми». Если она не удержится на плаву в шоу-бизнесе, родители ей всегда помогут. У нее есть на кого положиться. Даже Гриффу есть на кого положиться.
– А мне не на кого, – бормочет Дин.
– Что-что? – спрашивает Джаспер.
– Ничего.
Зверюга въезжает в туннель из стволов и ветвей.
По дорожному полотну размазана тушка фазана.
«Остальные нужны мне больше, чем я нужен остальным», – думает Дин. Джаспер может хоть завтра все бросить. Его запросто возьмут в любую лондонскую группу. «И тогда прости-прощай дармовое жилье в Мэйфере». Грифф вернется в джаз. Эльф будет выступать соло. У Левона есть «Лунный кит», контора на Денмарк-стрит и, наверное, серьезные сомнения в том, стоит ли тратить деньги на заведомо провальный коллектив. «А у меня что?» – думает Дин. «Утопия-авеню». Сегодня был дан старт его будущему.
А будущее взорвалось на стартовой площадке. Разлетелось на мелкие кусочки.
Вдребезги.
Мона Лиза поет блюз
– Мы же час назад решили, что третий дубль – самый лучший, – стонет Эльф.
– А шестой точнее, – говорит Левон по селектору из аппаратной. – Дин смазал нисходящий аккорд.
– Так и надо, – настаивает Эльф. – Как раз тогда, когда Джаспер поет «сломан». Такая вот счастливая случайность…
– На шестом дубле Джаспер звучит лучше, – говорит Левон. – И у Гриффа там четче слышно «тик-так, тик-так».
– Если тебе нужен «тик-так, тик-так», поставь в угол гигантский патлатый метроном, наряди в майку и записывай себе на здоровье.
– Эй, дайте слово гигантскому патлатому метроному! – Грифф растянулся на продавленном диване; на левом виске алеет шрам. – Мосс своей бас-гитарой глушит мой рабочий барабан. Давайте сделаем седьмой дубль, только с абсорбером.
– Я специально не ставил абсорбер, – говорит Диггер, звукоинженер «Пыльной лачуги». – Чтоб было как у «Стоунзов». Они всегда так делают.
– Подумаешь, «Стоунзы». – Дин, сидя на усилке, без всякого стеснения ковыряет в носу. – Мы их копия, что ли?
– Брать пример со «Стоунзов» вовсе не означает, что вы их копируете, – заявляет Хауи Стокер, загорелый белозубый совладелец «Лунного кита», будто сошедший со страниц «Плейбоя».
– Ну да, они нашли свой звук, Хауи, – говорит Дин. – Потому они и золотое дно. А не потому, что повторяли за другими, как попугаи.
– Ага, в «Чесс-рекордз» никто не скажет, что «Стоунзы» – попугаи. – Грифф выдувает колечко дыма.
– Да не в этом дело! – Эльф не может вырваться из водоворота кошмара. – Давайте просто…
– Ребята, у меня есть идея, – заявляет Хауи Стокер, резко взмахивая рукой. – Вместо «В темной комнате, как во сне, с тайн срывают покровы века» пойте: «Ша-ла-ла-ла-да, ша-ла-ла-ла-ба…» На прошлой неделе я ужинал с Филом Спектором, он говорит, что «ша-ла-ла» сейчас снова в моде.
– Прекрасная мысль, Хауи, – говорит Левон.
«Только через мой труп», – думает Эльф.
– Дин, это твоя партия, тебе и выбирать. Третий дубль или шестой? Решай уже.
– Я их столько раз слушал, что уже уши плывут.
– Вот именно поэтому Господь Бог создал продюсеров, – заявляет Левон. – Диггер, Хауи и я – за шестой.
– Но мы же все соглашались, что третий… – Эльф изо всех сил сдерживается, чтобы не сорваться на крик, как истеричка. – Пока ты не…
– Да, третий дубль уверенно лидировал, – заявляет Левон, – но шестой поднапрягся и обошел его на финишной прямой.
«Господи, дай мне силы…»
– Спортивная метафора – еще не аргумент. Джаспер, это же твоя песня. Третий дубль или шестой?
Джаспер выглядывает из вокальной кабины:
– Ни тот ни другой. На обоих я звучу как Дилан с гайморитом. А надо с хрипотцой. Давайте сделаем еще один дубль.
– У Фила Спектора есть любимая присказка, – говорит Хауи Стокер. – Не жертвуйте лучшим ради хорошего. Прав он или как?
– Какая звучная фраза, Хауи! – говорит Левон.
«Ну ты и жополиз!» – думает Эльф.
– Слушайте, была бы у нас неделя, я согласилась бы еще на пятьсот дублей. Но у нас всего… – (на часах 8:31), – всего четыре часа и двадцать девять минут, чтобы записать еще две песни, потому что мы столько времени угрохали на эту.
– «Темная комната» – на первой стороне, – напоминает Левон. – Именно она пойдет в эфир и будет звучать из миллионов радиоприемников. Она должна быть безупречной.
– А может, сначала послушать наши с Дином песни, а потом решать, что будет на первой стороне? – спрашивает Эльф. – Иначе…
– Да, но… – начинает Дин.
Эльф не выдерживает, хлопает по клавишам и заявляет:
– Тому, кто меня еще раз перебьет, я засажу «фарфису» прямо в жопу.
Все, кроме Джаспера, ошеломленно разевают рты, а потом понимающе переглядываются, мол, ну да, у кого-то критические дни.
– Мисс Холлоуэй? – В дверь заглядывает Дейрдра, секретарша студии «Пыльная лачуга». – К вам пришла сестра.
«Ее сам Бог послал, иначе я бы точно кого-нибудь убила», – думает Эльф.
– В общем, делайте с этой песней что хотите. Мне все равно. Я иду в «Джоконду». Вернусь в девять.
– Иди, иди, – говорит Левон. – Развеешься.
– Мне твое разрешение не требуется. – Эльф берет пальто и сумку и, не оборачиваясь, выходит.
В приемную врывается свежий ветерок с Денмарк-стрит. Беа стоит у стены, рассматривает фотографии знаменитых клиентов студии «Пыльная лачуга». Эльф нравится новая стрижка сестры, фиалковый берет, сиреневый пиджак и сапоги до колен. Губная помада и лак на ногтях темно-сливовые, в тон.
– Ну ты даешь, сестренка!
Они обнимаются.
– Я не перестаралась? Хотела, чтобы было как у Мэри Куант, но, по-моему, получилось «Мэри, Мэри, все не так…».
– Если бы в приемной комиссии сидела я, то место в академии было бы тебе обеспечено. За необычайное изящество наряда. Ты просто гений.
– Ну, ты судишь пристрастно. – Беа показывает на фотографию Пола Маккартни. – Слушай, а может, волны всеобщего обожания его снова сюда занесут? Я здесь поторчу подольше…
– Пустая надежда, – говорит Дейрдра. – Они здесь провели всего одну сессию, в марте, да и то потому, что на «Эбби-роуд» случилась какая-то накладка.
– Пойдем завтракать, – говорит Эльф. – Съем сэндвич с беконом, глядишь, расхочется загрызть продюсера.
Из студии выходит Хауи, поддергивает брюки:
– Ух ты! И кто эта очаровательная незнакомка?
– Моя сестра, Беа, – говорит Эльф. – Беа, это мистер Стокер, который…
– Породил «Лунного кита». – Хауи обеими руками сжимает ладонь Беа. – Но у меня вообще руки загребущие.
Беа высвобождает ладонь:
– Оно и видно.
Улыбка Хауи ослепляет.
– И какие великие приключения происходят в твоей жизни, Беа?
– Оканчиваю школу, собираюсь поступать в театральное.
– Превосходно. Я всегда говорил, что главная обязанность красоты – являть себя публике. Ты хочешь сниматься в кино?
Дейрдра с грохотом переводит каретку пишущей машинки.
– Может быть, в отдаленной перспективе, – говорит Беа.
– Между прочим, совсем недавно мой старый приятель Бенни Клопп – большой человек на студии «Юниверсал» – попросил, чтобы во время моего пребывания в Лондоне я подыскал для него талантливых юных актрис среди английских красавиц. Вот ты, Беа, явно одна из них. У тебя крупный план с собой?
– Что-что? – недоуменно переспрашивает Беа.
– Ну, фотография крупным планом, вот так. – Хауи складывает пальцы в рамочку на уровне груди Беа. – Бенни ищет актрис для фильма про Калигулу. Про римского императора. В тоге ты будешь просто обворожительна!
– Вы мне льстите, – говорит Беа. – Я еще даже не поступила в театральное. Завтра у меня выпускной экзамен в школе.
– В шоу-бизнесе главное – вовремя обзавестись связями. Верно, Эльф?
– Верно. Только связи должны быть надежные. Проверенные. В шоу-бизнесе хватает всяких акул, авантюристов и аферистов. Верно, Хауи?
– Ах, Беа, твоя сестра мудра не по годам! – говорит Хауи. – Ты знаешь Мартас-Винъярд?
– Нет, – отвечает Беа. – А туда тоже дотянулись ваши руки загребущие?
– Мартас-Винъярд – курорт в Массачусетсе. У меня там дом. Частный пляж, частный причал, яхта. Трумен Капоте – мой сосед. У меня возникла прекрасная мысль. Когда «Утопия-авеню» отправится завоевывать США, – Хауи складывает руки в индийском жесте «намасте», – ты поедешь с ними и погостишь у меня, в Мартас-Винъярд. Я познакомлю тебя с Бенни Клоппом. С бродвейскими знаменитостями. С Филом Спектором. – Хауи облизывает уголок рта. – И твоя жизнь изменится, Беа. Поверь мне. Поверь своей интуиции. Вот что она тебе сейчас говорит обо мне?
– Я чуть было не сказала ему: «Кастрируй себя ржавой ложкой, старый извращенец», – Беа глядит по сторонам, переходя Денмарк-стрит, – но подумала, что все-таки он босс моей сестры, и смолчала.
– Строго говоря, он босс Левона, но действительно может пережать нам кислород, так что спасибо.
Мимо проезжает курьер на мотоцикле.
– А папин приятель-юрист уже проверил ваши контракты?
– Еще проверяет. Надеюсь, что он дотошный. Если честно, я не знаю ни одного музыканта, которого бы не облапошили.
– Экстренный выпуск! – сипло выкрикивает продавец в газетном киоске. – Гарольда Вильсона обнаружили в гробу, с колом в сердце. Экстренный выпуск!
Беа и Эльф останавливаются и ошеломленно глядят на продавца.
– Я просто проверяю, слушают меня или нет. Люди разучились слушать. Да вы сами посмотрите!
Майским днем по Денмарк-стрит спешат прохожие.
– Может, они тебя слышат, но просто думают: «А, в Сохо еще один чудак объявился», – говорит Эльф.
– Не-а, – отвечает продавец. – Люди слышат только то, что ожидают услышать. Большая редкость встретить человека с таким слухом, как у вас двоих.
В дверях «Джоконды» трое парней уступают дорогу сестрам и пялятся вслед Беа. Судя по их одежде и обтрепанным папкам, это студенты школы искусств Святого Мартина, которая находится неподалеку, на Чаринг-Кросс-роуд. Беа шествует мимо, будто их и не существует, и парни уходят.
– Что тебе заказать? – спрашивает Эльф.
– Кофе. С молоком, но без сахара.
– И это весь завтрак?
– Я дома съела половину грейпфрута.
– Отец наверняка поинтересовался бы, достаточно ли этого перед собеседованием. Возьми булочку.
– Нет, не стоит. У меня и так в животе екает.
– Ну как хочешь.
Эльф заказывает сэндвич с беконом и два кофе. Миссис Биггс, хозяйка и матриарх «Джоконды», передает заказ на кухню. Сестры занимают столик у окна.
– А какую декламацию ты выбрала для прослушивания?
– Монолог Жанны д’Арк из шекспировского «Генриха Шестого, часть первая». А музыкальным номером – премилую песенку «Куда ветер дует», сочинение английской фолк-исполнительницы Эльф Холлоуэй. Правда, я не спросила ее позволения. Как ты думаешь, она не будет возражать?
– По-моему, мисс Холлоуэй – кстати, я с ней немного знакома – будет польщена. А почему ты выбрала именно эту песню?
– Она прекрасно звучит без сопровождения. Вдобавок я слышала, как ты ее сочиняла – и об этом я случайно обмолвлюсь на собеседовании, потому что мне совершенно не стыдно хвастаться знакомством со знаменитостями. А где здесь туалет?
– Вниз по ступенькам, вон там, под «Моной Лизой» на стене. Ты там поосторожнее, это как путешествие к центру Земли.
По радио The Kinks запевают «Waterloo Sunset»[29]. Эльф глядит в окно, на Денмарк-стрит. Сотни людей проходят мимо. «Действительность стирает себя и записывает заново, – думает Эльф. – Время не хранит воспоминаний». Она достает из сумки блокнот и записывает: «Воспоминания ненадежны… Искусство – воспоминание, выставленное напоказ». В конце концов время побеждает. Книги рассыпаются в прах, негативы истлевают, пластинки запиливаются, цивилизации погибают в огне. Но пока существует искусство, то песни, образы, чьи-то мысли или переживания тоже продолжают существовать, а значит, ими можно делиться. И другие смогут сказать: «Я тоже это чувствую».
Через дорогу, в кирпичной арке, под рекламой чулок «Берк-шир», целуется парочка. Похоже, кроме Эльф, их никто не видит: они стоят в глубине арочного проема, а прохожие спешат мимо. Они прижимаются лбами, о чем-то говорят. «Нежный лепет, прощанья, обещанья, уверенья…» Он стандартно симпатичен, а вот она – будто первый день весны в женском обличье. Поза, одежда, порывистость, темные волосы до плеч и озорная улыбка – в этом вся она.
«Ты пялишься…» Эльф роется в сумочке, достает пачку «Кэмел», находит зажигалку и прикуривает сигарету. «Ничего я не пялюсь, просто смотрю…» Эльф вспоминает голос, услышанный в прошлом январе, на Кромвель-роуд, в салоне автобуса маршрута 97.
Дверной звонок в доме 101 на Кромвель-роуд прозвучал истошным воплем банши. Гулко ухала музыка.
– Гулянка в полном разгаре, – сказал Брюс.
В тот день они как раз вернулись из Кембриджа, и Эльф хотела остаться дома, но какой-то старый приятель Брюса из Мельбурна – как бишь его? – только что приехал в Лондон, и Брюс хотел с ним увидеться, а Эльф боялась, что если не пойдет с ним, то он заявится домой лишь наутро, с убедительной, но лживой версией своих ночных похождений. Дверь открыл мосластый усатый парень в оранжевой дубленке и с бусами на шее.
– Брюси Флетчер! Заходи, на улице мороз!
– Какбиш! Ты как, засранец?
– Жив. Здоров. На Гидре просто рай. Ты б съездил.
– Да я вот собираюсь… Но пока застрял здесь.
– А это… – Какбиш посмотрел на Эльф, – наверное… мм…
– А это – единственная и неповторимая Эльф Холлоуэй, – объявил Брюс.
Эльф пожала костлявую пятерню:
– Брюс много о тебе рассказывал.
– В Лондоне полным-полно классных австралийцев. Зачем ты выбрала этого бесстыдника? – зубасто оскалился Какбиш.
– Ее привлекла моя неотразимая сексапильность, – заявил Брюс. – И гениальность. И мое огромное состояние.
– Да-да, именно это, – сказала Эльф, которой приходилось оплачивать все счета и расходы.
Какбиш провел их по коридору, мимо фрески с изображением слона, мимо нефритового Будды в нише, мимо молитвенного флажка со словом «Ом», висящего над лестницей. Сквозь вязкую вонь марихуаны, чечевицы и ладана громыхали The Mothers of Invention – альбом «Freak Out!»[30]. В длинном зале собралось человек сорок, все болтали, пили, курили, танцевали, хохотали.
– Эй, познакомьтесь, это Брюс и его подруга Эльф! – объявил Какбиш.
– Привет, Брюс! Привет, Эльф, – откликнулся нестройный хор голосов.
Эльф вручили пиво. Она сделала пару глотков. Откуда-то возникла стройная девушка с густо подведенными глазами, облаченная в нечто медно-золотое.
– Привет! Я – Ванесса. Обожаю твои песни. – Судя по выговору, она была из зажиточной юго-восточной Англии. – «Пастуший посох» – это просто восторг. Вообще-то, я модель. Тут Майк Энглси устроил в студии рождественскую вечеринку, поставил твой альбом и говорит… – Ванесса имитирует акцент кокни: – «А теперь разуйте уши!» И… вау!
– Спасибо, Ванесса, – сказал Брюс. – Мы очень гордимся этим альбомом.
Кто-то тронул Эльф за плечо. Она обернулась.
На нее глазами преданного пса смотрел Марк Болан.
– Ты куда пропала, Златовласка?
– Марк! Мы с Брюсом…
– Я тут слушал «Пастуший посох»… – Марк, густо накрашенный, был в кожаной куртке и небрежно повязанном шелковом шарфе. – Классный материал. Кстати, лучшие вещи показались мне похожими на мои новые. Они как раз в духе твоего лейбла. У меня уже набралось на целый альбом. Не подскажешь, к кому из твоих лучше обратиться…
– Поговори с Тоби Грином. Но шансов…
– С Тоби Грином? Отлично. Он реально протащится от моей идеи. Меня тут торкануло, и я решил написать по песне о каждом из участников Братства во «Властелине колец». С интерлюдией Горлума. А кульминацией станет композиция для Кольца Всевластья.
Сообразив, что ей следует восхититься, Эльф поискала взглядом Брюса, – может, хоть он что-то прояснит. Но Брюс исчез. И Ванесса тоже.
– Ты же читала «Властелина колец»? – спросил Марк Болан.
– Брюс мне давал первый том, но, если честно, я не…
– Я всем говорю, мол, если хотите меня досконально познать, почитайте «Властелина Колец». И все сразу станет ясным.
У Эльф не хватило смелости сказать, что в таком случае она станет держаться от книги на пушечный выстрел. Вместо этого она просто пожелала Марку удачи.
Он поцеловал свой указательный палец и ткнул им Эльф в переносицу:
– Вот приду к Тоби Грину, сошлюсь на тебя.
Эльф с натянутой улыбкой посмотрела на него. Ей очень захотелось умыться.
– Я пойду поищу Брюса. У вас с ним есть о чем поговорить.
Брюса нигде не было. Народу прибавилось. И дыма тоже. Играли The Butterfield Blues Band. Прошло полчаса. Эльф с трудом отвязалась от какого-то фолк-пуриста, который строго отчитал ее за слишком вольное обращение с традиционной версией шотландской народной баллады «Сэр Патрик Спенс», известной с 1765 года (Эльф записала ее для своего альбома «Ясень, дуб и терн»).
Тут появился Брюс:
– Вомбатик, давай-ка я тебя отсюда уведу.
– Куда ты делся? Меня тут…
– Настоящее веселье идет в спальне у Какбиша. Пошли, – сказал Брюс и шепотом добавил: – Тебя все заждались.
– Слушай, мне не очень хочется…
– Пойдем, пойдем, – призывно подмигнул ей Брюс. – Это радикально изменит твою жизнь.
Он провел ее сквозь толпу, вверх по лестнице, потом по крутым ступенькам, мимо влюбленных парочек, а потом еще выше. Он остановился у лиловой двери и выстучал замысловатую дробь. Лязгнул засов.
– Ага. – В дверях стоял Какбиш. – Прошу прощения за таинственность. – Он решительно задвинул засов. – Просто если народ узнает, то двери снесут.
Комнату освещал бумажный фонарь, вращавшийся на треножнике. Свет лучом маяка проплывал по желтым стенам, желто-фиолетовым половицам и камину, закрытому деревянной панелью. В черной вазе стояли черные тюльпаны. За окном виднелся южнокенсингтонский ноктюрн дымоходов, антенн и водостоков. Шесть человек сидели или полулежали на креслах-мешках, подушках и низкой кровати.
– Мы тебя потеряли, – сказала Ванесса. – Ты знакома с Сидом?
Сид Барретт, вокалист Pink Floyd, бренчал на гитаре и безостановочно напевал: «Ну что, понятно? Ну что, понятно?». Эльф он не замечал. Какой-то мужчина в рубашке с розочками погладил окладистую бороду и, сверкнув плешью, представился:
– Ал Гинзберг. Приятно познакомиться, Эльф, – и добавил, показывая альбом Флетчера и Холлоуэй «Пастуший посох»: – Биллу Грэму безумно понравится.
– Аллен Гинзберг? Поэт? – уточнила Эльф у Брюса. – Тот самый Аллен Гинзберг?
На лице Брюса явственно читалось: «Ну я же говорил!»
– Не верьте тому, что обо мне пишут, – сказал Аллен Гинзберг. – Хотя по большей части это правда. Так вот, мой приятель Билл – владелец концертного зала «Филлмор». Слышали про такой?
– Естественно. Это же один из лучших залов Сан-Франциско!
– Он прямо как для вас создан. И фолк в вашем исполнении – больше чем фолк.
– Мы готовы хоть сегодня, – заявил Брюс, – если мистер Грэм организует нам билеты на самолет. Правда, Эльф?
Эльф ошеломленно кивнула:
– Да, конечно.
У дальней стены сидела женщина в джинсовом костюме.
– Я – Афра Бут. А вот этот разгильдяй… – (лежавший у нее на коленях молодой человек приподнял голову в облаке прически афро и лениво помахал рукой), – Мик Фаррен.
«Еще одна австралийка», – подумала Эльф.
– Вообще-то, я скептически отношусь к концепции врат восприятия, но ради науки готова испытать на себе воздействие предмета своего скептицизма, – заявила Афра Бут.
Эльф не поняла смысла сказанного, но, заметив выражение лица Афры, с готовностью согласилась:
– Непременно.
Сид Барретт, не прекращая негромко, демонически напевать «Ну что, понятно?», расстроил гитару.
– Эльф, ты что предпочитаешь? – спросил Какбиш, указывая на столик с напитками. – Бренди? Кусочек сахара?
– Мне лучше просто кока-колу. Я, наверное, слишком правильная.
– Была бы правильная, мы б тебя не пригласили, – заявил Какбиш.
– Эльф, садись сюда! – Ванесса похлопала по своему креслу-мешку. – Я безумно завидую твоему таланту. Ты умеешь играть на фортепьяно и на гитаре! Это вообще улет!
Эльф села, пытаясь понять, с кем пришла Ванесса – с Сидом или с Алленом Гинзбергом, потому что для Какбиша такая, как она, была недосягаемой.
– Я не очень дружу с гитарой. Брюс прозвал меня «Когтем».
– В таком случае Брюс – совершенный негодяй.
Какбиш принес ей кока-колы.
– Ну, за кайфовый приход.
Эльф решила, что это такое австралийское выражение, и отпила глоток темной сладости.
– Ты явно не девственница, – заметила Афра Бут.
«Наверное, это и есть знаменитая феминистская прямота», – подумала Эльф и ответила:
– Да и ты, наверное, тоже…
Афра недоуменно посмотрела на нее:
– Я же только что объяснила…
– Понимаешь, Эльф, – сказал Брюс, улыбаясь, как шаловливый мальчуган, – мы с Какбишем решили сделать тебе подарок на день рождения. Заранее.
– Правда? – Эльф огляделась. Подарка нигде не было.
– Мы тут минут десять как закинулись кислотой, и чтобы ты не скучала…
Эльф посмотрела на свою кока-колу, но в голове не укладывалась мысль, что Брюс без спросу подмешает в газировку ЛСД. Какбиш захихикал.
– Вомбатик, иногда тебя надо подтолкнуть, – сказал Брюс.
Эльф в ужасе поставила бутылку на пол. Ошеломление оказалось сильнее злости, но тревога пересилила ошеломление. Эльф не хотела ловить кайф в присутствии посторонних. Она вообще не хотела ловить кайф. Брюс и некоторые из завсегдатаев «Кузенов» время от времени закидывались кислотой, но Эльф совершенно не привлекали их рассказы об архангелах, пальцах-пенисах и смерти эго.
– Погоди, я правильно поняла? – спросила Брюса Афра. – Ты добавил ЛСД в кока-колу, а своей подруге об этом не сказал?
– Ты расслабься, – посоветовал Брюс Эльф.
Эльф усилием воли подавила желание заорать: «Кретин, да как ты мог?!» На нее смотрел Ал Гинзберг. Если не выдержать эту кислотную пробу, то, наверное, придется распрощаться с мыслью о концертах в легендарном «Филлморе». Она покосилась на бутылку кока-колы, полную на три четверти.
Брюс уселся на пол и обиженно надул губы:
– Это подарок тебе на день рождения. Ты же у нас не тушуешься. – Он посмотрел на Ала Гинзберга и сказал ему: – Она не тушуется.
– Ну что, понятно? Ну что, понятно? – гундел Сид Барретт.
– По-настоящему независимый ум не тушуется, – изрек Аллен Гинзберг. – А если Эльф не готова, то кайф ей обломает.
Эльф вернула Какбишу кока-колу и сказала Брюсу:
– Утром расскажешь мне о своих приключениях.
Брюс мрачно поглядел на нее.
– Приглядывай за ним, пожалуйста, – попросила Эльф Афру.
– Вот еще! – обиженно воскликнула Афра. – По-твоему, я ему в матери гожусь?
На Кромвель-роуд ночь развесила полог дождя. К остановке подъехал автобус 97-го маршрута. В нижнем салоне все места были заняты. Эльф прошла в верхний салон, села на единственную свободную лавочку впереди, прислонила голову к окну и стала обдумывать происшествие в спальне Какбиша с разных сторон. Неужели она только что отказалась от кислотного золотого билета в Сан-Франциско? Неужели она не выдержала важного испытания? Неужели она запуганный узник в темнице своего разума? Автобус остановился у Музея естествознания. По лестнице поднялась усталая карибка, окинула взглядом салон, по-женски просчитывая, куда лучше всего сесть. «Туда, где ко мне не пристанут…» Эльф подумала, что для темнокожей женщины это сложно вдвойне, поэтому кивнула ей, мол, садись рядом. Женщина села, молча кивнула в ответ и тут же уснула. Эльф искоса посмотрела на нее: почти ровесница, только кожа нежнее, губы полнее, волосы, выбившиеся из-под платка, кудрявее и гуще… В вырезе форменного халата медсестры поблескивал серебряный крестик…
«Эльф Холлоуэй – лесби», – заявила Имоджен.
Эльф замерла. Имоджен была в Малверне, в ста сорока милях отсюда, а не сидела в автобусе 97-го маршрута, который ехал из Южного Кенсингтона в центр.
«Лесби, – повторил голос Имоджен. – Лесби, лесби, лесби…»
Эльф либо сошла с ума, либо у нее начались галлюцинации.
«Ты спишь с парнями, чтобы никто не догадался, – продолжал голос Имоджен. – Ты всех обманула – друзей, родителей, Беа, даже саму себя, – но меня не обманешь. Я твоя старшая сестра. Мне не соврешь. Я знаю. И всегда знала. Я знаю, о чем ты думаешь, уже в тот самый миг, когда ты это подумаешь. Брюс – ширма. Правда, ваше лесбиянское величество?»
Эльф закрыла глаза, уговаривая себя, что это действует кислота. Имоджен рядом не было. А Эльф – не сумасшедшая. Настоящие психи не подвергают сомнению здравость своего рассудка.
«Глупости, – заявил голос Имоджен. – Между прочим, ты не отрицаешь, что ты – лесби. Ведь не отрицаешь, ваше лесбиянское величество?»
Сидеть смирно и притворяться, что все нормально, было само по себе ненормально, но Эльф не знала, что делать в таких случаях. Наверное, быстрее и безопаснее доехать домой на такси, но если такси не удастся поймать, то приход застанет ее в промозглом Гайд-парке. А вдруг она вообразит себя рыбой, выброшенной на берег? И сиганет в Серпентайн? И утонет…
«Ну и флаг тебе в руки! Ты толстуха. Песни у тебя дурацкие. И выглядишь ты как мужлан в парике. Неудачница. Музыка у тебя хреновая. Беа тебя поддерживает из жалости…»
– Да, про туалеты ты была права. – Беа садится за столик, здесь и сейчас, в кафе «Джоконда» ясным апрельским днем, через сотню ночей после того, как Эльф, съежившись под одеялом на своей кровати, дожидалась, когда в голове перестанет звучать воображаемый голос Имоджен. – Действительно путешествие к центру Земли. Даже слышно, как под кафельным полом бурлит лава. – Беа замечает парочку под аркой через дорогу; они все еще целуются. – Ого! Вот зажигают!
– Прямо не знаю, куда глаза девать.
– А я знаю. Он весь такой сексапильный. А у нее классная мини-юбка. Помнишь, что мама говорила про мини-юбки? «Если товар не продается…»
– «…то и на витрину его нечего выставлять».
Влюбленные наконец размыкают объятья, отстраняются друг от друга, до последнего держатся за руки, начинают расходиться, а через несколько шагов оборачиваются и машут на прощание.
– Как балет, – вздыхает Беа.
По Денмарк-стрит снуют прохожие. Эльф крутит на пальце серебряное колечко, купленное на барахолке, перед концертом Флетчера и Холлоуэй в Кингс-Линне. Естественно, кольцо купила она сама, а не Брюс – дарить кольца не в его стиле, – но это доказательство, что то воскресенье было настоящим. Что когда-то он ее любил.
– Так когда Брюс вернется из Франции? – спрашивает Беа.
Вчера Эльф пришла домой совершенно измотанная – после восьмичасовой репетиции. В почтовом ящике ее ждали телефонный счет, приглашение дуэту «Флетчер и Холлоуэй» выступить в фолк-клубе на Внешних Гебридах (в прошлом августе) и открытка с изображением Эйфелевой башни. При виде почерка у Эльф сжалось сердце.
Liberté, égalité, fraternité (фр.) – Свобода, равенство, братство. Très amicables! Avec bises (фр.) – Очень дружелюбные. Целую.
Angleterre (фр.) – Англия.
Эльф рассортировала свои мысли. Во-первых, раздражение, потому что мерзавец за сто дней отсутствия прислал одну-единственную жалкую открытку. Во-вторых, злость на непринужденный, приятельский тон – как будто ничего не случилось, будто Брюс не надорвал ей сердце, не расколол пополам дуэт «Флетчер и Холлоуэй» и не оставил ее собирать черепки. В-третьих, унизительную, позорную радость при виде слов «милый», «Вомбатик», «Кенгуренок» и «avec bises»… и приступ ревности при виде слов «мы живем». С кем он там живет? И кто «très amicables»? Француженки? В-четвертых, подозрение, что приятельский тон – всего лишь попытка обеспечить себе пристанище по возвращении в Лондон. В-пятых, снова злость – на то, как нагло Брюс пользуется ее добротой. В-шестых, твердая решимость не пустить его на порог, если он посмеет явиться в квартиру на Ливония-стрит. В-седьмых, страх, что она не сможет этого сделать. В-восьмых, отвращение к себе из-за того, что одна-единственная жалкая открытка до сих пор вызывает у нее острый приступ брюсинита. Эльф набрала полную ванну горячей воды, улеглась в нее и стала читать «Золотую тетрадь» Дорис Лессинг, чтобы отвлечься от мыслей о Брюсе Флетчере, но, к сожалению, Брюс Флетчер отвлек ее от мыслей о Дорис Лессинг. Эльф представляла себе, как Брюс, в шляпе с пробками на веревочках, принимает ванну с француженками…
– Брюс задерживается в Париже, – отвечает Эльф; мимо проходит слепой с собакой-поводырем. – Когда австралийцы попадают в Европу, то хотят увидеть по максимуму. – Эльф поворачивается к Беа, чтобы та не подумала, что сестра прячет глаза.
По радио звучит «Happy Together»[31], хит The Turtles.
– Значит, у дуэта «Флетчер и Холлоуэй» перерыв? – спрашивает Беа.
«Врать Беа – самое противное», – думает Эльф и говорит:
– Типа того.
– А когда «Утопия-авеню» будет записывать альбом?
Между бутылочками кетчупа и соуса «HP» засунута зажигалка. На эмалевом боку изображен красный чертик: рога, хвост и вилы – все как полагается. Эльф берет зажигалку, чиркает колесиком. Появляется пламя.
– Наверное, кто-то из симпатичных студентов забыл.
– Каких еще симпатичных студентов?
Эльф фыркает:
– В театральной академии такое не пройдет.
Беа лукаво улыбается:
– В каком-нибудь романе один из студентов вернулся бы и спросил: «Вы не видели здесь зажигалки?» – а ты сказала бы: «Вот этой?» – а он воскликнул бы: «Ах, слава богу, это подарок моей покойной матушки!» – и ваши судьбы сплелись бы навеки.
Улыбку Эльф сметает широкий зевок.
– Ох, извини.
– Ты устала, бедняжка! С шести утра на ногах?
– С пяти. Ночные смены в студии дешевле. Хауи Стокер, хоть он и плейбой-миллионер, не любит тратить деньги без нужды.
– А вы что-то зарабатываете? Или это нескромный вопрос?
– Нет, не нескромный. И нет, не зарабатываем. У нас было всего четыре концерта, за мизерную плату. Которую приходится делить на пятерых. Я была хедлайнером на фолк-фестивалях, получала намного больше.
– Значит, вы все платите за то, чтобы быть группой?
– Вроде того. Мне еще капают авторские отчисления за Ванду Вертью. Дедушка Джаспера оставил внуку наследство, а у отца Джаспера есть квартира в Мэйфере. Джаспер там пока живет, и Дина пустил на постой, так что им не надо платить за жилье. Грифф поселился в сарайчике у дяди, в Баттерси. Надо бы тебя со всеми познакомить, но… я их больше видеть не могу. Достали.
– Ой. А почему?
Поразмыслив, Эльф говорит:
– Понимаешь, любое мое предложение они поначалу воспринимают в штыки и начинают объяснять, что в нем не так. А час спустя додумываются до того же самого, но совершенно не помнят, что именно это самое я и предлагала. Прям хоть на стенку лезь. Свихнуться можно.
– В театре та же история. Такое ощущение, будто «женщина-режиссер» – оксюморон, как «женщина – премьер-министр». А они всегда так себя ведут?
Эльф морщится:
– Нет, не всегда. Дин огрызается, но это больше от неуверенности в себе. Ну, я так думаю. Когда на них не злюсь.
– А он симпатичный?
– Девчонкам нравится.
Беа корчит рожицу.
– Нет-нет-нет… И не мечтай. Ни за что и никогда. Грифф, наш ударник, с севера Англии. С прекрасными задатками, но неотесанный. Жуткий грубиян. Любит выпить. В отличие от Дина уверенности в нем хоть отбавляй. А Джаспер… Загадочная личность. Иногда такой рассеянный, будто не в себе. А иногда его так переполняют чувства, что остальным становится нечем дышать. Знаешь, в Голландии он какое-то время провел в психиатрической лечебнице, только не рассказывай про это родителям, ладно? Иногда я смотрю на него и думаю, что ему там самое место. Он очень много читает. Учился в Или, в частной школе – у его голландских родственников огромное состояние. Слышала бы ты, как он играет на гитаре! Гениально. У меня нет слов.
– Два кофе и сэндвич с беконом, – объявляет миссис Биггс.
Сестры говорят спасибо, и Эльф вгрызается в сэндвич:
– Ох, то, что доктор прописал!
– А на что похожа «Утопия-авеню»?
Прожевав, Эльф объясняет:
– Получилась очень странная смесь: Динов ритм-энд-блюз, виртуозность Джаспера, мой фолк и Гриффов джаз… Не знаю, готова ли к такому публика.
– А как прошли первые выступления?
– Дебют мы отыграли провально, а закончился он тем, что Грифф получил бутылкой в голову и попал в больницу. Зато теперь у него шрам, как у франкенштейновского монстра.
Беа ахает, прикрывает рот ладошкой:
– О господи! И ты молчала?
– Мы готовы были разбежаться… но Левон пинками погнал нас на второй концерт, в клубе «Золотой сокол». Там все пошло гораздо лучше… до тех пор, пока фанаты Арчи Киннока не стали наезжать на Джаспера и Гриффа за то, что они якобы предали бедного Арчи. Ну, мы ускользнули через черный ход. Третий концерт был в Тотнеме, в пабе «Белая лошадь». На него пришло человек десять, не больше. А под конец туда забрели какие-то любители фолк-музыки, развопились, мол, как я могла продаться за тридцать сребреников, ну и так далее.
– Какой ужас! А что ты им ответила?
– Спросила, где они их видели, эти сребреники. В общем, за выступление нам не заплатили, но Левон не настаивал, чтобы не портить отношения с хозяином паба. Так что все, что я за это заработала, – полпинты шенди и пакетик арахиса.
– Ну почему ты мне раньше этого не рассказывала?
– У тебя и так есть о чем волноваться – экзамены, прослушивания. В конце концов, я сама это выбрала, никто не заставлял. Как сказала бы мама, сама кашу заварила, сама и расхлебывай.
Беа закуривает сигарету.
– А четвертый концерт где был?
Эльф хрустит беконом.
– В «Марки».
– Где? В «Марки»? «Утопия-авеню» выступала в «Марки»? И ты меня не пригласила? В «Марки»! На Уордур-стрит? В Сохо?
Эльф кивает:
– Извини.
– А почему ты мне не сказала? Я б туда половину Ричмонда привела!
– Знаю. А если бы нас освистали?
Беа удивленно глядит на сестру:
– А вас освистали?
Клуб «Марки» на Уордур-стрит – подземелье, в которое уже набилось человек семьсот. Если б кто-то из посетителей умер, то, зажатый толпой, так и остался бы стоять за полночь. Эльф мутило от страха. В программу концерта под названием «Случиться может всякое» входили выступления пяти групп. «Утопия-авеню» шла вторым номером, поскольку была предпоследней в списке, составленном в соответствии с известностью исполнителей, продолжительностью сета и размером гонорара. Последними в списке (и теми, кто открывал концерт) значилась группа из Плимута под названием «Обреченные на неизвестность». Перед «Утопия-авеню», в порядке возрастающей популярности, стояли Traffic, чей дебютный сингл «Paper Sun»[32] занял пятое место в чарте; Pink Floyd, известность которых из темных глубин лондонского андерграунда постепенно распространялась повсюду; и наконец, Cream, чей альбом «Fresh Cream»[33] крутили на своих проигрывателях миллионы тинейджеров. Ходили слухи, что в клуб то ли зашел, то ли собирается зайти Джими Хендрикс. А прямо сейчас в одной из комнат на втором этаже Стив Уинвуд давал интервью Эми Боксер для журнала «Нью мюзикл экспресс». Неизвестно, как Левону это удалось, но «Случиться может всякое» – самое важное показательное выступление «Утопия-авеню». Первое, и если они облажаются, то и последнее.
Эльф смотрела из-за кулис на сцену, где играли «Обреченные на неизвестность», и надеялась, что они соответствуют своему названию. Поклонники Pink Floyd, Traffic и Cream не стали вызывать их на бис.
– Эльф, посторонись, – пропыхтел Левон; он с подручным из «Марки» тащил к сцене «хаммонд».
Эльф захотелось сбежать куда глаза глядят…
…и внезапно время пришло. Эльф с трудом заставила свое непослушное тело двинуться к сцене. Грифф возился с барабанами. Дин и Джаспер выкручивали ручки усилков на те положения, что наметили при саундчеке. Тело отказывалось повиноваться Эльф. Левая рука дрожала, как у бабушки, когда та умирала от болезни Паркинсона. На выступление «Утопия-авеню» выделили полчаса. А вдруг Эльф перепутает аккорды в середине проигрыша «Темной комнаты»? Вдруг публике не понравится электрическая версия «Куда ветер дует»? Вдруг слова «Плота и потока» вылетят у Эльф из головы, как случилось в «Белой лошади»?
– Все будет хорошо, – сказала Сэнди Денни.
– Как здорово, что ты всегда рядом, когда мне это больше всего нужно.
– Вдохни марокканской храбрости, – посоветовала Сэнди, предложив Эльф косячок.
– Ага. – Эльф затянулась, задержала в легких ароматный дымок и выдохнула, сразу же почувствовав себя бодрее. – Спасибо.
– Сегодня много народу, – заметила Сэнди. – Аж завидно.
– Ну, они не нас пришли слушать. – По кончикам пальцев Эльф пробежал электрический разряд.
– Да ну, фигня все это! – Сэнди взмахнула рукой, расплескав пиво, которое нес какой-то монтировщик. – Ой, прости, пожалуйста! Так вот, я слышала, как вы играли на репетиции. У вас четверых что-то есть. Вот и не зажимайте это «что-то», выпустите на свободу. А если… если тут собрались одни идиоты, которые этого не понимают, то… – она похлопала по штабелю усилителей «Маршалл», – включите вот этих монстров на полную мощность, распылите все на атомы. Пусть всем в зале башку снесет.
Подошел Дин:
– Привет, Сэнди! Эльф, ты готова?
Эльф заметила, что левая рука больше не дрожит.
– Победа или смерть!
– А потом мы с тобой выпьем, – пообещала ей Сэнди.
Эльф вышла на сцену, встала за клавиши. Какой-то толстяк подался к сцене и заорал:
– Эй, красотка, стрип-клуб – через дорогу!
Его дружки загоготали. Эльф, с помощью марихуаны освободившись от страха и неуверенности, навела два пальца, как дуло пистолета, прямо в переносицу обидчика и с абсолютно серьезным лицом сделала три воображаемых выстрела, не забыв изобразить после каждого отдачу в локоть. Ухмылку толстяка как ветром сдуло. Эльф дыхнула в воображаемый ствол, покрутила его на пальце, вложила в воображаемую кобуру и склонилась к микрофону, отмахнувшись от распорядителя «Марки», который должен был представить группу публике.
– Мы – «Утопия-авеню», – объявила Эльф клубу «Марки», Сохо и всей Англии. – И мы намерены сразить вас наповал.
Она взглянула на Гриффа. Тот, удивленно приподняв бровь, взял палочки на изготовку. Дин согласно кивнул. Джаспер ждал сигнала Эльф.
– И раз, и два, и…
Эльф кладет в кофе второй кусочек сахара.
– В общем, все прошло хорошо. Мы начали с «Куда ветер дует», потом исполнили рок-композицию Дина, «Оставьте упованья», потом новую песню Джаспера, «Темная комната», а потом мою новую – «Плот и поток».
– Повезло им в «Марки». Но так нечестно! Когда я все это услышу?
– Очень скоро, сестренка.
– А ты познакомилась со Стивом Уинвудом?
– Ну, после того, как мы отыграли на бис, он подошел и похвалил мою игру на «хаммонде».
– Вау! – говорит Беа. – А ты что?
Эльф вдыхает аромат кофе.
– А я пискнула «спасибо», пробормотала что-то бессвязное, а когда он отошел, долго пялилась ему вслед.
– У него классная задница?
– Если честно, я не приглядывалась.
По радио звучит песня Сэнди Шоу «Puppet on a String»[34].
– Слушай, если я когда-нибудь запишу такую же манерную хрень, отчитай меня за тридцать сребреников.
– Ну, ей досталось побольше тридцати сребреников. Эту песню сейчас везде крутят.
Они слушают припев.
Внезапно Эльф не выдерживает:
– Мы разбежались. Ну, мы с Брюсом. Дуэта больше нет. Брюс – в Париже. Он меня бросил. В феврале. Между нами все кончено. – Сердце Эльф колотится, будто все произошло только что. – Вот, теперь ты все знаешь.
«Нет-нет, я не разрыдаюсь. Три месяца прошло».
Эльф готовится выслушать гневную отповедь сестры.
– Я так и знала, – без всякого удивления говорит Беа.
– Откуда?
– Всякий раз, как речь заходила о Брюсе, ты меняла тему разговора.
– А родители и Имми знают?
Беа разглядывает свой лиловый маникюр.
– Если я догадалась, то и мама тоже. Папа без понятия. Имми… по-моему, она прекрасно знает, что вы не будете играть на ее свадьбе. Когда она в последний раз спрашивала тебя про Брюса или заводила речь о музыке для свадебного банкета?
Эльф не может припомнить.
– А почему же ты мне ничего не сказала?
– Из тактичности. – Беа допивает кофе. – Брюс умеет очаровывать, но наличие такой способности у парня – тревожный сигнал. Как черные и желтые полоски у пчелы предупреждают: осторожней, в этом меде скрывается жало.
Эльф дрожит, сама не зная почему. Ее взгляд устремляется к «Моне Лизе» над кассой миссис Биггс. Знаменитая улыбка словно бы говорит: «Из всего, что обещает нам жизнь, гарантировано только одно – страдание».
– Ох, мне пора. – Беа встает, надевает пальто. – Иди записывай свой шедевр. Сказать Имми?
– Да, пожалуйста. – (Это путь наименьшего сопротивления, но так будет легче.) – И маме тоже.
– Если хочешь, после прослушивания я загляну к тебе домой.
– Да, конечно. – Эльф смотрит на часы: 8:58. – Беа, а скажи мне, пожалуйста… Вот я училась в университете. Я бросила университет. Я уже четвертый год держусь на музыкальной сцене. А ты еще школьница. Откуда ты так много знаешь? И почему я знаю так мало? Как так получается?
Беа обнимает сестру:
– В общем и целом я не верю людям. – Она разжимает объятья. – А ты в общем и целом веришь.
Рай – это дорога в Рай
Вторая сторона
Свадебный гость
В конце своего восьмиминутного путешествия от Солнца свет проходит через витражное стекло церкви Святого Матфия в Ричмонде (Лондон) и попадает в темные комнаты Джасперовых глазных яблок. Фоторецепторные палочковые и колбочковые клетки сетчатки преобразуют свет в электрические импульсы, которые по оптическим нервам попадают в мозг, а тот определяет различную длину световых волн как «лазурь Девы Марии», «багрянец крови Христовой», «зелень Гефсиманского сада», а затем распознает образы двенадцати апостолов, по одному в каждом сегменте розеточного окна, похожего на тележное колесо. Зрение рождается в сердце Солнца. Джаспер отмечает, что ученики Христа, в сущности, были хиппи: длинные волосы, балахоны, лица как у укуренных, нерегулярная занятость, духовные убеждения, сомнительные места для ночлега… и гуру. Колесо окна начинает вращаться. Джаспер закрывает глаза и, чтобы не соскользнуть, мысленно перебирает имена двенадцати апостолов, вспоминая давние уроки Закона Божьего и церковные службы: Матфей, Марк, Лука и Иоанн, они же – Великолепная Четверка; Фома, который больше всех нравится Джасперу, за то, что потребовал доказательств; Петр, у которого сложилась самая успешная сольная карьера; Иуда Фаддей и Матфий, сессионные исполнители; Иуда Искариот, которого садистски подставил наш Отец Небесный, преследуя собственные цели. Джаспер не успевает перечислить остальных, потому что слышит стук. Ритмичный, слабый, на пару звуковых уровней ниже голоса викария. Тот самый.
Тук-тук, тук-тук, тук-тук.
Он открывает глаза. Розетка окна больше не вращается.
Стук тоже стихает. «Но я его слышал. Он проснулся».
Джаспера предупреждали, что этот день настанет. Что ж, по крайней мере, муки неведения прекратились. «У меня всего-навсего была ремиссия». Он косится вправо, где Грифф в обтрепанном выходном костюме легонько барабанит пальцами по коленям. Слева Дин пытается вращать одним указательным пальцем по часовой стрелке, а другим – против часовой стрелки. «Мне нравится с ними играть. Я не хочу, чтобы это кончилось».
Может быть, квелюдрин замедлит развитие симптомов.
«Может быть…»
Джасперу было пятнадцать. Вишни вокруг крикетного поля покрылись цветами, белоснежными, как свадебное платье. Джаспер был не сложен для регби и не обладал выдержкой для гребли, зато у него были координация, скорость и терпение, идеально подходившие для стартового состава школьной крикетной команды. Джаспер был полевым на задворках. Шел матч между школой Епископа Илийского и школой Питерборо. Трава была свежескошенной, солнце – жарким. Илийский собор Ноевым ковчегом высился над рекой Уз. Капитан команды, Уайтхед, взял разбег и пустил долгий мяч под ноги бэтсмена. Бэтсмен отбил в сторону Джаспера. Раздались выкрики. Джаспер уже бросился наперерез, перехватил мяч на бегу, в нескольких шагах от границы поля, сэкономив своей команде четыре рана. Точный переброс Уайтхеду заслужил одобрительные хлопки болельщиков. За аплодисментами – или в них, или среди них – Джаспер впервые услышал «тук-тук, тук-тук, тук-тук», что определило, преобразило, изменило и едва не оборвало его жизнь. Звук был похож на легкое касание костяшек пальцев к двери в конце длинного-предлинного коридора… Или на стук крошечного молоточка за дальней стеной. Джаспер огляделся, ища источник звука. Все зрители толпились на противоположной стороне питча. Ближе всех к Джасперу, шагах в сорока от него, стоял Банди, одноклассник.
– Банди! – окликнул его Джаспер.
– Что? – Из-за сенной лихорадки голос Банди звучал гнусаво.
– Слышишь?
– Что?
– Стук.
Они вслушались в первозданную музыку кембриджширского утра: трактор в полях, машины на дорогах, вороны. Соборные колокола начали вызванивать полдень. И за всем этим: тук-тук… тук-тук… тук-тук…
– Какой стук? – спросил Банди.
– Да вот этот – тук-тук… тук-тук…
Банди опять прислушался.
– Скажи, а если у тебя крыша поедет и за тобой придут дядьки в белых халатах, можно я заберу твою биту?
Реактивный самолет размыкал застежку неба. За канатом, над кружевными белыми зонтиками купыря, порхала голубая бабочка. Джаспер чувствовал то, что чувствуют, когда кто-то выходит из комнаты.
Уайтхед начал длинный пробег. Стук прекратился. Или исчез. А может, у Джаспера просто очень хороший слух, а где-то рубили дрова. А может, ему почудилось.
Брошенный Уайтхедом мяч ударил по калитке. Калитка рассыпалась. Деревянные столбики подскочили в воздух.
«Как так?!!»
– Дарами можно наслаждаться всю жизнь или сразу же о них забыть.
Викарий церкви Святого Матфия говорит, как премьер-министр Гарольд Вильсон. Голос звучит плоско, глухо жужжит, словно пчела в жестянке.
– Дары вручают искренне или из желания подольститься. Дары могут быть материальными. Дары могут быть невидимыми: услуга, доброе слово, прощенная обида. Воробей в кормушке. Песня по радио. Еще один шанс. Беспристрастный совет. Согласие. Благодарность – тот самый дар, который позволяет распознавать любые другие дары. Жизнь – бесконечная череда вручения и принятия даров. Воздух, солнечный свет, сон, пища, вода, любовь. Для христиан Библия – дар Слова Божьего, и в этом неоглядном даре скрыты драгоценные слова о дарах, посланные апостолом Павлом страждущей церкви в Коринфе: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познáю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше».
Джаспер, прижавшись ухом к каменной колонне, слышит биение сердца.
Викарий продолжает:
– «Но любовь из них больше». Когда вера отворачивается от вас, советует апостол, обращайтесь к любви. Когда надежда угасает, обращайтесь к любви. Истинно скажу Лоуренсу и Имоджен, что в те дни, когда супружество перестает напоминать благоуханный цветник – а такое случается, – обращайтесь к любви. Просто обращайтесь к любви. Истинная любовь – обращение к любви. Любовь, обретенная без усилий, столь же маловероятна, как сад, возделанный без трудов…
Джаспер глядит на цветы у алтаря. «Вот это и есть свадьба». Он вспоминает маму, задумывается, мечтала ли она о такой свадьбе. Наверное, когда выяснилось, что она беременна, все ее мечты развеялись. Если верить книгам, романтическим комедиям и журналам, день свадьбы – самый счастливый день в жизни женщины. Гора счастья. Целый Эверест. Все очень серьезны в церкви Святого Матфия. «В церкви, в западном Лондоне, на огромном каменном шаре, летящем сквозь космическое пространство со скоростью 67 000 миль в час…»
– А вот и загадочный запоздалый сотрапезник. – Человек в банкетном зале Эпсомского загородного клуба еле помещается на стуле. – Дон Глоссоп, «Дорожные шины „Данлоп“». Старый друг отца Лоуренса. – Его рукопожатие как тиски.
– Здравствуйте, мистер Глоссоп. Я вас помню.
– Да? – Дон Глоссоп выпячивает нижнюю челюсть. – Откуда?
– Я видел вас в церкви.
– Ага, значит, предысторию мы выяснили. – Дон Глоссоп выпускает руку Джаспера. – А это Бренда, моя лучшая половинка. Ну, мне так говорят. Она же сама и говорит.
У Бренды Глоссоп налаченная укладка, броские драгоценности и зловещая манера говорить: «Очарована знакомством».
– Скажи мне, пожалуйста… – начинает Дон Глоссоп и тут же чихает, трубно всхлипывая, как осел. – Вот с какой стати в наши дни молодые люди выглядят как девчонки? Мне, например, зачастую трудно понять, кто есть кто.
– А вы приглядывайтесь повнимательнее, – предлагает Джаспер.
Дон Глоссоп раздраженно морщится, будто Джаспер не понимает, о чем тот ведет речь.
– Я про патлы! Почему ты не стрижешься?
Из церкви Святого Матфия Джаспер ехал в одном автобусе с Гриффом и Дином. Жаль, что их рассадили по разным столам.
Дон Глоссоп смотрит на Джаспера:
– Что, язык проглотил?
Джаспер вспоминает вопрос. «Почему ты не стрижешься?»
– Мне нравится, когда у меня длинные волосы. Поэтому и не стригусь.
Дон Глоссоп щурится:
– Ты похож на педика.
– Это вы так считаете, мистер Глоссоп, а…
– Да в этом банкетном зале любой, кто на тебя поглядит, сразу скажет «педик»! Гарантирую.
Джаспер не смотрит на лица вокруг, отпивает воду из стакана.
– Это мой стакан, – произносит чей-то голос.
«Сосредоточься».
– Если бы у всех гомосексуалов – то есть у «педиков», как вы их называете, – были длинные волосы, то ваше заявление было бы логично. Но длинные волосы вошли в моду всего несколько лет назад. А раньше вы встречали гомосексуалов с короткими стрижками. – Дон Глоссоп непонимающе смотрит на него, поэтому Джаспер решает помочь ему примерами: – В тюрьме, на флоте, в частной школе. Вот у нас, в школе Епископа Илийского, был преподаватель, который любил приставать к мальчикам и носил такой же парик, как у вас. Так что ваша логика ущербна. С вашего позволения и при всем уважении.
– Что? – Лицо Дона Глоссопа заливает нежный багрянец. – Что-что?
«Может, он туг на ухо».
– Я сказал, что у нас, в школе Епископа Илийского, был преподаватель, который любил приставать к мальчикам и носил такой же парик…
– Мой супруг имеет в виду… – вмешивается Бренда Глоссоп, – что он никогда в жизни не сталкивался с подобными типами.
– Тогда почему он так авторитетно рассуждает о «педиках»?
– Это же общеизвестно! – Дон Глоссоп подается вперед, волоча галстук по еде на тарелках. – Все педики патлатые!
– Эти ужасные The Rolling Stones тоже все патлатые, – говорит женщина в пушистом ореоле сиреневых волос. – Просто отвратительно.
– В армии им быстро мозги бы вправили. Очень жаль, что всеобщую воинскую повинность отменили, – заявляет человек в строгом галстуке и с медалью на лацкане. – Так сказать, вколотили еще один гвоздь в гроб.
– Вот и я о том же, генерал, – говорит Дон Глоссоп. – Не для того мы разнесли нацистов в пух и прах, чтобы всякие там доморощенные бездельники-гитаристы превратили Великобританию в страну «йе-йе-йе!» и «о-о-о-о беби!».
– Отец этого, как его там, Кита Джаггера, работал на фабрике, – говорит Бренда Глоссоп. – А теперь его непутевый сынок обзавелся роскошным тюдоровским особняком.
– К счастью, «Ивнинг ньюс» рассказала, чем именно они там занимаются, – говорит Пушистый Ореол.
– Надеюсь, судья Блок призовет их к ответу по всей строгости закона, – говорит генерал. – А ты, конечно, ими восхищаешься.
– Эти дикие завывания даже музыкой не назовешь! – заявляет Дон Глоссоп. – Вот «Strangers in the Night»[35] Фрэнка Синатры – это музыка. «Land of Hope and Glory»[36] – тоже музыка. А этот ваш рок-н-ролл – гадкие громыхания.
– Вполне возможно, что для сэра Эдуарда Элгара «Strangers in the Night» были гадкими громыханиями, – возражает Джаспер. – Каждое новое поколение вырабатывает свою эстетику, это факт. Почему вы воспринимаете это как угрозу?
– Джаспер! – говорит сестра Эльф, Беа, которая поступила в Королевскую академию драматического искусства. – Прости, но ты сел за чужой стол.
– Оно и видно, – говорит генерал.
– А… – Джаспер встает и отвешивает легкий поклон гостям за чужим столом. «Будь вежливым». – Очень приятно было с вами познакомиться…
За своим столом, кое-как выдержав закуски (креветочный коктейль) и горячее блюдо (coq au vin)[37], к десерту Джаспер начинает тонуть в разговорах. Левон и бухгалтер из Дублина обсуждают изменения в налоговом кодексе. Дин с шафером Лоуренса обсуждают Эдди Кокрана. Грифф что-то нашептывает в розовеющее ухо хихикающей подружки невесты. «Смотри на них…» Вопрос; ответ; шуточка; факт; сплетня; реакция на сплетню. «С какой легкостью у них все получается…» Джаспер свободно говорит по-английски и по-голландски, неплохо по-французски, сможет объясниться на немецком и на латыни, но язык мимики и интонаций для него непостижим, как санскрит. Джаспер знает все признаки того, что ему не удалось удержать внимание собеседника: легкий наклон головы набок, замедленный кивок, сощуренные глаза. Такое неумение можно списать на эксцентричность, поэтому спустя час Джаспер не выдерживает и сдается. Неизвестно, является ли его мимическая и интонационная дислексия причиной или следствием дислексии эмоциональной. Он знает, что такое скорбь, злость, зависть, ненависть, радость и весь остальной спектр обычных эмоций, но сам ощущает их всего лишь как легкие перепады температур. Если нормальные люди о нем такое узнают, то не будут ему доверять, поэтому Джаспер вынужден вести себя как один из Нормальных, но постоянно допускает ошибки. А когда он допускает ошибки, Нормальные думают, что он хитрит или издевается. Всего четыре человека на свете и одно бесплотное существо воспринимают Джаспера таким, какой он есть. Но Трикс в Амстердаме, доктор Галаваци ушел на пенсию, Grootvader[38] Вим умер. Формаджо неподалеку, в Оксфорде, а вот пути Джаспера и Монгола больше не пересекутся.
Пятой могла стать Мекка, но ее умыкнула Америка.
«Человек – тот, кто уходит». Джаспер прикидывает, сколько времени займет десерт, кофе и застольные речи. На его часах 10:10. Не может быть. Он подносит часы к уху. «Время остановилось». Он не способен придумать какую-нибудь убедительную отговорку, поэтому незаметно ускользает. Попадает в коридор, где на стенах висят невыразительные английские пейзажи, а на ковре под ногами роятся точки. В двери вваливается толпа игроков в гольф, болтают с удивительной скоростью и громкостью. Лестница предоставляет спасительный выход…
С террасы на крыше, где стоит скамья и вазоны с цветами, открываются виды на гольф-корт, кроны деревьев и кровли Эпсома. День разморенный, полный пыльцы. Джаспер прикуривает «Мальборо» и ложится на скамью. В небе обломками кораблекрушения дрейфуют неприкаянные облака. «Вдыхай все это и выдыхай все это». Джаспер вспоминает лето в Домбурге, лето в Рийксдорпской лечебнице, лето в Амстердаме. «Время – это то, что не позволяет случаться всему одновременно». Джаспер вспоминает прошлый четверг, вид из окна в кабинете Левона на третьем этаже. Туда долетала вонь из мусорных баков. Через пару улиц на плоской крыше загорали три женщины в бикини. Наверное, там был публичный дом – все-таки это Сохо, – и у женщин был перерыв. Две были чернокожими. Одна включила транзистор на полную громкость, и до Джаспера донесся еле слышный голос Ринго Старра: «With a Little Help from My Friends»[39].
– Джаспер, ты не хочешь к нам присоединиться? – спросил Левон.
– Я здесь. – Джаспер отвернулся от окна.
– Ну и что они сказали? – спросил Дин. – Мы заключаем договор?
– Сначала я отвечу на твой второй вопрос, – сказал Левон. – Нет, договор мы не заключаем. Все четыре лейбла нам отказали.
Все молчат.
– Вот радость-то! – сказал Дин. – Поздравляю!
– Мог бы и по телефону сообщить, – сказал Грифф.
– А все-таки что они сказали? – спросила Эльф.
– Тони Рейнольдсу из ЭМИ демки понравились, но у них уже есть андерграундная группа. Pink Floyd.
– Но мы с Эльф звучим совсем не так, как Pink Floyd! – возмутился Дин. – Он все три демки прослушал? Или только «Темную комнату»?
– Да, я сидел с ним рядом. Но он все равно отказал.
– А Вик Уолш из «Филипс-рекордз»? – спросила Эльф.
– Вику в общем понравилось, но он все время спрашивал: «А кто здесь Джаггер? А кто здесь Рэй Дэвис? Кто лицо группы?»
– А кто лицо долбаных The Beatles?
– Вот и я о том же, – сказал Левон. – А Вик мне и говорит: «The Beatles – это исключение, которое подтверждает правило», а я ему: «Нет, The Beatles подтверждают правило, что каждая великая группа – это исключение», а он мне: «„Утопия-авеню“ – не The Beatles», а я ему: «В том-то все и дело».
– А долбаные «Пай-рекордз» на что сослались? – спросил Грифф.
– Мистер Эллиот заявил, цитирую: «Из-за Эльф парни не будут фанатеть с группы. Из-за Эльф девчонки не будут убиваться по Дину и Джасперу и ссать кипятком».
– Это абсурдное и оскорбительное заявление… и вдобавок отдает инцестом, – возмутилась Эльф. – Дурацкая причина для отказа.
– Мистер Эллиот намекнул, что если мы расстанемся с Эльф и сделаем группу клоном Small Faces, то он, возможно, изменит свое мнение.
Эльф шумно выдохнула, будто ее кто-то ударил.
– Разумеется, я его послал куда подальше, – сказал Левон.
– Нет уж, пусть берут нас в комплекте, – заявил Грифф.
Дин закурил сигарету:
– А что сказали в «Декке»?
– Дерек Берк видел вас в «Марки»… – Левон откинулся на спинку скрипучего кресла. – Ему нравится ваша энергия, но он не уверен, стоит ли «Декке» вкладывать деньги в ваш эклектический стиль.
– Короче, нас загнали в угол, – сказал Грифф. – «Большая четверка» дала нам под зад. И что теперь?
– Не отрицаю, это весьма огорчительно, – сказал Левон, – но…
– Так, дело – полный швах, – простонал Дин. – У меня теперь ситуация даже хуже, чем в январе. Я на мели, полгода воздухом питаюсь, а в результате что?
– Замечательная группа, три прекрасные демки, небольшая, но уверенно растущая армия поклонников, пять или шесть классных песен. И движение в нужном направлении. Перспективы.
– Ага, если мы такие замечательные, то где наш контракт на альбом? Вон, Чез Чендлер выбил контракт для Джими Хендрикса всего за три недели!
– И вон, у этих тоже контракты есть! – Дин кивнул на афиши Дика Спозато и сестер Спенсер.
Левон скрестил руки на груди:
– Хендрикс – гениальный ритм-энд-блюзовый гитарный виртуоз. Дик – крунер, менеджером которого я стал по просьбе Фредди Дюка. Сестры Спенсер исполняют популярные арии для широкой публики и для слушателей передачи «Воскресные песнопения». Их пристроить легче легкого. А вот «Утопия-авеню» – совсем другое дело. Вас невозможно втиснуть в рамки известных категорий, поэтому поначалу вас отвергают. Если это вас расстраивает или если вы считаете, что я для вас плохо стараюсь, – то вот, пожалуйста, дверь не закрыта. Все свободны. Вас никто не держит. Бетани вышлет вам уведомления о расторжении нашего с вами договора.
Грифф и Дин переглянулись, но не двинулись с места.
Джаспер смотрел на часы над головой Левона.
На одном циферблате было выставлено лондонское время, на другом – нью-йоркское, на третьем – лос-анджелесское.
– Я был не прав, – признал Дин.
Грифф вздохнул:
– Ага. И я тоже.
– Ну, считайте, что ваши так называемые извинения приняты, – сказал Левон.
Эльф стряхнула пепел с сигареты:
– И что делать дальше?
За низким столиком сидят четверо: бритоголовый настоятель, чье лицо навеки запечатлено в памяти Джаспера, его послушник, градоправитель со своим верным камергером. Подсвеченные грезами ширмы расписаны хризантемами. Из тыквенной бутыли, красной, как кровь, послушник наливает прозрачную жидкость в четыре неглубокие чашечки, черные, как сажа. Звенят хроматические переливы птичьих трелей.
– Жизнь и смерть неразделимы! – провозглашает градоправитель.
Все четверо поднимают чашечки, чествуя странное заявление.
Настоятель пьет лишь после того, как видит, что градоправитель осушил свою чашечку. Они обмениваются любезностями, и лишь потом Джаспер понимает, что здесь присутствует и пятый гость – Смерть. Шероховатые донышки чашечек изнутри смазаны ядом, без цвета и запаха. Сакэ растворило яд, и теперь он в крови всех четверых. Градоправитель и его камергер приняли яд, чтобы настоятель его тоже выпил.
Настоятель все понимает. Этот сценарий написан. Он тянется к мечу, но рука одеревенела. Все, что он может, – это замахнуться кулаком на чашечку. Она катится по полу, подпрыгивая, словно плоский камешек по воде.
– Термит двуногий, наши догматы работают! – говорит он градоправителю. – Елей из душ на самом деле дарует бессмертие!
Они говорят о мести, о правосудии, об убитых женщинах, о принесенных в жертву младенцах, а потом камергер падает грудью на доску для игры в го, черные и белые камни разлетаются в разные стороны. Следом на пол оседает послушник. На губах пенится кровь и слюна. На белый камень садится черная бабочка и раскрывает крылышки…
Тук-тук… тук-тук… тук-тук…
– Вот ты где, Спящий красавец.
Джаспер открывает глаза и видит Беа. Она совсем рядом, смотрит на него. Потом наклоняется и целует его в губы. Джаспер не возражает. Ее пальцы касаются его лица. «Приятно». Звенят хроматические переливы птичьих трелей. Они встречались два раза: когда Эльф привела ее на репетицию к Павлу, в клуб «Зед», и еще в «Кузенах», где «Утопия-авеню» играли сет. Беа отводит голову назад:
– Только не говори Эльф.
– Как тебе угодно, – отвечает Джаспер.
– Когда натыкаешься на Спящего красавца, ничего другого не остается. Только не воображай.
– Не буду, прекрасная принцесса.
Она садится на скамейку напротив.
«Сад на крыше. Загородный клуб. Свадебный банкет». Джаспер занимает сидячее положение. В небе обломками кораблекрушения дрейфуют неприкаянные облака. «Вдыхай все это и выдыхай все это».
– Речи закончились? Я долго спал? Нам уже скоро играть?
Беа отсчитывает ответы на пальцах:
– Почти. Не знаю, я по часам не замеряла. Да, скоро.
На ней чернильно-синее облегающее платье. Она обладает отчетливой, яркой красотой, которой так не хватает сестрам.
– Ты переоделась, – говорит Джаспер.
– Наряд подружки невесты – не мой стиль. Эльф попросила тебя отыскать и передать сообщение.
Внизу хлопает дверца машины. Беа берет Джасперову пачку «Мальборо» и зажигалку.
Джаспер терпеливо ждет.
Беа выдыхает дым:
– Она сказала: «Чтоб через двадцать минут был на сцене». Это было пять минут назад, так что уже через пятнадцать.
– Передай ей: «Спасибо за сообщение. Я приду».
Беа странно смотрит на него.
«Она еще чего-то ждет?»
– Пожалуйста.
– А как тебе в одной группе с моей сестрой?
– Мм… приятно?
– Как это?
– Она очень талантливая. Хороший клавишник. Голос у нее невесомый и с хрипотцой. Песни сильные.
Самолетик оцарапывает небеса.
Беа сбрасывает туфли, садится, скрестив ноги. Лак на ногтях небесно-синий, как лампа Трикс.
«Может быть, мне полагается задать ей вопрос».
– Откуда ты знала, где меня искать?
– Представила себе, что я – это ты, и подумала… – Беа очень убедительно имитирует Джаспера: – «Как бы мне отсюда выбраться?»
– А это было трудно или легко?
– Ну, я же тебя нашла.
Летний ветерок колышет лаванду в вазонах.
Беа затягивается, передает сигарету Джасперу. На фильтре розовый след губной помады.
– Сыграйте «Темную комнату», – говорит она. – Мне нравится «Оставьте упованья» и «Плот и поток», но, по-моему, «Темная комната» будет вашим первым хитом. Напоминает «Сержанта Пеппера». Цветовой гаммой. Общим настроем.
Джаспер задумывается, что будет, если он коснется ее руки, но, по словам Трикс, дама должна сделать первый шаг. У него сухо в горле.
– Ты же слышал «Сержанта Пеппера»?
Занавеска выбилась за приоткрытое окно в кабинете Левона. Джаспер лежал на диване и наблюдал за остальными, когда все слушали первую сторону. Эльф, удобно устроившись в бархатном кресле, изучала тексты. Дин растянулся на ковре. Левон сидел за обеденным столом, уставившись на миску с яблоками. Грифф прислонился к стене, подергивая руками в такт Ринго. Все молчали. Джаспер узнал песню, про которую ему рассказывал Рик Райт в клубе «UFO».
После балаганной, ярмарочной «Being for the Benefit of Mr. Kite!»[40] Левон перевернул пластинку. Звуки ситара Джорджа Харрисона ниспадали каскадами, метались непоседливой кометой… и преображались в кларнет в «When I’m Sixty Four»[41]. Джаспер заметил, как два звука производят третий. Последняя композиция, «A Day in the Life»[42], была миниатюрной копией всего альбома, как Псалтырь – миниатюрная копия всей Библии. «Надерганные из новостей» фрагменты Леннона контрастировали с обыденными строками Маккартни, но вместе они сияли. В конце безумное оркестровое крещендо вихрем вздымается к финальному аккорду, взятому в десятки рук на многих фортепьяно. Звукорежиссер постепенно увеличивает чувствительность микрофонов, доводя до максимума, и неимоверно растягивает звучание затухающего аккорда. Это напомнило Джасперу миг перед пробуждением, когда в сон вторгается реальный мир. На выбеге звучал закольцованный кусок, на котором все участники группы со смехом пели что-то нечленораздельное.
Игла поднялась с пластинки, звукосниматель щелкнул, укладываясь в гнездо.
В июньских деревьях Квинс-Гарденс ворковали голуби.
– Офигеть, – с долгим извилистым вздохом сказал Дин.
– Вау! – выдохнул Левон. – Это просто какое-то странствие духа.
– Ну, я всегда считал Ринго везунчиком, но это… – сказал Грифф. – Даже не представляю, как ему удалось все это отстучать!
– Вся студия превратилась в некий метаинструмент, – заметила Эльф. – И все словно записано на шестнадцати дорожках. Но шестнадцатидорожечных пультов не бывает!
– А бас звучит так четко, – сказал Дин, – будто его записали последним, а потом наложили поверх остального. Такое вообще возможно?
– Только если все остальные части записывать под ритмическую дорожку у каждого в голове, – ответила Эльф.
– Хорошо, что они больше не гастролируют, – сказал Дин. – Вживую так ни за что не сыграть.
– Отказ от гастролей дал им свободу. Вот они и решили, мол, да пошли все на фиг, запишем, что хотим.
– Ну, это только Битлам можно не гастролировать, – заметил Левон. – А всем остальным обязательно. Даже Стоунзам. В общем, ваш менеджер сказал свое веское слово.
– А обложка какая! – Эльф подняла альбомный конверт. – Цвета, коллаж, разворот с текстами… Потрясающе.
– Вот бы нашему альбому что-нибудь такое же классное, – сказал Дин.
– Для этого надо, чтобы лейбл полюбил вас без памяти, – предупредил Левон.
– Кстати, вот в «Темной комнате» текст рискованный, – сказал Грифф, – но «Lucy in the Sky with Diamonds»[43] – вообще улет. Это же про ЛСД!
– Ага. И в последней вещи, «A Day in the Life», тоже, – добавил Дин. – Там явно про травку.
– Слушайте, по-моему, The Beatles взорвали психоделию, – сказала Эльф. – Такое не переплюнешь.
– Нет, они пока только запалили фитиль, – возражает Левон. – После «Сержанта Пеппера» «Темная комната» – самое то. В общем, решено. Первым синглом «Утопия-авеню» будет «Темная комната».
На улице фургон мороженщика вызванивал «Апельсинчики как мед…». Дрожащий звон отражался от оштукатуренных фасадов георгианских особняков Квинс-Гарденс. Джаспер услышал свое имя.
Все смотрели на него.
– Что?
– Я спрашиваю, – сказал Дин, – что ты думаешь про альбом?
– Ты ж не станешь наклеивать ярлык на луну… А тут – искусство.
Спустя две недели Джаспер видит знакомое лицо в зеркале над соседним умывальником. Отражение принадлежит отцу Эльф.
– Поздравляю с замужеством дочери, мистер Холлоуэй.
– А, Джаспер. Как тебе свадьба?
Джаспер сдерживается, чтобы не сказать «никак», но ответить «хорошо» – значит соврать, поэтому он говорит:
– Превосходный креветочный коктейль.
По какой-то причине мистер Холлоуэй находит это забавным.
– Все эти мероприятия устраивают женщины, исключительно для самих себя, – заявляет он. – Только, чур, я этого не говорил.
Джаспер отмечает про себя, что с ним поделились секретом и сестра Эльф, и отец Эльф.
– Спасибо, что порекомендовали нам юриста. Он проверил наши контракты.
– Время покажет, как строго мистер Фрэнкленд блюдет финансовую добросовестность, но, если верить юристу, свои души вы никому не заложили.
Джаспер пытается сострить:
– Да, говорят, они нам еще пригодятся.
Отражение мистера Холлоуэя морщит лоб:
– То есть?
«Шутка не удалась».
– Ну, как утверждают легенды и церковники, душа – вещь полезная. Вот и все.
Тарахтит ролик полотенцесушилки.
– А, понятно. – Тембр голоса мистера Холлоуэя меняется. – Эльф упоминала, что ты учился в школе Епископа Илийского. Среди моего начальства в банке тоже есть ее выпускники.
– Я там учился до шестнадцати лет, а потом переехал в Голландию. Видите ли, у меня отец – голландец.
– И как он относится к тому, что ты отверг преимущества, которые дает хорошее образование, и решил податься в поп-группу?
Джаспер смотрит, как отец Эльф вытирает руки, тщательно, палец за пальцем.
– Отец не вмешивается в мою жизнь.
– Вот-вот, мне говорили, что в Голландии вседозволенность – распространенное явление.
– Не столько вседозволенность, сколько равнодушие.
Мистер Холлоуэй вытягивает чистый отрезок полотенца, для следующего посетителя туалета.
– Во всяком случае, я точно знаю, что в мой банк ни за что не примут на работу человека, у которого в резюме значится «играл в группе». Независимо от того, где он учился.
– Значит, вы не одобряете «Утопия-авеню»?
– Я все-таки отец Эльф. Участие в группе вряд ли поможет карьере моей дочери. И потом, это же опасно! А если бы в Брайтоне бутылка попала в голову ей? Шрамы украшают мужчину, а вот женщину они уродуют.
– Поэтому в некоторых клубах исполнители выступают в клетках.
– По-твоему, это должно меня утешить?
– Ну… – «Это вопрос с подвохом?» – Да.
Резкий смех мистера Холлоуэя гулко разносится по туалету.
– А вдобавок в этом вашем «андерграунде» полным-полно наркотиков.
– Вообще-то, наркотики везде. По статистике, пятая часть приглашенных на эту свадьбу принимает диазепам. А ведь есть еще никотин, алкоголь и…
– Ты нарочно дурачком прикидываешься?
– Мистер Холлоуэй, я не знаю, как прикидываться дурачком.
Банковский управляющий недоуменно сводит брови, будто у него не сходятся цифры в графе отчетности:
– Нелегальные наркотики. Которые… на которые «подсаживаются» и из-за которых сигают с крыш и так далее.
– Вы имеете в виду ЛСД?
– В «Таймс» пишут, что это эпидемия.
– Это они в погоне за сенсацией. Люди сами выбирают, принимать им рекреационные наркотики или нет. Наверняка многие ваши сотрудники такими баловались.
Отец Эльф повышает голос:
– Уверяю тебя, этого не может быть!
– Откуда вы знаете? – все так же негромко спрашивает Джаспер.
– Потому что наркоманов среди них нет.
– Вы любите выпить, но вы – не алкоголик. С наркотиками то же самое. Они вредны, если их принимать регулярно, а не эпизодически. Правда, есть одно исключение – героин. Это на самом деле ужасно.
В туалетном бачке капает: кап, кап, кап.
Мистер Холлоуэй хватается за голову.
«Отчаянно или раздраженно?»
– Вот я слышал твою песню «Темная комната». Там слова… Ну, ты вроде как признаешь, что песня написана… – (Джаспер прекрасно знает, что ему не стоит и пытаться завершать чужие предложения), – что песня написана, исходя из твоего личного опыта… приема наркотиков?
– Я написал «Темную комнату», вдохновленный знакомством с одной немецкой девушкой-фотографом. У нее была темная комната. Фотолаборатория. Мне вообще нельзя принимать психотропные препараты, они негативно воздействуют на мою психику. Амфетамины для меня не так опасны, но из-за них я могу забыть слова или смазать аккорды. Так что я не увлекаюсь наркотиками.
Мистер Холлоуэй щурит глаза, оглядывает туалет и смотрит на Джаспера:
– А… Эльф? – На его лбу выступает испарина.
– И Эльф не увлекается.
Мистер Холлоуэй кивает:
– Все-таки ты очень странный молодой человек. Чудак. Но я рад, что мы с тобой поговорили.
– Может, я и чудак, но чудак честный.
Дверь распахивается, в туалет вваливается Грифф, задом. Волосы у него всклокочены, на виске багровеет шрам, а голова обвязана галстуком.
– Король Грифф сейчас вернется! – обещает он двум хохотушкам. – Вот потопит «Бисмарк» – и сразу к вам. – (Дверь захлопывается.) – А, де Зут, ты здесь? А Дин решил, что тебя унес волшебный дракон Пых.
Мистер Холлоуэй таращит глаза на Гриффа.
«Растерянно или возмущенно?»
Мистер Холлоуэй переводит взгляд на Джаспера.
«Сердито?»
Мистер Холлоуэй выходит из туалета.
«Кто его знает».
– Что это с ним? – спрашивает Грифф. – Все-таки свадьба, а не похороны.
«Утопия-авеню» начинает выступление с «Куда ветер дует». Эльф поет и аккомпанирует себе на акустической гитаре; Грифф работает щеточками, только в том месте песни, когда ему в голову швырнули бутылку, он бухает в бас-барабан, лихо подбрасывает палочку, ловит ее и крутит в пальцах, как тамбурмажор. Вторую песню, «Мона Лиза поет блюз», пока еще недоработанную, Эльф исполняет за фортепьяно. Бас-гитара Дина поддерживает басы фортепьяно, а в проигрыше Джаспер вступает с замысловатым лирическим соло. Женщины внимательно вслушиваются в слова (Эльф меняет их на каждой репетиции). После этого Грифф берется за палочки по-серьезному, и Дин запевает «I Put a Spell on You»[44], а Эльф подыгрывает ему на пианино. Гости помоложе выходят танцевать, поэтому песню растягивают и Джаспер выдает саксофонное соло на «стратокастере». Он смотрит в зал, видит танцующих молодоженов и думает: «Если бы я умел завидовать, то позавидовал бы этим двоим: они нашли друг друга, и у них есть любящие родные и близкие». Беа тоже танцует, с высоким красивым темноволосым студентом, но смотрит на Джаспера. Он мягко передает соло Дину, который исполняет проигрыш слэпом. Клайв и Миранда Холлоуэй сидят за столом. Джаспер не понимает выражения лица мистера Холлоуэя. Отец Эльф накрыл ладонью руку жены. Наверное, успокоился. «Музыка объединяет». Глоссопы сидят скрестив руки на груди, напряженно выпрямив спины. Даже Джасперу ясно, что они недовольно кривятся. «Музыка объединяет, но не всех…»
И тут Джаспер замечает, что Дон Глоссоп отбивает ритм носком туфли, а его жена чуть заметно кивает головой в такт мелодии.
«А может, и всех…»
Стук, который Джаспер слышал на крикетном поле во время игры с командой школы Питерборо, не повторился на следующий день. И на следующий. И на следующий за ним. Джаспер убедил себя, что никакого стука и вовсе не было. Однажды после обеда староста корпуса Свофхем-Хаус отправил Джаспера в собор, отнести ноты регенту хора. Порывы восточного ветра срывали последние цветы с вишен и подталкивали Джаспера в спину, так что он почти бежал по Галерее, одной из средневековых улочек Или. Где-то впереди гулко хлопала дверь, распахиваясь и закрываясь, распахиваясь и закрываясь. Он только поравнялся с аркой, как вдруг деревянная створка старинной калитки сорвалась с петель, пролетела в шаге от головы шестнадцатилетнего Джаспера и, с демонической силой ударившись о противоположную стену, рассыпалась в щепки. От свернутой шеи, сломанных ребер и пробитого черепа Джаспера спасло чудо. Напуганный этим происшествием, Джаспер, однако же, поспешил к главным воротам и вошел в полумрак собора. Трепетало пламя свечей. Звучали аккорды органа. По залу расхаживали редкие туристы, но Джаспер не стал любоваться шедевром средневековой архитектуры. В такой вечер лучше сидеть дома. Он прошел по клуатру в капитул, где находился кабинет регента, приблизился к двери и собрался постучать, но тут…
Тук-тук…
Джаспер еще не постучал, но уже услышал стук.
Он огляделся.
Никого.
Он осторожно поднес руку к двери.
Тук-тук…
Но ведь он не касался двери!
Может быть, кто-то стучит в дверь изнутри?
Зачем? Или это шутка? Разве это смешно?
И откуда неведомый шутник знает, когда стучать? В двери не было глазка.
Джаспер в третий раз приготовился постучать в дверь.
Тук-тук…
Наверное, в кабинете регента кто-то был.
Джаспер толкнул тяжелую дверь.
Она приоткрылась.
Регент хора сидел за письменным столом, в дальнем конце комнаты, и читал газету «Таймс».
– А, де Зут! Где твои манеры? Пора бы уже запомнить, что прежде, чем войти, положено стучаться…
Пурпурное пламя
Дин крутит руль, Зверюга сворачивает с шоссе А2 на кольцевую развязку у Ротэм-роуд. «Чудом добрались». В Блэкхите спустило колесо. Пока Дин с Гриффом его меняли, Джаспер сидел на обочине. «Интересно, как у богатеньких получается владеть миром, если по жизни от них никакой пользы…» Мотор Зверюги взрыкивает. «Если накроется карбюратор, то придется потратить еще пятнадцать фунтов, вдобавок к пяти за колесо». Несмотря на два-три выступления в неделю, долг Дина «Лунному киту» и «Сельмеру» выражается в немыслимой сумме. «Когда я работал у мистера Кракси, денег в кармане было больше… Нам кровь из носу нужен контракт на альбом. Нужен хит. И за выступления надо бы больше денег просить…» Мимо круглосуточной кафешки на Уотлинг-стрит, где собираются дальнобойщики, гоняющие фуры по маршруту Лондон – Дувр – Европа; мимо старых казарм, законсервированных на случай войны; мимо лабиринта муниципальных застроек – когда Дин был мальчишкой, здесь простирались поля; и на вершину холма Уиндмилл-Хилл, а там сила тяжести берет свое и Зверюга катит вниз, туда, где уже виднеется россыпь грейвзендовских крыш, узкие улочки и переулки, воронки от давних взрывов, стройплощадки, подъемные краны, железнодорожная ветка к Рамсгиту и Маргиту, шпили, газгольдеры, коробка новой больницы, корпуса многоэтажных домов и бурые сточные воды Темзы, где баржи причаливают к целлюлозно-бумажному комбинату «Империал пейпер», к фабрике «Смоллет инджиниринг», к цементному заводу компании «Блю сёркл», и дальше, на эссекском берегу, трубы теплоэлектростанций в Тилбери. Дым фабричных труб завис в неподвижном воздухе жаркого июльского вечера.
– Добро пожаловать в рай, – объявляет Дин.
– Если думаешь, что здесь уныло, съезди в Гулль в середине января, – говорит Грифф.
– Рай – это дорога в Рай, – изрекает Джаспер.
«Ага, понять бы еще, что это значит», – думает Дин.
– Тут все такое… самобытное, – говорит Эльф.
«Она что, издевается?» – думает Дин и уточняет:
– В каком смысле?
– Да так… это комплимент.
– Ну извини, здесь нет таких красот, как в Ричмонде.
– Нет уж, это ты извини, что я вся такая богатенькая и бестолковая и настоящей жизни в глаза не видела. Я исправлюсь. Начну смотреть «Улицу Коронации».
Дин выжимает сцепление. Зверюга катит с холма.
– Я думал, ты издеваешься.
– С какой стати?
– Да кто ж вас поймет…
– Кого – вас? Богатеньких и бестолковых?
Дин долго молчит, потом произносит:
– Это я дергаюсь. Прости.
Эльф фыркает:
– Ну да, кто бы дергался… Тут же все твои друзья-приятели.
Зверюга разгоняется на крутом склоне.
«С того и дергаюсь… – мрачно размышляет Дин. – Вот Эльф с Джаспером увидят бабулю, Билла и Рэя и подумают: „Ну и троглодиты!“ А бабуля, Билл и Рэй увидят Эльф и Джаспера и подумают: „Ишь какие фуфыри!“ А в „Капитане Марло“ нас запросто могут освистать. Или на смех поднимут. И вообще, чем ближе к Гарри Моффату, тем мне хреновее…»
– И что за хренью вы здесь маетесь?! – Отец гневно уставился на Дина.
Рынок на Квин-стрит полон людей. Скиффл-группа, сколоченная Дином на этой неделе, самозабвенно исполняла «Not Fade Away»[45]. Билл и бабуля Мосс организовали складчину и в подарок на Диново четырнадцатилетие купили настоящую электрогитару, чехословацкую «футураму». Песню отыграли, ни разу не слажав, а в крышке табачной жестянки поблескивали медные монетки. Кенни Йервуд и Стюарт Кидд пели и играли на стиральной доске, но лидером группы был Дин. Это Дин выучил аккорды, Дин задавал тон, Дин не позволял Кенни и Стюарту струхнуть. Девчонки же смотрели. А некоторые даже восхищались. Впервые за долгие месяцы Дину было весело, а не кисло и уныло. Ну, до тех пор, пока не появился отец.
– Я кого спрашиваю?!
– Пап, мы тут просто… играем, – пробормотал Дин.
– Играете? Вы попрошайничаете!
– Нет, что вы, мистер Моффат, – начал Кенни Йервуд, – это не попрошайничество, а…
Отец Дина наставил на него палец:
– Так, валите отсюда, вы оба.
Кенни и Стюарт Кидд с сожалением глянули на приятеля и смылись.
– О матери бы подумал! Вот что она скажет?!
Дин сглотнул:
– Но мама же играет на пианино…
– Дома! Не прилюдно! Не на весь белый свет! Ну-ка, подними…
Отец презрительно посмотрел на жестянку с монетками, дождался, пока сын ее поднимет, и повел его через дорогу, к газетному киоску мистера Денди. Рядом с киоском стояла большая пластмассовая копилка для сбора пожертвований, в виде черного лабрадора-поводыря, с прорезью для денег на макушке.
– Высыпай. Все, до последнего фартинга.
Деваться было некуда. Все монетки исчезли в прорези.
– Еще раз такое учудишь – и прости-прощай твоя гитара. Мне плевать, кто там тебе ее подарил. Ясно тебе?
Дин ненавидел отца, ненавидел сам себя за то, что не может дать ему отпор, и ненавидел отца еще больше за то, что из-за него ненавидел себя.
– ЯСНО ТЕБЕ?
На Дина пахнуло водочными парами и табаком. Запах Гарри Моффата.
Прохожие останавливались, глазели.
Дину захотелось убить отца.
Дин знал, что «футурама» в опасности.
Дин уставился на полого лабрадора и сказал ему:
– Да.
Эльф сидит за пианино бабули Мосс, играет «Moon River»[46]. Дин втягивает носом запах жареного бекона, ковролина, старости и кошачьего наполнителя. Весь первый этаж бабулиного дома свободно уместится в гостиную квартиры Джаспера на Четвинд-Мьюз. Джаспер спокоен и по-джасперовски расслаблен, а четыре поколения Моссов и Моффатов с неподдельным интересом, без малейших признаков неодобрения разглядывают экзотических Диновых товарищей по группе. «Ну, это они пока…» Грифф, выросший в таком же двухэтажном доме – кухня и жилая комната внизу, две спальни наверху, – наверняка чувствовал бы себя уютно, но он поехал на Зверюге в паб «Капитан Марло», чтобы установить аппаратуру, а заодно встретиться с приятелем из группы Арчи Киннока. Седая и морщинистая бабуля Мосс чуть покачивается, тихонько подпевая Эльф. Билл, гражданский муж бабули Мосс, одобрительно кивает – ему нравится исполнение. Громогласная тетя Мардж и тихоня тетя Дот благостно разглядывают гостей. Их сестра, мама Дина, смотрит с фотографии. Рядом с ними сидит Динов брат, Рэй, его жена Ширли и их двухлетний сын, Уэйн, который возится с игрушечными машинками «Динки», изображает аварии на шоссе. В уголке, под полкой с фарфоровыми уточками, примостился Джаспер. Дин смотрит на него. Они живут в одной квартире, у них все на двоих: сигареты, презервативы «Дюрекс», зубная паста, молоко, яйца, гитарные струны, шампунь, простуды и китайская еда навынос… Иногда Джаспер наивен как ребенок, а иногда странный, как инопланетянин, пытающийся выдать себя за человека. Он как-то упомянул, что в школе с ним случился нервный срыв и он угодил в голландскую психлечебницу. Дину было неловко его об этом расспрашивать. Да и вообще, непонятно, являются ли Джасперовы странности причиной или следствием его пребывания в психушке.
Эльф завершает «Лунную реку» сверкающим глиссандо.
Ей тепло аплодируют.
Уэйн ударяет игрушечной машинкой в бок игрушечного грузовика и кричит: «Ка-бум!»
– Ах, какая красота! – говорит бабуля Мосс. – Правда, Билл?
– Красота неимоверная, – подтверждает Билл. – А ты давно играешь, Эльф?
– С пяти лет. Меня бабушка научила.
– Вот, с детства надо приучать, – говорит бабуля Мосс. – «Лунную реку» наша Ви очень любила. Динова мама. Они все играли на пианино: и Ви, и Мардж, и Дот, но у Ви получалось лучше всех.
– Да, если закрыть глаза, то как будто Ви играла, – говорит тетя Мардж. – Особенно вот эти финтифлюшки в середине.
– Эх, если б жизнь сложилась иначе, – вздыхает тетя Дот, – кто знает, как бы для нее все повернулось. В музыке…
– Зато Дин унаследовал ее талант, – говорит тетя Мардж.
– Ох, у нас же говяжий пирог с почками стынет! – говорит Билл.
Тетя Мардж и тетя Дот начинают накрывать на стол.
– Слушай, а пианино не заглушают на концертах? – спрашивает Рэй. – Ну, когда девчонки поднимают поросячий визг при виде нашего Божьего дара? – Он кивает на Дина.
– Ну, до визга нам пока далеко, – говорит Эльф. – Вот как выступим на «Вершине популярности», тогда все может быть. Aкустика вообще зависит от зала, микрофонов, усилителей. Мы привезли с собой «фарфису». У меня есть еще «хаммонд», но он весит тонну, не меньше. Но у обоих звук мощный.
– А на сцену выходить не боязно? – Ширли надевает сыну слюнявчик. – И выступать перед толпой?
– Поначалу да, – отвечает Эльф. – Но тут уж либо привыкаешь, либо это не твое. Ой, спасибо, куда мне столько?!
– Ну, так ведь в бой идут на сытое брюхо, – заявляет бабуля Мосс. – Так, у всех тарелки полные? Тогда… – Все молитвенно складывают руки, и бабуля произносит: – Возблагодарим же Господа за ниспосланные нам дары. Аминь.
Все хором повторяют «Аминь» и приступают к еде.
«Еда, как музыка, объединяет», – думает Дин.
– Пирог превосходный, – говорит Джаспер, будто оценивает сольное исполнение.
– Ой, он и комплименты умеет! – умиляется тетя Мардж.
– Вот этого он как раз и не умеет, – поправляет ее Дин. – Он всегда говорит то, что думает.
– Мой нос – это рот, – заявляет Уэйн, засовывая кусочек морковки в ноздрю.
– Фу, гадость какая! – охает Ширли. – Вытащи немедленно!
– А за столом нельзя в носу ковырять, – говорит Уэйн.
– Рэй, скажи ему!
– Тебе что мама велела? – с притворной строгостью спрашивает Рэй, еле удерживаясь от смеха.
Уэйн засовывает палец в ноздрю:
– Ой, она там застряла…
Это больше не смешно.
Тут Уэйн чихает, и кусочек моркови вылетает из ноздри прямо в тарелку Дина.
Смеются все, даже Ширли.
– А расскажите, как Дин в детстве проказничал, – просит Эльф.
– Ну, тут пары часов не хватит, – говорит Билл.
– Тут пары недель не хватит, – поправляет его Рэй.
– Все врут, – говорит Дин.
– Ага, – фыркает Рэй. – Зато ты у нас теперь бунтарь. А я вот – примерный семьянин.
«Ну да, потому что ненароком Ширли обрюхатил…»
Дин поднимает с пола оброненную Уэйном ложку.
– Дин очень переживал, когда его мама умерла, – говорит бабуля Мосс. – Ну, всем тяжело было. Отец Динов…
Билл ловит взгляд Дина и подхватывает:
– Он тогда совсем расклеился.
– Да-да, – продолжает бабуля Мосс. – Рэй был в училище, в Дагенеме, а Дин остался с отцом, на Пикок-стрит, но у них не заладилось. В общем, как Дин поступил в художественный колледж в Эббсфлите, так и переехал к нам с Биллом. Три года жил у нас. Мы им очень гордились.
– Вот только вместо того, чтобы стать новым Пикассо, – говорит Рэй, – он решил заделаться гениальным гитаристом. Но мы его все равно любим.
– Гениальный гитарист вон он, сидит. – Дин тычет пальцем в Джаспера. – Рэй, ты же был в «Марки».
– Я хорошо играю лишь потому, что все время учился, вместо того чтобы жить, – говорит Джаспер. – Но другим рекомендовать этого не стану.
– Чтобы чего-нибудь достичь, надо трудиться не покладая рук, – говорит Билл. – Одного таланта мало. Нужна еще и дисциплина.
– А Дин очень хорошо рисовал, – говорит тетя Мардж. – Вот его художество, над радиолой. – Все смотрят на картину: пристань в Уитстабле. – Но его всегда тянуло к музыке. Сидел у себя в спальне, упражнялся, пока все до последней нотки точно не сыграет.
– Он и сейчас такой, – говорит Джаспер, накалывая вилкой стручок фасоли. – Обычный басист играет просто, умпа-умпа, умпа-умпа, как на тубе. А у Дина такие плавные переборы… – он откладывает вилку, чтобы удобнее было показывать, – бам-бам-би-дамби-дамби, бам-бам-би-дамби-дам. На басу играет, будто на ритм-гитаре. Замечательно! – Джаспер жует стручок.
Дин смущается, слыша похвалу.
– А вот, видите? – Бабуля Мосс показывает на медную табличку в рамочке и декламирует выгравированные на табличке слова: – «„Могильщики“. Лучшая группа Грейвзенда, 1964 г.». Это Динова группа была. Мы вам потом альбомы с фотокарточками покажем.
Эльф жадно потирает руки:
– Ах, альбомы с фотокарточками!
По улице грохочет мотоцикл. В буфете звенят чашки.
– Джек Костелло снова за свое, – ворчит тетя Мардж. – Сажает Винни, сынишку своего, в мотоциклетную коляску и гоняет по городу как ненормальный. Ой, Джаспер, а можно я спрошу, только ты не обижайся… Вот ты так красиво говоришь, прям как диктор на Би-би-си. Ты, наверное, из обеспеченной семьи, да?
– До шести лет я жил с тетей, в Лайм-Риджисе. Она держала пансион, но с деньгами всегда было туго. А потом меня отправили учиться в частную школу, в Или. Там я и обзавелся благородным выговором. К сожалению, благородный выговор – это не деньги в банке.
– А как же тетя оплачивала твое обучение? – спрашивает Билл.
– Его оплатили мои голландские родственники. У меня отец – голландец.
Тетя Мардж поправляет вставную челюсть.
– Значит, они как раз и богатые, да?
– Может, не будем устраивать ему допрос с пристрастием? – говорит Дин.
– Так он ведь не возражает. Правда, Джаспер?
Джаспер не возражает.
– Я бы назвал зеландских де Зутов людьми состоятельными, но не богатыми.
– А разве состоятельный и богатый – не одно и то же? – спрашивает Ширли.
– Состоятельный человек точно знает, сколько у него денег. А у богатого их так много, что он об этом даже не задумывается.
– А как же твоя мама? – спрашивает тетя Мардж.
– Она умерла родами.
Женщины сочувственно переглядываются.
– Ох, бедненький, – вздыхает тетя Мардж. – Вот Рэй с Дином свою маму все-таки помнят… А тебе тяжело, наверное. Дин, что ж ты не сказал…
– Я же попросил не устраивать допрос с пристрастием.
Кукушка в настенных часах кукует семь раз.
– Уже семь часов? Не может быть! – восклицает Эльф.
– Время – странная штука, – говорит тетя Дот.
Дину было пятнадцать. Маму разъедал рак, растушевывал морфий. Дин страшился приходить в больницу, хотя чувствовал себя из-за этого самым неблагодарным сыном на свете. Смерть превращала все разговоры на любые другие темы в обычный треп, но как тому, кто не умирает, говорить о смерти с тем, кому жить осталось совсем недолго? Было воскресенье. Рэй остался в Дагенеме, отец отрабатывал сверхурочную смену на цементном заводе, бабуля Мосс и тетки ушли в церковь. Дин не видел смысла в вере. Заявлять, что пути Господни неисповедимы, – то же самое, что выбирать, орел или решка. Если бы от молитв был хоть какой-то толк, то мама бы давно выздоровела. В больницу Дин пришел со своей «футурамой». Мама спала, поэтому Дин решил поупражняться, тихонечко. Он отрабатывал сложный перебор в «Теннессийском вальсе», а когда дошел до конца, еле слышный голос прошептал:
– Очень красиво, сынок.
Дин перевел взгляд на маму:
– Я старался.
Призрачная улыбка:
– Молодец.
– Извини, я тебя разбудил.
– Всегда приятно просыпаться под музыку.
– Хочешь, я еще что-нибудь сыграю?
– «Сыграй это еще раз, Сэм!»
Пришлось играть «Теннессийский вальс» снова. Дин сосредоточенно уткнулся в лады и не заметил, как мама перестала дышать…
Джаспер заканчивает «Вдребезги» зажигательным соло. Эльф извлекает из «хаммонда» сияющие каскады звука. Гриффовы барабаны исторгают громы и молнии. Пальцы Дина уверенно перебирают струны, а сам Дин глядит в зал «Капитана Марло» поверх двух сотен голов. Сюда пришли друзья, которые желают ему успеха; завистники, которые надеются, что ему удачи не будет; люди постарше, которые видят в «Утопия-авеню» то, что у них когда-то было или могло быть; парни, которым лишь бы выпить и снять девчонок; девчонки с сигаретами и с бокалами кампари или грушевого сидра «Бэбишам». Дин смотрит на них и думает: «Вот, Грейвзенд, сколько ты меня ни бил, сколько ты меня ни пинал, сколько ни говорил, что от меня толку не будет, сколько ни обзывал бестолочью, никчемным неудачником и педиком, а теперь разуй уши и слушай. СЛУШАЙ НАС. Мы – „Утопия-авеню“. Мы – классная группа, а станем еще лучше, и ты об этом догадываешься, хоть и прикрываешься кривой ухмылкой». И дружки Гарри Моффата наверняка пришли. «Вот и расскажите ему, как мы здесь отожгли». Джаспер завершает первый виток соло. Дин смотрит на него, и, как и следовало ожидать, Джаспер не отводит взгляда от грифа «стратокастера» – просит дать ему возможность повторить. Мало кто из присутствующих слышал, как вживую звучит педаль вау-вау, она же квакушка, а Джаспер великолепно ею пользуется. «Зато главное, что песня – моя, спасибо за внимание». На одной из репетиций Эльф предложила поменять слова в строчке «все мечты разбиваются вдребезги» на «из того, что разбито вдребезги, вырастают мечты». Дин попробовал, и грустная песня внезапно стала воодушевляющей. Джаспер заметил, что неплохо бы Эльф подпеть на строке «вырастают мечты», и все в клубе «Зед», включая Павла, застонали от удовольствия. Когда Дин играл в «Броненосце „Потемкин“», то не хотел ни с кем делить свои песни – они становились только хуже. А вот «Утопия-авеню» могла улучшить любую песню.
Джаспер заканчивает соло. Дин смотрит на Гриффа, тот кивает; осталось четыре такта… три такта… два… один… и Эльф смотрит на него… и Джаспер выдерживает паузу… и все мысленно отсчитывают, как на общих часах – раз, два, три, четыре, – и взрывом звучит финальный аккорд, разлетается на молекулы…
«Аплодисменты – чистейший наркотик», – думает Дин, утирает лицо барным полотенцем и отпивает глоток эля «Смитуикс».
– За вас!
Аплодисменты не умолкают. Здесь меньше людей в плиссе и бархате, чем на лондонских выступлениях, больше рабочих рубах, джинсов и кепок. Как ни странно, паб «Капитан Марло» – и рыба и мясо. Он – первое питейное заведение на пути работников цементного завода «Блю сёркл», в двух шагах от городского рабочего клуба. Клиентура классом повыше – по грейвзендским понятиям – приходит в паб поиграть в пинбол, послушать музыкальный автомат или (два раза в месяц) выступление какой-нибудь группы. Левон стоит в сторонке с каким-то типом, которого Дин не знает. «Если это – его дружок, то им надо быть осторожнее». Аплодисменты стихают, и Дин подается к микрофону:
– Спасибо, что пришли, и спасибо хозяевам заведения, Дейву и Кэт, за то, что предоставили нам площадку. – Он вглядывается в пространство пивной; Дейв Сайкс, крупный мужик с дружелюбной физиономией плюшевого медвежонка, приветственно машет рукой. – Меня зовут Дин Мосс, я родом из Грейвзенда, так что если я кому задолжал пятерку, когда смылся из города, то после концерта обязательно верну… – Дин подтягивает четвертый колок, – но прежде займу у вас десятку.
Грифф иронически бьет по барабану: пш-ш-ш-ш… та-бум!
– Итак, наша группа. На клавишах – мисс Эльф Холлоуэй!
Эльф играет на «хаммонде» первые такты вступления Пятой симфонии Бетховена.
Какой-то шутник выкрикивает из зала:
– Мой орган всегда к твоим услугам, красавица!
Эльф уже не в первый раз прибегает к стандартному ответу:
– Извини, но на миниатюрных инструментах я не играю.
Барабаны Гриффа снова издают пш-ш-ш-ш… та-бум!
– На барабанах, – продолжает Дин, – наш гость из Народной Республики Йоркшир, Питер «Грифф» Гриффин, или просто Грифф.
Все дружно хлопают в ладоши. Грифф выстукивает раскатистую барабанную дробь, встает и кланяется.
– На гитаре, – объявляет Дин, – мистер – Джаспер – де Зууут!
Джаспер с помощью квакушки отыгрывает последнюю строку гимна «Боже, храни королеву!».
Аплодисменты.
– Эй, Джаспер педрилло! – раздается из зала.
Джаспер делает шаг вперед, подносит ко лбу руку козырьком, вглядывается в толпу:
– Кто хочет мне что-то сказать?
– Я! – машет рукой какой-то тип. – Патлы подстриги!
«Черт, сейчас начнется, – думает Дин. – Брайтонский политех, вторая серия…»
Джаспер внимательно смотрит на типа и произносит первое, что приходит в голову:
– Зачем? Чтобы выглядеть, как ты?
Хохочут все, даже задиристый тип.
Дин, не желая и дальше испытывать судьбу, торопливо завершает:
– Следующую песню написал Джаспер. Она называется «Свадебный гость», и раз, и два, и раз, и два, и три…
Потом звучит старая песня Дина «Идея казалась хорошей…», за ней – напористая «Мона Лиза поет блюз», «Green Onions» Букера Ти Джонса, «Темная комната», десятиминутная «Оставьте упованья» – под конец все зрители хором вопят: «Рас-топ-топ-топ-чу твое лживое сердце, как ты растоптала мое», как будто всю жизнь ее знали, – «Плот и поток», «Дом восходящего солнца» в варианте The Animals, усиленная версия «Куда ветер дует», а потом Эльф поет битловского «Day Tripper»[47], меняя все местоимения «она» на «он». Вторым номером на бис они исполняют «Шесть футов под землей», лучшую песню «Могильщиков», которую Дин написал, когда ему было семнадцать. Дин больше всего боялся, что, во-первых, обитатели Грейвзенда не въедут в Джасперовы песни, а во-вторых, что Эльф достанут пошлыми шуточками, но ни того ни другого не случилось. Наконец Дейв Сайкс дает полный свет. Дин весь в поту, охрип, стертые пальцы саднят, но сам он кайфует. Дин, Джаспер, Эльф, Левон и Грифф встают в кружок перед барабанами, голова к голове, как регбисты.
– Ребята, это полный отпад! – заявляет Грифф.
– И не говори, – откликается Эльф.
– Нет уж, я все-таки скажу. Ребята, это полный отпад!
– Грифф, этой хохме сто лет в обед, – говорит Эльф.
– Обалденно отыграли, – говорит Левон. – Что-то обязательно произойдет, и очень скоро. Вот увидите. О вас заговорят.
«Только на это и остается надеяться», – думает Дин.
– Джаспер, твоя очередь, – говорит Эльф.
Все смотрят на Джаспера.
– Моя очередь делать что?
– Да скажи уже, что ты чувствуешь, дурик, – говорит Грифф.
Поразмыслив, Джаспер произносит:
– Я чувствую… что мы стали играть лучше.
В тесный кружок пятерых врывается внешний мир.
– Ну, теперь ясно, что мою пятерку ты мне скоро вернешь, – говорит Кенни Йервуд.
– Вот честное слово, я и сам жду не дождусь, – вздыхает Дин.
– Эх, видела б тебя мама… радовалась бы, – говорит Рэй.
– Так она и видела, – говорит тетя Дот и треплет Дина по щеке.
К Дину продолжают подходить одноклассники, старые приятели, учителя и всякие знакомые из прошлой жизни, а потом появляется девушка.
– Ты меня, наверное, не помнишь, но… – начинает она.
– Джуд. Брайтонский политехнический. Ты дала Эльф свою гитару. Ну, как дела?
Она, очень довольная, отвечает:
– Вам надо выпускать альбом. Вот прямо сейчас.
– Ага, я уже написал письмо Санта-Клаусу, теперь вот жду…
– Ну, еще только июль. А ты был послушным мальчиком, не шалил?
«Ух ты, она заигрывает…»
– А как поживает Гэз… или как его там?..
– Не знаю и знать не хочу.
«Слава богу».
– Очень жаль.
– Так я тебе и поверила.
Дин дышит ароматом ее духов.
– А что ты здесь делаешь?
– Брат у меня увлекается музыкой. Узнал, что «Утопия-авеню» играет в Грейвзенде, сказал мне. А я как услышала, так сразу и подорвалась…
– Просто удивительно, после нашего фиаско в Брайтоне.
– Да я бы ни за что на свете не пропустила ваш концерт.
За спиной Джуд возникает Шенкс, сигналит, что, мол, пора уходить.
Дин жестом просит у него две минуты.
– Мы с Джаспером остановились здесь, у приятеля. Ты не хочешь…
Джуд укоризненно изгибает бровь:
– Не торопи события, Спиди Гонсалес. Я приехала с братом, он отвезет меня назад, в Брайтон. Я там устроилась на парфюмерно-косметическую базу. Но… – Она помахивает сложенной запиской. – Если ты свободен, в смысле, ни с кем не встречаешься, то вот тебе мой номер телефона. Служебный. Не забудь сделать вид, что ты – покупатель, а то мне влетит от начальства. Кстати, через двое суток записка рассыплется в пыль, как в сериале «Миссия невыполнима». – Она засовывает сложенный листок в карман Динова пиджака, целует Дина в щеку. – Позвони. Или потом всю жизнь мучайся. Нет, правда, у вас классная группа. Вы прославитесь.
Шенкс подносит мундштук ко рту, дым вьется по трубке кальяна – «Жарься, зелье! Вар, варись!» – втягивается в прокуренные легкие… и вылетает облачками, кудрявыми, будто соцветия цветной капусты.
– Слушай, а оно не запрещенное? – спрашивает Кенни.
Шенкс жестом изображает весы Фемиды:
– Как тебе сказать… сам аппарат – нет, не запрещенный. А вот к курительной смеси копы могут придраться. Но я подстраховался.
Воцаряется долгое, но очень живое молчание. Джим Моррисон поет о конце.
– Эй, Дин, тебе как?
– Нормально, – отвечает Дин, обхватывает губами кончик мундштука, думает о Джуд и… «Давай, затягивайся, буль-буль-буль, вот, и задержи…» Он выдыхает дым. – Похоже на… на… – «Нет, сегодня у меня слов не хватает». – Ну, это как титьку сосать и левитировать одновременно.
Рэй покатывается со смеху, но беззвучно.
– Вы с Джаспером прям как сто лет женаты, – говорит Кенни.
Джаспер сосредоточенно обдумывает это заявление и почему-то напоминает Дину Стэна Лорела.
– Вот про это не надо, – говорит он, посасывая мундштук.
Кальян ему не в новинку. Джаспер жил в Амстердаме.
– Слушай, а в Амстердаме нас поймут?
Слова Джаспера звучат с некоторым опережением:
– Сначала надо выпустить альбом, иначе будет непрофессионально.
«Да уж, об альбоме пока одни мечты…»
Чувствуя, что растворяется в пространстве, Дин пытается вспомнить, где и с кем находится. Квартира Шенкса – над его магазином, знаменитым «Мэджик бас рекордз». Время – за полночь. Кто есть кто? Сам Дин. Шенкс – он и есть Шенкс; его подруга по имени Пайпер; Рэй, родной брат Дина; Кенни Йервуд; Джаспер и какая-то девица, которая возникла после концерта, явно с прицелом на герра де Зута. Говорит, что ее зовут Айви. Все шестеро неподвижны. Рембрандт. «Ясно вам? Я разбираюсь в искусстве». Нарисовано пламенем свечи на живой тьме…
…но тут Шенкс развеивает рембрандтовские чары шелестящим дуновением слов:
– …а вы четверо – это нечто особенное. Крышесносное. Вот в один прекрасный день я буду всем хвастаться: «Да-да, мы с Дином Моссом старые приятели, вместе ходили на концерт Литл Ричарда, я Дина научил первым аккордам…» Какие у вас песни! «Темная комната», «Вдребезги», «Мона Лиза…» Любая станет хитом, правда, Пайпер?
– В Сиэтле вас любая радиостанция с руками оторвет.
– Поскорей бы, а то я совсем обнищал.
Джаспер не слушает. Айви, Айви, Айви что-то нашептывает ему на ухо. Он смотрит на Шенкса, и тот читает его мысли:
– Свободная спальня – вниз по лестнице. Кровать там одна, но вам больше и не надо.
Айви уходит, как кошка, растворяясь в тенях. Дин проверяет, не исчезла ли записка с номером телефона Джуд. «Нет, лежит в кармане пиджака».
– Ну ты силен, приятель, – говорит Рэй Джасперу. – Я весь такой расслабленный, что у меня ни хрена не стоит.
Джаспер пожимает плечами.
– Кстати, предупреждаю, – добавляет Кенни. – Грейвзендские девчонки – ходячие яйцеклетки. Это научно установленный факт. В их сторону только чихнешь, как у них сразу трехмесячная задержка, родичи в дверях толпятся, поздравляют с отцовством. Вон, Рэй не даст соврать.
Рэй жестом изображает петлю на шее, берет священный мундштук… и выдувает соблазнительно фигуристое облачко дыма.
– Не забудь резинку надеть. Надеюсь, ты подготовился?
Джаспер по-бойскаутски салютует и уходит вслед за Айви.
– А у тебя как успехи? – спрашивает Рэй Дина. – Тебе, вообще-то, перепадает?
«Ох, оставь меня в покое!»
– Не особо. На свадьбе сестры Эльф была девчонка из Сент-Джонс-Вуд, пригласила меня к себе, я там на выходные и завис. Такой вот был июнь.
– Везунчик, – говорит Кенни. – А моя Трейси вся такая: «Сначала помолвка и кольцо, а потом секс, ясно?» Я б ее послал, но ее папаша – мой начальник. В общем, кошмар.
– Ну, все не так уж и плохо, – говорит Рэй. – Мне нравится быть отцом. Иногда, когда Уэйн в отключке. А Ширли… у этой коровищи все по настроению. Честно сказать, до свадьбы мне чаще перепадало. А сейчас она с каждым днем все больше и больше на свою мать похожа. Вообще, семейная жизнь – тюрьма, за которую платят сами заключенные. Правда, Шенкс? Ты же дважды в этой мясорубке побывал.
Шенкс прячет пластинку The Doors в конверт, ставит The Velvet Underground.
– Семейная жизнь, ребятки, – она как якорь. О скалы разбиться не дает, но и в свободное плавание не отпускает.
«Sunday Morning»[48], первая вещь на первой стороне альбома, сразу же затягивает Дина. Нико на полтона фальшивит, но звучит классно.
Рэй садится и спрашивает:
– А Эльф с кем-то встречается?
Укуренному Дину отвечать лениво, но Рэй легонько пихает его ногу:
– Ну, с кем там Эльф встречается?
Дин приподнимает голову:
– С каким-то чуваком, он крутит кино на Лестер-Сквер.
– Слушай, а вы – ну, ты, Грифф или Джаспер – к ней подкатывали? – спрашивает Кенни.
– К Эльф? Да ну тебя, Кенни! Нет, конечно. Это ж как с сестрой перепихнуться.
Кенни вскакивает:
– Что? Ты спал с Джеки?!
Кальянные чары развеиваются. Дин лежит где лежал – на турецком ковре Шенкса. Вспоминает, как отец заявил: «Ну, хватит тебе у бабки жить. Пора и честь знать. Возвращайся домой». А потом сказал бабуле Мосс: «Спасибо вам за вашу доброту, но Дин – мой сын и должен жить со мной. Ви, царствие ей небесное, была бы того же мнения». Что на такое возразишь? Первого января Дин переехал к отцу. Мама умерла в сентябре. Зима сменилась весной, а список Диновых обязанностей все рос и рос. Готовить, ходить по магазинам, убирать, стирать, гладить, чистить ботинки… Все, что когда-то делала мама. «Никто вокруг тебе ничего не должен, – сказал отец. – Включая меня». Гарри Моффат был не дурак выпить, но Дин пришел в ужас, когда увидел, что отец каждый день выхлестывает по бутылке «Утренней звезды» – отвратительной дешевой водки. С виду все было нормально. Никто об этом не догадывался – ни соседи, ни товарищи по работе. Вне дома отец был обаятельным прохвостом, но на Пикок-стрит оттягивался по полной. Изобретал правила. Правила, которые было невозможно соблюсти, потому что они постоянно менялись. Если Дин уходил из дома, значит шлялся. Если Дин оставался дома, значит бездельничал. Если Дин молчал, значит наглел. Если говорил, значит дерзил. «Ну, чего пялишься? Руку на отца поднять хочешь? А ты попробуй. Поглядим, как у тебя получится». Дин даже и не пытался. Отец давил на жалость, изображал из себя безутешного вдовца. Дин поначалу на это повелся. Подбрасывал пустые бутылки в чужие мусорные ящики, отвечал на телефонные звонки, когда отец напивался в зюзю, говорил, мол, нет его, вышел. В общем, делал все то же, что и мама, когда была жива. Врал Рэю: «Да, все в порядке, не жалуемся. Как ты там, в своем Дагенеме?» А что было делать? Просить, чтобы Рэй бросил училище? Попытаться как-то вразумить отца уговорами? Если б уговоры действовали на алкоголиков, алкоголиков бы не было. Но когда Дин поступил в художественное, то пришлось выбирать…
Ночь костров. Дину было шестнадцать. Он вернулся домой с вечеринки в училище. Отец сидел на кухне, тупо уставившись в газету «Миррор». Перед ним стояла пустая бутылка из-под «Утренней звезды».
– Добрый вечер, – сказал Дин.
– Возьми с полки пирожок.
Задергивая занавески на кухонном окне, Дин заметил, что в железном баке на заднем дворе что-то горит. В баке жгли мусор, палую листву и бурьян, но обычно по субботам. А в тот день была пятница.
– Ты тоже костер развел?
– Давно хотел избавиться от всякой хрени.
– Ну, спокойной ночи.
Отец перевернул газетную страницу.
Дин поднялся к себе в спальню и похолодел, увидев, что оттуда исчезло. Отсутствие привычных вещей ощущалось ударом под дых. «Футурама». Проигрыватель «Дансетт». Самоучители игры на гитаре. Фотография с автографом Литл Ричарда. Во дворе горел костер.
Дин бросился вниз по лестнице, мимо того, кто это совершил, выскочил в морозную ночь, надеясь спасти хоть что-нибудь.
Костер полыхал. От «футурамы» остался только гриф, на котором пузырился лак. Пурпурные языки пламени лизали деревяшку. Посреди закопченного бакелитового корпуса «Дансетт» одиноко торчал штырек вертушки. Самоучители превратились в золу. Фотография с автографом Литл Ричарда рассыпалась пеплом. Для верности отец подбросил в костер угля и щепы, да еще и сбрызнул бензином. Пурпурные языки пламени обжигали Дину щеки. Густо валил едкий, маслянистый дым.
Дин вернулся в дом, дрожащим голосом спросил:
– Зачем?
– Что зачем? – Отец не смотрел на сына.
– Зачем ты это сделал?
– До сих пор ты был ленивым патлатым педиком с гитарой. А теперь ты просто ленивый патлатый педик. Так что мы движемся в верном направлении. – Отец уставился на Дина.
Дин взял рюкзак, упаковал в него девять альбомов, двадцать синглов, пакетик гитарных струн, поздравительные открытки от мамы, свои лучшие вещи, шузы под крокодилью кожу, альбом с фотографиями и блокнот с песнями. Попрощался со спальней, спустился в прихожую и подошел к двери. Не успел он снять дверную цепочку, как его сбили с ног. Ухо впечаталось в дверную раму. По линолеуму прошаркали шаги. Дин поднялся по стенке:
– И что теперь? Запрешь меня в доме?
– Педик, который только и знает, что бренчать на гитаре, мне не сын.
Дин с ненавистью посмотрел в злые глаза. Это отец говорит? Или водка?
– Верно сказано, Гарри Моффат.
– Чего?!
– Я тебе не сын. Ты мне не отец. Я ухожу. Прямо сейчас.
– Не ссы. Хватит уже заниматься всякой фигней. Музыка, искусство – ишь чего выдумал! Найди себе настоящую работу. Вот как Рэй. Я тебя давно предупреждал, а сейчас принял меры. Ты мне потом спасибо скажешь.
– Я тебе сейчас спасибо говорю. Ты мне глаза открыл, Гарри Моффат.
– А ну-ка, повтори, че сказал?! Вот только посмей! Пожалеешь!
– Что именно повторить, Гарри Моффат? Что я тебе не сын или что…
Челюсть хрустнула, затылок стукнулся о стену. Тело обмякло. Дин сполз на линолеум. Очнулся. Рот наполнился кровью. Боль пульсировала в такт ударам сердца. Дин поднял взгляд.
Гарри Моффат смотрел на него:
– Ты сам напросился… и меня вынудил.
Дин встал, глянул в зеркало. Губа разбита, десны кровоточат.
– Ты и маме так говорил? Когда бил ее? Мол, сама напросилась?
Злобная ухмылка сползла с лица Гарри Моффата.
– В Грейвзенде ни у кого нет секретов. Весь город знает. «Вон идет Гарри Моффат. Он избивал жену, она заболела и умерла от рака». Но в лицо тебе этого никто не скажет. Хотя все знают.
Дин снял цепочку с двери и вышел в ноябрьскую ночь.
– С тобой покончено! – завопил Гарри Моффат ему вслед. – Слышишь?
Дин шагал не останавливаясь. В окнах колыхались занавески.
На Пикок-стрит пахло морозом и фейерверками.
Семь лет спустя, в четверти мили от Пикок-стрит, Дин просыпается. За окнами шумит дождь, Кенни храпит на диване. Кто-то сунул Дину под голову подушку. Рэй кемарит в кресле. Вокруг кальяна теснятся стаканы, бутылки, пепельницы, рассыпаны карты и арахисовые скорлупки. Дин плетется на кухню, наливает воды в кружку. У грейвзендской воды нет мыльного привкуса, не то что в Лондоне. Дин садится за стол, грызет крекер «Джейкобс». С полки под потолком свисают длинные побеги «летучего голландца», закрывают настенный коврик, на котором изображено какое-то божество со слоновьей головой, и фотографию Шенкса с Пайпер, сделанную где-то в солнечных заморских краях. А Дин далеко от Грейвзенда еще никогда не уезжал, если не считать того случая, когда «Броненосец „Потемкин“» играл в Вулвергемптоне. Дин тогда получил гонорар – меньше фунта. Наверняка заработал бы больше, если б стоял с гитарой на Гайд-Парк-Корнер. «А вдруг „Утопия-авеню“ – тупик? Да, мы вчера классно отыграли, но это же дома, среди своих… Вдруг мы никому больше не нужны?» Крыши ступенями спускаются от Квин-стрит к берегу реки. Из Тилберийских доков буксиры выводят сухогруз, поначалу скрытый из виду зданием больницы. Буква за выступающей буквой Дин читает название на борту: «ЗВЕЗДА РИГИ». На табурете лежит акустический «гибсон» Шенкса. Дин настраивает гитару и под аккомпанемент дождя и собственных мыслей начинает перебирать струны…
– Твоя? – В дверях кухни стоит Рэй.
Дин смотрит на него:
– Что?
– Мелодия.
– Да я так, балуюсь.
Рэй осушает кружку воды.
– Тетя Мардж права. Мама порадовалась бы. Сказала бы: «Дин у нас талантливый».
– Это за тебя она порадовалась бы. «Рэй у нас старательный и ответственный». И Уэйна бы вконец разбаловала…
Рэй садится к столу:
– Вы с отцом собираетесь мириться?
Дин резко прижимает струны:
– Я с ним не ссорился.
Капля дождя стекает по стеклу.
– Отцом мне стал Билл. И ты. И Шенкс.
– Я не пытаюсь его оправдать. Но… он ведь все потерял.
– Рэй, мы это уже обсуждали. «Это все водка проклятая». «Его отец тоже бил жену и детей». «Мамина болезнь его подкосила». «Отказываясь называть его отцом, ты ведешь себя по-детски. Меня это очень огорчает». Я ничего не пропустил?
– Нет. Но если бы он мог, то возродил бы твою гитару из пепла.
– Это он тебе сказал?
Рэй кривится:
– Он не из тех, кто обсуждает свои чувства.
– Прекрати. Это не обида на пустом месте, а последствие его поступков. Если хочешь поддерживать с ним отношения – твое дело. Твой выбор. А я этого не хочу. Вот и все. И давай на этом закончим.
– Между прочим, в его возрасте люди умирают. Особенно те, у которых печень ни к черту. А с покойником не помиришься. Призраки тебя не слышат. И вообще, он ведь все-таки твой отец.
«Призраки тебя не слышат, – думает Дин. – Неплохая строчка для песни».
– Да, с генетической и юридической точек зрения он мой отец. А во всем остальном – нет. У меня есть брат, племянник, бабуля, Билл, две тетки, а вот отца нет.
Рэй тяжело вздыхает. Журчит вода в водосточных трубах.
В прихожей Шенкса звонит телефон.
Дин не берет трубку. У Шенкса весьма разнообразные деловые знакомства – мало ли кто ему звонит. Открывается дверь хозяйской спальни, по полу топают шаги.
– Да? – Долгая пауза. – Да, он… Да. А кто его спрашивает?
Шенкс заглядывает на кухню:
– Дин, сынок… Твой менеджер звонит.
– Левон? Как ты меня нашел?
– Черная магия. Джаспер с тобой?
– Вроде бы. Он с девушкой…
– Немедленно приезжайте на Денмарк-стрит.
– Так ведь воскресенье же…
– Знаю. Эльф и Грифф уже едут.
«Похоже, плохие новости».
– Что случилось?
– Виктор Френч.
– А кто это?
– Промоутер «Илекс рекордз». Вчера он был в «Капитане Марло». И предлагает контракт группе «Утопия-авеню».
«Он предлагает контракт группе „Утопия-авеню“». Всего шесть слов.
«У меня есть будущее!»
Прихожая Шенкса обращается в слух.
– Алло? – встревоженно спрашивает Левон. – Ты слышишь?
– Да, – говорит Дин. – Слышу. А… Охренеть.
– Только не спеши покупать «триумф-спитфайр». Виктор предлагает контракт на три сингла и потом альбом – потом, если появится интерес. «Илекс» не входит в большую четверку, но предложение солидное. Нам лучше быть рыбиной средних размеров в маленьком пруду, чем мальком в большом озере. Виктор готов был подписать контракт вчера вечером, но я попросил больше денег и сказал ему, что к нам присматривается И-эм-ай. Сегодня утром он переговорил со своим начальником в Гамбурге и заручился его согласием.
– А ты даже не предупредил, что вчерашний концерт – это прослушивание.
– Хороший менеджер не предупреждает о прослушивании. Давай одевайся, поднимай Джаспера, садитесь на поезд до Чаринг-Кросса и бегом в «Лунный кит». Нам надо много всего обсудить. Завтра утром – встреча с «Илекс».
– Хорошо. До встречи. И спасибо.
– Всегда пожалуйста. И кстати, Дин…
– Да?
– Поздравляю. Вы это заслужили.
Дин кладет трубку на рычаг. Телефон звякает.
«Мы заключаем контракт!»
Старший брат выходит в прихожую, обеспокоенно смотрит на Дина:
– Что с тобой? Кто-то умер?
Капает с крыши платформы. Капает с арки туннеля. Капает с указателей, проводов и семафоров. Голуби кучкуются на капающих балках капающего пешеходного мостика. У Дина хлюпает в правом ботинке. Надо отнести его в сапожную мастерскую. «Нет, – внезапно осознает Дин. – Не надо в сапожную мастерскую. Надо зайти в магазин „Анелло и Давид“ в Ковент-Гардене и сказать: „Здрасьте, я Дин Мосс, наша группа «Утопия-авеню» только что подписала контракт с «Илекс рекордз», поэтому будьте так любезны, покажите мне ваши самые лучшие ботинки“». Дин прыскает со смеху.
– Что смешного? – спрашивает Джаспер.
– У меня мысли путаются, и я вроде забываю, а потом думаю, с чего бы это мне так хорошо, ну и вспоминаю, что у нас будет контракт на альбом, и все снова взрывается – бум!