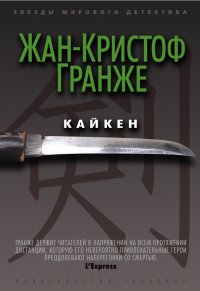
Читать онлайн Кайкен бесплатно
- Все книги автора: Жан-Кристоф Гранже
I. Бояться
1
Дождь.
Самый отстойный июнь на его памяти.
Вот уже несколько недель одно и то же: хмурая, промозглая сырость. А ночью и того хуже. Майор Оливье Пассан передернул затвор своей «Беретты Рx4 шторм» и, сняв с предохранителя, положил на колени. Снова взялся за руль левой рукой, правой подхватил айфон. На сенсорном экране крутилась программа GPS-навигатора, подсвечивая его лицо снизу, отчего он смахивал на вампира.
– Где это мы? – пробурчал Фифи. – Черт, куда нас занесло?
Пассан не ответил. Они ползли черепашьим шагом с погашенными фарами, едва различая местность. Круговой лабиринт, как у Борхеса. Кривобокие кирпичные стены с розоватой штукатуркой до бесконечности множили проезды, дорожки и повороты, неизменно выталкивая пришельца наружу, наподобие Великой Китайской стены, если бы она вдруг принялась вращаться вокруг своей оси, защищая запретный центр.
Лабиринт был не чем иным, как «свободной городской зоной»[1] Кло-Сен-Лазар в Стэне.
– У нас нет права здесь находиться, – прошептал Фифи. – Стоит полиции Девяносто третьего[2] прознать, что…
– Заткнись.
Пассан попросил напарника одеться поскромнее, чтобы не привлекать лишнего внимания. И вот нате вам: Фифи напялил гавайскую рубашку и красные шорты скейтбордиста. А уж чем он закинулся перед встречей с Оливье, лучше и не знать. Водка, амфетамины, кокс… Наверняка все и сразу.
– Надень-ка. – Не выпуская руль, Пассан взял с заднего сиденья бронежилет – такой же был под курткой у него самого.
– Еще чего.
– Надень, тебе говорят, в этой твоей рубашке ты прямо трансвестит на гей-параде.
Фифи, он же Филипп Делюк, повиновался. Оливье исподтишка наблюдал за ним. Обесцвеченная грива, шрамы от угрей, пирсинг в уголках губ, из расстегнутого ворота выглядывает огненная пасть дракона, обвивавшего левое плечо и руку. Даже сейчас, после трех лет совместной работы, Пассан не понимал, как подобному раздолбаю удалось выдержать положенные восемнадцать месяцев в Высшей государственной школе полиции, мотивационные беседы, медицинские осмотры…
Но результат налицо: из Фифи вышел полицейский, способный с пятидесяти метров всадить точно в яблочко пулю тридцать восьмого калибра хоть с правой, хоть с левой руки, ночи напролет корпеть над детализациями звонков, не пропустив ни единой строчки. Лейтенанту едва стукнуло тридцать, а он уже раз пять побывал под огнем и ни разу не сплоховал. Напарника лучше у Оливье Пассана еще не было.
– Передай-ка мне адрес.
Фифи сорвал стикер с приборной панели.
– Сто тридцать четыре, улица Сади-Карно.
Судя по показаниям навигатора, они совсем рядом, но на глаза лезли другие названия: улица Нельсона Манделы, площадь Мольера, авеню Пабло Пикассо… Каждые десять метров машина подпрыгивала на «лежачем полицейском». Эти бесконечные бугры Пассана уже достали.
Он не забыл распечатать карту квартала. Кло-Сен-Лазар – один из самых крупных населенных пунктов департамента Сена – Сен-Дени. Здесь в муниципальных домах, основная масса которых извилистой чертой пересекает лесопарк, обитают около десяти тысяч человек. Вокруг, словно часовые, стоят на страже суровые прямоугольные жилые блоки.
– Вот гадство, – сквозь зубы процедил Фифи.
В ста метрах под аркой негры метелили лежачего. Пассан притормозил, поставил машину на нейтралку и дал ей подкатить поближе. Это было избиение по всем правилам: били ногами, и бедолага пытался защитить лицо, но удары сыпались градом, каждый раз заставая врасплох. Один из мучителей в обрезанных джинсах и каскетке «Кангол» заехал ногой несчастному прямо в рот, заставив давиться выбитыми зубами.
– Оближи мои кроссовки, сраный жид! Оближи-ка их, урод! – Негр поглубже вбил кроссовку в разбитые десны жертвы. – Лижи, говнюк!
Фифи выхватил свой «CZ-85» и открыл дверцу.
– Сиди тихо! – остановил его Пассан. – А не то все испортишь.
Раздался вопль. Избиваемый вскочил, взбежал по ступенькам и бросился внутрь здания. Негры заржали, но догонять не стали.
Пассан включил первую скорость, проезжая мимо. Фифи тихонько прикрыл дверцу. И снова «лежачий полицейский». «Субару» двигалась совершенно бесшумно, как подводная лодка на большой глубине. Пассан взглянул на айфон.
– Улица Сади-Карно, – прошептал он. – Приехали…
– И где тут улица?
Справа за оградой стройки виднелось шоссе. Квартал перестраивали. Рекламный щит без тени иронии гласил: «Парк диких кошек». В глубине, среди развалин и стройматериалов, высились безликие квадратные дома того самого типа, к которому на окраине с равным успехом может относиться и школа, и склад.
– Сто двадцать восемь… сто тридцать… сто тридцать два… – вполголоса считал Пассан. – Это здесь.
Оба посмотрели на дверь металлического ангара. Пассан заглушил двигатель, выключил айфон. Снаружи ничего не разобрать, только дождевые капли барабанят по жирным черным лужам.
– И что теперь? – спросил Фифи.
– Идем.
– Уверен?
– Ни черта я не уверен. Просто идем, и все.
Послышался женский крик. Прищурившись, они поискали глазами источник звука. Какие-то типы толкали перед собой девчонку-подростка, а она с рыданиями упиралась. Один пинал ее в зад, второй подзатыльниками подгонял к строительной бытовке.
Фифи снова открыл дверцу.
– Брось. – Пассан схватил его за руку. – Мы здесь не затем. Сечешь?
– А зачем я тогда легавый? – Панк метнул в него бешеный взгляд.
Оливье заколебался. Раздался новый крик.
– Твою мать… – сказал он, сдаваясь.
В один миг они выхватили оружие и выскочили из «субару». Укрываясь за припаркованными машинами, подобрались ближе и напали на подонков, без предупреждений и предложений сдаться. Ударом головы Пассан повалил первого на кучу песка, Фифи ногой подсек второго и перевернул на живот, нашаривая в кармане наручники. Третий унесся прочь, словно демон, выкрикивая ругательства.
В тот же миг растрепанная девчонка, подобная дрожащей тени, исчезла без следа. Полицейские переглянулись. И что теперь? У них нет ни жертвы, ни нападения – ничего. Воспользовавшись заминкой, тот, что лежал на земле, вдруг ударил по пистолету Фифи и вскочил. Раздался выстрел, наручники с лязгом полетели в сторону, а негодяй уже смылся.
– Черт! – ругнулся Пассан.
Что-то заставило его оглянуться на ангар: дверь открылась. Он различил лысый череп, коренастую фигуру, голубые хирургические перчатки. Сколько раз он представлял себе эту минуту! Но в его воображении задержание происходило без сучка без задоринки.
– Ни с места! – крикнул Пассан, направив на убийцу пистолет.
Тот замер. В его мокрой от дождя лысине отражались отблески из приоткрытой двери – внутри что-то горело. Они опоздали! И тут в мозгу Пассана словно щелкнуло. Развернувшись, он увидел, как последний из насильников мчится в сторону жилого массива.
Фифи прицелился, держа палец на спуске.
– Сдурел? – Пассан ударил его по руке.
Крутанувшись, он обнаружил, что лысый тем временем убегает в противоположную сторону. Его черный плащ хлопал под дождем. Давненько они так не обламывались. Пассан глянул на Фифи: тот опять изготовился к стрельбе, целясь то в одного, то в другого беглеца.
– Брось насильника! – заорал Пассан. – Догоняй Гийара!
Лейтенант метнулся к стройке, Пассан побежал к автомастерской.
Сунув «беретту» в кобуру, он неловко натянул перчатки и толкнул рольдверь.
Он знал, что его ждет. Но все оказалось еще хуже.
В помещении автомастерской, заваленной моторами, цепями, инструментами, запчастями, в полутора метрах над землей к цистерне была прикручена молодая женщина – магрибинка в адидасовском костюме. Руки и ноги раскинуты, примотаны приводными ремнями, штаны и трусы спущены на щиколотки, футболка задрана.
Живот ей распороли от грудной кости до лобка, внутренности свисали из раны до самого пола. Перед женщиной в огненной луже пылал ее плод. Все тот же модус операнди[3]. Прошло несколько секунд, а может, несколько веков. Пассан не двигался. В смрадном дыму багровела плоть, младенец словно не сводил с Пассана выеденных огнем глаз. Наконец полицейский стряхнул оцепенение и бросился вперед, пробираясь между шинами, карданными валами и выхлопными трубами. Схватив с пола подстилку, набросил на крошечное тельце, чтобы сбить пламя. Нашел стремянку, одним щелчком раздвинул и поднялся к привязанной женщине. Он знал, что жертва мертва, и все-таки поискал пульс у нее на шее.
Зазвонил айфон. Пассан пошарил в карманах, едва не свалившись при этом со своего насеста.
– Что у тебя? – послышался запыхавшийся голос Фифи.
– Догнал его?
– Куда там! Ушел!
– Ты где?
– Сам не знаю.
– Сейчас буду.
Пассан спрыгнул со стремянки и с пистолетом наготове выскочил за дверь. Он огибал бетоноукладчики, спотыкался о блоки, мешки со штукатуркой, стальные прутья, в темноте ничего не разбирая перед собой.
Через пару метров он растянулся во весь рост, поднялся и злобно огляделся в поисках препятствия, о которое споткнулся. Это оказался Фифи, нога которого застряла под грудой гипсокартона.
– Упал я, Пассан… Грохнулся…
Оливье не знал, смеяться ему или плакать. Он наклонился, чтобы помочь Фифи подняться, но тот заорал:
– Забудь! Хватай гада!
– Где он?
– За стеной!
Пассан обернулся и метрах в ста от себя обнаружил длинную глухую стену. За ней мерцали отсветы: там проходила национальная автомагистраль. Не выпуская из рук пистолета, он бросился вперед, нашел пригорок, поднялся на него, закинул ногу на стену и, сгруппировавшись как мог, спрыгнул с другой стороны.
Перед ним простирались гектары голой земли. Вдали мчались машины. Фары высвечивали фигуру Патрика Гийара: спотыкаясь на раскисшей глине, тот с трудом продвигался к шоссе.
Пассан кинулся за ним. Кевларовый броник стеснял дыхание, ноги утопали в грязи, он едва отрывал их от вязких кочек и все же настигал врага.
Гийар уже подбирался к насыпи, по которой проходило шоссе. Пассан прибавил скорость и, когда преступник уже карабкался на дорожное ограждение, схватил его за ноги и потянул вниз. Убийца цеплялся за густую траву. Взяв за воротник, Пассан развернул его к себе и несколько раз ударил затылком о бетонный сток.
– Сволочь…
Гийар попытался его оттолкнуть. Теперь полицейский дубасил жертву рукоятью пистолета, чувствуя, как кровь заливает руки, глаза, нервы. В нескольких метрах над ними сотрясалась почва под колесами мчащихся машин.
Вдруг Пассан остановился и встал. Убрал оружие, поднялся на насыпь, подтащив тело врага к самой проезжей части.
В темноте вспыхивали фары – в их сторону мчался грузовик.
Полицейский пинком подтолкнул Гийара вперед и прижал к земле. Полуприцеп был уже в паре метров от них.
Пассан закрыл глаза.
Он – Закон.
Он – Правосудие.
Он – Меч и Приговор.
В последнюю секунду Пассан дрогнул. Подхватив Гийара, оторвал его от земли, и они, вместе перевалившись через ограждение, покатились вниз. Взревев, грузовик содрогнулся, словно в конвульсиях, и, слепя фарами, пронесся всего в нескольких метрах от их сцепившихся тел.
2
– Ты еще пожалеешь! Клянусь, тебе это с рук не сойдет!
Пассан промолчал, глядя на капитана антикриминальной бригады. Крепыш-недомерок в джинсовой куртке расхаживал взад-вперед, выставляя напоказ свой «ЗИГ-Зауэр». На рукаве – нашивка его бригады: блок муниципальных зданий в оружейном прицеле. Над кварталом кружил вертолет, сверхмощной фарой высвечивая мокрые от дождя крыши. Пассан повидал немало таких окраин и прекрасно знал, что ищет патруль: засевших в засаде отморозков, готовых броситься в атаку с бутылками, свечными ключами, булыжниками. Спецназовцы уже спустились в подвалы на поиски тележек с камнями.
Оливье с силой потер лицо, словно желая содрать с себя кожу, и отошел в сторону. Эта атмосфера боевого безумия его не затрагивала, он приходил в себя после собственного приступа помешательства. Слепящие фары грузовика, голова убийцы на асфальтовой плахе – смертоносный порыв под личиной защиты закона.
– Время поджимало, – сказал он, снова подойдя к коротышке-полицейскому.
– И ты, даже не предупредив, заваливаешься на мою территорию.
– Наводка пришла слишком поздно.
– О пятьдесят девятой статье ты не слышал?
– Мы хотели застать его врасплох, мать твою. Надо было действовать быстро и скрытно.
– И это ты называешь «скрытно»?! – Капитан злобно расхохотался.
Вокруг них, как в калейдоскопе, мелькали мигалки, ленты ограждения, люди в полицейской форме, белые комбинезоны. Антикриминальная бригада, муниципальная полиция, агенты безопасности, спецназовцы, экспертно-криминалистическая служба – кого тут только не было. Здесь же, прижимаясь к желтым лентам ограждения, толпились парни в слишком широких майках, в куртках с капюшоном.
– Ты хоть уверен, что он и есть Акушер?
– Этого тебе мало? – Оливье указал на дверь автомастерской.
С места преступления как раз выносили тела погибших. Двое сотрудников толкали носилки – жертву упаковали в пластиковый чехол. Следом шел еще один, держа контейнер со льдом и красным крестом на крышке. Внутри – сожженный младенец.
– Черт, из-за вас теперь весь квартал под угрозой. – Капитан коснулся своей нашивки.
– Да твой квартал сам по себе угроза.
– Скажи еще, это я виноват.
Пассан уловил в его взгляде смертельную усталость, и тут же весь его гнев и презрение улетучились. Капитан, измотанный многолетней беспросветной борьбой с городскими беспорядками, просто дошел до ручки. При свете мигалок Пассан снова огляделся. Прилипшие к окнам семьи, местные пацаны, толкущиеся по периметру безопасности, хихикающие детишки в пижамках на порогах муниципальных домов – и блюстители правопорядка в противоударных шлемах, с травматическими пистолетами, готовые стрелять по толпе.
Несколько «этнических» легавых – негров, арабов с полицейскими нашивками – пытались утихомирить народ. Пассан вспомнил индейцев американского Запада, служивших белым проводниками в незнакомом враждебном мире, – такими же проводниками были и эти полицейские.
Он развернулся и пошел к своей машине, прокручивая в голове события, что привели его к вратам ада. Позавчера исчезла двадцативосьмилетняя Лейла Муавад, находящаяся на девятом месяце беременности. А несколько часов назад пришло сообщение из финансового отдела: в холдинг, которым руководит их главный подозреваемый, Патрик Гийар, входит оффшорная компания, владеющая автомастерской в Стэне по адресу: Сади-Карно, 134. Этот ангар, о котором никто никогда не слышал, находится менее чем в трех километрах от мест, где были найдены три первых трупа.
Пассан позвонил Фифи. Они не медлили и все же опоздали – эти несколько минут стали роковыми для Лейлы и ее ребенка. За долгую службу Пассан всякого навидался, и бог знает какая по счету несправедливость не потрясла его до глубины души.
Внезапно чей-то вопль разорвал общий гомон. Молодой мужчина растолкал спецназовцев и бросился к труповозке. Пассан узнал его сразу: Мохаммед Муавад, тридцать один год, муж Лейлы. Накануне Оливье брал у него показания в помещении судебной полиции Сен-Дени.
На сегодня с него хватит. Вот-вот подъедет прокурор, будет назначен новый следственный судья, пусть он и разбирается с Иво Кальвини, судьей, который занимался расследованием серии убийств. В любом случае Пассану это дело не поручат. По крайней мере, не сразу. Сперва придется искупить грехи: незаконный обыск, проваленное задержание на месте преступления, нарушение запрета подходить к Гийару ближе чем на двести метров. Применение насилия к подозреваемому, на которого распространяется презумпция невиновности. Адвокаты этого говнюка сожрут его заживо.
– Валим отсюда?
Фифи курил, сидя в «субару». Из открытой дверцы торчали его волосатые ноги, одну из которых уже перевязали врачи «скорой».
– Обожди секунду.
Пассан вернулся в эпицентр событий. Теперь ему нескоро представится возможность разжиться сведениями по делу. На месте преступления трудились эксперты криминалистического отдела, вспышки фотоаппарата то и дело выхватывали куски стен, из рук в руки переходили порошки, пинцеты, запечатанные пакетики. Все это он наблюдал сотни раз, и его уже тошнило от этого зрелища.
Он высмотрел координатора криминалистов, Изабель Заккари, которую сам же и вызвал по телефону. В своем белом комбинезоне, она стояла рядом с черными следами, оставленными внутренностями жертвы.
– Уже что-то есть?
– Дело у тебя?
– Сама знаешь, что нет.
– Тогда я вряд ли могу…
– Хотя бы самые первые результаты.
Заккари стянула капюшон, как будто ей не хватало воздуха. В маске с боковыми фильтрами вокруг шеи она смахивала на мутанта. При каждом ее движении слышался шелест сминаемой бумаги. Она была в очках, обычно придававших ей высокомерный и сексуальный вид, но только не сегодня вечером.
– Пока ничего не могу сказать. Мы все отправляем в лабораторию.
Пассан окинул взглядом помещение: окровавленная цистерна, свисающие ремни, потемневшие от крови хирургические инструменты на стойке. Здесь еще держался запах горелого мяса.
– Нашли его отпечатки? – Пассана вдруг поразила одна мысль.
– Полно. Но это ведь его мастерская?
Надо искать их на теле убитой женщины, на инструментах, которыми негодяй орудовал, на канистре с бензином, при помощи которого сжег ребенка. А еще частички его кожи под ногтями жертвы – любую органику, способную связать владельца автомастерской с его добычей.
– Пришли мне результаты мейлом.
– Слушай, это же не по правилам, я…
– Это мое дело.
Заккари покачала головой. Пассан знал, что она все сделает: восемь лет работы бок о бок, немного флирта, сексуальное напряжение, всегда существовавшее между ними, – все это не прошло даром.
Снаружи ему легче не стало. Опять лило как из ведра. Столпившиеся у ограждения местные прорывали цепь спецназовцев, – того и гляди, все это плохо кончится. Только в одном повезло: журналистов пока не видно. Каким-то чудом ни один репортер, фотограф или оператор до сих пор не объявился.
Огибая машину, чтобы сесть за руль, Пассан увидел еще одни носилки, которые подкатывали к «скорой помощи». На них, укрытый серебристым термоодеялом, лежал Патрик Гийар, в шейном корсете и кислородной маске. Прозрачный полимер искажал черты, возвращая ему истинный облик – это было лысое белое чудовище с безобразной физиономией.
Санитары открыли дверцы машины и осторожно вкатили носилки внутрь. Синие мигалки отражались в складках переливчатого одеяла, и казалось, что палач выглядывает из кокона с бирюзовыми блестками.
Их взгляды встретились.
То, что он увидел в глазах убийцы, убедило его: война еще не выиграна.
Возможно даже, не эта битва.
3
Через час Оливье Пассан жмурился от удовольствия, стоя под душем в своем новом офисе. Вода была словно наделена некой магией: она смывала не только грязь и пот, но и вонь горелого мяса, видения истерзанной плоти, жажду убийства и разрушения, которая все еще не отпус кала его. Он склонил голову под тугими струями – прохладными, почти холодными. Покрасневшую под напором воды кожу слегка саднило, освежающий ливень хлестал по затылку.
Наконец он вытерся и почувствовал себя обновленным. Обстановка Центрального управления судебной полиции на улице Труа-Фонтано в Нантере лишь усиливала это впечатление. Помещения в стиле хай-тек, просторные и безликие, – ничего общего с мрачным лабиринтом на набережной Орфевр[4]. Многие отделы перевели сюда, пока не начнут возводить новый дом номер 36. Хотя, по слухам, денег на строительство нет, и полицейские скоро вернутся к родным пенатам.
Голый по пояс, он изучал себя в зеркале над умывальником. Худое лицо, квадратная челюсть, стрижка ежиком: скорее десантник, чем легавый. Под шапочкой коротких волос – тонкие и правильные черты. Он опустил взгляд на свою грудь: выпуклые мускулы, четкие линии. Это зрелище стоило часов, проведенных в спортзале. Пассан тренировался не ради физической формы, красота заботила его еще меньше – для него это было вещественным доказательством собственной силы воли.
Он вернулся в раздевалку, натянул грязную одежду и зашел в лифт. Третий этаж. Стальная арматура, стеклянные стены, серый ковролин. Это холодное однообразие ему даже нравилось.
Отмытый и причесанный Фифи возился с кофемашиной.
– Что, не работает?
– Еще как работает. – Панк со всей силы пнул агрегат.
Подхватив дымящийся стаканчик, он протянул его начальнику и снова ударил по машине, чтобы раздобыть себе другой. Под намокшей гривой его продырявленная пирсингом кожа выглядела особенно нездоровой.
Они молча выпили кофе и с одного взгляда поняли друг друга: говорить о чем-нибудь еще, любой ценой сбросить напряжение. Но молчание затянулось. Помимо профессии, у них была только одна общая тема: застой в личной жизни.
– Что у вас с Наоко? – Фифи решился первым.
– Разводимся. Уже официально.
– А с домом что? Будете продавать?
– Ну нет. Только не сейчас. Оставим.
Напарник недоверчиво хмыкнул. Он знал, что решение Пассана никак не зависит от ситуации на рынке недвижимости.
– И кто же там будет жить?
– Мы оба. По очереди.
– Как это?
– Будем жить там по очереди. – Пассан смял стаканчик и швырнул в мусорку. – Каждый по неделе.
– А ребятишки?
– Они останутся, чтобы не менять школу. Мы все обдумали: это их меньше травмирует.
Фифи промолчал, вновь всем видом демонстрируя недоверие.
– Теперь все так делают, – добавил Пассан, словно пытаясь убедить себя самого. – Сейчас это очень распространенная практика.
– Это дурацкая практика. – Лейтенант тоже выкинул стаканчик. – Скоро они будут принимать вас в вашем же доме. Будете туристами под собственной крышей.
Пассан поморщился. Он неделями взвешивал это решение, стараясь уверить себя, что другого выхода нет. Неделями отбрасывал любые возможные возражения.
– Или так, или я и дальше буду жить в своем погребе.
Вот уже полгода, как он обитал в подвале собственного дома. Словно опасаясь бомбежки, укрывался в помещении, куда свет проникал через оконца на уровне земли.
– И чего? – фыркнул Фифи. – Будешь приводить девок к себе домой? Чтобы Наоко натыкалась на их трусики в постельном белье? И сама спала в той же постели?
– Начнем прямо сегодня, – отрезал Пассан. – Эта неделя за Наоко. А я перебираюсь в квартирку, которую снял в Пюто.
Панк удрученно покачал головой.
– Ну а как у тебя с Орели? – Пассан перешел в наступление.
Фифи ухмыльнулся, наливая себе очередной стаканчик кофе.
– Позавчера она уснула, когда мы трахались. – Он подул на стаканчик. – Как по-твоему, это хороший знак?
Они расхохотались. Все лучше, чем вспоминать жуткий след, оставленный Акушером.
4
Под скрип дворников Пассан рассеянно прислушивался к новостям по радио. Он направлялся в Сюрен, чтобы провести в своем доме последние часы перед переездом в Пюто, но еще не решил, завалится ли спать, продолжит упаковывать коробки или займется рапортом. Нельзя сказать, чтобы понедельник 20 июня 2011 года был богат новостями. Внимание привлекло единственное сообщение: история разведенного мужчины, объявившего голодовку в знак протеста по поводу денежной компенсации, которую его обязали выплачивать бывшей супруге. Пассан невольно улыбнулся.
С Наоко подобные трудности ему не грозят. Один адвокат, совместная опека над детьми, даже выходного пособия не потребуется: жена зарабатывает намного больше. Дом – единственное имущество, которое им предстоит разделить.
Он ехал по набережной Дион-Бутон в сторону моста Сюрен и дрожал от холода, но включать печку не хотелось. Как-никак июнь, черт побери! Проклятая погода действовала на нервы. Уродская погода, от которой привычно ныла спина, – зябкая и скупая, без намека на летнее изобилие.
От Нантер-Префектюр он мог бы добраться до Мон-Валерьен и через город, но ему хотелось простора – неба и реки под восходящим солнцем. На самом деле он почти ничего не видел: Сену слева от него с дорожной насыпи не разглядишь, а справа деревья заслоняли город. Хмурое небо пропиталось водой, словно губка. Он мог сейчас находиться в любом месте на этой планете.
Пассан вспоминал, как прижимал Гийара ногой к земле, готовый швырнуть головой вперед под колеса грузовика. Когда-нибудь дверь камеры захлопнется за ним самим не с той стороны. Семья – едва ли не последнее, что еще связывало его с нормальной жизнью, – и та потерпела крах.
Он свернул направо, поехал по бульвару Анри-Селье, потом по авеню Шарля де Голля двинулся в сторону Мон-Валерьен. По мере подъема появлялись знакомые приметы: дома, притулившиеся к склону холма, заросшие плющом стены. Одно за другим открывались кафе.
Пассан остановился возле уже освещенной булочной. Круассаны, багет, чупа-чупс. Его вновь охватило ощущение нереальности. Есть ли связь между этими безобидными вещами и кошмаром в Стэне? Удастся ли ему вот так запросто вернуться в обычный мир?
Он сел в машину и продолжил подъем. Вершина Мон-Валерьен с ее просторными лужайками напоминала поле для гольфа. Здесь царила атмосфера высокогорного плато – симметрия линий, ровная местность, водоочистительная станция с ее четко очерченными трубами. Стадион Жан-Мулен с площадками, словно выведенными по линейке, американское братское кладбище с рядами белых крестов.
Утренний свет с трудом продирался сквозь сумрак, но открывавшийся вид на Париж впечатлял. А особенно радовало Пассана расстояние. Для него эти тысячи гаснущих фонарей, чаща башен и зданий, укрытых пеленой дождя, представляли собой трагическую арену первобытной войны. Здесь, на этих высотах, он чувствовал себя в безопасности. Он вернулся в свое святилище. Свое убежище.
Добравшись до улицы Клюзере, он притормозил перед воротами, открыл их пультом и как можно медленнее проехал по подъездной аллее, чтобы сполна насладиться видом. На первый взгляд это смотрелось как белый блок на зеленом фоне. По местным меркам у него был огромный сад – около двух тысяч квадратных метров лужайки. Газон обходился недешево, но оно того стоило.
Пассан сознательно почти ничего здесь не посадил, только слева разбил небольшой японский сад под сенью нескольких сосен. Свернув направо, заглушил двигатель. Парковки у дома не было, и Пассан не стал нарушать целостность архитектуры. Построенное в двадцатых годах здание представляло собой прямоугольный параллелепипед – воплощение интернационального стиля, увенчанное крышей-террасой. Стальные несущие конструкции, железобетонные опоры, поддерживающие открытую галерею, окна в ряд. Строго, прочно, функционально. Он не сдержал горделивой улыбки.
С пакетом круассанов в руке Пассан отпер дверь и вошел в прихожую. Сунул по чупа-чупсу в карманы дождевиков Синдзи и Хироки на вешалке – сюрприз от папы. Потом разулся и прошел в гостиную.
Поначалу это была выгодная сделка. В марте 2005 года вследствие кончины Жан-Поля Кейро, последнего представителя семьи торговцев произведениями искусства, дом выставили на продажу. Пассан узнал об этом первым по очень простой причине: именно он, как офицер уголовного отдела, констатировал смерть Кейро, когда тот, погрязнув в долгах, прострелил себе горло и тем завершил историю своего рода.
А полицейский буквально влюбился в это место в тот самый миг, когда труп лежал у его ног. Пассан заглянул в каждую комнату, не обращая внимания на их плачевное состояние, – наследник давно выродился в бродягу, незаконно проживающего в собственной лачуге. Пассан представлял себе, во что сможет превратить этот дом.
Покупка состоялась благодаря Наоко. Уже год она занимала важный пост в аудиторской фирме, к тому же за время работы в модельном бизнесе сумела отложить приличную сумму. Да и ее родители, владевшие землей в Токио, внесли свою лепту. Хотя вклад жены значительно превышал сумму, которую выплатил Пассан, они стали равноправными собственниками. Зато бо льшую часть ремонтных работ он собирался выполнить сам.
И взялся за дело с чувством, что трудится во имя прочности своего домашнего очага. Физически укрепляет его основания, защищает их любовь от внешних угроз, от износа, от эрозии… Но это не сработало. Дом устоял перед внешними опасностями, но защитить любовь не удалось.
Он направился на кухню и едва не рухнул под натиском Диего, ринувшегося навстречу. Этот огромный серый пиренейский пес определенно чувствовал бы себя вольготнее на горном пастбище с отарой. Как всегда, он бурно излил свой восторг при виде хозяина. Когда Наоко захотела купить собаку, Пассан сперва стал возражать – непременный песик в образцовой буржуазной семье. А теперь только Диего и был на его стороне.
– Заткнись, Диего, – шепнул он. – Весь дом перебудишь…
Оливье выложил круассаны в корзинку для хлеба, багет оставил на видном месте на столе. Заодно вынул и клетчатые салфетки, кружки мальчишек с их написанными по-японски именами, лакированную чашку, из которой Наоко пила свой чай с молоком. Варенье, хлопья, апельсиновый сок. Он не грустил, выполняя эти привычные действия в одиночестве: ему давно не приходилось завтракать с женой и детьми.
Пассан уже выходил из кухни, когда невольно замер перед фотографиями на стене. Включил свет, чтобы было лучше видно, и на глаза ему попалось фото, на котором они с Наоко стоят на балконе храма Киёмидзу-дэра[5] над Киото. Он – с натянутой улыбкой, а Наоко, повинуясь профессиональному рефлексу модели, приняла самую выгодную позу в три четверти. Несмотря на эту вымученность, снимок все еще дышит счастьем. А главное – взаимным уважением, гордостью за то, что они вместе.
Он взглянул на другое фото. 2009 год, групповой портрет в Сибуя, модном квартале Токио. У него на руках сидит четырехлетний Хироки в шапочке в виде Тоторо, знаменитого персонажа Миядзаки. Наоко держит шестилетнего Синдзи, в знак победы сложившего ладошки буквой V. Все они смеются, но в позах взрослых уже чувствуется неловкость, напряженность. Усталость и неудовлетворенность – прогрессирующие метастазы времени.
Слева – пляж на Окинаве, 2000 год, их свадебное путешествие. Подробности стерлись из памяти. Перед глазами – взволнованная Наоко у стойки регистрации в аэропорту Руасси, достающая бонусную карту «Флаинг блю», чтобы зарегистрировать свои мили. Наоко была фанаткой скидочных карт, постоянной участницей распродаж. Ему вспомнилось, как в тот миг в аэропорту он поклялся всегда защищать эту девчонку, верившую, будто что-то можно «застраховать».
Сдержал ли он свою клятву?
Пассан выключил свет, прошел через гостиную и начал спускаться по бетонной лестнице.
Пришло время вернуться в свои покои. В подземный дворец Мышиного короля.
5
Коридор с крашеными кирпичными стенами. Слева чулан и прачечная со стиральной машиной и сушкой, справа закуток, в который Пассан провел воду и оборудовал ванную. В глубине комната, служившая ему спальней и кабинетом.
Он разделся в прачечной, сунул одежду в бак и запустил стирку. Так он жил уже несколько месяцев, отдельно от семьи, поедая за письменным столом свои бенто и засыпая в одиночестве. Голый, он посмотрел на крутящиеся в мыльной воде запачканные кровью тряпки. Машина, стирающая кошмары.
Пассан вынул из корзинки чистую майку и трусы, пропахшие кондиционером для белья, натянул их и прошел в комнату. Прямоугольник площадью двадцать квадратных метров, с голыми бетонными стенами и слуховыми окнами. С одной стороны раскладушка, с другой – доска на козлах, в глубине верстак, на котором он разбирал и чистил оружие. В каком-то смысле этот бункер подходил ему больше, чем просторные помещения наверху, – здесь он словно в засаде.
На стенах Пассан развесил портреты своих кумиров. Юкио Мисима, совершивший сэппуку в 1970 году, в возрасте сорока пяти лет. Рентаро Таки, «японский Моцарт», умерший от туберкулеза в 1903 году, в двадцать четыре года. Акира Куросава, снявший «Расёмон» и многие другие шедевры и едва выживший после попытки самоубийства в 1971 году, когда провалился первый его цветной фильм «Под стук трамвайных колес». Не слишком веселая компания…
Пассан включил подсоединенный к колонкам айпод, уменьшил громкость до минимума. Симфоническая эклога Акиры Ифукубе для кото и оркестра. Потрясающая вещь, хотя во Франции он наверняка единственный, кто ее слушает. Пассан был страстным любителем японской симфонической музыки, совершенно не известной на Западе и едва ли более популярной в самой Японии.
Время чая. Когда-то он купил в Токио приспособление, в котором вода сохраняла температуру восемьдесят градусов. Он наполнил чайник и бросил в него пять граммов обжаренного зеленого чая «ходзитя». Пока чай заваривался (ровно тридцать секунд), зажег палочку благовоний и раздул тлеющий конец, помахав рукой. Он ни за что не стал бы на него дуть: у буддистов рот считается нечистым.
С чашкой в руке Пассан вытянулся на кровати и закрыл глаза. Кото, нечто вроде горизонтальной арфы, издавало очень сухое вибрато, одновременно горькое и меланхоличное. Чудилось, что каждый звук исходит не от струн, а от его собственных нервов. Горло сжималось, а в груди разливалась умиротворяющая волна. Дыхание сердца, освобождение ума…
Япония…
Открыв ее, он открыл самого себя. Первое же путешествие мгновенно упорядочило его существование. Он родился в 1968 году в Катманду. Его родители, распаленные гашишем, зачали сына в наркотическом угаре у подножия статуи Будды. Отец умер на следующий год, ради покупки опиума сдав слишком много крови. Мать испарилась через пару месяцев, не оставив адреса. Французское посольство в Непале сделало все необходимое: его отправили во Францию, и он стал питомцем Республики.
Следующие пятнадцать лет Оливье Пассан скитался по приютам и приемным семьям, сталкиваясь то с порядочными людьми, то с подонками, подвергаясь хорошему и дурному влиянию. В школе учился неровно, получая то самые высокие, то самые низкие оценки. Наконец определившись, он пошел по дурной дорожке: угон машин, торговля поддельными документами, рэкет. Но ему удалось выжить и избежать проблем с легавыми.
В двадцать лет он словно пробудился. Бросил западную окраину – Нантер, Пюто, Женевилье – и на накопленные преступным путем деньги снял комнату в Пятом округе на улице Декарта. Записался на юрфак Сорбонны, в нескольких сотнях метров от дома.
Три года он прожил затворником на своих семи квадратных метрах: зубрил, питался гамбургерами, вслух повторял лекции, уставившись в потолок. А еще он увлекся искусством, философией, классической музыкой – настоящий курс дезинтоксикации. Когда деньги кончились, перебрался в комнату, предоставленную организацией помощи студентам, но больше никогда не нарушал закон.
Получив диплом, поступил в Высшую государственную школу полиции. Если подумать, это был единственный выбор, способный направить его в нужное русло, одновременно позволявший оставаться в привычной среде – в мире ночи, адреналина, преступлений.
Как сказал ему однажды один из приемных отцов, вышедший на пенсию рабочий завода Шоссон в Женевилье: «Легавый – это просто неудавшийся бандит».
И Пассан решил обернуть неудачу в свою пользу. В этом выборе присутствовала и личная причина: стать офицером полиции означало служить своей стране, а своей стране он задолжал. В конце концов, именно французское государство спасло его, вскормило и взрастило.
Полтора года в полицейской школе он вел себя как пай-мальчик и получал высшие баллы по всем предметам. Когда настало время выбрать место службы, у него возникла странная идея. Вместо того чтобы занять перспективную должность в Министерстве внутренних дел или в престижном отделе Управления судебной полиции, он подал запрос о вакансиях за границей: на место связного, методиста, разведчика… В сознательном возрасте он никогда не покидал пределов Франции, но сейчас предпочел самую далекую страну и получил место стажера офицера связи в Токио.
Когда он приземлился в аэропорту Нарита, его жизнь раз и навсегда перевернулась.
Отныне Япония стала излюбленной страной его ожиданий, желаний и надежд. Каждая ее черта пробуждала в нем смутные чаяния, прежде неведомые.
Он с головой погрузился в эту культуру – как будто родился, чтобы быть японцем.
Пассан тут же стал идеализировать этот край, смешивая реальность и вымысел. Он наслаждался врожденной вежливостью японцев, чистотой улиц, общественных мест, туалетов. Изысканностью еды, непреложностью правил и предписаний. К этому он добавлял уже исчезнувшие традиции: кодекс чести самураев, очарование добровольной смерти, красота женщин на гравюрах укиё-э.
Все прочее он игнорировал – бешеный материализм, технологическую одержимость, отупение людей, работающих по десять часов в день. Чувство общности, граничащее с безумием. Он также отвергал эстетику манги, на дух ее не переносил из-за этого дикого пристрастия к огромным черным глазам – самому ему нравился только миндалевидный разрез глаз. Он ничего не хотел знать о гонке за гаджетами, увлечении игровыми автоматами патинко, ситкомами, видеоиграми…
Но прежде всего Пассан отрицал упадок Японии. Со времени первого его приезда в страну положение неизменно ухудшалось: экономический кризис, постоянно растущий внешний долг, безработица молодежи. Он все еще искал на улицах культового актера Куросавы Тосиро Мифунэ с его мечом, не замечая женоподобных андрогинов, уткнувшихся в манги гиков, сонных служащих в метро. Новые поколения, унаследовавшие не силу предков, а, напротив, накопившуюся тяжкую усталость. Общество, которое наконец расслабилось, зараженное западной расхлябанностью.
Все эти годы, даже женившись на ультрасовременной японке, Пассан по-прежнему мечтал о вневременной Японии, в которой черпал душевный покой и равновесие. Как ни странно, он никогда не интересовался боевыми искусствами, ограничившись приемами, которым научился в полицейской школе, и так и не проникся медитативными техниками дзен. Он создал для себя этот мир строгости и красоты, чтобы противостоять тяготам своей профессии. Землю обетованную, где он поселится, когда силы его окончательно иссякнут. И наутро после такой ночи, как в Стэне, у него всегда оставались эклога Ифукубе и печальный взгляд Рентаро Таки.
При этой мысли он открыл глаза и нащупал возле своей раскладушки сборник хокку. Полистал и нашел нужные слова:
- При свете луны
- Я покидаю лодку,
- Чтобы войти в небо…
Пассан перевернул несколько страниц в поисках подходящего стихотворения, но внезапно отрубился – как умирают от пули в лоб, и сны воздвигли над ним тяжелую каменную гробницу.
6
Взъерошенная, помятая, сонная Наоко, замерев на пороге логова людоеда, смотрела на мужа.
Перед ней покоился обломок – ни человека, ни тем более полицейского – Пассан был лучшим полицейским в мире, – а обломок мужа. На этом поприще он полностью провалился, и не ей его упрекать: она достигла той же точки невозврата.
Как они дошли до такого? – постоянно спрашивала она себя. Озарявший их свет погас, любовь, подобно загару, постепенно сошла на нет, хотя никто этого даже не понял. Но почему ее сменила глухая ненависть? Откуда это досадливое безразличие? У нее было по этому поводу собственное мнение: все дело в сексе. А точнее, в его отсутствии.
В Токио девушки шепотом передавали друг другу волшебное число. Если верить знаменитому опросу, все без исключения французы занимаются любовью три-четыре раза в неделю. Это обилие восхищало японок, привыкших к вялому либидо своих мужчин. О Франция – страна романтики, сексуальный рай!
До переезда в Париж Наоко не знала главного: тщеславия французов. Но теперь, познакомившись с ними поближе, запросто представляла себе, как они похваляются своими воображаемыми сексуальными подвигами, с ухмылкой и игривым блеском в глазах.
Вот уже два года, как Пассан до нее не дотрагивался, и теперь ни о какой близости между ними не могло быть и речи. От усталости они перешли к досаде, затем к ненависти и, наконец, к какой-то бесполой отстраненности, что объединяет членов одной семьи, которыми они все-таки оставались.
Друзья настороженно наблюдали за упадком их союза. Олив и Наоко – эталон, прекрасная история любви, абсолютное единение. Образец, вызывавший зависть, но и даривший надежду. А потом появились первые неумолимые признаки. Разговор на повышенных тонах, язвительные замечания за ужином, частые отлучки… И невольные признания: «У нас все разладилось. Подумываем о разводе…»
Окружающие наивно объясняли это крушение культурными различиями. На самом деле все было наоборот: этих различий как раз и не хватило, чтобы спасти их от скуки.
Подобно ученому, Наоко наблюдала за развитием катастрофы, отмечая каждый этап, каждую деталь. Когда они только познакомились, Пассан был обращен к ней, словно подсолнух к солнцу. В то время она была его кровью, его светом. И никогда прежде она так не возносилась, потому что чувствовала себя удовлетворенной, сияющей и такой гордой… А затем он нашел источник в другом месте – или попросту в себе самом. Он, как говорится, вернулся к своим истокам: к работе полицейского, к национальным ценностям, а позже – к детям. А еще, как она знала, к ночи, насилию, пороку… В этом черно-белом мире, состоящем исключительно из победителей и побежденных, из союзников и врагов, для нее не осталось места.
Ей казалось, она уже достигла дна. Но она ошибалась – отметка опустилась еще ниже. Она стала для мужа препятствием, помехой свободе. Но что он стал бы делать с этой свободой? И разве он и так не был свободен? Если она задала бы Пассану этот вопрос, он бы не нашел ответа. Он об этом не задумывался, не желал признавать их поражение, сосредоточившись на ремонте дома, на службе и на заботе о сыновьях. Всему этому он отдавался стиснув зубы, глухой к зову плоти. Ей от него перепадали лишь враждебность и раздражение.
Тогда и она ожесточилась, ведь любовь питается чувством другого. Без практики сердце черствеет, теряешь всякую способность к взаимности. И в конце концов, пытаясь защитить себя, замыкаешься в самом грустном, что только есть на свете: в своем одиночестве.
Наоко бесшумно проскользнула в комнату Пассана – она всегда звала его на японский манер, по фамилии. Задернула занавески, выключила музыку, убрала книгу. При этом она даже не взглянула на мужа: это были не знаки внимания, а лишь рефлексы домашней хозяйки.
Поднялась по лестнице; на кухне увидела круассаны в хлебнице, накрытый стол и не удержалась от улыбки. Охотник за убийцами, сам убийца, Пассан был еще и ангелом-хранителем.
Наоко сделала себе кофе и рассеянно взглянула на фотографии на стенах. Сколько раз она смотрела на них, а теперь уже не замечает. За ними ей виделось нечто другое.
Ее одинокая судьба. Скрытые искания.
Ведь Наоко всегда была одинокой.
7
Рожденная под знаком Кролика, Наоко Акутагава прошла через обычный для японских детей ад. Суровое воспитание, основанное на ремне, ледяном душе, лишении сна и еды… Террор.
С ее отцом, родившимся в 1944 году, обращались точно так же. В Европе говорили бы о наследственном насилии: ребенок, которого бьют, часто и сам становится жестоким родителем. А в Японии рассуждали просто: от подзатыльников одна польза. Ее отец, именитый профессор истории в Токио, служил тому живым доказательством.
В школе приходилось не легче, чем дома. Наоко полагалось и быть лучшей в лицее, и готовиться к конкурсу в университет, хотя две эти задачи не имели между собой ничего общего. А значит, после напряженных дневных занятий Наоко училась еще и на вечерних курсах, по выходным и на каникулах. В конце каждого триместра ей сообщали результаты национальной классификации. Так что в течение года она знала, что сейчас занимает 3220-е место в списке, и, следовательно, в тот или другой университет путь ей уже заказан. Информация не слишком обнадеживающая.
Но Наоко трудилась в поте лица, не покладая рук, без единого выходного дня и даже свободного часа.
А еще надо было выкроить время для уроков боевых искусств, каллиграфии, хореографии, школьных дежурств… При этом без конца повторяя про себя тысячи кандзи – иероглифов китайского происхождения, у каждого из которых несколько значений и вариантов произношения. И постоянно занимаясь самоусовершенствованием, нравственным и физическим, чему помогала железная самодисциплина.
И в то же время – в чем заключается один из бесчисленных парадоксов Японии – мать отчаянно баловала Наоко. До восьми лет дочка спала в ее постели. В пятнадцать она бы ни за что не заночевала вне дома, в восемнадцать не приняла бы ни единого решения, не посоветовавшись с «мама-сан».
Наконец, окончив частную протестантскую школу в Йокогаме, Наоко поступила на престижный факультет в том же городе. В эти годы она так часто ездила по маршруту Токио – Йокогама, что ей уже казалось, будто он навсегда вошел в ее кровь, впечатался в гены. И ее дети унаследуют названия его станций вместо хромосом.
Не такая способная, чтобы заняться медициной, но доста точно упрямая, чтобы противостоять отцу, заставлявшему ее учиться на юриста, она выбрала смешанное образование: бухгалтерская экспертиза, языки, история искусств.
1995 год. Новый поворот. В метро к ней подходит фотограф и предлагает сделать пробные снимки. Наоко не верит своим ушам. Ей двадцать лет, и никто никогда словом не обмолвился о ее красоте. В Японии родителям не приходит в голову хвалить ребенка за внешность, но Наоко красива. По-настоящему красива. После того первого раза она убеждается в этом изо дня в день. Она проходит кастинг за кастингом и получает, как ей кажется, безумные гонорары. Родителям она ничего не говорит и продолжает учебу, тайком откладывая деньги, чтобы добиться независимости от отца. Сбежать раз и навсегда.
Впрочем, она уже поняла: чтобы сделать карьеру, придется уехать за границу. Ее внешность не отвечает критериям азиатского рынка, в Японии предпочитают евразиек, у которых глаза не раскосые, или местных девушек, но с некой изюминкой, с возбуждающей крупицей экзотики…
В двадцать три года, получив свои дипломы, она улетает в Штаты, затем в Европу: Германия, Италия, Франция. У нее внешность настоящей японки, которая так заводит западных мужчин: гладкие черные волосы, высокие скулы, короткий носик с легкой горбинкой.
А о ее глазах один миланский фотограф сказал: «У тебя веки мягкие, как кисть, жесткие, как скальпель».
Она не поняла, что это значит, но ей было плевать: работы навалом, деньги текут рекой. Наконец она обосновалась в Париже – исключительно по деловым соображениям. Она осуществила мечту, но не свою, а материнскую: ока-сан[6] – законченная франкофилка, смотрит фильмы «новой волны», слушает Адамо, читает Флобера и Бальзака. Наоко готовила уроки под звуки «Падает снег», раз двадцать смотрела «Презрение» Жан-Люка Годара и назубок знает «Мост Мирабо».
Контраст между идеализированным Парижем матери и открывшимся Наоко враждебным городом ошеломил. Все здесь было чужим. Она плутала по грязным улицам, к ней приставали таксисты. А больше всего шокировала наглость французов: они в открытую насмехались над ее акцентом, не пытались хоть в чем-то помочь, перебивали, говорили очень громко, особенно если были против. А французы всегда против.
В психиатрической больнице Святой Анны есть отделение для пациентов, имеющих диагноз под названием «пари секогун» – «парижский синдром». Каждый год сотня японцев, разочарованных Парижем, впадают в депрессию, а то и в паранойю. Их госпитализируют, лечат и отправляют на родину. С Наоко такого не случилось. У нее закаленное сердце – спасибо, папа! – и она не возлагала заранее на этот город никаких романтических надежд.
Через два года, подучив французский, она бросила работу модели – это ремесло и сама среда были ей омерзительны – и стала тем, чем и являлась на самом деле: женщиной, руководимой голым расчетом. Поначалу ей поручали отдельные аудиторские проверки, всегда от японских или немецких фирм. Затем она поступила в крупную компанию ASSECO, и отныне ее будущее было обеспечено.
Единственная оставшаяся трудность была связана с сексом. Наоко сражалась не за то, чтобы преуспеть через постель, а за то, чтобы преуспеть без постели. С этим она уже сталкивалась в модельном бизнесе, но в тусклом мире аудитов и налоговых экспертиз ей приходилось еще хуже. Здесь, со своим бледным лицом и чернильно-черными волосами, Наоко выглядела фантастическим созданием. Она прекрасный работник, но нанимателю всегда хотелось большего. Иногда она просто отказывала, иногда обольщала, но не уступала. Ее выматывали эти игры, а результат был всегда один: поняв, что не добьется своего, хищник подставлял ее.
Опасности подстерегали не только на работе. Однажды у нее украли сумочку – в Японии воровства не существует. Наоко обратилась в полицию. «Гуччи» так и не вернули, но каких усилий ей стоило отделаться от приставаний лейтенанта, которому поручили расследование…
С появлением Пассана все изменилось.
То была любовь с первого взгляда – без единого облачка на горизонте, без единого сбоя в программе. Новый поворот произошел благодаря брату Наоко. Когда она приехала в Париж, Сигэру, старше ее на три года, уже там обосновался. Став в пятнадцать алкоголиком, а в семнадцать подсев на героин, Сигэру покинул родительский дом, чтобы продолжить в Европе карьеру рок-гитариста. Несколько лет он прожигал жизнь в Лондоне, затем осел в Париже. Родные месяцами о нем ничего не слышали. Он дал о себе знать в 1997 году, завязав с наркотой и выпивкой, – цветущий, поправившийся на десять килограммов. Французским он теперь владел безупречно и даже отхватил место старшего преподавателя в Парижском институте восточных языков.
Наоко с братом не были особенно близки. Единственная связь между ними – клубок страшных воспоминаний об отцовских порках, оскорблениях и унижениях. Кому захочется встречаться с тем, кто видел вас со спущенными штанами или рыдающим на пороге родного дома зимним вечером? И все же, приехав в Париж, она обратилась к нему, и он помог ей устроиться. Им случалось обедать вместе, а иногда она заезжала за ним на Лилльскую улицу в Седьмом округе, когда он выходил после занятий.
Там она и встретилась с Пассаном, тридцатидвухлетним офицером полиции, помешанным на Японии и посещавшим вечерние занятия у Сигэру. Впервые поужинав с ним, кажется, четвертого ноября, она поняла, что неотесанный полицейский – тот, кого она искала всю жизнь. У этого парня не было ничего общего ни с французским псевдоромантизмом, ни с женоподобными мужчинами, которые околачиваются в токийском квартале Сибуя.
К тому же благодаря этой встрече Наоко многое узнала о себе самой. Как ни странно, страсть Пассана к традиционной Японии пришлась ей по душе, хотя она давно выбросила из головы россказни о самураях и бусидо, пусть даже сожалея о том, что все это кануло в Лету с экономическим подъемом страны и порожденными им худосочными поколениями.
И вот она обрела воплощение этих ценностей в крепком и грубоватом французе. Атлет с низким голосом, втиснутый в плохо скроенный костюм, который трещал по швам, стоило ему рассмеяться, Пассан на свой лад и был самураем. Он хранил верность Республике, как древние воины были преданы своему сёгуну. Каждое его слово, все его существо дышали прямотой и нравственностью, мгновенно внушавшими доверие.
Как все это далеко…
И вот она разводится. Отныне она не защищена, зато свободна. Говорят, что в пятидесятых годах, в великую эпоху японского кино, каскадеров не существовало. По очень простой причине: ни один актер никогда бы не отказался сыграть в опасном эпизоде, чтобы не потерять лицо.
И она готова сыграть свою роль в жизни без дублера.
Наоко взглянула на кухонные часы: 7:40. Пора будить детей.
8
– Хочу последний… Хочу последний папин круассан!
– Все, ты уже почистил зубы.
Хироки говорил по-французски, Наоко ответила по-японски. Опустившись в прихожей на одно колено, она застегивала на сыне дождевик. Ей непременно хотелось, чтобы сыновья знали оба языка, но влияние школы, друзей и телевизора склоняло чашу на сторону французского, и она вечно из-за этого переживала.
– А мой мешок для плавания?
Наоко обернулась к Синдзи, засунувшему большие пальцы за лямки рюкзака. Сегодня понедельник, он идет в бассейн. Черт! Не отвечая, она встала и отправилась на второй этаж. Держась за каменные перила, слишком резко свернула в коридор, ударилась бедром об угол и тут же возненавидела эту бетонную халупу, которая состоит из сплошных углов.
В детской она собрала плавки, обязательную шапочку для плавания, махровое полотенце, пакетик с расческой, шампунем, мылом. Все засунула в непромокаемый мешок и вышла из комнаты, взглянув на часы: 8:15. Им бы уже следовало стоять перед школой. Она задыхалась от жары, на лице выступил пот. Ладно, сейчас не до макияжа.
8:32. Наоко притормозила на улице Карно у коллежа имени Жана Масе. Она гнала как безумная, чувствуя, что нервы на пределе. Высмотрела свободное место у самого тротуара, но другой водитель оказался проворнее и опередил ее.
– Урод! – заорала она.
– Мама, ты ругаешься. – Синдзи просунул голову между передними сиденьями.
– Извини.
Она остановилась чуть дальше, во втором ряду, вырубила зажигание, включила аварийку и распахнула заднюю дверцу. Ну и жара.
– Эй, живее! Все на выход! – бросила она по-японски.
Держа в каждой руке по мальчишке, Наоко добежала до дверей. Другие мамаши спешили не меньше. Тут она заметила палочку от леденца, торчащую у Хироки из нагрудного кармашка.
– А это что?
– Папин подарок! – вскинулся мальчик.
– У тебя тоже? – спросила она у Синдзи.
Старший кивнул еще более дерзко.
– Давайте-ка их мне, – приказала она, протягивая руку.
Дети, надувшись, повиновались.
– Вы знаете правило: никаких конфет и леденцов. – Она сунула чупа-чупсы себе в карман.
– Ты это папе скажи, – проворчал Синдзи.
У Наоко защемило сердце, когда она поцеловала их и отпустила, позволив во всю прыть нестись к дверям. При виде того, как рюкзаки подпрыгивают у них на плечах, ощутила, как снова сжимается сердце. Она в который раз задалась вопросом, терзавшим ее дни и ночи напролет: стоило ли затевать развод и позволить, чтобы все пошло прахом? Разве ради двух этих ангелов взрослым не следовало забыть о своих разногласиях? В такие минуты казалось, что ее собственная жизнь не имеет значения.
Она швырнула леденцы в мусорку и села в свой новехонький «Фиат-500». Отъезжая, Наоко сосредоточилась на предстоящем совещании. Она должна предупредить главу предприятия, что банкротство не за горами – стоит только взглянуть на цифры. Но как это лучше сделать? Какие потребуются словесные предосторожности? Японский – сложный язык, в котором, помимо трех отдельных алфавитов, существуют три уровня вежливости – своего рода три этажа, представляющие собой практически отдель ные диалекты. Ну а французский? Владеет ли она языком настолько, чтобы объясниться достаточно тактично?
Она проехала по мосту Пюто. Снова зарядил ливень. На въезде в Булонский лес она вздрогнула: показалось, что за ней следят. Наоко подвигала зеркалом заднего вида, но ничего особенного не заметила. В это время дня движение было довольно плотным, и машины проезжали мимо, как обычно.
Она продолжила путь в общем потоке, не имея возможности увеличить или сбросить скорость. Вскоре вид башни отеля «Конкорд Лафайет» внушил ей уверенность. Она бросила взгляд в зеркало заднего вида – все чисто. Отогнав подозрения, снова сосредоточилась на подборе слов для совещания. Как говорят французы, тут необходима деликатность.
Наоко пересекла Порт-Майо и выехала на авеню Гранд-Арме. Завидев Триумфальную арку, почувствовала себя еще увереннее. С годами ей полюбился Париж – его грязь, его красота, серые тона и величие. Здешние нахалы и золотисто-коричневые пивные ресторанчики.
Сегодня Наоко знала наверняка: она принадлежит этому городу.
В горе и в радости.
9
– Не понимаю я вас, майор. Вы с самого начала ополчились на Гийара.
У следственного судьи Иво Кальвини было имя мафиози и лицо инквизитора – длинное, в вертикальных морщинах, с тяжелым взглядом исподлобья, которым он словно испепелял собеседника. Правый уголок плотно сжатого презрительного рта слегка опущен, образуя горькую складку. Из-за этой детали казалось, что с его лица не сходит кривая, будто перевернутая улыбка. Он сидел за столом выпрямившись, выпятив грудь, всем видом выражая непреклонность.
– Гийар звонил двум первым жертвам. – Пассан поерзал на стуле.
– Вы же не будете снова на этом настаивать? – Кальвини полистал папку. – У вас это превратилось в навязчивую идею! Двадцать второго января – звонок Одри Сёра, четвертого марта – Карине Бернар. Вот и все ваши доказательства.
– Только его имя и связывает двух первых жертв.
– Ну а третья?
– Возможно, ее он нашел в другом месте. С сегодняшней жертвой он тоже не связывался, и…
– В любом случае сам Гийар никому из них не звонил. – Судья поднял руку, прерывая его. – Мы это знаем. В первый раз звонили с одной из его автобаз на участке «Альфьери». Во второй – из его автомастерских «Фари». Ваши «доказательства» – всего лишь звонки клиенткам, наверняка сделанные кем-то из служащих.
Ни к чему было напоминать Оливье, насколько шатки его улики. Выводы основывались исключительно на интуиции. Но он знал, что Гийар и есть Акушер, и не усомнился в этом ни разу с тех пор, как владелец автобаз попал в его поле зрения.
– А я и не говорю, будто он звонил жертвам, чтобы предупредить о намерении разделаться с ними. Думаю, он там их и высмотрел, на одной из своих автобаз.
– Там у него нет конторы. – Кальвини перевернул страницу. – Она находится на какой-то третьей автобазе в Обервилье, где…
– Месье, я работаю над этим делом почти четыре месяца. – Пассан подался к столу и повысил голос. – Гийар бывает на всех своих автобазах. Так он и выследил этих беременных женщин. Это не может быть простым совпадением.
– Еще как может, и вам это известно не хуже меня. Автобазы находятся в Кур-Нёв и в Сен-Дени. Все три жертвы жили в тех местах. Убийца охотится в этом районе, этим и ограничиваются совпадения. С тем же успехом вы могли бы подозревать охранника из ближайшего супермаркета или…
Пассан сел поглубже, застегнул пиджак. Его бил озноб. Кабинет Кальвини казался порождением чистого разума: металлическая мебель, панели из ПВХ, выцветшее напольное покрытие.
Судья продолжал излагать имеющиеся факты – а точнее, указывать на их отсутствие. Оливье уже и не пытался в очередной раз объяснять, что для него самого значит «интуитивная убежденность». Иво Кальвини был человеком редкого ума и в свои пятьдесят слыл одним из самых влиятельных судей исправительного суда Сен-Дени. Но он не имел никакого опыта работы «на земле». Это был блестяще образованный холодный разум, рассматривавший уголовные расследования как математические уравнения, без всяких эмоциональных связей с участниками.
Как-то Лефевр, дивизионный комиссар уголовки, спец по афоризмам, сказал: «Кальвини – просто ходячие мозги, но даже я не такой придурок, как он».
Пассан вновь сосредоточился на том, что говорил ему хозяин кабинета.
– В каждом случае у Патрика Гийара есть алиби.
Полицейский вздохнул: сколько можно об этом говорить?
– Мы ведь даже не знаем точное время убийств.
– Но мы точно знаем, когда пропадали жертвы.
– Допустим. Только алиби Гийара подтверждают его же служащие. Все это яйца выеденного не стоит. Ясно как божий день, он и есть Акушер. Да и о чем мы тут толкуем? Вам известно, что произошло сегодня ночью? Вам этого мало?
– Я ознакомился с протоколом антикриминальной бригады. Он говорит не в вашу пользу. Жду от вас рапорта.
Оливье насупился. Он спал всего пару часов, а проснувшись, обнаружил эсэмэску с приказом немедленно явиться к Кальвини. Принял душ, побрился и поехал обратно в Сен-Дени по магистрали А86, в это время дня забитой под завязку. Пришлось лавировать между полосами, включив сирену. В ушах до сих пор гудело.
– Мы с вами трудимся над этим делом уже несколько месяцев. – Голос Кальвини потеплел. – Мягко говоря, взаимопонимания у нас так и не возникло.
– Мы здесь не за тем, чтобы заводить друзей.
Пассан тут же пожалел о своем выпаде. Кальвини протягивал ему руку, а он в нее плюнул. Судья вздохнул и вынул из папки стопку распечаток. Оливье понял, что это собранные им же самим материалы на Гийара. Хотя он поднял ворот и скрестил руки на груди, его все еще сотрясала дрожь.
– В начале мая Патрик Гийар обвинил вас в преследованиях.
– Я вел за ним слежку.
– Круглосуточную. В течение трех недель. И без каких-либо постановлений. Кроме того, вы задержали его по простому подозрению. Вы проводили нелегальные обыски.
– Рутинные проверки.
– У него дома?
Оливье не ответил. У него дергалась правая нога. Он вдруг испугался, что из-за всех этих заморочек сорвется и задержание на месте преступления. Всякому известно, что закон защищает преступников.
– Предписание исправительного суда Сен-Дени от семнадцатого мая запрещает вам приближаться к Патрику Гийару больше чем на двести метров.
Полицейский хранил молчание.
– После той истории, – вздохнул Кальвини, – я надеялся, что вы разрабатываете другие версии. Но ошибся.
Оливье поднял глаза – пришло время выложить свой козырь.
– Я обнаружил новый факт.
– Какой же?
– Мотив Гийара. Почему он убивает женщин и сжигает детей.
Судья нахмурился и знаком предложил ему продолжать.
– Гийар – женщина.
– Прошу прощения?
– Ну, гермафродит. В его кариотипе содержится пара хромосом ХХ. Вероятно, у него аномальные половые органы. Но я не получил доступа к его медицинской карте. Все эти гребаные профессиональные тайны уже достали…
– Вы затребовали генетический анализ? Хотя я ничего не подписывал?
Майор снова заерзал на стуле. По его расчетам, значимость открытия должна была перевесить то, что сделано оно не вполне законным способом. Напрасно. В порыве гнева Иво Кальвини вскочил и встал у окна: он ждал ответа.
– На третьем трупе мы обнаружили образец неизвестной ДНК. Я решил сравнить ее с ДНК Гийара. Это ничего не дало, но в лаборатории заодно составили его кариотип.
Казалось, Кальвини высматривает какую-то загадочную точку в серой панораме Сен-Дени. Под его кожей ходили желваки.
– И каким же образом этот генетический факт может стать мотивом преступления?
– Гийар – психопат, – сказал Пассан, словно это все объясняло. – Возможно, он думает, что во время беременности его матери что-то пошло не так. Он ненавидит ее, а заодно и всех беременных женщин.
– А зачем ему жечь детей?
– Не знаю. Вероятно, он зол и на них. На всех, кто рождается просто мальчиком или девочкой. Всех их ему хочется сжечь.
– Где вы набрались этой дешевой психологии? – Кальвини наконец обернулся.
– Гийар рожден анонимно. Биологические родители от него отказались. Возможно, из-за его отклонений, не знаю. Не надо быть Фрейдом, чтобы угадать все остальное. Хорошо бы разработать этот след, но «Социальная помощь детству» отказывается предоставить его досье.
Судья снова подошел к столу, но, вместо того чтобы сесть, оперся на него руками и склонился к Пассану:
– Не все сироты, подвергшиеся жестокому обращению в детстве, становятся серийными убийцами.
– Этот тип – чокнутый, и точка! – Майор треснул по столу ладонью.
– Зачем вы напали на него сегодня ночью?
– Я не собирался. Вот уже три месяца я ищу место, где он их убивает. Вчера вечером я получил наводку, которую посчитал очень важной. Фирмы, входящие в холдинг Гийара, скрывали существование этой автомастерской в Стэне. Когда я узнал адрес, меня осенило. Три первых тела были найдены в радиусе меньше трех километров от этого места. Я понял, что там все и произошло.
– Но вы никому не сообщили.
– Время поджимало. Лейла Муавад пропала уже два дня назад.
Кальвини снова уселся. Доводы Пассана его явно не убедили.
– Кто навел вас на автомастерскую?
– Финансовая полиция.
– Вы связались и с ними? И опять же я ничего не подписывал.
– Иногда не остается времени на бумажную волокиту. – Оливье жестом отмел вопрос.
– Это не волокита, майор, а закон. Я найду того, кто помог вам, не имея на то разрешения. И все для того, чтобы вы облажались у всех на глазах. Вы вторглись в частное владение в три часа ночи.
– Мы застукали его на месте преступления!
– Я бы скорее сказал, вы превысили свои полномочия! Гийара допросили в больнице: он утверждает, что совершенно ни при чем, он, как и вы, наткнулся на горящий труп у себя в мастерской.
– Что за бред!
– Он говорит, что страдает бессонницей и по ночам приходит в мастерскую, чтобы повозиться с моторами. Зайдя внутрь, он застукал убегавшего убийцу.
– Куда убегавшего?
– Сзади есть другой выход.
Пассан стиснул зубы: он его даже не заметил.
– Есть следы взлома?
– Нет, но это ничего не значит. Были проведены анализы. На руках и одежде Гийара нет никаких следов крови Лейлы Муавад.
Оливье буквально чувствовал запах талька. Настоящая обонятельная галлюцинация.
– На нем были хирургические перчатки.
– Вы видели, как он убивал? Резал? Поджигал?
– Он смылся, когда мы пришли!
– Вы избили его табельным оружием.
Пассан хотел ответить, но не мог: во рту пересохло, горло горело.
– Полиция опросила окрестных жителей. Никто не видел, как он привез туда жертву. Никаких свидетельств против него нет.
– Я неделями рыскал в этом районе. Люди там скорее руку себе отрежут, чем станут якшаться с легавыми.
– Но их молчание говорит в пользу Гийара.
– Вы прекрасно знаете, что он убийца. Я застал его на месте преступления.
– Нет, ведь вы ничего не видели и ничего не слышали. Под присягой вы не сможете сказать ничего конкретного.
Пассан был готов взорваться. Задержание на месте преступления, оказывается, для них ничего не значит!
– Это все игра слов…
– Нет. Это факты. Патрик Гийар подал на вас жалобу за нарушение судебного запрета, нанесение телесных повреждений, попытку убийства. Он утверждает, что вы пытались убить его на шоссе.
Полицейский наконец понял, что его казнь была предрешена.
– И что теперь?
– Час назад я подписал приказ об освобождении задержанного. Нам остается только молиться, чтобы Гийар не обратился в прессу. Из-за вашего поведения пришлось быть с ним особенно снисходительными.
– А что будет со мной?
– Вас ждет дисциплинарный суд. Ваше досье уже передано туда.
– Я отстранен от расследования?
Судья покачал головой. Уголок его рта – словно выгнутый лук, нацеленный на полицейского, но в глазах было что-то похожее на усталость. Удрученное бессилие.
– А как по-вашему?
Одним махом Оливье сбросил на пол все, что лежало на столе.
10
– Куда едем, месье?
– Домой.
Машина тронулась. Гийар, устроившись позади водителя, отцепил шейный бандаж и поудобнее расположился на кожаном сиденье. Эта штуковина делала его похожим на Эриха фон Строхайма в «Великой иллюзии». Он поднял крышку подлокотника, в который был встроен миниатюрный холодильник, открыл диетическую колу и облегченно вздохнул.
Затылок невыносимо болел, все тело ломило, в груди стреляло, но, учитывая, как ему досталось, он еще легко отделался. Все это сущие пустяки, как и те несколько часов, которые он провел под арестом в больничном центре Сен-Дени.
Рано утром ему разрешили сделать звонок, и меньше чем за два часа его адвокат все уладил.
Остервенение Врага ему только на руку. Ночное нападение – всего лишь очередной эпизод. Психопат – тот, другой. И все же то, что трупы обнаружили у него в мастерской, говорит не в его пользу. Пусть он и не убийца, но между этим местом и серией жертвоприношений существует некая связь. Отрицать ее невозможно. Но у него хватит времени, чтобы подготовить защиту: перевести стрелки на одного из своих служащих или кого-то из местных отморозков.
У Врага не было на него ничего нового, кроме адреса логова: он понял это, едва увидев того перед автомастерской во время разборки с теми придурками. Он тогда отреагировал мгновенно, избавившись от того единственного, что позволило бы связать его с Матерью. Он не гордился своим бегством, но поступил так из чувства долга. Необходимо было максимально удалиться от своего Творения; отстраниться от того, что французский закон именует «преступлением», чтобы продолжить Путь. Сотворение Феникса.
План сработал. Вопреки всем отягчающим обстоятельствам судья подписал приказ о его освобождении из-под ареста. Нет никаких вещественных доказательств, связывающих его с жертвой. Ночная вылазка майора совершенно незаконна. Начнется новое расследование, новые допросы и обыски… Но ему нечего бояться: он в состоянии рассказать о каждом своем поступке и шаге за последние пять дней. И он никогда не имел дела с Лейлой Муавад.
Теперь он должен придерживаться выбранного курса: разыгрывать потрясенного владельца, саму невинность, подать жалобу на неизвестного преступника. Кто вскрыл дверь? Кто сотворил подобное зверство у него в мастерской? Как такое вообще возможно? Это будет не просто, но он справится.
Его самое уязвимое место – улика, которую он бросил на пустыре за кварталом Кло-Сен-Лазар. Нечего и думать вернуться за ней. Остается только молиться, чтобы никто на нее не наткнулся.
Еще одна загвоздка – автомастерская в Стэне. Придется объяснять, почему холдинг скрывал эту собственность, и надеяться, что в мастерской не найдут никаких органических остатков прежних жертв. Хотя каждый раз он все очищал огнем – ничто не должно его выдать.
Единственная подлинная угроза по-прежнему исходила от Врага. Он называл его также Охотником или Ночным рыцарем.
При одном этом воспоминании внутри все сжалось, и он снова глотнул колы. Оливье Пассан никогда не отступится. Для него эта охота не расследование, не работа, а истинное наваждение. Враждебная, неодолимая сила почти под стать его Плану.
Что за бог поставил на его пути подобное препятствие? В чем смысл этого испытания?
На дороге замелькали указатели. Нантер. Дефанс. Нейи-сюр-Сен.
Ему нравилась эта магистраль, А85, соединяющая департамент Сен-Дени с О-де-Сен. Она напоминала его собственный жизненный путь: от трущоб в Ла-Курнёв до роскошных апартаментов в Нейи-сюр-Сен. Одну за другой он преодолевал ступени социальной лестницы, чтобы достичь этой вершины. Выбраться из грязи, оторваться от своих нищенских корней. Средний класс с его глупостью и нетерпимостью был ему столь же ненавистен, но в Нейи, среди безмятежных богачей, он хотя бы предоставлен сам себе. Он обитает в своем особняке словно в башне из слоновой кости. Здесь он волен облегчать свою боль. Совершать свои Возрождения.
Он снова подумал об Охотнике. Известна ли ему его тайна? Пожалуй, да. Вспомнилось, как при задержании у него брали мазки для анализа ДНК. При одной лишь мысли об этом била дрожь.
Пассан не похож на других легавых. В каждом мужчине, в каждой женщине есть и мужское, и женское начало. Конечно, природный пол перевешивает, но всегда хоть немного подпорчен другим. То, что он учуял, впервые встретившись с Пассаном, его потрясло. Майор был недалек от абсолютной чистоты. Сто процентов мужских гормонов, металл без окалины.
Тогда ему удалось ничем не выдать своего смятения, улыбаться и сохранять дружелюбный тон. Охотник пришел просто разведать обстановку. Его единственная зацепка сводилась к банальному совпадению: одна из жертв купила машину в его автосалоне в Сен-Дени, другая ремонтировала свою в его же мастерской в Ла-Курнёв. Это даже следом не назовешь – это случайность. Он без труда отвечал, разыгрывая удивление и недоверие.
Ни одному из них не удалось одурачить другого. Пассан пришел из-за него. Он догадывался, что инстинкт Охотника ничуть не уступает его собственному. Так начался их поединок. Последующие события доказали его правоту. Слежка, обыски, допросы – легавый вцепился в него мертвой хваткой, даже арестовал в середине мая, сразу после жертвоприношения третьей Матери. К счастью, с апреля 2011 года новый закон давал ему право на адвоката при временном задержании, и адвокат умерил пыл следователя.
Он подал жалобу, свидетельствовал против Пассана, изображал жертву преследования. Его адвокат требовал отстранить майора от работы, но безупречный послужной список Врага перевесил. Дело осталось за Пассаном, хотя отныне он не имел права приближаться к своему главному подозреваемому. Теперь тот был не просто невиновным, а неприкосновенным.
Ему бы следовало отказаться от Возрождений, но он не мог. Это вопрос жизни и смерти. Он удвоил предосторожности, изменил метод. Только одно осталось неизменным – место жертвоприношения. И это едва не стоило ему свободы.
Гийар открыл новую банку. Ледяная кола щекотала горло. Он закрыл глаза. Образ, вспыхнувший перед внутренним взором, был воплощением сладострастия. Когда они с легавым скатились с насыпи, он думал, что ему конец. И вместе с тем почувствовал себя защищенным. Он стал ею. Страх расплавился, обернувшись чистым наслаждением. И она отдалась Врагу, приняла его, раскрыв объятия в порыве дикого возбуждения.
– Приехали, месье.
Он плакал. Выпрямившись, вытер слезы, от которых мокли бинты. Это простое движение вызвало острую боль, током пронзившую позвоночник снизу доверху. Ему не сразу удалось сфокусировать взгляд: ворота, тупик, особняки, вытянувшиеся вдоль тротуаров…
– Высадите меня здесь и возвращайтесь в гараж.
Его шофер, не более разговорчивый, чем скала, ограничился кивком. Ни словом не обмолвился ни о его разбитом лице, ни о часах, проведенных в больнице. Втайне он был за это признателен и радовался тому, что у него есть эта тень, которая, пока длится дневная сторона его существования, возит его повсюду, никогда не задавая вопросов.
Он с трудом выбрался из машины, мысленно уже составляя список китайских трав и порошков, которые примет, чтобы усмирить боль. Годами он не употреблял препаратов западного производства – не считая Жизненного Сока. И без того, когда он был подростком, его организм перенасытился медикаментами, активными веществами, лекарствами. Отказавшись от них, он отказался и от цивилизации, которая оттолкнула и заклеймила его.
Солнце опять укрылось за плотной завесой темных туч. Вновь зарядил дождь, заливая улочку грязным серым лаком. Скованной походкой он шел вдоль особняков. Тело ломило не только от побоев – Охотник прервал Жертвоприношение, действо Возрождения не состоялось. Во всяком случае, не завершилось.
Он чувствовал себя изголодавшимся, неудовлетворенным.
И выход у него был только один.
11
Сандрина Дюма припарковалась перед входом и, выруливая, задела парковочный столбик. Ругнулась сквозь зубы и вышла из машины, продолжая бормотать «чтоб тебя». Заперла дверцу и, даже не взглянув, сильно ли пострадала ее машина, бросилась на улицу Понтье. Волосы у нее растрепались, одежда пришла в беспорядок.
Но хуже всего то, что она опаздывала.
Они с Наоко знакомы уже много лет, и за все это время Сандрине ни разу не удалось прийти на встречу первой. Однажды она попыталась объяснить подруге, что во Франции принято из вежливости приходить минут на пятнадцать позже, но сдалась, столкнувшись с неподдельным изумлением. Сандрине запомнился документальный фильм о японках, сортирующих жемчуг восемь часов подряд. Эти напряженные черные глаза, точные, словно линзы микроскопа, навсегда впечатались в ее память. И еще выражение на лицах работниц – оцепенение, сосредоточенность, усиленные разрезом глаз, этим монгольским прищуром, который порой напоминает косоглазие.
При одной только мысли, что можно опаздывать из вежливости, лицо Наоко приняло точно такое же выражение.
Сандрина пересекла авеню Матиньон на красный свет, вынуждая машины судорожно тормозить перед самым ее носом. Гудков она не слышала, продолжая вполголоса ругаться. Чего ради Наоко вздумалось так измываться над ней? Час простоять в пробках, чтобы наспех пообедать… Но, кроме себя, винить некого: она сама же и выбрала этот ресторан. К тому же занятия возобновятся только в три.
Добравшись до ресторана, Сандрина оправила одежду, перевела дыхание и переступила порог. Она страшно потела – один из побочных эффектов лечения. В зале она тут же увидела Наоко. Помимо красоты, в японке было что-то обескураживающее: какая-то неистребимая свежесть, рядом с которой все портреты рекламных красоток смахивали на старые потрепанные афиши.
Иногда Наоко давала Сандрине что-нибудь из японской косметики, в основном с надписью «бихаку», что можно приблизительно перевести как «бледная красота». Наоко и представляла собой законченное воплощение этой самой «бихаку». Она выглядела так, словно питалась одним рисом, запивая его молоком и водой «Эвиан». Но это впечатление было обманчивым: Наоко ела за троих и знала наперечет все парижские кондитерские. Из вредности Сандрина иногда пыталась представить себе ее через тридцать лет, но все без толку. Цвет лица Наоко ослеплял как солнце – заглянуть дальше не получалось.
– Прости, что опоздала, – выпалила Сандрина, переводя дух.
Наоко ответила улыбкой, означавшей «как всегда». Но также и «ничего страшного». Сандрина положила сумку на стул и села. Сняв плащ, она ощутила себя окруженной облаком собственных испарений. Еще одно последствие химиотерапии: чуть что, она начинала задыхаться, к горлу подкатывала тошнота.
– Ты заглянула в меню? По слухам, это один из лучших японских ресторанов в Париже.
Наоко скептически поморщилась.
– Что? – сказала Сандрина с притворным испугом. – Они не японцы?
– Корейцы.
– Черт. А я прочла статью в «Эль»…
– Проехали.
Это стало у них вечной темой для шуток. Год за годом Сандрина из кожи вон лезла, стараясь найти для Наоко очередной японский ресторан. И через раз оказывалось, что его владельцы – китайцы или корейцы.
Она раскрыла меню. Не стоит расстраиваться из-за пустяков, уж лучше сполна насладиться стадией ремиссии. Вот уже неделя, как к ней после бесконечных воспалений слизистых вернулись вкусовые ощущения.
– Я буду маки мориавасэ[7]. Хорошая порция суши – то, что мне нужно!
– Это не суши, а маки. Маки значит «заворачивать».
Наоко сказала это резко, даже с ноткой горечи. Сандрина уже поняла, что подруга сегодня не в настроении.
– Ну а ты? – спросила она непринужденно. – Что будешь?
– Сойдет суп мисо.
– И все?
Японка не ответила. Глаза у нее были такие черные, что не удавалось отличить зрачок от радужки.
– Снова поругались с Оливом?
– Да нет. Он засел у себя в подвале. Мы совсем не общаемся. Да и все равно сегодня вечером он уедет.
Подошел официант, чтобы принять заказ.
– Тогда что не так? – После короткой паузы Сандрина предпочла вскрыть нарыв.
– Все как обычно, не хуже и не лучше. Просто я сегодня встала не с той ноги. Мой брак – это полная катастрофа.
– Оригинально.
– Ты не понимаешь. Мне кажется, Оливье меня никогда и не любил.
– Многие женщины спят и видят, чтобы их так не любили.
– Оливье любит Японию. – Наоко покачала головой. – Он любит мечту, идею. Что-то совершенно со мной не связанное. Да он уже два года ко мне не прикасается…
Сандрина подавила вздох. Битый час проторчать в пробке, чтобы изображать психолога. Ну и пусть. Изысканный акцент Наоко, так и не научившейся выговаривать «р» и «ю», казался ей музыкой.
– Его чувство ко мне всегда было абстрактным, – продолжала Наоко. – Сперва я думала, что это обожание обретет конкретную форму, что он разглядит в японке женщину. Но вышло наоборот, его одержимость только усилилась. Он ночи напролет смотрит фильмы про самураев, читает авторов, о которых я понятия не имею! Слушает всякое старье для кото, которое в Японии услышишь разве что на Рождество в больших магазинах. Ты бы хотела жить с мужиком, который целый год проигрывает «К нам приходит Новый год»?
Сандрина молча улыбнулась. Официант шел к ним с блюдом в форме корабля, полным сырой рыбы, которую украшали розовые вкрапления имбиря и зеленые горки васаби. Она уже предвкушала предстоящее наслаждение. С тех пор как у нее обнаружили рак, любое, даже самое ничтожное удовольствие стало для нее чем-то вроде последней сигареты смертника.
Наоко обеими руками ухватила миску супа и, не отрывая глаз от стола, продолжила:
– Сейчас он как безумный подсел на диалоги из старых музыкальных комедий студии «Шочику». Заказал через Интернет какие-то левые диски и слушает их по кругу, не понимая ни слова. По-твоему, это нормально?
Сандрина сочувственно кивнула и взяла очередной рулетик из водорослей, тунца и риса. Она уже порядком объела корму корабля.
– Через десять лет брака я так и не знаю, понял ли он, что я – живая женщина. Прежде всего я – экспонат в его музее.
– Главный экспонат.
Наоко скептически поморщилась. У нее был чувственный рот. В профиль нижняя губа казалась чуть выпяченной, что придавало ей какую-то животную грацию. Сандрина не знала Японию, но ей доводилось слышать об историческом городе Нара, где на свободе разгуливают олени. И она всегда воображала, что Наоко из Нары.
– Он думает, ему дико повезло жениться на японке. Через меня его принимает моя родина. По-французски есть такое выражение, когда король делает кого-то рыцарем…
– Посвятить в рыцари.
– Вот-вот. Япония посвятила его в самураи. Он втянул в это даже наших сыновей. Иногда у меня такое ощущение, что они для него – генетический эксперимент, попытка смешать свою кровь с кровью моего народа.
Сандрине хотелось объяснить Наоко, что в жизни бывает и кое-что похуже. К примеру, когда тебе под сорок и у тебя нет ни мужа, ни детей, зато есть рак, который пожирает твою грудь, печень и матку.
Но Наоко видела проблему шире. Она развела руки, словно раздвигая границы своих страданий:
– В конечном счете у меня с ним та же беда, что и со всей Францией. Здесь я всегда была ярмарочным уродцем. Даже сейчас, узнав, откуда я родом, мне говорят: «Обожаю суши!» А бывает, что ошибаются и называют немы[8]. Или благодарят, сложив перед грудью ладони на тайский манер. А то и поздравляют с Новым годом в феврале, на китайский Новый год. Как меня это достало!
Сандрина уже добралась до носа корабля. До чего же здорово снова чувствовать эти ароматы – йодистый вкус рыбы, едкую сладость имбиря, черную горечь сои. Словно любовные покусывания.
– Те, кто знаком со мной ближе, – прошептала Наоко все так же сосредоточенно, – спрашивают, правда ли, что у японок вагина уже.
– А это правда?
– Когда я приехала во Францию, – Наоко пропустила шутку мимо ушей, – я думала…
– Тебе хотелось стать француженкой?
– Нет. Всего лишь полноценным человеком, а не экзотическим сувениром. И уж точно не вагиной супермаленького размера.
– А ты-то его не разлюбила? – С набитым ртом Сандрина вернула мяч в центр поля.
– Кого?
– Пассана.
– Это уже в прошлом.
– А что в настоящем?
– Окончательный разрыв. За десять лет совместной жизни я так и не поняла, есть ли у нас общие воспоминания. Я испытываю к нему подлинную нежность, а заодно и жалость. И еще гнев, и… – Она замолчала, сдерживая слезы. – Нам больше нельзя жить под одной крышей. Мы друг друга на дух не выносим, понимаешь?
Сандрина взяла еще риса с сырой рыбой и проглотила не жуя. Господи, как вкусно!
– Слушай, эти штучки с лососиной…
Наоко уперлась локтями в стол, словно ее внезапно осенило.
– Я открою тебе одну тайну, – сказала она, наклоняясь к подруге.
– Давай. Обожаю тайны.
– В Японии ты бы нигде не нашла суши с лососиной.
– В самом деле? Почему?
– Потому что это слишком тяжелое блюдо.
Сандрина подмигнула и подхватила еще кусочек лососины.
– Ты хочешь сказать… как сами французы?
Наоко наконец-то улыбнулась и взяла корейское маки.
12
Вот уже битый час Пассан сортировал протоколы опроса свидетелей, осмотра места происшествия, заключения о вскрытии, опросы по соседству, заключения экспертов и прочую документацию, накопившуюся за четыре месяца расследования дела Акушера. Не меньше пяти-шести килограммов бумаги.
Официально он разбирал досье по делу, чтобы передать его своим преемникам. В действительности он сканировал важнейшие документы и сохранял на флешку, одновременно печатая бумажную копию, чтобы забрать домой. Будет чем начать обставлять квартирку в Пюто.
– Ты облажался, Пассан. Крепко облажался.
Не поднимая глаз, он узнал голос и марсельский акцент говорившего. Дивизионный комиссар Мишель Лефевр, его непосредственный начальник в уголовке. Выходит, заявился сюда с набережной Орфевр, чтобы лично устроить ему разнос. Можно сказать, оказал честь. Этой выволочки Оливье ждал с середины дня, когда закончил рапорт.
Не отвечая, он продолжал раскладывать кипы бумаг по папкам, которые убирал в коробки у себя на столе. За спиной у него гудел принтер. Оставалось надеяться, что туда Лефевр не полезет.
– Ты даже не вызвал группу захвата. Да кем ты себя считаешь? Одиноким ковбоем?
Пассан наконец поднял голову и взглянул на старшего офицера, одетого, как всегда, с безупречной элегантностью. Лефевр был ростом метр девяносто и шил костюмы на заказ. Со своей зачесанной назад гривой с проседью, рубашкой от Форциери и галстуком от Милано Лефевр косил под «итальянский шик». Помимо роста, картину портила его рожа: квадратная, как булыжник, с мускулистыми чертами наемника. Он смахивал скорее на генерала Паттона, чем на Джорджо Армани.
Лефевр оброс жирком, но шрам на лбу подтверждал, что карьеру он сделал не только за письменным столом. Оливье знал, что еще один шрам, гораздо длиннее, пересекает его левый бок. Лефевр был живым воплощением собственного афоризма: «Правда о мужике, как татуировка, видна либо в койке, либо в морге».
– Кому передают дело? – спросил Пассан, не отрываясь от своего занятия.
– Леви.
– Леви? Да он самый продажный легавый во всей уголовке!
– Зато опытный.
– Вот-вот, опытный взяточник.
Жан-Пьер Леви был его давний знакомый, погрязший в долгах из-за проигрышей на скачках и невыплаченных алиментов. Вечно ставит не на ту лошадку – и на бегах, и в личной жизни. Уже несколько раз против него выдвигались обвинения в активной и пассивной коррупции. Расследования Управления собственной безопасности ни к чему не привели, но все и так знали о его делишках. Изъятие вещдоков, торговля наркотиками, тихий рэкет, сговор с преступниками…
Лефевр грузно расхаживал по комнате. Наконец он остановился перед письменным столом и указал на коробки. От него разило дорогим парфюмом.
– Это что?
– Дело Акушера.
– Супер. Парни Леви его заберут.
– Зверь вырвался на свободу, Мишель. – Пассан прикрыл стопки бумаг ладонями. – Загнать его снова будет нелегко.
– И по чьей вине?
– Сегодня ночью мы взяли его с поличным. На месте преступления. Доказательств выше крыши. Кальвини боится собственной тени…
– Он прикрывает свою задницу. Возьми Гийара кто-то другой, и Кальвини, наверное, повел бы себя иначе. Ты сам не оставил ему выхода.
– Меня от этого тошнит.
Лефевр заговорил покровительственным тоном, подчеркнувшим его южный акцент:
– Сбавь обороты, парень. У меня телефон разрывается. Политиканы получили факсы с площади Бово[9]. Да они прямо с цепи сорвались. Им только твоей ночной выходки не хватало. Они-то спят и видят громкое раскрытие, а ты им подложил такую свинью. Браво. Будем молиться, чтобы Гийар со своими адвокатами не стал гнать волну, а СМИ на этот раз про нас забыли.
– Отдайте им меня на растерзание.
– Не изображай из себя мученика, Пассан. – Комиссар издал короткий смешок, словно пукнул. – Мы тебя прикроем, и ты это знаешь. – Он вновь усмехнулся. – Выбирать нам не приходится. Это тебе тоже известно. Что у тебя по другим делам?
Оливье с трудом припомнил свои текущие расследования. Он вдруг осознал, насколько выбит из колеи. Забросил и работу, и себя самого. Несколько слов, которые он сумел из себя выжать, никого не могли обмануть.
– Дорожишь своим местом, поостерегись, – отозвался великан. – Будешь артачиться и портить всем нервы, отправишься прямиком патрулировать Булонский лес. И считай, что тебе сильно повезло, если у тебя отсосет какой-нибудь беззубый трансвестит.
Он направился к двери, по пути вынув из розетки провод от измельчителя бумаг.
– Ты что творишь?
– Хочу уберечь тебя от искушения на случай, если вздумается лишить Леви кое-каких улик.
– Не мой стиль. Я сделаю все, чтобы помочь.
– Ничего ты не сделаешь, и сам это знаешь. Ты уже копируешь дело, чтобы забрать его домой. Ради бога, кончай придуриваться! Каким языком тебе еще объяснять?
После ухода Лефевра Пассан запер дверь и продолжил распечатывать бумаги. Одного он не выносил в этих новых офисах: стеклянных перегородок. Каждый полицейский, будто рыбка в аквариуме, выставлен на всеобщее обозрение. Начальник прав. Еще одна выходка, и его действительно понизят. Прямо во время развода – хуже не придумаешь. Надо вернуться в строй и быть паинькой. В голове мелькнули слова Ницше: «Хочешь ли ты, чтобы жизнь твоя всегда была легкой? Так оставайся постоянно в стаде и за стадом забудь о себе».
Чтобы настроиться на нужную волну, он воззвал к своему знаменитому чувству долга, своей преданности Франции. К понятиям с большой буквы: Порядок, Республика, Родина. Но никакого энтузиазма не почувствовал. Наоборот, все эти слова показались ему поразительно пустыми.
Склонившись над принтером, Пассан вынул очередные распечатки, и на этот раз внутри что-то отозвалось.
Акушер – вот его горючее.
Начиная с сегодняшнего вечера, он будет перечитывать каждый протокол, стараясь отыскать в нем новое уязвимое место, новую зацепку, которые позволили бы ему атаковать противника с другой стороны.
На самом деле ему даже незачем забирать с собой эти страницы: он помнит их наизусть.
С одной стороны листа – факты. А на обороте – кусок, вырванный из его жизни.
13
Первый труп обнаружили 18 февраля текущего года на лужайке в квартале Маладрери у муниципальных домов Форт-д’Обервилье, на северо-востоке столицы. Беременная женщина была раздета, живот распорот, рядом лежал обугленный младенец. Пуповина все еще связывала их тела.
Сперва все решили, что речь идет о супружеской разборке в самом диком ее проявлении. Первые же установленные факты опровергли это предположение. Двадцативосьмилетняя Одри Сёра, на девятом месяце беременности, пропала за три дня до убийства. Ее муж сам обратился в полицию, к тому же у него было железное алиби. В окружении жертвы не нашлось и намека на любовника или еще кого-то подозрительного. Самой логичной версией представлялось похищение с последующим жертвоприношением в неизвестном месте. Затем никем не замеченный убийца перевез мать и ребенка в парк квартала Маладрери.
Прокурор поручил расследование парижскому уголовному отделу, где оно было возложено на майора Оливье Пассана. Полицейский тут же понял, что эта история станет делом его жизни. Вид места преступления потряс его до глубины души: непристойность голого тела с сожженным ребенком на фоне зеленой лужайки, контраст между окровавленной плотью и свежей травой…
Потом он взял себя в руки. Изуверская жестокость содеянного, неочевидная причина смерти матери (несмотря на распоротый живот, судмедэксперт полагал, что ее отравили), отсутствие улик и свидетелей – все выдавало в убийце человека с железными нервами. Одновременно безумного и собранного, одержимого и расчетливого – словом, того, кто на этом не остановится.
Пассан проинструктировал подчиненных. Дал указания: начать расследование с нуля, опросить соседей, досконально изучить прошлое жертвы, восстановить по минутам ее последние дни, поискать в базах данных схожие убийства…
Сразу же возникли проблемы. Квартал Маладрери не только один из самых опасных даже по меркам Девяносто третьего департамента, здесь еще и полицейских терпеть не могут. Да и из места преступления выжать ничего не удалось: ни отпечатков пальцев, ни органических следов, вообще никаких улик. Ну а базы данных срабатывают только в кино…
Зато местная полиция располагала системой городского наблюдения, регистрирующей все записи с камер слежения, переговоры по рации, звонки с компьютеров, местонахождение патрулей. Но и здесь они ничего не нашли: бо льшая часть камер оказалась испорчена, а за недели, предшествовавшие обнаружению трупов, в квартале не было отмечено ни одного подозрительного факта. Это наводило на мысль, что у убийцы, возможно, имеется джаммер, позволяющий в течение десяти минут глушить все спутниковые связи в радиусе километра. Последующие убийства подтвердили эту догадку. В ночь перед очередной страшной находкой каждый раз на несколько минут прерывалась связь. Незадолго до рассвета, в «час убийцы».
Как выяснилось, глушители этого типа изготавливают в Пакистане и продают из-под полы. Вопрос: что дает знание точного времени, когда в квартале Обервилье возникает подобная черная дыра? Ровным счетом ничего. А знание того, что убийца использовал оборудование из Пакистана? Тоже ничего. Попытались отследить каналы, по которым можно получить такое устройство, – безрезультатно.
Тем временем пришли результаты токсикологических анализов крови, мочи, желчи. Женщина умерла от инъекции хлорида калия, химического соединения, применяемого для редукции плода при множественной беременности. Пассан сам отыскал информацию на KCl – эмпирическую формулу хлорида калия. Его внутривенное введение вызывает фибрилляцию желудочков и остановку сердца. Это весьма распространенное химическое соединение присутствует в человеческом организме и используется в качестве добавки в пищевой промышленности и при производстве удобрений, а вот в качестве яда применяется крайне редко.
Его люди опросили поставщиков больниц и клиник, проверили склады, изводили химиков расспросами о том, как превратить это вещество в смертельный яд. Выяснили, что желающие свести счеты с жизнью стараются раздобыть его у анестезиологов из-за высокой эффективности. Отслеживали химиков-любителей – и все впустую.
По жертве тоже ничего. Ни сама Одри Сёра, ни ее окружение не вызывали ни малейших подозрений. Молодая женщина вышла замуж два года назад, работала на почте. Его муж Сильвен был компьютерщиком. Уроженцы Сен-Дени, они обосновались в жилом комплексе Флореаль, только что приобрели подержанную машину, «Гольф-2004». И заранее договорились с роддомом Делафонтен. Сильвен уже прикидывал, когда брать отпуск по уходу за ребенком, но запланированное счастье обернулось кошмаром.
К середине марта Пассан ничего не добился, не считая возрастающего давления со стороны начальства и бесконечных звонков следственного судьи Иво Кальвини. Единственный плюс заключался в том, что СМИ этим делом так и не заинтересовались. Не зная всех деталей, журналисты не сумели оценить масштабы произошедшего.
Полицейский утроил усилия. Он в деталях восстановил последние недели жизни Одри, поговорил с ее начальством, коллегами, друзьями, родными. Донимал расспросами ее гинеколога, тренера по гимнастике для беременных, парикмахера. И даже съездил в автосалон «Альфьери автомобиль» в Ла-Курнёв, где супруги приобрели машину. Он предполагал, что в какой-то момент дороги Одри и убийцы пересеклись. Что-то в ней – лицо, одежда, факт беременности – пробудило у психа жажду убийства. Если Пассан восстановит все ее перемещения, его путь также пересечется с путем убийцы.
Пассан вновь побывал во всех ключевых местах, связанных с этим делом: на почте в Монфермей и в ее окрестностях, там, где пропала Одри, в квартале Маладрери. Оставив свой темный костюм и служебную машину, он приехал туда на скоростном метро и обошел домики, затерянные между деревьями и общественными зданиями, – ответ шестидесятых на крупные жилые комплексы предыдущего десятилетия.
Он сроднился с этим кварталом, уловил его пульс. В одном Пассан не усомнился ни на минуту: у убийцы есть тайная причина интересоваться этим местом. Либо он здесь живет, либо, и это самое вероятное, провел здесь детство, и какая-то психическая травма приводит его сюда снова и снова, будто в кошмаре.
Сплошные догадки. К концу марта Пассан склонялся к мысли, что больше они никогда не услышат об убийце Одри Сёра. Но через несколько дней был найден новый труп.
Зазвонил телефон. Пассан подскочил, как от удара током.
Он вдруг понял, что сидит на полу, заваленный папками, с пальцами, перемазанными чернилами и пылью. И на этот раз расследование притянуло его, словно магнитное поле.
Телефон продолжал надрываться. Пассан взглянул на часы: семнадцать ноль-ноль. Он провел так битых два часа, читая страницы, которые знал наизусть. Остальные наверняка потешались, наблюдая за ним через стеклянную перегородку.
Телефон не умолкал.
Руки и ноги свело, он еле выпрямился и нашарил телефон на столе.
– Алло?
– Они здесь.
Лефевр.
– Кто?
– Они самые. Ждут тебя на четвертом этаже. Давай пошевеливайся.
Пассан положил трубку и с трудом поднялся. Растирая поясницу, он не смог сдержать улыбку.
После отповеди дивизионного комиссара его ждут жернова Управления собственной безопасности.
От французской административной системы ждать сюрпризов не приходится.
14
Спустя три часа Юкио Мисима очутился в коробке, за ним последовали Акира Куросава и Ясунари Кавабата. Двое самоубийц и один выживший. Пассан решил непременно забрать портреты в свою квартирку в Пюто. Великие люди, у которых трагичность собственного существования таинственным образом обогащала творчество. В гла зах Пассана эти самоубийства имели эстетическую ценность. Нобелевский лауреат Кавабата, которому перевалило за семьдесят, просто включил газ в сво ем кабинете, словно заканчивал давным-давно начатую работу.
Пассан осторожно уложил в коробку завернутый в папиросную бумагу заварочный чайник из селадона. С Управлением собственной безопасности все прошло достаточно гладко. Эти ребята были настроены миролюбиво и предупредили, что сейчас всего лишь предварительная встреча. Он еще подумал, а не расчищают ли они площадку для его профессионального сэппуку…
Самоубийство. Основа японской культуры, наваждение Пассана и вечная причина стычек с Наоко.
Она не желала признавать, что добровольная смерть лежит в центре ее собственной культуры, и резонно утверждала, что количество самоубийств в Японии не выше, чем в других странах. В ответ он перечислял знаменитых японцев, которые сами свели счеты с жизнью. Писатели: Китамура Тококу, Акутагава Рюноскэ, Осаму Дадзай… Генералы: Марезуке Ноги, Анами Коречика, Сугияма Хадзимэ… Заговорщики: Юи Сёсэцу, Асахи Хэйго… Воины: Минамото-но Ёримаса, Асано Наганори (и его сорок семь самураев), Сайго Такамори… Не говоря уже о камикадзе, таранивших своими самолетами американские крейсеры, и о влюбленных, которые бросались со скал Тодзинбо, лишь бы не видеть, как угасает страсть. В свете гибели их собственной любви эта идея звучала особенно убедительно.
Пассан преклонялся перед этими людьми, не боявшимися смерти. Теми, для кого долг и честь – все, а унылые маленькие радости обывателей – ничто. Наоко не выносила этого нездорового восхищения, считая его еще одним способом заклеймить ее народ. Старая песня о трагической культуре, колеблющейся между сексуальной извращенностью и добровольной смертью, бесившие ее стереотипы.
Оливье перестал с ней спорить, предпочитая оттачивать собственную теорию. Для японца жизнь подобна куску шелка, и важна не длина куска, а его качество. Неважно, когда ты умрешь: в двадцать, тридцать или семьдесят лет, лишь бы на твоей жизни не осталось ни пятна, ни щербинки. Когда японец кончает с собой, он не смотрит вперед (по-настоящему он не верит в загробную жизнь), а оглядывается назад. Свою судьбу он оценивает в свете чего-то высшего – сёгуна, императора, семьи, фирмы… Эта подчиненность, это чувство чести – основа ткани. На ней не должно быть ни изъяна, ни грязи.
Полицейский выключил электрический чайник и поставил рядом с заварочным. Сам он всегда жил именно так. Заглядывал вперед лишь затем, чтобы представить свой надгробный камень. Оставит ли он после себя память об образцовой жизни? Будет ли его кусок ткани безупречно чистым?
Но после всех уловок, лжи и подлости, до которых приходилось опускаться, чтобы просто применять закон, этому уже не бывать. Зато в том, что касается отваги и чести, ему стыдиться нечего. В спецназе Пассану довелось побывать под огнем, применять оружие, убивать. Он вдыхал запахи ракетного топлива и раскаленной стали, узнал, как свистят пули, как шуршит воздух, когда они его рассекают, узнал и всплески адреналина, которые они приносят. Он боялся, по-настоящему боялся, но ни разу не отступил. По одной простой причине: опасность – ничто в сравнении с позором, который запятнал бы его жизнь, если бы он струсил.
В конечном счете его страшила не смерть, а жизнь – несовершенная жизнь, наполненная мерзостями и угрызениями совести.
Он снял со стены фотографию своих детей и вгляделся. После рождения Синдзи и Хироки все изменилось: теперь ему хотелось жить долго, успеть их чему-то научить, защищать их как можно дольше. Ну какой из тебя солдат, если у тебя есть дети?
– Что ты делаешь?
Пассан поднял глаза: перед ним в полумраке стояла Наоко, все еще с сумкой и в плаще. Он не услышал, как она вошла. Он никогда не слышал, как она входит – с ее-то весом пера и кошачьими глазами, видящими в темноте.
– Собираю вещи для переезда.
Она взглянула на портреты на дне коробки, заметив и другие «сокровища»: каллиграфически написанные хокку, палочки благовоний, репродукции Хироси и Утамаро…
– Ты по-прежнему без ума от зомби, – сухо заметила она.
– Это храбрые люди. Люди чести.
– Ты никогда ничего не понимал в моей стране.
– Как ты можешь так говорить? После всех этих лет?
– Ну а ты как можешь верить в такие глупости? Прожив десять лет со мной и столько раз там побывав?
– Не вижу, в чем тут противоречие.
– То, что ты называешь храбростью, всего лишь интоксикация. Мы были запрограммированы, отформатированы своим воспитанием. Мы вовсе не храбрые – мы покорные.
– А по-моему, это ты ничего не поняла. За воспитанием стоит идеал народа!
– Сегодня наш идеал – освободиться от всего этого. И не смотри на меня как на больную.
– Знаю я твою болезнь: это Запад и его упадок. Его неистовый индивидуализм. Ни веры, ни идеологии, ни…
– Я не собираюсь снова ругаться с тобой. – Она жестом отмела его слова, будто смахнула пыль.
– Чего же ты хочешь? Попрощаться? – спросил он с сарказмом.
– Всего лишь напомнить, что детям нельзя давать сладости. Так они без зубов останутся. В этом мы всегда были согласны.
До Пассана не сразу дошло: он говорил ей о сэппуку, она парировала чупа-чупсами. Его всегда поражал материализм Наоко, ее одержимость бытовыми мелочами. Однажды он спросил, какое качество она прежде всего ценит в мужчине. Она ответила: «Пунктуальность».
– О’кей. Пара леденцов ведь не загубит их воспитание?
– Мне надоело твердить тебе одно и то же.
Пассан наклонился, чтобы подхватить коробку двумя руками.
– Это все?
– Нет. Еще я хотела вернуть тебе это, – добавила она, положив что-то на фотографии.
Пассан увидел кинжал в ножнах из хлебного дерева, покрытого черным лаком. Рукоять слоновой кости при электрическом свете сверкала чистейшим блеском, изгиб лакированного дерева казался совершенным. Пассан узнал его с первого взгляда и вспомнил, за что выбрал: ножны напомнили ему волосы Наоко, слоновая кость – ее белую кожу.
– Оставь себе. Это подарок.
– Все это в прошлом, Олив. Забирай свою игрушку.
– Это подарок, – повторил он упрямо, пропустив колкость мимо ушей. – Подарки не забирают обратно.
– Ты хоть знаешь, что это?
Лежащий на фотографиях наискосок кинжал словно вызывал на бой невозмутимых Кавабату, Мисиму, Куросаву. Прекрасно.
– Кайкен, – прошептал он.
– А ты знаешь, для чего он нужен?
– Я сам же тебе и рассказал. Ты даже была не в курсе! – В задумчивости Пассан снова взглянул на драгоценную вещицу. – Таким кинжалом жены самураев убивали себя. Перерезали себе горло, сперва связав свои согнутые ноги, чтобы умереть в пристойной позе, и…
– Хочешь, чтобы я покончила с собой?
– Вечно ты все портишь, – ответил он устало. – Ты отрицаешь собственную культуру. Кодекс чести. И…
– Ты больной. Вся эта ерунда давно себя изжила. И слава богу.
С каждой секундой коробка казалась ему тяжелее. Бремя прошлой жизни, груз его старомодных убеждений.
– Так что же тогда для тебя Япония? – закричал он вдруг. – «Сони»? «Нинтэндо»? «Хэллоу Китти»?
Наоко улыбнулась, и тут он понял, что, несмотря на сорок пятый калибр у него на поясе, в этой комнате вооружена только она.
– Тебе самое время убраться отсюда.
– Встретимся у адвоката. – Пассан обошел ее и шагнул за порог.
15
Наоко дрожала от холода на лужайке перед домом, не сводя глаз с ворот.
Она помогла Пассану перенести в машину последние коробки, и он молча уехал, даже не взглянув на нее. Было прохладно, но порой налетали волны тяжелого влажного жара. И только птицы, казалось, не сомневались в том, какое сейчас время года, и неистово щебетали на деревьях.
Наконец Наоко отряхнулась от дождя и направилась к дому. Горло перехватил тревожный спазм. Она поспешила в комнату к мальчикам – для них собирались обору довать и вторую комнату, но Пассан так и не успел за кончить в ней ремонт. Наоко поцеловала Хироки, еще взъерошенного после ванной, и Синдзи, уткнувшегося в свою игровую приставку. Дети никак не отреагировали на ее появление, и это безразличие даже успокоило. Самый обычный вечер.
Наоко пошла на кухню. Морской язык и картошка уже были готовы, но есть не хотелось. Сандринины маки еще не улеглись в желудке. Ей припомнился их разговор. И с чего вдруг она так взъярилась на Париж и Францию? Она давно уже свыклась со своими клеймом эмигрантки…
В кухню с хохотом ворвались мальчики, под стук тарелок и приборов расселись по местам.
– Почему вы с папой расстаетесь? – внезапно спросил Синдзи.
Он сидел прямо, словно обращался к школьной учительнице. Наоко поняла, что он, как старший, задавал этот вопрос и от имени брата.
Ответить по-японски не хватило сил.
– Чтобы больше не ругаться.
– А как же мы?
Она положила сыновьям еду и села между ними, чтобы вложить в свои слова больше тепла:
– Вас мы будем любить всегда. Вы уже знаете, как теперь у нас все будет устроено. Вы остаетесь дома. Неделю с мамой, неделю с папой.
– А другой папин дом мы сможем увидеть? – вмешался Хироки.
– Ну конечно. – Ласково улыбаясь, она взъерошила ему волосы. – Там вы тоже будете как у себя дома! А теперь давайте ешьте.
Синдзи и Хироки уткнулись в тарелки. Дети не просто жили в ее сердце, они и были этим сердцем. Каждый его удар и даже паузы между ударами посвящались им.
В их команде восьмилетний Синдзи – главный заводила. От отца он унаследовал энергичность и юмор, и в то же время в нем чувствовалась природная непосредственность, которой не было ни у кого из родителей. Его смешанное происхождение выражалось в некой загадочной иронии. К своей азиатской наружности он относился с легкой насмешкой, как бы со стороны, словно говоря: «Не стоит доверять внешности».
Шестилетний Хироки был более серьезным. Строго относился к своим привычкам, расписанию и игрушкам, унаследовав присущую матери непреклонность. Но зато внешне он ничем ее не напоминал. Его круглое личико под черными волосами вызывало у Наоко недоумение. В отличие от китайцев и корейцев, японцы гордятся своими овальными лицами. Круглая рожица Хироки всегда выражала какую-то рассеянную задумчивость. Мальчик часто вступал в разговор совершенно некстати, словно ошибся дверью, сам удивлялся тому, как он здесь оказался, и снова умолкал. Тогда они говорили друг другу, что он словно с луны свалился. И еще больше тревожились за своего малыша…
Ужин подошел к концу. Наоко удавалось переводить разговор на самые разные темы: школа, Диего, дзюдо Синд зи, новая компьютерная игра Хироки. Оба без напоминаний убрали тарелки в посудомоечную машину и поднялись на второй этаж.
Поцеловав Хироки в постели, Наоко прошептала ему по-японски:
– Завтра я вернусь пораньше и мы вместе примем ванну. Поиграем с кокэси!
При упоминании японских куколок мальчик улыбнулся. Он уже дремал.
– Только не закрывай дверь! – ответил Хироки на смеси французского и японского.
– Конечно, золотко. А теперь бай-бай.
Она поцеловала его в ямочку на плече и подошла к Синдзи, погруженному в «Микки парад»[10].
– Оставишь свет в коридоре? – спросил он по-японски, подлизываясь.
– Да у меня полон дом мокрых куриц! – Улыбаясь, она погасила настольную лампу.
16
Пассан вернулся к себе очень поздно. Потерянный. Отвергнутый. Про́клятый.
По дороге в Пюто, везя в багажнике свои японские сок ровища, он поддался старым бесам. Квартал Дефанс, затем Восьмой округ с его нужными адресами…
Здесь были его привычные угодья – бары, кабаки, девушки из службы эскорт-услуг. Не старые приятельницы, как в тех фильмах, где у легавого всегда любовница-проститутка. В тех местах, где бывал Пассан, его всегда ждали сюрпризы – новые девушки, новые приключения. Конечно, для него все это слишком дорого, но полицейский всегда может пригодиться. Оливье не имел ничего общего с полицейским-покровителем. Ценилось не то, что он был кому-то другом, а то, что не был врагом, это не одно и то же. И атмосфера страха и смирения странным образом возбуждала его еще сильнее.
Через несколько лет после женитьбы, когда влечение к Наоко отхлынуло, словно кровь от лица труса, он вернулся к своим холостяцким привычкам. Сомнительные ночные заведения, встречи с шикарными проститутками. Утоление худших его порывов. Простейший обмен: пара бесплатных свиданий в уплату за его защиту.
Откуда эта потребность находить облегчение у вульгарных дебелых профессионалок, в то время как одна из красивейших женщин Парижа ждала его дома? Ответ крылся в самом вопросе. Женщину всей жизни не трахают сзади, кончая ей на лицо в качестве кульминации. Особенно если она мать твоих детей.
Мама и шлюха. Несмотря на свой возраст и опыт, Оливье так не сумел преодолеть этот ребяческий конфликт. Восемь лет психоанализа ничего не дали. Сама его плоть упорно отказывалась смешивать вожделение и любовь, секс и чистоту. Женщина для него была раной, края которой не желали соединяться.
С Наоко он познал первую волну возбуждения, такую новую и свежую, что у него не возникло ощущения, будто он пятнает свою мадонну. Когда к нему вернулись его прежние пристрастия, как-то само собой получилось, что он отвернулся от своей японской феи. Возвращение к истокам. К женщинам с широкими бедрами, жирными ляжками, тяжелыми грудями. К унизительным позам. Оскорблениям. К животному облегчению, смешанному с каким-то мстительным чувством. Когда наслаждение обжигало его промежность, он стискивал зубы, чтобы сдержать торжествующий рев, черный, горький и бесцельный.
Нечего и думать о том, чтобы подвергнуть свою супругу подобным мерзостям. Его персональный ад касается его одного.
Парадокс заключался в том, что Наоко легко уступила бы его фантазиям. У японок совершенно свободное отношение к сексу, ничего общего с христианским чувством вины, гложущим людей Запада. Но Пассан не видел Наоко в такой роли. Ее гладкая белая кожа, мускулистое, без малейшего изъяна тело его не возбуждали. Она создана для молитвы, а не для похоти.
Наоко не обманывалась на его счет. Любая женщина знает сексуальные биоритмы своего партнера. Она закрывала глаза, быть может, во имя старой японской традиции, по которой муж делает жене детей, а удовлетворения ищет на стороне. Первая недосказанность, первый компромисс. Неудовлетворенность пролегла между ними, возведя незримую стену, превратив каждый жест в выпад, каждое слово в отраву. Разлука сердец всегда начинается с разлуки тел…
Он припарковался на узкой улочке, проходящей вдоль набережных, за старой церковью Пюто. Потребовалось три захода, чтобы перенести все его архивы и безделушки. Когда последние коробки были сложены в середине комнаты, он оглядел свое новое логово. Тридцать квадратных метров паркетной доски, три белые стены и широкое окно вместо четвертой, кухонька, отделенная фанерной перегородкой. Диван-кровать, доска на козлах, стул, телевизор. Все это в здании шестидесятых годов. Особо не разгуляешься.
Неделями он неспешно перебирался сюда, оттягивая момент окончательного переезда. Пассан снял куртку и на несколько мгновений застыл. Единственное, о чем он подумал в эту минуту, были слова летчика-камикадзе, спасенного перемирием. Когда его спросили, что он испытывал в то время, он ответил со смущенной улыбкой: «Все очень просто, у нас не было выбора».
Пассан отправился под душ и простоял под ним почти полчаса в надежде смыть всю грязь этого вечера, но, похоже, переоценил могущество водопроводной воды. Натянув трусы и майку, приготовил литр кофе, сунул в микроволновку бенто, купленное у японца, торговавшего готовыми блюдами. Не присаживаясь, заглотил кусочки жареной курятины, сырные шарики, рис. Это напомнило ему студенческие годы: лекции по праву, еду навынос и одиночество.
Жуя, он припоминал те обрывочные сведения о расследовании в Стэне, которые ему удалось раздобыть во второй половине дня. Стефан Рюдель, патологоанатом, проводивший вскрытие, подтвердил: модус операнди все тот же. Кроме того, найденные в мастерской инструменты соответствовали увечьям, нанесенным предыдущим жертвам. Любопытно узнать, как Гийар объяснит наличие этих инструментов в своей мастерской. Что касается остального, придется потерпеть: токсикологические анализы пока не готовы.
Еще ему позвонила Изабель Заккари, координатор криминалистов. На тот момент у нее ничего не было – ни единого фрагмента, ни единой ниточки или поверхности, которые позволили бы связать ДНК Гийара и жертвы. Словно он ее и не касался.
Выбросив объедки, Пассан взглянул на часы: почти полночь. Сна ни в одном глазу. Он взял кофейник, чашку, йогурт и разложил все рядом с диваном. Потом уселся на пол по-турецки, спиной прислонившись к дивану, и взялся за первую коробку с архивами.
Он снова перебирал и читал документы. Через полчаса строчки стали сливаться перед глазами. Сделав большой глоток кофе, он зажмурился. Перед ним поплыли красноватые круги, окруженные фиолетовым отсветом.
Мысленно он продолжил восстанавливать ход расследования с того места, на котором остановился после обеда.
17
3 апреля 2011 года. Как и в случае с Одри Сёра, труп Карины Бернар (тридцать один год, срок беременности семь с половиной месяцев) был оставлен в центре одного из жилых кварталов Девяносто третьего департамента – Франк-Муазен в Сен-Дени. Квартал этот пользовался куда худшей славой, чем Маладрери, считался «чувствительной городской зоной» и одним из самых опасных мест в Париже.
Пассан со своей сворой тут же взялся за работу: оказалось, что преступление совершено по тому же сценарию. Тот же тип жертвы, тот же модус операнди. Тот же сбой спутникового оборудования за несколько часов до зловещей находки. И такое же отсутствие следов и улик…
И все же обнаружилось одно отличие: в стекловидном теле, взятом из глаз младенца (чей труп обгорел не так сильно, как предыдущий), токсикологи нашли хлорид калия. Значит, ребенку сделали ту же инъекцию, что и матери, и он, по крайней мере, не сгорел заживо. Какую цель преследовал убийца? Возможно, стремился избавить свои жертвы от мучений? К тому же в их крови обнаружили следы обезболивающего.
На этот раз расследование осложнилось вмешательством СМИ. Журналисты наконец сообразили, что речь идет о громком деле, и связали второе убийство с первым. Настоящая сенсация: серийный убийца! Потрошитель беременных женщин! Ему тут же придумали прозвища: Акушер, Мясник Девяносто третьего департамента. Расследование освещалось в режиме реального времени: репортеры на месте преступления, регулярные сообщения в СМИ, интернет-сайты… В результате на полицию обрушился шквал ложных свидетельств и бредовых признаний. Ну а квартал Франк-Муазен, и так не слишком гостеприимный, закрылся наглухо от этого наплыва легавых и людей с камерами.
Пассана рвали на части: помимо собственного начальства, ему названивал следственный судья Иво Кальвини, мэр Сен-Дени, префект департамента Сена – Сен-Дени, журналисты… Но ему нечего было сказать. Зато у него самого крепла уверенность: убийца – уроженец Девяносто третьего. Здесь он перенес детскую травму, несомненно связанную с его рождением, и теперь мстил, оставляя после себя трупы.
Но эта догадка никуда не вела. Что он мог предпринять? Перерыть архивы роддомов – в поисках чего? Случаев неудачных родов? Младенца с врожденными отклонениями? Ребенка-отказника? Его гипотеза была слишком расплывчатой.
И Пассан вновь погрузился в бурлящую жизнь Сен-Дени. Он вырос в этих местах и знал их не понаслышке. Но с тех пор многое изменилось: спальные районы превратились в горячие точки. Муниципальные дома породили поле битвы, где велась нескончаемая партизанская война, в которой с обеих сторон стреляли настоящими пулями.
Вместе с местной полицией и антикриминальными бригадами он объездил район вдоль и поперек. Ему открылся мир молниеносных обысков под градом камней и бутылок с зажигательной смесью, сожженные машины, изнасилованные женщины, выбрасывающиеся из окон, кражи…
Еще он встречался с местными депутатами, муниципальными советниками, экспертами. С оптимистами, строящими воздушные замки; паникерами, предлагавшими запасаться беспилотниками, камерами слежения и оружием; радикалами, планировавшими снести все подчистую и построить здесь жилье подороже. Цены взлетят, а отбросы передохнут сами…
Он выходил на руководителей местных комитетов и благодаря их посредничеству устанавливал контакты с главарями банд. Его принимали в укрепленных подвалах, где пацаны наводили на него автоматические винтовки М16, «узи», пистолеты и револьверы со сточенными номерами. В густом запахе гашиша, среди пустых банок из-под пива и использованных шприцов, Пассан играл с ними в открытую. Он описал им методы убийцы, поделился немногими сведениями, рассказал о своих опасениях. Все они слушали белого, не снимая пальца со спуска.
Полевые командиры ничего не знали, но обещали увеличить число своих патрулей, прочесать подвалы, крыши, пустыри. Они не дадут убийце орудовать на их территории, да еще и выбрасывать трупы в квартале. Пассан вспомнил фильм «М: убийца», где маньяка, убивавшего детей, поймали и судили преступники.
Между тем кропотливая проработка связей Карины Бернар позволила выявить одну крошечную деталь. В начале марта жертва отдавала свою машину в ремонт в один из автосервисов Сен-Дени – фирму «Фари». Это простое название, вернее, его звучание напомнило ему об автобазе, где Одри Сёра купила свой «гольф»: «Альфьери автомобиль». Одним щелчком мышки удалось установить, что обе торговые марки принадлежат холдингу, который возглавляет некий Патрик Гийар.
Простое совпадение? Как показало вскрытие, на коже обеих жертв остались отпечатки рифленых ремней, а также волокна огнеупорного каучука. Патологоанатом предположил, что это следы приводных ремней. Кроме того, на языке обеих женщин имелись характерные вмятины: убийца затыкал им рот кусками шины.
Пассан изучил прошлое Гийара. Ничего примечательного, не считая того, что он, как и Пассан, в детстве был подопечным социальных служб. Ребенок неизвестных родителей из Сен-Дени, он наверняка кочевал по приютам и приемным семьям, но организация «Социальная помощь детству» никогда не предоставит его досье. Какие-то сведения о нем оказались доступными лишь с семнадцатилетнего возраста, когда он начал работать автомехаником в Сомьере на юге Франции.
Оливье проследил за его карьерным ростом от автобазы до автобазы. 1997-й: Гийар – управляющий автомастерской в Монпелье. 1999-й: поездка в Штаты, где он чинил моторы в Аризоне и Юте. 2001-й: первая собственная мастерская в Сен-Дени – «Альфьери». Гийару тридцать лет. 2003-й: второе приобретение – «Фари» в Ла-Курнёв. 2007-й: третий пункт продаж – «Фериа» на авеню Виктора Гюго в Обервилье. И это не считая центров технического осмотра и экспресс-автосервисов: шиномонтаж, замена масла, ветровых стекол, глушителей и так далее. Все в Девяносто третьем департаменте, а точнее, в его западной части: в Ла-Курнёв, Сен-Дени, Эпине, в Сент-Уане, Стэне. Именно там, где пропадали женщины и где были обнаружены тела.
Что касается личной жизни: холост, детей нет. Не привлекался, судимостей не имеет. Ни намека на полицейский протокол. Сирота, добившийся всего сам, благодаря воле и страсти к механике.
Гийар принял Пассана в своем головном офисе в Обервилье и показал ему автобазу. Три этажа – три тысячи квадратных метров крашеного бетона, где продавали и ремонтировали машины. Здесь царила невероятная чистота – хоть с пола ешь. Все это впечатлило бы кого угодно, но только не Пассана. Он чувствовал: что-то неладно.
Патрик Гийар был сама любезность и в то же время выглядел странновато, прежде всего внешне. Этот сорокалетний коротышка, коренастый силач, будто состоял из одних мускулов. Голова гладко выбрита, видимо, в попытке скрыть раннее облысение. В чертах ощущалось что-то бульдожье. Мешки под глазами, приплюснутый нос, толстые, словно надутые, губы – все это позволяло предположить в нем примесь африканской крови.
И в то же время в этом миниатюрном колоссе проскальзывало что-то женственное: подпрыгивающая походка, визгливый смех, слишком томные и плавные движения запястий. Владелец автобазы напомнил Пассану актеров кабуки: обольстительных самцов, которым и в жизни не удавалось избавиться от жеманных повадок.
Само собой, Гийар не знал ни первую, ни вторую жертву: ему вообще не приходилось общаться с клиентами. Он сделал скорбное лицо, когда Пассан напомнил о страшной участи этих женщин, а затем снова заулыбался и объяснил, почему выбрал для своих предприятий созвучные названия. Все дело в давней мечте о работе на заводах «Феррари». «С тех пор я спустился с небес на землю, но эти сочетания звуков принесли мне удачу».
Пассану полагалось бы сопереживать Гийару: как и он сам, тот был сиротой. Вот только вежливые речи не могли заглушить его внутренний голос, едва слышный шепоток, твердивший: что-то здесь не так.
С тех пор он не спускал с Гийара глаз, вместе со своими парнями устроил на него настоящую охоту. Удалось раздобыть оборудованный для слежки фургон, выделенный для другого расследования. Почти все ночные дежурства Пассан брал на себя. Учитывая его личную жизнь, с этим никаких проблем не возникало. Днем он отслеживал биографию Гийара по документам, а по ночам наблюдал за ним вживую.
Его убежденность не поколебалась ни разу, хотя концы с концами никак не сходились. На момент каждого похищения у Гийара было надежное алиби, да и под психологический профиль убийцы он не подходил. К примеру, он обожал детей и раздавал подарки ребятишкам в жилых комплексах, примыкающих к его автобазам. Невозможно представить его в шкуре убийцы младенцев. Вот только почему у него нет ни детей, ни жены? Может, он гомосексуалист?
В конце апреля Пассан взял четыре дня в счет отпуска, чтобы побывать в окрестностях Монпелье и порыться в профессиональном прошлом Гийара. Отыскал мастерские, где тот работал учеником. Повсюду Гийар оставил по себе добрую память: улыбчивый, способный, прилежный. По словам его хозяев, детство Гийар провел в Девяносто третьем департаменте, но рассказывать об этом не любил. Тяжелые воспоминания?
Ни слежка, ни неожиданные обыски, ни прослушка телефонов, ни взлом электронных данных, ни проверка счетов так ничего и не дали. В итоге Оливье добился одного: Гийар обратился к адвокатам. Те нажаловались начальству Пассана, начались разборки. Гийара уговорили не подавать жалобу, но майору отныне пришлось держаться от него подальше.
11 мая 2011 года был найден третий труп.
Рашида Несауи, двадцать четыре года, срок беременности семь с половиной месяцев, голая, выпотрошенная. Тело валялось на пустыре рядом с жилым комплексом Форестьер в Клиши-су-Буа – «свободной городской зоне», еще более «чувствительной», чем предыдущие.
Значит, стоило ослабить наблюдение, как Акушер вновь нанес удар. Для Пассана это было равносильно признанию: Гийар – убийца. Не слишком веское доказательство, однако на следующий день в шесть утра он арестовал Гийара и в наручниках вытащил из особняка в Нейи-сюр-Сен.
Личный обыск, снятие отпечатков, пробы слюны – раздеваться Гийар отказался. Пассан не настаивал, но допрашивал его с пристрастием несколько часов кряду. В ход пошло все: грубость, угрозы, ругань. Их сменяли моменты затишья, когда Пассан разыгрывал «доброго полицейского». А потом нагрянул адвокат, и Гийара пришлось немедленно освободить.
Тем временем Фифи изучил детализацию звонков на автобазах Гийара: Рашиде Несауи оттуда никогда не звонили. У нее даже не было водительских прав. Тонкая ниточка, связывающая два первых убийства, оборвалась.
На этот раз владелец автосалонов подал жалобу, и в конце мая полицейский предстал перед судом. Его действия признали незаконными: у него не было ни единого доказательства, это ожесточение не имело оснований. Пассана оштрафовали на две тысячи евро за полицейское преследование, умышленные оскорбления, насильственные действия, нарушение служебного долга. Судья учел безупречный послужной список майора и не приговорил его к условному сроку, которого требовало обвинение. Даже не стал отстранять от службы.
Пассан невозмутимо выслушал приговор: мысленно он был не здесь. Он как раз сейчас узнал, что в месте обнаружения третьего трупа оказались следы неизвестной ДНК. А у него с момента задержания Гийара хранился его генетический материал. Адвокат Гийара потребовал немедленно уничтожить эти пробы, но если поторопиться, то можно успеть сличить образцы.
Он бегом покинул зал суда, забрал из холодильника в отделении срочной судебно-медицинской экспертизы при больнице Жана Вердье в Бонди образец, хранившийся среди других замороженных проб, взятых у подозреваемых, и пакетиков с трусиками изнасилованных женщин. Отправился в лабораторию Института криминалистических исследований в Рони-су-Буа и попросил эксперта сравнить оба образца ДНК. Экспертиза заняла всего несколько часов, но принесла лишь очередное разочарование: совпадений не нашлось.
И все же это очередное поражение обернулось важным открытием: генетическая карта подозреваемого выявила половую аномалию.
Владельцу автосалона прекрасно удавалось скрывать свое женское начало. Он сумел затеряться в толпе, вот только что же творилось у него в голове? Мужчина он или женщина? Или то и другое вместе?
Пассан представил себе, каким физическим и психическим пыткам подвергался Гийар в приютах, приемных семь ях и центрах трудящейся молодежи. Ужас, который охватывал его в душевых, во время медицинских осмотров, в раздевалках… Он и сам бывал в таких местах – приятного мало. И если Гийар вырос в Девяносто третьем, у него есть серьезный повод затаить злобу на этот неблагополучный департамент.
Приговоренный судом, порицаемый начальством, Пассан решил продолжать расследование самостоятельно. Он запросил сведения о пациенте по фамилии Гийар в больницах Сен-Дени, Ла-Курнёв и соседних городов. Все напрасно. Врачебная тайна служила непреодолимой преградой, а о том, чтобы обратиться за разрешением в Орден врачей, нечего было и думать.
И из «Социальной помощи детству» ничего не вытянешь. Больше нельзя ни следить за Гийаром, ни приближаться к нему. Пассан лишился и доступа к результатам расследования по третьей жертве. Между тем департамент охватила настоящая паранойя. Беременные боялись выходить на улицу. Поползли слухи, что убийца – полицейский и убивает по приказу властей, чтобы запугать местных жителей и вынудить их убраться отсюда. СМИ, как всегда, подливали масла в огонь, живописуя грядущую панику в жилых кварталах и безрезультатность расследования.
Среди всей этой неразберихи переломным моментом стало 18 июня, когда пропала Лейла Муавад.
Произошедшее застало Пассана врасплох. Одержимый стремлением прижучить Гийара, он упустил из виду, что, кем бы ни оказался убийца, он вновь нанесет удар. Первой его мыслью было вытрясти из Гийара признание, где он удерживает жертву. Но теперь он лишился возможности действовать – и тем более таким образом.
Оставались только рутинные оперативные действия. Усиленные патрули, поквартирный опрос, обращения к возможным свидетелям. А в действительности все ждали, что вот-вот найдут труп Лейлы…
И вот тогда-то Пассан получил ключевую информацию. Несколько недель назад он сумел убедить одного парня из финансовой полиции на улице Шато-де-Рантье взломать сети холдинга, принадлежащего Патрику Гийару. Никаких особых надежд по этому поводу Пассан не питал, но неожиданно финансовой полиции удалось обнаружить среди входящих в холдинг фирм служебное предприятие под названием «ПАЛФ» с неопределенной сферой деятельности: «научные и прикладные исследования в области содержания и ремонта автомобилей». Эта фирма с юридическим адресом в Джерси направляла счета за свои консультации многим автосалонам Гийара. Полученные высокие гонорары вносились на счета англонормандского общества управления недвижимостью. Проще говоря, Гийар использовал внутри своей компании метод фальшивых накладных. Само по себе это ничем ему не грозило, но обнаружилось кое-что еще: во владении фирмы, зарегистрированной на Джерси, находилась автомастерская в Стэне, которая больше нигде не упоминалась. Что это – убежище? Святилище?
Эту информацию Пассан получил 19 июня, в воскресенье, в 23:30. Бесполезно было кому-то об этом сообщать: все равно до законного часа, шести утра, никто туда не сунется. К тому же любое его подозрение по поводу Гийара будет принято в штыки.
Счет шел на минуты. Он позвонил Фифи, и вдвоем они по-тихому направились в окрестности автомастерской.
Результат известен: самый чудовищный провал за всю его карьеру.
18
Пассан потер веки и открыл глаза.
Под светодиодной лампой ничего не изменилось.
Все эти бессвязные факты, никуда не ведущие сведения, казалось, отзывались болью во всем теле: желудок ныл, руки и ноги свело, позвоночник ломило.
Два часа ночи, а сна ни в одном глазу. Пассан запустил руку в другую коробку и извлек фотографии с мест обнаружения трупов. Налил себе кофе, прежде чем вновь погрузиться в кошмарные воспоминания.
Одри Сёра. Карина Бернар. Рашида Несауи. Обстановка, останки – всякий раз одно и то же. От каждого трупа, белизна которого резко контрастировала с черной почвой или зеленой травой, обгоревшая пуповина тянулась к кус ку вулканической породы – обугленному тельцу ребенка.
Он столько раз рассматривал эти снимки, что на него они уже не действовали. Этой ночью они прежде всего напомнили ему о вчерашней бойне, о стычке с отморозками, о Гийаре на пороге автомастерской, о новом трупе, о новом полыхавшем внутри огне. Об убийце, пытавшемся увернуться от его ударов… О самом себе, прижимавшем Гийара к шоссе перед несущимся на них автоприцепом…
Гудок грузовика заставил его очнуться.
Пассан глотнул кофе. Какая-то засевшая в глубине сознания деталь не давала ему покоя, но он не мог вспомнить, что именно.
Что-то важное.
Повтор. Патрик Гийар на пороге автомастерской. Черный дождевик. Белый череп. Отсветы пламени, пляшущие на его растерянном лице.
Фокус. На руках у него бледно-голубые, залитые кровью перчатки…
Пассан ускорил перемотку. Несколько минут спустя.
Стоп. Гийар бьется на мокрой мостовой.
Крупный план. На руках у него ничего нет.
Пассан схватил мобильный. Одно нажатие. Быстрый набор.
– Алло? – послышался заспанный голос Фифи.
– Это я. Я знаю, как прижать Гийара.
– Чего?
Послышался шорох простыней. Пассан дал напарнику несколько секунд, чтобы прийти в себя.
– Когда Гийар убегал, – продолжал он, – на нем были хирургические перчатки. Когда я схватил его на шоссе, их уже не было. Он выбросил их где-то на пустыре.
– И что?
Судя по прояснившемуся голосу, лейтенант успел собраться с мыслями.
– Эти перчатки – недостающее звено. Снаружи на них – кровь жертвы, внутри – генетический материал Гийара, его пот и чешуйки кожи. Этого вполне достаточно, чтобы определить ДНК. Перчатки – его билет в тю рягу!
Снова шорох ткани, щелчок зажигалки.
– О’кей, – произнес панк, затянувшись сигаретой. – Что будем делать?
– Обшарим пустырь.
– Когда?
– Сейчас. Я за тобой заеду.
19
– Монстры, подъем!
Наоко раздвинула занавески, впуская в комнату свет. Сегодня ей всего на пару часов удалось забыться сном. На рассвете она проснулась и долго слушала монотонный перестук дождевых капель. Погруженная в темноту, под колыбельную дождя Наоко мысленно переносилась в Токио. Ее родной остров был подвержен ливням не меньше, чем женщина слезам.
Она терпеливо ждала, когда уже пора будет будить детей, без конца прокручивая одни и те же мысли. Не лучше ли продать дом? Наверное, напрасно они придумали жить здесь по очереди. Пожалуй, стоит сегодня же обсудить это с Пассаном.
Она склонилась над Синдзи, осыпая его поцелуями. Когда дети вот так спали, она с трудом заставляла себя их будить. Наоко постоянно боролась со своей природной склонностью к нежности, мягкости. Стараясь выдержать характер, она невольно слишком часто прибегала к решительности и властности.
– Ну же, вставай, мой мальчик, – прошептала она по-японски.
Потом перешла к Хироки, которому пробуждение давалось легче. Ребенок что-то пробурчал спросонья. На самом деле Наоко не была запрограммирована на проявление чувств. Отцовская жестокость что-то в ней надломила, и она так и не научилась выражать свою привязанность.
– Ну же, Синдзи! – бросила она старшему: он так и не пошевелился.
До конца раздвинув занавески, она снова подошла к ребенку, полная решимости вытащить его из постели. И застыла на месте, обнаружив рядом с подушкой чупа-чупс.
– Просыпайся! – Вспыхнув от злости, она безжалостно потрясла сына за плечо.
Наконец он открыл один глаз.
– Откуда это у тебя? – спросила она по-французски, потрясая конфетой.
– Не знаю…
Озаренная внезапной догадкой, она обернулась к Хироки, который сидел на кровати, тоже сжимая в руках чупа-чупс.
– Кто вам их дал? Когда? – закричала она, вырвав у него леденец.
Видя, что сын озадаченно молчит, Наоко и сама обо всем догадалась. Хироки тоже обнаружил свой чупа-чупс только что. Это Пассан. Ночью он пробрался в дом и положил в кроватки детей по гостинцу.
Она набросилась на Синдзи, который наконец поднялся с постели.
– Папа приходил? – Наоко вцепилась ему в руку. – Это папа принес?
– Ты делаешь мне больно…
– Отвечай!
– Да я сам ничего не знаю. – Синдзи протер глаза.
– Одевайся.
Наоко открыла шкаф, чтобы взять для них одежду.
Надо успокоиться. Нельзя звонить ему прямо сейчас. А главное, не давить на мальчиков.
Она снова подошла к Синдзи, все еще не очнувшемуся от сна, и заставила его одеться. Хироки уже чистил зубы в ванной. Наоко застегнула на старшем сыне ремень и велела тоже идти умываться.
Поднявшись, она почувствовала бесконечную усталость. Хотелось повалиться на постель и расплакаться. К счастью, клокотавший внутри гнев заставлял ее держаться на ногах.
Ну теперь Пассан у нее попляшет!
20
Вот уже три часа они копались в грязи. Три часа мокли под проливным дождем.
Они видели мерцание первых проблесков зари, затем мутный рассвет, пробивавшийся сквозь пелену ливня. В ка ком-то смысле гнилая погода была им на руку: ни единой кошки возле жилых зданий, ни одной души рядом со стройками и на пустыре. Кло-Сен-Лазар не желал пробуждаться.
И в то же время Пассан опасался, как бы дождь не смыл следы с перчаток. Конечно, если они вообще их найдут.
Пока все было впустую. Оливье и Фифи двинулись от двери мастерской Гийара, пересекли стройку и очутились на пустыре, ведущем к автомагистрали. Вооружившись тем, что нашли на дороге, Пассан – противозапорным устройством, Фифи – радиоантенной, они ворошили землю, раздвигали траву, отшвыривали мусор.
Несмотря на холод, Пассан в своем дождевике обливался потом. Он то и дело оглядывался на окружавшие жи лой комплекс заборы из гофролиста, опасаясь увидеть над ними головы под капюшонами. Банды возвращались из ночных вылазок с первыми поездами скоростного метро, и зачастую на рассвете вспыхивали самые страшные пота совки. Не меньше он боялся, что откуда ни возьмись появится патруль муниципальной полиции или наряд антикриминальной бригады. Здесь они с Фифи незваные гости.
Пассан взглянул на часы: 8:10. Скоро нужно ехать в Центральное управление судебной полиции. Еще один прокол. Да и в своей идее он не уверен. Возможно, Гийар сам вернулся за перчатками. Или их унесло ветром. А может, местная детвора нашла их и куда-то забросила. Территория окружена лентой полицейского ограждения, но кто в здешних местах станет с этим считаться? Уж скорее наоборот…
– Передохнем?
Пассан кивнул. Фифи раскурил косяк и из вежливости предложил ему затянуться, но Оливье никогда не касался наркоты. Усевшись на ржавый холодильник, Фифи вытащил посеребренную фляжку, отвернул крышку и протянул начальнику, тот снова отказался. Панк глотнул.
– Завязывал бы ты с этим, – посоветовал Пассан. – Играешь с огнем.
– Да кто бы говорил. – Тот хохотнул в ответ.
– Ты это к чему?
– Сколько ни строй из себя праведника, сам ходишь по краю.
– Не понял.
– Ты двинулся на этой истории с Акушером.
Пассан оседлал воткнутый в землю остов мопеда без колес.
– Я хочу доделать свою работу, и только.
– И только? Ты едва не линчевал человека, чуть не разнес кабинет судьи, а теперь в такую рань ищешь перчатки из латекса…
– Из нитрила.
– Без разницы… На сраном пустыре и, ясный перец, тоже незаконно. Да лучше уж просто подай в отставку – все быстрее будет.
Майор натянул на голову капюшон. Изморось липла к коже.
– Вылетишь с работы, – продолжал Фифи, – как будешь платить алименты?
– Не будет никаких алиментов.
– Да ну?
– Наоко зарабатывает больше меня, и у нас будет совместная опека.
Панк покачал головой, снова глотнул из фляжки и испустил удовлетворенный вздох, словно напился на год вперед.
– Взять хотя бы эту историю с твоим домом, – продолжал он севшим голосом. – Выходит, ты и дальше собираешься жить с ней под одной крышей. Говоришь, вы все обдумали вместе. Небось, это Наоко так решила?
– Нет. С чего ты взял?
Лейтенант так сильно затянулся косяком, что в глазах у него заплясали красные отсветы.
– Не знаю… У нее всегда были чудные идеи.
– К чему ты клонишь? – Усевшись покрепче в седле, Оливье склонился к рулю мопеда.
– Японцы не такие, как мы. Это же не новость. Да ты и сам всегда говорил, что Наоко… особенная.
– Когда я такое говорил? – Пассан прикинулся удивленным. – Приведи хоть один пример.
– С ребятишками она чересчур сурова.
– Вовсе не чересчур. Просто строгая. И это для их же пользы.
Фифи снова отпил из фляжки и тут же затянулся. Казалось, в этом адском ритме он черпал вдохновение.
– Ты даже при родах не присутствовал! – выдал он, словно внезапно вспомнив о своем главном козыре.
К такому удару в спину Пассан оказался не готов.
– Она решила рожать на родине, – признал он через пару секунд, – чтобы у детей было японское гражданство. Я согласился с ее решением.
– Но поехала она туда без тебя. – Панк забил гвоздь поглубже.
Пассан нахмурился, жалея, что доверил Фифи эту тайну.
– Она хотела быть в кругу семьи, – пробормотал он. – Говорила, что роды – дело интимное, и она нуждается в поддержке матери. Да и куда бы я поехал, с моей-то работой…
Фифи не ответил, закурив очередной косяк. Того и гляди, начнет плеваться огнем. Слышен был только далекий шорох дождя на автомагистрали. Пассан представил, как сидит в засаде в фургоне, а Наоко хриплым, измученным голосом сообщает ему о рождении их первенца – больше чем в десяти тысячах километров отсюда.
– Это было ее решение, – повторил он. – И я его уважаю.
– Вот я и говорю, что она особенная. – Фифи раскинул руки, признавая очевидное.
Пассан одним махом соскочил с седла мопеда, сжимая в руке противозапорное устройство, и приблизился к панку. Тот инстинктивно отпрянул.
– Да вообще, что ты ко мне с этим лезешь? Между нами все кончено, и…
Его оборвал звонок мобильного. Он выхватил телефон:
– Алло?
– Что это за выходка с леденцами?
Наоко. С места в карьер, без единого доброго слова.
– Ты заходил домой этой ночью?
– Вовсе нет. Я…
– Не держи меня за дуру. Сейчас моя очередь. Тебе там делать нечего.
– Успокойся и скажи толком, что я такое сделал. – Ничего не понимающий Пассан попробовал добиться объяснений.
– А то, что ты ночью, как вор, пробрался в дом и положил леденцы детям в постель. Ты, уж не знаю зачем, корчишь из себя Деда Мороза, хотя мы обо всем договорились. Из-за тебя весь наш план полетел к черту. Я…
Пассан уже не слушал. Кто-то чужой проник к ним в дом. В спальню его сыновей. Это предупреждение? Угроза? Провокация?
Кто это?
– Это очень важно для детей. – Постепенно до его сознания дошел голос Наоко. – Как иначе они привыкнут к новому распорядку?
– Понимаю.
Послышался вздох. Прошло несколько секунд. Он уже собирался окликнуть ее, когда она продолжила:
– Ты должен заехать ко мне на работу.
– Когда?
– Сегодня.
– Зачем?
– Чтобы отдать мне свои ключи. Каждому по неделе, и одни ключи на двоих.
– Это просто смешно. Это…
– Приезжай до обеда.
Наоко отсоединилась. Пассан тупо смотрел на телефон. У него в голове никак не укладывалась мысль о том, что враг пробрался в их дом, проник к детям. Казалось, в животе у него проворачивают лом.
Под мокрым дождем Фифи насмешливо напевал «Мою любимую» Жюльена Клерка:
– «Когда ей холодно, известно только мне. Она глядит…»[11]
Он едва успел увернуться от противозапорного устройства, которым запустил в него Пассан.
21
Меньше чем через час Пассан входил в просторный холл башни, где располагалась фирма, в которой работала Наоко. Мраморный пол, ряд колонн, головокружительно высокий потолок. Каждый раз ему представлялось, что перед ним неф собора. Вместо витражей – огромные застекленные стены, в которых неотвязно сверкали другие стеклянные башни. Здесь располагалось святилище, храм бога Наживы.
Полицейский ускорил шаг. Ему казалось, будто его подошвы грохочут по мраморному полу. Компания Наоко занимала в здании два этажа. Ее аудиторская фирма славилась тем, что проверяла любые счета с хирургической точностью. По ее безошибочным отчетам ставились спасительные или убийственные диагнозы: тут все зависело от точки зрения. Ликвидация филиалов, сокращения или, наоборот, разработка еще более дерзких планов…
Сейчас все в этом пространстве из стали, стекла и гулкой пустоты представлялось ему ледяным и подавляющим. И прежде всего сама Наоко, которая ожидала его стоя, со скрещенными на груди руками, в квадрате между красными диванчиками, напоминавшими спасательные шлюпки в каменном океане.
Судя по всему, она была далеко не в лучшем настроении. В такие дни ее лицо превращалось в маску: овальное, гладкое, без малейшего изъяна, лишенное всякого выражения. Воплощенная холодность, под стать здешней обстановке.
Она окинула Пассана осуждающим взглядом: промокшего до нитки, помятого и небритого. Затем молча протянула открытую ладонь.
Пассан притворился, что не понимает. На Наоко было пастельного цвета платье, облегавшее стройное тело мягкими, ласкающими складками. Оно окутывало ее светящимся облаком, словно легкой завораживающей дымкой. Она стояла, упрямо наклонив голову, непреклонная, ожесточенная. Лоб у нее был белый и гладкий, будто фарфоровая чаша.
– Твои ключи, – бросила она тоном полицейского, приказывающего жулику вывернуть карманы.
– Что за бред, – сказал он, вынимая свою связку.
– Бред – это пытаться подкупить своих детей леденцами.
Оливье положил оба ключа на ладонь японки, сжавшуюся, словно когти хищника. У Наоко была одна особенность: при малейшем волнении ее бросало в дрожь. Пальцы ее тряслись, губы трепетали. Пассан всегда гадал, откуда взялась легенда о невозмутимости японцев. Он в жизни не встречал никого столь же страстного и чувствительного, как Наоко. Нервы у нее были натянуты, точно струны кото.
– Ты что, намерен добиваться опеки над детьми?
– Не болтай чепухи.
– Тогда что ты задумал?
– Ничего. Клянусь тебе, абсолютно ничего.
Между ними повисло молчание, в то время как высокий свод над холлом полнился гулом голосов. Шепот прихожан перед мессой.
– А в котором часу ты нашла леденцы? – рискнул он спросить.
– Утром, у них в постели. Я… – Наоко замолчала и вдруг смертельно побледнела. – Так это не ты?
– Нет, я. – Пассан опустил глаза.
– И напрасно.
– Я тоже хочу участвовать в их жизни, ты не понимаешь?
– Каждый по неделе, и точка. Если ты не будешь помогать им свыкнуться с новыми правилами, мы никогда ничего не добьемся.
Он не ответил. У Наоко была еще одна особенность, которая от стресса только усиливалась: она моргала намного быстрее, чем любая европейская женщина. Иногда это стремительное движение ресниц придавало ей живой и шаловливый вид. А иногда она из-за этого выглядела невероятно уязвимой – словно была напугана безжалостной реальностью, ослеплена жестокостью мира.
– О’кей, – сказал он, чтобы завершить разговор. – Вечером я тебе позвоню.
– Не утруждайся. – Наоко развернулась и направилась к лифтам.
22
Пассан мчался по кольцевому бульвару.
Подростком он вечно гонял на мопеде по этой бетонной короне вокруг Дефанс. У него на глазах квартал вознесся к небу, и это еще слабо сказано. Большая арка, башня «Электричество Франции», банк «Дексия», небоскребы «Экзальтис», «Сердце Дефанс»… Стеклянные шпили, сверкающие вершины, прозрачные блоки. Под стихийным натиском либерального капитализма они пробили асфальт, взломали земную кору. Тектонические толчки капиталов и инвестиций.
Эта дешевая социальная философия ничего не стоила перед лицом реальной угрозы. В его дом проникли. Вторглись в его жизненное пространство, осквернили кров жены и детей. Как такое могло случиться? Хотя чему тут удивляться? Несмотря на свой криминальный опыт, он ни за что не соглашался установить в доме усиленные замки, бронированные двери, тревожную сигнализацию. Всегда одерживали верх его предрассудки. «Избыток осторожности – источник всех невзгод». Или: «Всего остерегаться – накликать беду».
Дурацкие афоризмы, от которых Пассану никак не удавалось отделаться.
Его уравновешивала Наоко. Она отличалась болезненной тревожностью: трижды проверяла каждый замок, вечно оглядывалась через плечо, в толпе прижимала к себе сумку. Но и она не убедила его установить дома хоть сколько-нибудь серьезную защиту.
Каждый вечер она проверяла, заперты ли все замки. Если бы их взломали, она бы это заметила. Другой загадкой оставался Диего. Этот их домашний талисман не очень-то годился на роль охранника, но и он бы ни за что не впустил незнакомца в комнату Синдзи и Хироки, не залаяв.
Пассан прикинул психологический профиль ночного гостя: профессиональный взломщик, ночная птица… В голове пронеслись имена, даты, но их тотчас стерло одно-единственное: Патрик Гийар. В душе тут же сложилась уверенность – приходил Акушер. Это предупреждение: впредь Пассан не должен к нему приближаться. Иначе они столкнутся на другой территории.
Он добрался до улицы Труа-Фонтано. Ну нет, тут что-то не так. Гийар ни за что бы не пошел на подобный риск. Куда проще продолжать изображать жертву и прикрываться законом. Он уже прикинулся невинным мучеником, какой ему смысл менять линию защиты?
Надо составить список своих врагов. Тех, кого он недавно прижучил, но они пока не задержаны. Преступников, которых он засадил за решетку, уже вышедших на свободу. Тех, что еще сидят, но имеют сообщников на воле.
Когда Пассан въезжал на парковку, имя Гийара вновь заслонило все остальные. В эту минуту он осознал, что испытывает двойственное чувство. Становилось страшно при мысли, что хоть волос упадет с головы сыновей, и вместе с тем он ощущал смутное удовлетворение. Наконец-то волк показал зубы…
Он выключил зажигание и ужаснулся собственному безумию. Неужели полицейский в нем вытеснил отца? Несмотря на угрозу, нависшую над близкими, в нем разгорался боевой пыл. Гийар вот-вот совершит ту самую ошибку, которой Пассан так долго ждал.
Запирая машину, он вдруг понял, что оказался в ловушке. По-хорошему ему бы следовало обыскать дом, найти следы взлома, снять все отпечатки, опросить соседей… Но ничего этого он сделать не мог, не объяснив Наоко, что происходит, а об этом нечего и думать.
Он пошел к лифту. Так или иначе, незваный гость наверняка принял все меры предосторожности и не наследил. Сейчас только и остается, что быть настороже. Не спускать глаз с объявленной врагом цели – собственной семьи Пассана.
23
– Нужно, чтобы мой квартал патрулировали день и ночь. Машину для наблюдения перед моим домом. С Гийара не спускать глаз круглые сутки. На выезде из его тупика в сквере Шези – тоже машину для наблюдения. И перед каждым его автосалоном. Следить постоянно! Так, чтобы, если говнюк кашлянет, у меня вибрировал мобильный!
Пассан быстро шел по коридору, Фифи следовал за ним по пятам.
– У нас нет таких возможностей, Олив, сам знаешь.
– Сейчас позвоню судье.
– Ни к чему. За Гийаром уже следят.
– Кто? – Пассан остановился.
– Спецназ. Альбюи и Малансон.
Он знал обоих – бывалые ребята. Настоящие профи, из тех, кого скорее увидишь в кевларовом бронике и шлеме, чем в гражданском.
– Кто их привлек? Леви?
– Нет. Кальвини. – Фифи улыбнулся во все свои желтые зубы. – Он умнее, чем ты думаешь. И без твоих истерик допер, что за Гийаром нужен хвост.
– Этого мало, – сказал Оливье, покривив душой. – Я хочу, чтобы этим занялись наши ребята, сечешь?
– По мне, так это ты не сечешь. Теперь ты никому ничего не поручишь…
– Потому что дело уже не за мной? – Расхохотавшись, Пассан двинулся дальше. – И что с того? Оформим людей и оборудование для другого расследования. Да не мне тебя учить!
Оказавшись перед дверью своего кабинета, он подергал ручку. Заперто. Пассан торопливо вытащил связку и попытался вставить ключ в замок. Ничего не вышло. Приглядевшись, он понял, что замок сменили – на нем еще блестела смазка.
– Какого черта?
– Как раз об этом я тебе и толкую с самого твоего приезда. С сегодняшнего дня тебя перевели в третий отдел. В службу статистики.
– Какой еще статистики?
– Сортировать по категориям все правонарушения, следить за уровнем преступности, за развитием криминальной обстановки в Девяносто втором департаменте за последние полгода.
– Да с этим справится любой компьютер.
– Они рассчитывают на твой наметанный глаз.
– Да ведь я не из региональной судебной полиции!
– Официальный запрос. – Панк достал из кармана конверт. – Ты временно переводишься из уголовки. В виде исключения. Тебя командируют туда специально, чтобы составить служебную записку для министра внутренних дел. Можно сказать, идешь на повышение, – добавил он с сарказмом.
– А как же текучка?
– Ею займется Реза.
– Реза с набережной Орфевр, тридцать шесть?
– Мы возвращаемся туда.
– Без меня?
Фифи не ответил. После поражения еще и полный разгром. Оливье запустил пальцы в волосы, словно надеясь извлечь оттуда какую-то идею или объяснение. Но сумел процедить только:
– Твою мать…
– Кто бы спорил. Пока твое вчерашнее дельце не замнут, сиди тихо и не высовывайся. Заройся в цифры, и пусть о тебе забудут.
– А кто будет следить за моим домом?
– Пока ты можешь разве только подать жалобу в ближайший комиссариат. Хотя, если честно, из-за этой твоей истории с чупа-чупсами вряд ли кто-нибудь оторвет задницу от стула.
Стиснув челюсти, Пассан кивнул. Желчь жгла ему горло.
– Показать тебе твой новый кабинет?
Молча они пешком поднялись на четвертый этаж. Там все было в точности как у них: ковровые покрытие, светильники, кондиционированный воздух. Разве что стены и двери незастекленные. Ну, хоть вздремнуть или подрочить можно спокойно.
Напарник отпер кабинет номер 314, посторонился и вручил ему ключ. Пассан осмотрел свое новое жилище. По иронии судьбы солнце как раз пробилось сквозь тучи и осветило скорбную картину: комната от пола до потолка была забита папками, на полу, подпирая дверцы шкафов, громоздились скоросшиватели, стол был завален кипами пожелтевших от времени, пыльных, ветхих бумаг.
– На кой черт весь этот хлам?
– А это чтобы ты провел сравнительный анализ с прошлыми годами.
Пассан вошел в кабинет. Солнце высветило повисшую в воздухе пыль.
Фифи с усмешкой наблюдал с порога. Пассан было подумал, что тот над ним издевается, но тут напарник вытащил из кармана бумажку.
– Есть и хорошая новость.
– Что это?
– Сенсация дня.
Пассан схватил бумажку и прочел: «Николя Вернан». Он вопросительно взглянул на Фифи.
– Я тут утром пил кофе с корешем из ЦБТЛ[12]. Они готовят облаву. Хотят накрыть сеть педофилов, которых уже несколько месяцев выслеживали в Интернете.
– Этот парень в списке?
– За год он побывал почти на трех тысячах самых стремных педофильских сайтов. Его ник Садко.
– Ну и что?
– А то, что он работает в нантерской «Социальной помощи детству».
Пассан тут же понял. Связаться с этим типом и поторговаться. Посулить, что его имя исчезнет из списка в обмен на досье Патрика Гийара. Блеф, конечно. У него не было возможности предлагать подобную сделку, да и помогать педофилу он бы никогда не стал. Но кому это известно? Точно не этому мерзавцу.
– Когда их повяжут?
– В пятницу. У тебя есть время до конца недели, чтобы выманить у него досье. Офис «Социальной помощи детству» – в мэрии Нантера, меньше чем в километре отсюда, и…
– Знаю.
Он сунул записку с именем в карман и поблагодарил Фифи. Панк испарился. Пассан закрыл дверь и взялся за телефон.
Ну и дерьмо. Заключить сделку с педофилом, чтобы выманить у него досье предполагаемого убийцы. Сведения об этом чудовище считай что в кармане… Может, и хватит, чтобы заставить его признаться, предъявить обвинение – и арестовать.
Хорошие новости для легавого.
24
Солидарность госслужащих.
Именно эту карту Пассан разыграл с Николя Вернаном. Оливье позвонил ему в офис, представился и тут же все выложил: про слежку в Интернете, облаву в следующую пятницу и его имя в списке. Он готов спасти Вернана от самого страшного, помочь избежать ареста, не допустить скандала в госструктурах. Тот пытался отнекиваться, но Пассан назвал его «Садко» и добавил: «Только не по телефону». И назначил встречу в шесть часов вечера в «Крис-Бель» – знакомом ему пивном ресторане за пирамидальным зданием нантерской мэрии. Вернан даже не успел ответить – полицейский повесил трубку.
Остаток дня Пассан провел, не копаясь в статистике, а выясняя, кто из тех, кого он когда-то посадил, недавно вышел на свободу. Названивал по телефону, рылся в базах данных и Интернете, проверяя процессы, апелляции, запросы об условно-досрочном освобождении, местонахождении и алиби каждого из своих врагов. Расспрашивал коллег, осведомителей, старых знакомых, собирая сведения обо всех, кто мог затаить на него зло. После трех лет службы в Центральном комиссариате Десятого округа на улице Луи-Блан, четырех в спецназе и семи в уголовке таких набралось немало.
Но ничего определенного Пассан не нашел. Только надышался пыли и забил голову самыми отстойными воспоминаниями, но составить толкового списка подозреваемых так и не сумел.
В том, что касается охраны дома, ему удалось добиться одного: патруль от комиссариата на площади Мутье в Сюрене время от времени будет проезжать мимо. Лучше, чем ничего. Жалобу он не подавал, бумаг не подписывал, местные полицейские просто оказывали ему услугу из солидарности. Ни дети, ни Наоко домой пока не вернулись. А на вечер он кое-что придумал.
17:30. Сейчас он ехал к ресторану, где была назначена встреча, вверх по проспекту Жолио-Кюри в Нантере. Перед мэрией, здоровенной пирамидой в стиле майя, он припарковался на навесной стоянке и пошел вниз, к улице 8 Мая 1945 года. Он знал эти места как свои пять пальцев: именно здесь когда-то ходил, прогуливая занятия.
Однажды ему довелось вернуться сюда, когда он только начал работать в уголовке: 27 марта 2002 года Ришар Дюрн устроил в нантерской мэрии бойню, застрелив из пистолета восемь советников и ранив девятнадцать. Оказавшись на месте убийства, Пассан задал себе лишь один вопрос: не были ли они с безумным убийцей одноклассниками? Оба родились в 1968 году и протирали штаны в одних и тех же классах лицея Жолио-Кюри, напротив мэрии. И тогда он возблагодарил небеса за то, что сам не стал ни преступником, ни безумцем.
Бар «Крис-Бель» никуда не делся – что-то вроде пещеры из плексигласа под бетонным навесом. Помнится, это название получилось из имен хозяйских детей: Кристиана и Изабель. Пассан вошел в бар. И внутри ничего не изменилось: поддельное дерево, поддельная кожа, поддельный мрамор. Даже в мрачном освещении чувствовалось что-то искусственное, фальшивое.
Своего клиента, укрывшегося в отдельной кабинке, он узнал сразу. Долговязый, с вытянутой головой, тот очень прямо сидел перед своей кружкой пива. Как никто другой, Пассан знал, что не стоит судить людей по их внешности, но этот тип как нельзя лучше подходил на свою роль. В приглушенном свете бара из-под прядей сальных волос поблескивала бледная кожа. Сразу видно – извращенец.
Пассан бесцеремонно уселся перед ним за столик. Когда тот подпрыгнул, он убедился, что обратился по адресу. Вытащил из кармана сложенные пополам листки, выхваченные наугад из груды бумаг в кабинете.
– Знаешь, что это такое?
– Нет… нет.
– Список посетителей одного довольно грязного сайта.
– Я… не понимаю… – Вернан испуганно покосился на листки.
– Не понимаешь? – Наклонившись, Пассан продолжал доверительным тоном: – Твой ник в этом списке встречается больше тысячи раз. Есть даже доказательства, что ты заходил на этот поганый сайт из своего офиса. Тебе нужны даты и часы?
Белый как бумага подонок посерел от ужаса. Оставалось его добить.
– Да у вас в конторе бардак, как я погляжу.
Выпятив грудь, педофил попытался взять себя в руки и потянулся к бумагам. Пассан схватил его за запястье и резко вывернул, заставив Вернана взвыть от боли.
– Ну-ка убери лапы, мы еще не договорились.
Пассан отпустил руку Вернана, она тут же исчезла со стола. Слезы выступили у негодяя на глазах.
– Чего желаете, месье? – Рядом с Пассаном возник официант.
– Спасибо, ничего, – буркнул полицейский, не сводя глаз со своей жертвы.
– Сожалею, но у нас принято заказывать.
Подняв голову, он увидел сорокалетнего здоровяка со злобным лицом и сообразил, что это и есть Кристиан, сын хозяина.
– Ну а ты сам чего желаешь? – Пассан вытащил удостоверение.
Тот буквально растворился в воздухе. Вернан съежился на своем стуле. С каждой секундой он выглядел все более одиноким и напуганным. Он уже понял, что о служебной солидарности можно забыть.
– У таких гнид, как ты, есть два пути, – с холодной яростью заговорил Пассан. – Попроще и посложнее.
Его собеседник попытался сглотнуть; кадык задергался, но, похоже, ничего не вышло.
– Тот, что попроще: я прямо сейчас отведу тебя в тихий уголок и двумя бетонными плитами размозжу тебе яйца. Мой собственный вариант химической кастрации.
Вернан молчал. Пассан догадывался, что под столом тот медленно, едва не сдирая кожу, трет ладонь о ладонь.
– А… сложный путь? – выдохнул тот наконец.
– Правосудие пойдет своим ходом. С тем, что у нас на тебя есть, и с тем, что я добавлю, ты сядешь надолго.
– Вы…
– В тюряге с гадами вроде тебя обхождение особое. Это будет подольше, чем с бетонными плитами, да и побольнее, но уж поверь, в итоге выйдет то же самое. Будешь хранить свои яйца в банке, как евнухи в китайской империи.
– Вы… вы точно легавый?
– На свете полно легавых вроде меня, сраный урод. – Пассан ухмыльнулся. – И слава богу. Не то такие говнюки, как ты, гуляли бы на свободе и развлекались себе с малолетками.
– Чего… чего вам надо?
– Ручка найдется?
Чиновник протянул ему «Стайпен». Наверняка подумал, что Пассан собирается вогнать ее ему под ноготь или выколоть глаз.
– Дай руку.
Видимо, Вернан решил, что плохо придется ногтю, но Оливье всего лишь записал у него на ладони фамилию Гийара.
– Рожден анонимно семнадцатого июля семьдесят первого года в Сен-Дени. Завтра в полдень здесь же передашь мне его досье.
– Невозможно. Вся эта информация конфиденциальна. К тому же это и не в моем ведении.
– Вот что действительно невозможно, так это убрать твое хреново имя из списка. – Пассан потряс бумагами.
– Фамилия… – Вернан взглянул на свою ладонь, – очень распространенная.
– Семнадцатого июля семьдесят первого года. Сен-Дени. Найдешь. Я на тебя полагаюсь.
Пассан сунул бумаги в карман и плюнул извращенцу в пиво.
– Завтра в полдень, здесь же. И не вздумай меня подвести.
Выходя из ресторана, он чувствовал, что пиджак прилип к его мокрым от пота плечам. Не староват ли он для таких выходок? В то же время Пассан чувствовал, что неплохо справился с ролью злого полицейского, а в его профессии – это вроде страховки на будущее.
Седьмой час. Начинается второй раунд.
25
- It’s quarter to three, there’s no one in the place
- Except you and me…
- Make it one for my baby
- And one more for the road…[13]
Наоко скачала из Интернета испанский DVD, единственную доступную версию «The Sky’s the Limit»[14]. Малоизвестный фильм Фреда Астера 1943 года. Хотя ее мать была фанаткой Годара, Трюффо и Рене, Наоко любила лишь классический балет и чечетку. Пассан бы предпочел, чтобы ей нравились фильмы Мидзогути и театр кабуки. Другие думали, что она обожает японских идолов[15] и безумные представления буто. Но нет, вкусы у нее были скорее западные, причем старомодные. Ее восхищали классические балеты – «Жизель», «Коппелия», «Лебединое озеро». Она знала наизусть имена всех прима-балерин и хореографов. В юности в Токио сердце ее билось в такт па-де-де. В то время она часто мечтала об Грандопера и Большом – легендарных театрах, в которых поклялась себе побывать.
А больше всего она любила американские музыкальные комедии тридцатых-пятидесятых годов, но не позднее фильмов Стэнли Донена с Одри Хепберн, «Вестсайдской истории», «Звуков музыки»… Все, что было снято потом, ее не трогало.
Десять часов вечера. Она блаженствует. Дети уложены. Разомлев после сорокадвухградусной ванны, она нежится в тепле, словно в облаке покоя и довольства. Наконец-то…
Наоко расположилась в спальне, установив поверх стеганого красного одеяла деревянный поднос со спаржевым супом и обжаренным чаем. Не сводя глаз с экрана, она то лакала, как кошка, то отхлебывала душистую жидкость. К вечеру ее гнев утих, да и мысль, что ключи Пассана теперь у нее в кармане, успокаивала. Отныне он не сможет встревать в ее жизнь.
Внезапно она схватила пульт и остановила DVD. Ей послышался странный стук, выбивавшийся из ряда привычных звуков дома. Она тут же подумала о Диего – где он?
Наоко прислушалась: все стихло. Она представила себе нутро здания: канализационные трубы, электрическая проводка, вентиляция. Все эти системы архитектор скрыл в стенах дома, нигде ни выступа, ни кабеля. Наоко это не нравилось – словно бы дом жил собственной потаенной жизнью.
Она поднялась с постели и осторожно двинулась к двери. В коридоре ни звука. Наоко рискнула выйти. В темноте все выглядело застывшим. Не включая свет, она сделала несколько шагов. Всюду царила тишина. Ее босые ноги заледенели.
Первая мысль была о детях: они мирно спали в полумраке, усыпанном звездочками ночника. Когда она выключила лампу, в темноте ее тревога только усилилась. Что же все-таки она слышала? Удары? Шаги? Диего? Постороннее присутствие? Это не мог быть Пассан.
Она проверила в детской стенные шкафы и вернулась в коридор. И подавила крик. Перед ней, тяжело дыша, стоял Диего. Наоко расхохоталась. Она готова была его расцеловать. Пес казался совершенно спокойным. Она спустилась по лестнице, собака пошла за ней. Полы из крашеного бетона, раздвижные перегородки, почти никакой мебели: прямыми линиями, оголенностью дом напоминал традиционное японское жилище, но более тяжелое и основательное, не боящееся землетрясений.
Наоко пересекла гостиную, столовую. Все тихо. Она направилась в подвал – логово Пассана. Зажгла свет в коридоре и обошла все комнаты. Здесь ей было неуютно, словно бывший муж оставил после себя привкус горечи. Крадучись, она вернулась наверх и пошла на кухню, не в силах справиться с тревогой, несмотря на присутствие Диего.





