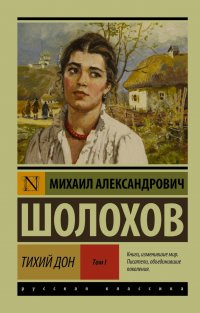Читать онлайн Донские рассказы (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Михаил Шолохов
© М. Шолохов, наследники, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Они сражались за Родину
Главы из романа
Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний ветер.
На дорогах отпотели скованные ночным заморозком лужи талой воды. С хрустом стал оседать в оврагах подмерзший за ночь последний, ноздреватый снег. Кренясь под ветром и низко пластаясь над землей, поплыли в черном небе гонимые на север черные паруса туч, и, опережая их медлительное и величавое движение, со свистом, с тугим звоном рассекая крыльями повлажневший воздух, наполняя его сдержанно радостным гомоном, устремились к местам вечных гнездовий заждавшиеся на полдороге тепла бесчисленные стаи уток, казарок, гусей.
Задолго до восхода солнца старший агроном Черноярской МТС Николай Стрельцов проснулся. Жалобно скрипели оконные ставни. В трубе тонко скулил ветер. Погромыхивал плохо прибитый лист железа на крыше.
Стрельцов долго лежал на спине, закинув руки за голову, бездумно глядя в сумеречную предрассветную синеву, вслушиваясь то в порывистые всплески ветра, бившегося о стену дома, то в ровное, по-детски тихое дыхание спавшей рядом жены.
Вскоре по крыше дробно застучали дождевые капли, ветер немного притих, и стало слышно, как по водосточному желобу с захлебывающимся бульканьем клокочет, журчит вода и мягко и тяжело падает на отсыревшую землю.
Сон не приходил. Стрельцов поднялся, тихо ступая босыми ногами по скрипящим половицам, прошел к столу, зажег лампу, присел выкурить папиросу. Из щелей между небрежно подогнанными половицами тянуло острым холодом. Стрельцов неловко поджал голенастые ноги, потом устроился поудобнее, прислушался: дождь шел не только не ослабевая, но все более усиливаясь.
«Хорошо-то как! Еще прибавится влаги», – довольно подумал Стрельцов и сейчас же решил поехать утром в поле, посмотреть озимые колхоза «Путь к коммунизму» да кстати заглянуть и на зябь.
Докурив папиросу, он оделся, обул короткие резиновые сапоги, накинул брезентовый плащ, но шапку никак не мог найти. Долго искал ее под вешалкой в полуосвещенной передней, за шкафом, под столом. В спальне, тихонько проходя мимо кровати, на минуту остановился. Ольга спала, повернувшись лицом к стене. По подушке беспорядочно разметались белокурые, с чуть приметной рыжинкой волосы. Ослепительно белое плечико ночной рубашки, почти касаясь коричневой круглой родинки, глубоко врезалось в полное смугловатое плечо.
«Не слышит ни дождя, ни ветра… Спит так, как будто совесть у нее чище чистого», – подумал Стрельцов, с любовью и ненавистью глядя на затененный профиль жены.
Он постоял еще немного возле кровати, закрыв глаза, с глухой болью на сердце воскрешая в памяти несвязные и, быть может, не самые яркие воспоминания о недавнем счастливом прошлом и всем существом своим чувствуя, как медленно и неудержимо покидает его тихая радость, навеянная вот этим предрассветным дождем, бурным ветром, ломающим зимний застой, преддверием трудной и сладостной работы на колхозных полях…
Без шапки Стрельцов вышел на крыльцо. Но не так, как в былые годы, воспринял он теперь свист утиных крыльев в аспидном небе, и уже не с прежней силой охотничьей страсти взволновал его стонущий и влекущий в неведомую даль переклик гусиных стай. Что-то было отравлено в его сознании за тот короткий миг, когда смотрел в родное и в то же время отчужденное лицо жены. Иначе выглядело сейчас все, что окружало Стрельцова. Иным казался ему и весь необъятный, весь безбрежный мир, проснувшийся к новым свершениям жизни…
Дождь все усиливался. Косой, мелкий, спорый, он по-летнему щедро поил землю. Подставив открытую голову дождю и ветру, Стрельцов жадно шевелил ноздрями в тщетной надежде уловить пресный запах оттаявшего чернозема – нахолодавшая земля была бездыханна. И даже первый после зимы дождь – бездушный и бесцветный в предутренних сумерках – был лишен того еле приметного аромата, который так присущ весенним дождям. По крайней мере, так казалось Стрельцову.
Он накинул на голову капюшон плаща, пошел к конюшне, чтобы подложить коню сена. Воронок зачуял хозяина еще издали, тихо заржал, нетерпеливо перебирая задними ногами, гулко стуча подковами по деревянному настилу пола.
В конюшне было тепло и сухо. Пахло далеким летом, степным улежавшимся сеном, конским потом. Стрельцов зажег фонарь, положил в ясли сена, сбросил с головы капюшон.
Коню было скучно одному в темной конюшне. Он нехотя понюхал сено, всхрапнул и потянулся к хозяину, осторожно прихватывая шелковистыми губами кожу на его щеке, но, наткнувшись нежным храпом на жесткую щетину хозяйских усиков, недовольно фыркнул, жарко дохнул в лицо пережеванным сеном и, балуясь, стал жевать рукав плаща. Будучи в добром духе, Стрельцов всегда разговаривал с конем и охотно принимал его ласки. Но сейчас не то было у него настроение. Он грубо оттолкнул коня и пошел к выходу.
Еще не убедившись окончательно в дурном расположении хозяина, Воронок игриво повернулся, загородил крупом проход из станка. Неожиданно для самого себя Стрельцов с силой ударил кулаком по конской спине, хрипло крикнул:
– Разыгрался, черт бы тебя!..
Воронок вздрогнул всем телом, попятился, часто переступая ногами, пугливо прижался боком к стенке. Чувство стыда за свою неоправданную несдержанность шевельнулось в душе Стрельцова. Он снял висевший на гвозде фонарь, но не погасил его, а зачем-то поставил на пол, присел на лежавшее возле двери седло, закурил. Спустя немного сказал тихо:
– Ну извини, брат, мало ли чего не бывает в жизни…
Воронок круто изогнул шею, вывернул фиолетово поблескивающее глазное яблоко, посмотрел на понуро сидящего хозяина, потом стал лениво пережевывать хрупающее на зубах сено.
Грустно пахло на конюшне увядшими степными травами, по-осеннему шепелявил, падая на камышовую крышу, частый дождь, брезжил мутный, серый рассвет… Стрельцов долго сидел, уронив голову, тяжело опираясь локтями о колени. Ему не хотелось идти в дом, где спит жена, не хотелось видеть ее рассыпанные по подушке белокурые, слегка подвитые волосы и эту страшно знакомую круглую родинку на смуглом плече. Здесь, на конюшне, ему было, пожалуй, лучше, покойнее…
Он распахнул дверь, когда почти совсем уже рассвело. Грязные клочья тумана висели над обнаженными тополями. В мутно-сизой мгле тонули постройки МТС и еле видневшийся вдали хутор. Зябко вздрагивали под ветром опаленные морозами, беспомощно тонкие веточки белой акации. И вдруг в предрассветной тишине, исполненное нездешней печали, долетело из вышней, заоблачной синевы и коснулось земли журавлиное курлыканье.
У Стрельцова больно защемило сердце. Он проворно встал и долго, напрягая слух, прислушивался к замирающим голосам журавлиной стаи, потом глухо, как во сне, застонал и проговорил:
– Нет, больше не могу! Надо с Ольгой выяснить до конца… Больше не могу я! Нет моих сил больше!
Так безрадостно начался первый по-настоящему весенний день у раздавленного горем и ревностью Николая Стрельцова. А в этот же день, поутру, когда взошло солнце, на суглинистом пригорке, неподалеку от дома, где жил Стрельцов, выбилось из земли первое перышко первой травинки. Острое бледно-зеленое жальце ее пронизало сопревшую ткань невесть откуда занесенного осенью кленового листа и тотчас поникло под непомерной тяжестью свалившейся на него дождевой капли. Но вскоре южный ветер прошелся низом, влажным прахом рассыпался отживший свое кленовый лист, дрогнув, скатилась на землю капля, и тотчас, вся затрепетав, поднялась, выпрямилась травинка – одинокая, жалкая, неприметная на огромной земле, но упорно и жадно тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу.
Около скирды соломы, где почва еще не отошла от морозов, трактор «ЧТЗ» круто развернулся и, выбрасывая траками левой гусеницы ледяную стружку, перемешанную с жидкой грязью и соломой, ходко пошел к загону. Но в самом начале загона резко осел назад и, с каждым рывком все глубже погружаясь в черную засасывающую жижу, стал. Синий дым окутал корпус трактора, витым полотнищем разостлался по бурой стерне. Мотор заработал на малых оборотах и заглох.
Тракторист шел к вагончику тракторной бригады, с трудом вытаскивая ноги из грязи, на ходу вытирая руки паклей, вполголоса бранясь.
– Я говорил тебе, Иван Степанович, что сегодня начинать не надо, – вот и засадили трактор. Черт его теперь вызволит! Будут копаться до вечера, – раздраженно говорил Стрельцов, пощипывая черные усики, с нескрываемой досадой глядя на красное, налитое лицо директора МТС.
Директор только крякнул от огорчения, но ничего не ответил. Уже подходя к вагончику, он сбоку добродушно покосился на Стрельцова, сказал:
– А ты не расстраивайся. Нечего расстраиваться по пустякам. Не утопнет твой трактор, и никакого лешего с ним не сделается! К вечеру вытянут его ребята, а через денек опять будем пробовать. Спыток не убыток. Когда-нибудь надо же начинать или будем пыли дожидаться? Ты на озимых был?
– Был дней пять назад.
– Ну как?
– Ничего, перезимовали. Внизу, около Голого Лога, частица замокла.
– Много?
– Нет, чепуха, так поменьше двух гектаров, но подсевать придется. Сейчас опять проеду туда, посмотрю. А через день пробовать пахать ты и не думай, Иван Степанович! Знаю, ты человек упрямый, но от этого качества почва скорее не просыхает. Я на твоем месте перебросил бы два гусеничных в колхоз «Заря». Сам знаешь, почва там серопесчаная, пахать смело можно.
Директор испуганно замахал руками:
– А перегон? А пережог горючего? Об этом ты мне лучше не говори! Шутка дело, из-за каких-то двух дней гнать тракторы за двенадцать километров! Да меня за это на бюро райкома живьем скушают! Скажут, что не сумел вовремя расставить силы, недоучел, да мало ли чего еще там не наговорят на мою голову! Нет, о переброске я и слушать не хочу.
– Значит, по-твоему, пусть лучше тут тракторы простаивают?
Директор поморщился и молча махнул рукой, показывая, что считает разговор оконченным. Он вовсе не желал слушать новые доводы Стрельцова и ускорил шаг, но Стрельцов поравнялся с ним, спросил:
– Что же ты отмалчиваешься? Молчание не аргумент в твою пользу.
– Все сказано, и давай в бригаде без диспутов.
– Хорошо. Перенесем диспут, как ты говоришь, в другое место.
– Это куда же, например?
– Ну, хотя бы в райком.
Добродушие редко покидало сангвинического директора. И на этот раз он гулко захохотал, хлопнул мясистой ладонью по плечу Стрельцова:
– Ох, и горяч ты, агроном Микола! А на горячих знаешь куда ездят? То-то и оно! Попробуй стукни в райком, так тебе же первому там холку намылят, да еще я нажалуюсь, что ты подменяешь меня и вмешиваешься в мои административные функции. Каково?
Неисчерпаемое добродушие покладистого Ивана Степановича всегда разоружало вспыльчивого Стрельцова. Не принимая шутки, но уже значительно мягче, он сказал:
– Я не вмешиваюсь, а советую… – Но директор прервал его:
– Главное дело – не волнуйся. При твоей тощей комплекции для тебя волноваться вредно.
Однако, увидев, что Стрельцов нахмурился, он оставил шутливый тон и заговорил по-деловому:
– Черт его знает, может быть, ты и прав. Я подумаю, потолкую с бригадиром, и если уж так, если на то дело пошло, то в ночь перекинем трактора в «Зарю». Там, безусловно, можно приступать к пахоте. Но мне-то думалось, что Романенко там сам управится. Надо ему звякнуть, узнать, приступил он к пахоте или все еще раскачивается. – И, обращаясь к подошедшему трактористу, укоризненно закачал головой: – Ах, Федор, Федор! Как же это ты, милок, ухитрился засадить трактор! А еще тоже в танкистах служил, был отличником боевой подготовки…
Тракторист Федор Белявин неспроста был прозван друзьями «Жуком Чернявиным»: сапоги, черные ватные брюки и такая же теплушка на широких плечах, черный треух с черным кожаным верхом, вороная челка, лихо свисающая из-под треуха, и смуглое лицо в неотмываемой копоти и мазуте – все оправдывало прочно прилипшую к нему кличку.
Насмешливо щурясь, сверкая синими белками глаз и белыми до синевы зубами, он ответил:
– По твоей милости засадил, Иван Степанович! Говорили тебе все мы – и бригадир, и агроном, и все трактористы, – что не пойдет трактор, так разве тебя переспоришь? В одну душу – пробуй, и все. А теперь вот и любуйся на него да помогай выручать. Силенки у тебя хватит. Ты сам с виду, как «ЧТЗ». Откормился за зиму неплохо!
– Заплакал! – невозмутимо и слегка пренебрежительно сказал директор. – Вот уж ты и слезу пустил, а девчата считают тебя героем. Напрасно считают, так я думаю… Пойдем-ка глянем, как ты его загнал.
Они вдвоем направились к трактору. Туда же шел и бригадир еще с двумя трактористами. Стрельцов нехотя зашагал к вагончику, у которого был привязан Воронок. Ему не хотелось уезжать из бригады, где было свободней дышать, – на людях и в работе он легче переносил свалившееся на него горе, но посмотреть на озимые в окрестных колхозах было необходимо, и он медленно шагал по примятой, жухлой траве, глядя себе под ноги и тщетно стараясь отогнать вновь вернувшиеся мысли о жене, об ее отношениях с учителем Овражним, обо всем том, что последнее время лежало у него на сердце, как постыдная и горькая тяжесть, ни днем, ни ночью не шло с ума и мешало по-настоящему жить и работать.
– Оставайтесь завтракать с нами, товарищ Стрельцов! Такой кулеш сготовила, какого вам в жизни не доводилось кушать! – крикнула бригадная стряпуха Марфа, когда понурый, сгорбленный Стрельцов проходил мимо полевой кухоньки, сложенной неподалеку от вагончика заботливыми руками какого-то тракториста – умельца по печному делу.
Стрельцов благодарно кивнул ей головой, нехотя улыбнулся:
– Налей, что ли, Марфуша, а то до вечера домой не попаду.
Он присел на нижнюю ступеньку вагончика, принял из рук стряпухи горячую миску с кашей и только тут вспомнил, что не ел со вчерашнего утра. Но, отхлебнув несколько ложек вкусной, слегка попахивающей дымком жидкой каши, поставил на землю миску и – в который уже раз за это утро – снова достал из старенького кожаного портсигара помятую папироску…
* * *
Был уже на исходе май, а в семье Стрельцовых все оставалось по-прежнему. Что-то непоправимо нарушилось в совместной жизни Ольги и Николая. Произошел как бы невидимый надлом в их отношениях, и постепенно они, эти отношения, приняли такие тяжкие, угнетающие формы, о которых супруги Стрельцовы еще полгода назад никак не могли бы даже и помыслить. День ото дня исчезала былая близость, надежно связывавшая их прежде, ушла в прошлое милая интимность вечерних супружеских разговоров, и уже ни у одного из них не возникало желания поделиться своими тревогами и заботами, неприятностями и маленькими радостями по работе. Зато чаще, чем когда-либо, иногда даже по пустяковому поводу, вдруг вспыхивали ссоры и разгорались жарко, как сухой валежник на ветру, а когда наступало короткое примирение, оно не приносило облегчения и успокоенности. Недолгое затишье походило скорее на перемирие двух враждующих сторон и не снимало ни настороженности, ни скрытой, возникавшей откуда-то из потаенных глубин взаимной неприязни.
Еле ощутимый поначалу холодок в их отношениях все больше крепчал, становился пугающе привычным. Он входил в жизнь, превращался в неотъемлемую часть ее, и с этим уже ничего нельзя было поделать. У Николая иногда возникало такое, чисто физическое, ощущение, будто он длительное время живет в нетопленой комнате, постоянно испытывая непреходящее желание побыть на солнце, погреться…
Глядя на себя как бы со стороны, он замечал, что стал и на работе и дома несдержан, чрезмерно раздражителен; все чаще в общении с людьми овладевало им чувство нетерпимости, ничем не оправданной вспыльчивости. А ведь прежде таким он не был… Впрочем, подобные изменения наблюдал он и в характере Ольги. Все это способствовало возникновению случайных пререканий, неизбежно переходивших в ссоры.
С болью, с тоскливым выжиданием Николай чувствовал, как с каждым днем Ольга отдаляется от него, уходит все дальше, а он уже не в силах ни ласково окликнуть ее, ни вернуть. И вот это сознание собственного бессилия, невозможность что-либо изменить, томительное ожидание надвигающейся развязки и делало жизнь под одной крышей и непомерно тяжелой и постылой.
Еще с весны Ольга под предлогом наступающих экзаменов проводила все свободное послеобеденное время то в школе, то у подруг-учительниц. Ребенку она почти не уделяла внимания, целиком передав его на попечение бабушки. Николаю незачем было искать предлогов, чтобы возможно реже бывать дома: весновспашка, очистка семян, сев яровых, а затем пропашных культур, забота о паpа́x, прополка хлебов – все это полностью поглощало его время. По утрам он со смешанным чувством облегчения и горечи покидал дом, возвращался только ночью, когда Ольга, проверив тетради, уже спала, и это обстоятельство в какой-то мере помогало уменьшению стычек. Однако, избегая друг друга, внутренне опасаясь оставаться наедине, они оттягивали решающий разговор и тем самым усугубляли взаимные мучения и неустроенность в семье.
Разрыв, как видно, в равной мере страшил и Ольгу и Николая, и хотя неотвратимость его была ясна для них – никто не хотел первым брать на себя инициативу.
Как ни странно, но теща Николая с самого начала семейного конфликта стала на сторону зятя. Несколько раз Николай, почему-либо возвращаясь домой в неурочное время, еще издали, со двора слышал отголоски бурных сцен между Ольгой и Серафимой Петровной. Но как только он брался в сенях за дверную ручку – в доме все мгновенно смолкало. Теща, поджав губы, проходила мимо Николая, величественная и неприступная в своем материнском негодовании, а Ольга с заплаканными глазами старалась поскорее исчезнуть из дома и после долго отсутствовала, появлялась только в сумерках, чтобы не так заметно было ее опухшее и подурневшее от слез лицо.
А тут еще маленький Коля. Ребенок с прозорливостью взрослого сразу заметил наступивший между отцом и матерью разлад, но, не будучи в состоянии понять его причины, потянулся к бабушке, в ее комнатке, расположенной рядом с кухней, учил уроки, там же и спал, решительно переселившись из своей комнаты под предлогом того, что ночью один боится. Николай не раз во время обеда или завтрака ловил его короткие вопрошающие взгляды, а как-то ответить на них не было возможности. Не того возраста был маленький пытливый человечек…
Ольга встречалась с Юрием Овражним не только в школе. Николай догадывался об этом, но заставить себя следить за женой не мог, не мог ни при каких условиях. Это было выше его сил. И тогда, когда она задерживалась допоздна в школе или у подруг, – он не выходил со двора, молча сидел в темноте на крылечке, курил, ждал. За калиткой звучали стремительные шаги Ольги. Он сумел бы различить их среди тысячи женских шагов, он знал на память эту летучую, быструю поступь. И всегда, заслышав знакомый перестук каблучков, испытывал легкое удушье и словно бы замедленное биение сердца. Ольга молча проходила мимо, опахнув его запахом свежего платья, теплой вечерней пыли, а он слегка отодвигал в сторону голенастые ноги, пропускал ее и шел следом на кухню. Там они молча ужинали, изредка перебрасываясь незначащими фразами, расходились спать. Утром все начиналось снова.
За всю весну Николай встретился с Овражним только раз – случайно, на улице. Он ехал верхом на Воронке в поле, Овражний шел ему навстречу к лавке сельпо. На улице стояли лужи, ветерок гнал по ним мелкую ребристую рябь. Вода в лужах нестерпимо блестела под солнцем, нагретый воздух был щедро напитан пресным запахом талого снега, влажного чернозема. Конь разбивал копытами воду, с всплеском летели по сторонам брызги, радужно вспыхивая на солнце; смачно чавкала и выворачивалась из-под конских бабок мазутно-черными комками грязь. Вразнобой голосили петухи, где-то в ближнем дворе истомно кудахтала курица, и, пробуя силы, пел в сизой дымчатой синеве косо снижавшийся на сырую землю выгона первый жаворонок. Такая умиротворенная благодать стояла над Сухим Логом, что Николай забыл обо всем на свете, покачиваясь в седле в такт лошадиному шагу, опустив поводья, всем существом своим бездумно радуясь и прохладному ветерку, и солнцу, ненадолго скрывавшемуся за облаками, похожими на прозрачные хлопья тумана, и несмелым певческим пробам жаворонка.
А тут, увидев невдалеке осторожно пробиравшегося возле плетня, оскользавшегося по грязи Овражнего, вдруг мгновенно почувствовал жестокую спазму подступившего к горлу удушья. Мир стал странно немотным, начисто лишился звуков. Николай видел только приближавшегося Овражнего. Видел всего с головы до ног: красивое, смугло-румяное, круглое лицо с черной полоской усов, смоляную челку, выбившуюся из-под примятого поля серой мягкой шляпы, нарядный, красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накинутый на широкие ладные плечи; видел разъезжавшиеся по грязи ноги в черных стареньких брюках и заляпанных грязью коротких резиновых сапогах. Таким Юрий Овражний и сохранился в памяти Стрельцова на всю жизнь, как мгновенно выхваченный из кадра цветного фильма. А в тот момент Николай неотрывно и жадно всматривался в лицо человека, разрушившего его жизнь, ставшего смертным врагом. Поравнявшись, Овражний весело блеснул зубами:
– Доброе утро, Николай Семенович! Ну и грязищу развезло! А еще называется это божье место Сухой Лог.
Николай хотел ответить на приветствие, но в горле у него как-то тихо и хрипло забулькало. Он сделал судорожное глотательное движение, однако так и не смог ничего сказать. А когда поднимал к козырьку правую руку, то плеть повисла на ней, будто пудовая гиря…
Проехав шагов десять, Николай оперся левой рукой о подушку седла, оглянулся. Овражний смотрел на него, придерживаясь за колышек плетня, и на резко очерченных губах его бродила неясная улыбка.
До поворота в переулок Николай ехал шагом и снова слышал и довольное пофыркивание Воронка и неустанно воспевавшего весну жаворонка. Мир снова обрел звуки, запахи, живое дыхание… За поворотом Николай пустил Воронка крупной рысью, от хутора перевел его в намет и придержал только километра через полтора, в степи. И всадник и конь, остановившись, разом тяжело вздохнули.
«А ведь я мог его убить. Всего несколько минут назад. Вот так спешился бы, подошел вплотную, протянул руку и вместо рукопожатия схватил за горло. А через мгновение он уже лежал бы в грязи подо мною. И кто бы его отнял у меня? Кто вырвал из моих рук? На улице – никого. Пока спохватились бы люди… Я сильнее, намного сильнее его. Левой рукой прижал бы правую руку к земле, и все, конец! А потом?..»
Не в меру услужливая память тотчас же на короткое мгновение подсказала, как он лет двенадцать назад, еще будучи в институте, на вечеринке у однокурсницы едва не задушил оскорбившего его товарища. Тогда он разжал руки уже в беспамятстве, только после того, как сзади нанесли ему сильнейший удар по голове увесистой табуреткой… И вновь встало перед глазами красивое лицо Овражнего, его неуверенная, блуждающая улыбка…
Николай ощутил легкую тошноту, стянул с головы фуражку. Руки его стали влажными от пота.
С той поры он старательно избегал встреч с Овражним. Не надо было искушать судьбу. Нельзя было играть чужой и своей жизнью…
А неопределенность в семье словно бы прижилась и пустила корни. И только в первых числах июня невеселую эту жизнь встряхнула неожиданно полученная из Кисловодска телеграмма от старшего брата Николая. Ее вручили Стрельцову в конторе МТС утром. «Второго поездом двадцать два вагон семь буду станции встречай обнимаю Александр».
Не в силах сдержать радостной улыбки, Стрельцов несколько торопливее, чем обычно, вошел в кабинет директора, тихонько положил на стол телеграмму.
– Жду гостя, Иван Степаныч!
Из-под очков в металлической оправе директор удивленно взглянул на Николая.
– Неужели братец едет?
– Он самый.
– Так ведь у него же путевка вроде до половины июня?
Все так же улыбаясь, Николай развел руками:
– Похоже, что не выдержал режима, удрал до срока. Там в новину не очень-то приятно; а он, насколько я помню, на курорте впервые. Он всегда предпочитал вольный отдых, охоту, рыбалку.
Директор еще раз прочитал телеграмму, сунул очки в грудной карман старенького парусинового пиджака, удовлетворенно сказал:
– Ну, что же, молодец твой брат, Микола. Он правильно рассудил. У нас он и отдохнет лучше, и сердце тишиной подлечит. На нашем степном полынном воздухе, я так разумею, не только сердце, но и всякую другую хворость с успехом можно лечить. Где-то я читал, что даже граф Толстой к башкирам ездил, воздухом лечился и кумыс пил. Ну насчет кумыса это еще как сказать… Пил я его в Гражданскую войну у калмыков и так определил: решительно от него никакой пользы русскому человеку не может быть! Одна отрыжка в нос и в животе бурчание, а пользы ни на грош! Пил я из любопытства и парное кобылье молоко. Ты никогда не пробовал, Микола? Нет? И не пробуй. Голубенькая водичка, чуть сладит, пены много, а пользы от него или сытости тоже ничего не заметил, да и заметить невозможно, потому что ее нет. – Помолчал немного и для вящей убедительности добавил: – Конечно, одним воздухом, даже нашим, не прокормишься, но у нас вдобавок к воздуху не паршивый кумыс, а природное коровье молоко, неснятое, пятипроцентной жирности, яйца тепленькие, прямо из-под курицы, а не какие-нибудь подсохлые, плюс сало в четверть толщины, ну разные там вареники со сметаной, молодая баранина и прочее, да тут никакое сердце не выдержит и постепенно придет в норму. А если к этому добавить добрый борщ да по чарке перед обедом, то жить твоему братцу у нас до ста лет и перед смертью не икать! Правильное решение он принял – ехать к нам! Исключительно правильное!
Столько детски-наивной, простодушной убежденности было в словах пышущего здоровьем степняка, что Николай, уже откровенно посмеиваясь, сказал:
– Я тоже так думаю, Степаныч, а как насчет машины?
– Какой может быть разговор, бери ее утром и кати на станцию встречать.
– Тебе-то самому она не понадобится?
– Я и на лошадях съезжу в случае чего, а ты бери машину. Братец-то генерал, да еще пострадавший, неудобно кое-как встречать. Скажи шоферу, пусть готовится, и езжай пораньше. Вези аккуратней, не растряси по нашим кочковатым дорогам, человек-то больной.
– Спасибо, Степаныч!
– Еще чего недоставало. С радостью тебя, Микола!
– Еще раз спасибо. Радость действительно для меня большая. Девять лет не виделись.
Директор встал из-за стола.
– Я – в мастерскую, а у тебя какие планы?
– Надо предупредить своих, приготовиться к встрече. Разреши сегодня побыть дома.
– Само собой. Может, чем-нибудь помочь?
– Благодарю, все есть, управлюсь сам.
Потоптавшись около стола, директор подошел к Николаю вплотную, спросил почему-то шепотом:
– Он сколько просидел, Микола?
– Без малого четыре с половиной года.
Иван Степанович горестно сморщился. Потом решительно прошагал к двери, закрыл ее на ключ, жестом пригласил Стрельцова садиться, а сам так тяжело опустился на древнее, дореволюционного изделия креслице, что оно не заскрипело, а жалобно взвыло под ним. После недолгого молчания спросил:
– Как думаешь, почему брата освободили?
Стрельцов молча пожал плечами. Вопрос застал его врасплох.
– Ну все-таки, как ты соображаешь?
– Наверное, установили в конце концов, что осудили напрасно, вот и освободили.
– Ты так думаешь?
– А как же иначе думать, Степаныч?
– А я так своим простым умом прикидываю: у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться.
– Ну, знаешь ли… Что же, он с закрытыми глазами страной правит?
– Похоже на то. Не все время, а с тридцать седьмого года.
– Степаныч! Побойся ты бога! Что мы с тобою видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин пять лет жил слепой и вдруг прозрел?
– Бывает и такое в жизни…
– Я в чудеса не верю.
– Я тоже в них не верю, но как-то надо нам объяснить этот случай с твоим братом? Раскусил же товарищ Сталин Ежова? А почем ты знаешь, может, он и Берию начинает помаленьку разгрызать?
– Пойдем, я провожу тебя до мастерской. Не люблю по-твоему разговаривать: то ты шепчешь, то переходишь на крик… Давай по пути в мастерскую кончим наш разговор.
– Плохой из меня конспиратор?
– Ни к черту! Нервный ты очень.
Директор, кряхтя, держась за поясницу, с трудом поднялся. К двери он шел, слегка прихрамывая, негодующе бормоча:
– Наука гласит, что радикулит от простуды. Чепуха, а не наука! Тоже мне медики! Я вот как разволнуюсь, так он, этот треклятый радикулит, сразу в поясницу возле крестца вступает. Хоть стой, хоть падай. У меня на медицину свой взгляд, и пусть они мне голову не морочат. У меня все это имущество еще с Гражданской войны развинтилось…
Они молча прошагали безлюдным коридором, через черный ход вышли на пустынный хозяйственный двор. По просторному двору, огороженному посеревшим штакетником, по раздавленной гусеницами тракторов присохшей траве потерянно бродил ветер. Он все время менял направление: то тихо веял с запада, то заходил с юга и тогда становился почему-то напористее, сильнее. С утра было прохладно. По блекло-синему небу одна-одинешенька плыла своим путем белая, как кипень, тучка. Из широко распахнутых ворот мастерской доносился шумок токарного станка. В кузнице стоял певучий перезвон молотков, поддержанный астматическим дыханием меха, и тут же, за штакетником, в густой заросли дикой конопли, словно подлаживаясь к звону молотков, яростно, неустанно бил перепел.
Посреди двора, возле колодца, Иван Степанович остановился. Они, не сговариваясь, присели на низкий колодезный сруб.
– Думаю, – сказал Иван Степанович, – что твой братец поначалу будет людей избегать, но это у него пройдет, утрясется.
– Александр – общительный парень. Во всяком случае, был таким, – раздумчиво проговорил Стрельцов.
– В том-то и дело, «был». А вот каким стал? И это увидим. Все дело в том – одного ли его выпустили? Уж он-то наверняка знает. Вот почему, Микола, приезд твоего брата и для меня праздник. Может, следом за ним и другие, кто зазря страдает, на волю выйдут, а? Что ты на этот счет думаешь, Микола?
– Я бы хотел знать, а не строить догадки…
– Вот именно, знать. Не может же быть, чтобы одного его выпустили.
– А почему бы и нет? Возможно, и одного. Степаныч, подождем приезда Александра. Ничего мы с тобой не знаем, и нечего нам впустую гадать.
Иван Степанович по-женски всплеснул куцыми сильными руками.
– Как это нечего? Да у меня, пока я твоего братца дождусь, голова от думок треснет! У меня вот уже сию минуту начинают нервы расшатываться и радикулит стреляет в поясницу. Еще не известно, как я с этого сруба встану, может, на карачках придется до мастерской ползти… Ты, как только отдохнет брат, сразу разузнавай у него, что и как. Он в Москве был, он должен знать, что там, в верхах, думают. Походи возле него на цыпочках, осторожненько, с подходцем, а все как есть разузнай и выведай.
Стрельцов просительно сказал:
– Не сразу. Дай ему отдышаться. Понимаешь, Степаныч, ему больно будет обо всем этом говорить. Тут нужен такт, осторожность нужна…
– Ну, брат, ты меня убил с ходу! «Такт, осторожность, ему больно будет»… А мне и другим не больно правды не знать? Братец ты мой, Микола!
– Все это понятно!
– Ничего тебе не понятно! Ты меня весной как-то на собрании принародно попрекнул, что вот, мол, Иван Степанович трусоват, он, мол, робкого десятка, и пережога горючего боится, и начальства побаивается, и всего-то он опасается… Может, ты и прав: трусоват стал за последние годы. А в восемнадцатом году не трусил принимать бой с белыми, имея в магазинной коробке винта одну-единственную обойму патронов! Не робел на деникинских добровольческих офицеров в атаку ходить. Ничего не боялся в тех святых для сердца годах! А теперь пережога горючего боюсь, этого лодыря Ваньку-слесаря праведно обматить боюсь, перед начальством трепетаю… Пугливый стал! Но это одесская шпана сделала смешными наши слова: «За что боролись!» Я знаю, за что я боролся! Встречусь я с твоим братом, так я с ним не о природе и не о наших задачах по сельскому хозяйству буду говорить. Никаких тактов мне не надо, будь они трижды прокляты, мне надо знать, что в Москве происходит, что там, в верхах, думают и чем дышат. Неужели в войну с фашистами влезем, а до этого в своем доме порядка не наведем? Но ты сам оглядись возле братана, а мне потом подскажешь. Тебе, конечно, с родственного бугра виднее.
Иван Степанович со сдержанным рычанием поднялся, долго тер кулаком поясницу, на прощание сказал:
– Разволновался я с тобой окончательно, раскачал нервишки, а теперь этот треклятый радикулит меня прижмет по всем правилам военного искусства. Ехать надо в колхоз имени Берия, а как я поеду? Стыдно, но придется у жены какую-нибудь завалящую подушку просить, под сахарницу подкладывать, иначе не усижу на дрожках. – И тяжело вздохнул: – А ведь воякой был, да еще каким лихим, голыми руками меня не бери, обожгешься! Господи боже мой, и на что этот колхоз именем Берия назвали? Ну, кому это нужно и какой тихий дурень это название придумал? Главное, для чего? Нервы расшатывать тем, кто ни за что ни про что в его хозяйство попадал? И колхоз хороший, и люди там добрые трудяги, и едешь туда, и от одного названия тебя мутить начинает хуже чем с похмелья… Мастера мы всякие крендели выкручивать, ох, мастера, язви его в печенку! Ну, я пошел, Микола! Жду от тебя весточки.
* * *
Николай Стрельцов приехал на станцию за час до прихода поезда. Было около девяти утра. Недавно прошел легкий дождь, и на путях пахло не так, как обычно: не только дымом от паровозных топок, мазутом и размытым угольным шлаком, но и каким-то домашним, земным запахом прибитой дождем пыли, смоченной травы, а от сложенных возле красного пакгауза огромных штабелей свежих досок так головокружительно нанесло вдруг сосной, смолистым духом подпаренной древесины, что Николаю на миг почудилось, будто идет он по сосновому бору в знойный полдень, а шипение маневрового паровоза зазвучало, как шум вековых мачтовых сосен. Николай на минуту остановился и даже глаза закрыл, с наслаждением вдыхая запах сосны, тихо улыбаясь далекому детству, неотвязным воспоминаниям. Ведь как-никак, а родился он и до восьми лет прожил на лесном кордоне в далекой Вологодской губернии. И вот оказывается, что даже четверть века, долгие годы жизни на степных просторах юга России не могли выветрить цепкой привязанности к аромату леса, к бодрящему и милому запаху сосны… «Странно устроен человек», – подумал Николай, взбираясь на платформу и еще раз оглядываясь на бледно-золотые штабеля досок по ту сторону путей. Сейчас на них светило выглянувшее из-за туч солнце, и верхние, потемневшие от непогоды, шероховатые доски курились легким паром, источая устойчивый, далеко расплывающийся запах смолья, уютный запах будущих хозяйственных построек, оседлой жизни.
Накануне вечером Николай, постучавшись, зашел к Ольге в спальню. Она убирала волосы перед сном, стояла спиной к двери. Николай как-то сразу увидел ее слегка похудевшую шею, резко затененные трогательные впадины возле крохотных ушей. Тщетно стараясь подавить непрошеное чувство жалости, он очень тихо сказал:
– Я хочу просить тебя, Ольга, об одном: приедет Александр, и ты сделай все, чтобы он не заметил… не заметил, что между нами…
Она стремительно повернулась к нему лицом. Страдальческая улыбка тронула ее губы. Снизу вверх она испуганно взглянула на Николая, прошептала:
– Я постараюсь, Коля, вот как только ты… сумеешь ли ты сдержаться?
Николай кивнул головой, вышел, тихо притворил за собой дверь.
А теперь он ходил по безлюдной платформе, курил, вспоминал вчерашний разговор с женой, ее вымученную, жалкую улыбку и, стискивая зубы, чувствовал, как сердце его разрывается от жалости к прежней Ольге, от огромной человеческой боли.
С тяжким, давящим грохотом прошел товарный состав, влекомый паровозом «ФД». На платформе долго еще стоял маслянистый жар, оставленный мощным телом паровоза. Потом показался скорый.
На этой маленькой станции сошло всего лишь несколько пассажиров.
Николай торопливо шел от конца платформы. Возле седьмого вагона стоял человек среднего роста, с широкими прямыми плечами. Он высоко поднял над головой темную фетровую шляпу. Худое, бледное лицо его морщинилось улыбкой, и, как кусочки первого ноябрьского льда, сияли из-под белесых бровей ярко-синие, выпуклые влажные глаза.
Николай шел размашистым шагом, а потом не выдержал и побежал, как мальчишка, широко раскинув для объятия руки.
* * *
С приездом гостя за каких-нибудь два дня круто изменилась жизнь в семье Стрельцовых. Ольга заметно оживилась, повеселела, почти не выходила из дому, с прежним рвением помогая Серафиме Петровне в стряпне и других хозяйственных хлопотах. Даже к маленькому Коле вернулась временно утраченная детскость: два дня он не отходил от дяди Саши, неотступно сопровождая его в прогулках по Сухому Логу, по вечерам не ложился спать до тех пор, пока не выслушивал очередной, приспособленный к его восприятию рассказ бывалого дяди Саши о Гражданской войне, слушал, не сводя зачарованных глаз с лица рассказчика, а потом долго лежал в кровати, с широко раскрытыми глазами и счастливой мечтательной улыбкой. На вторую ночь перед сном он забрался в кровать к Серафиме Петровне, жарко зашептал ей на ухо:
– Бабуля, дядя Саша, между прочим, говорил сегодня, что полководец Жлоба был рябой. Разве настоящий полководец может быть рябой?
От природы смешливая, всегда готовая улыбнуться веселому, Серафима Петровна затряслась от сдерживаемого смеха.
– Ох, Коленька! Ну, почему же не может? Рябыми все могут быть, никому не заказано.
– А я думал, что рябые только разбойники бывают, – разочарованно протянул Коля и побрел к своей кроватке, осмысливая новое для него открытие в жизни.
Через минуту он обиженно проговорил:
– И нечего смеяться, и не трясись, пожалуйста, под своим одеялом. Ты койку трясешь, а я уснуть не могу. Ты вздорная женщина!
– О господи! Это еще откуда ты взял? – задыхаясь, спросила Серафима Петровна.
– Мы вчера шли с дядей Сашей в мастерскую, а какая-то женщина ругала соседку неприличными словами. Дядя Саша мне сказал: «Не слушай ее, она вздорная женщина». Вот и ты такая же вздорная.
– Но ведь я же не ругаюсь, Коленька?
– Зато смеешься ночью, когда никто не смеется, и заснуть мне не даешь. Вздорная ты, бабуля! – И уже полусонным голосом продолжал, медленно и вяло выговаривая слова: – А рябые – все разбойники, я точно знаю. Вот дядя Василий, плотник, ты знаешь, он тоже рябой. Я у него спросил, когда он в школе забор чинил: «Дядя Вася, вы, когда были молодым, вы были разбойником?» Он говорит: «Еще каким! Особенно по женской части». Я у него спросил: «Это как «по женской части»?» А он говорит: «Женские монастыри грабил, монашек разорял». И больше ничего не сказал, только усы разглаживал и смеялся глазами, потом набрал в рот гвоздей и совсем перестал со мной разговаривать, начал доски прибивать. За два раза гвоздь по самую шляпку забивал, вот как! Он хотя и был разбойником, но хороший дядька. Он всегда глазами смеется и никогда не ругается, как ты говоришь, черным словом. Он один раз при мне очень сильно прибил палец молотком и только сказал: «Ах, мать твою бог любит!» Бабуля, это приличное ругательство или неприличное? Ты слышишь, бабуля, или ты спишь?
Серафима Петровна, не отвечая, молча уткнулась лицом в подушку, а когда вволю насмеялась, мальчик уже тихо посапывал во сне.
Событием огромной важности для него стала поездка на автомашине в районный центр, куда дядя Саша ездил, чтобы стать на партийный учет в райкоме партии. Там, в райцентре, они на равных закусывали в столовой, причем если дядя и шофер выпили только по одной рюмке водки, то на долю маленького Коли пришлась целая бутылка лимонада, напитка, о котором в Сухом Логу никогда и слыхом не слыхали.
Из поездки они вернулись закадычными друзьями. Мальчишеская любовь и привязанность были без особых стараний надежно завоеваны добродушным и веселым дядей. И когда за ужином Коля сказал: «Я думаю, дядя Саша, переселиться от бабушки к тебе. Ты все-таки мужчина, мне с тобой, пожалуй, будет удобнее спать», – Ольга вспыхнула, в ужасе воскликнула: «Коля! Да как же ты смеешь обращаться к дяде на «ты»? Сейчас же извинись, негодный мальчишка!» Но Александр Михайлович немедленно пришел на выручку своему другу: «Что вы, Олечка, мы перешли с ним на «ты» по обоюдному согласию. Нам в постоянном общении так проще».
Ничего не скажешь, умел старый солдат – общительный и простой – подобрать ключик к каждому сердцу: Ольгу он покорил вежливой предупредительностью, немудреными комплиментами и плохо скрытым восхищением ее красотой. Она отлично видела, как он втайне любуется ею, и тихонько гордилась и даже немного кокетничала с ним, так, самую малость, в пределах родственных отношений. Серафима Петровна, сраженная простотою и офицерской услужливостью гостя, была прямо-таки потрясена, когда он обнаружил в передней под вешалкой ее разорванную туфлю и так искусно зашил, что впору бы и самому хорошему мастеру обувного цеха. Для этого маленький Коля раздобыл у соседа-сапожника шило и тонкую дратву, а починку они произвели, скрываясь ото всех на конюшне. Николай только улыбался про себя, глядя на то, как брат преуспевает и с диковинной быстротой становится в доме своим человеком.
– Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству? – спросил он, разглядывая тещину туфлю.
– В лагере, – коротко ответил Александр. – В Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без добра, браток! Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях…
В комнату вошла Серафима Петровна, и разговор прервался.
* * *
В субботу рано утром Александр Михайлович и маленький Коля ушли на речку с удочками. Через два часа они вернулись, торжествующие, гордые успехом, потребовали у Серафимы Петровны большую эмалированную чашку и молча, с истинно рыбацким достоинством высыпали из садка груду живых, трепещущих пескарей.
– Любезная Серафима Петровна! Здесь этих милых рыбок ровным счетом шестьдесят три штуки. Если их почистить, зажарить на сковороде на коровьем топленом масле, чтобы они прожарились до хруста, а затем залить их десятком яиц – то лучшего завтрака не придумаешь! Это мечта всех порядочных рыболовов! – сказал Александр Михайлович.
В конце завтрака, когда маленький Коля незаметно улизнул из-за стола, Александр Михайлович долго смотрел на Серафиму Петровну смеющимися глазами, постукивал по столу пальцами, озорно улыбался.
– Чему это вы, Александр Михайлович, посмеиваетесь? – невольно краснея, спросила Серафима Петровна.
– Я не посмеиваюсь, а просто счастливо и, может быть, немножко глупо улыбаюсь, глядя на вас. И думаю: до чего же вы смолоду были, очевидно, победительной женщиной! На вас и сейчас-то не налюбуешься, а что же было лет двадцать назад? Мужчины, наверное, падали навзничь?
– Смолоду и вы, Александр Михайлович, были, наверное, хват-парень…
– Не пришлось, матушка, побыть хватом, не успел, война все скушала!
– Так уж и все?
– Вчистую! Помилуйте, двадцати лет пошел в царскую армию, четыре года мировой войны, потом – Гражданская война, потом всякие банды и бандочки, потом женился. Когда же мне было проявлять свою прыть? Вот вы – другое дело. Вы рано овдовели…
– Двадцати одного года.
– В двадцать один год – и вольная казачка!
– Хороша вольная! А двое малых детей на руках осталось, это как? Какая уж там вольная! Скорее подневольная.
– В каком году вы овдовели?
– В восемнадцатом.
– Боже мой, как же я вас не встретил в те баснословные года? А ведь я с полком проходил через ваш Мариуполь.
– Значит, не судьба, – притворно вздохнула Серафима Петровна. И молодо рассмеялась. – А если бы и встретили, что толку?
Александр Михайлович в наигранном удивлении поднял белесые брови:
– Как это что толку? Встретил бы и покорил.
– Так уж и покорили бы?
– Как бог свят! Накинул бы на вас бурку, сказал «моя!» – и баста!
– Самонадеянностью вас бог не обидел, а ведь я тогда проворная была, так бы из-под вашей бурки и выскользнула!
– Извините, Серафима Петровна, не так бы я ее накинул, чтобы вы соизволили выскользнуть. Ведь тогда я был огонь-парень. Это теперь головешкой от костра стал… Представьте на минутку двадцатичетырехлетнего командира полка: сапоги с маленькими офицерскими шпорами, с малиновым звоном, красные суконные галифе, кожаная куртка, слева – шашка с серебряным темляком, справа, наперекрест, – «маузер» на ремне, в деревянной колодке, папаха слегка заломлена, в глазах – синий пламень… Блеск! Неотразимость! И никакой пощады прекрасному полу! Пройдешься по улице этаким чертом в кавалерийскую развалочку, и встречные барышни – глазки долу, из боязни опалить их, и только нежные вздохи несутся тебе вослед… А некоторые того….
– Что это означает «того»? – Серафима Петровна, облокотившись о стол, смотрела на собеседника мокрыми от смеха глазами, полные румяные губы ее дрожали в неудержимой улыбке.
– То есть как это что означает? Полуобморочное состояние, вот что! А в отдельных, особенно тяжелых, случаях шок, ни больше и ни меньше. Мы в то время шутить не умели, дорогая Серафима Петровна! Я вот и теперь иногда встречаю женщин моего возраста и моложе с невыплаканной печалью во взоре и невольно думаю: «Вот и еще одна жертва Гражданской войны и собственной неосторожности. В молодости посмотрела пристально, чересчур пристально на такого молодца, каким, скажем, был я, и, пожалуйста, готова – сердце разбито навеки и вдребезги!» Все это даром для вашего брата – женщин не проходит, нет, не проходит. Так как же вы смогли бы уцелеть, если бы встретились тогда со мною?!
– Хотя я и неверующая, но думаю, что не иначе святая Варвара – покровительница слабых женщин – уберегла меня. Не встретилась же, вот и уцелела!
– И зачем этой Варваре нужно было путаться в наши дела? Кто ее просил? Ох, уж эти мне женщины, хотя бы и святые! Из-за нее, оказывается, все и пропало!
Александр Михайлович сжал лысеющую голову обеими руками, стал горестно раскачиваться, восклицая в нарочитом отчаянии:
– Все погибло, и Варвара всему виной! Никакая она не святая, а типичная разрушительница чужого счастья и к тому же завистница! Боже, как мелки в своих чувствах женщины, даже святые!
– Александр Михайлович, миленький, перестаньте! Я больше не могу! – задыхаясь от смеха, плачущим голосом просила Серафима Петровна.
Ольга, тихо улыбаясь, вслушивалась в игривый разговор расходившихся стариков, а Николай тем временем в коридоре приглушенно говорил в телефонную трубку:
– …молчит… Пока ничего не было. Степаныч… Я тоже так думаю. Ну, подожди. Немедленно расскажу. Ну, будь здоров.
Женщины ушли управляться по хозяйству, а братья все еще сидели за столом, пили крепчайшей заварки чай, по-старинному, вприкуску, обливаясь потом, вели неторопливый разговор.
В распахнутые окна дул теплый ветер. Он парусил, качал тюлевые занавеси, нес в комнату оставшийся еще с ночи тонкий смешанный запах петуний, медуницы и ночной фиалки, росших под окном, и грубоватую горечь разомлевшей под солнцем полыни со степного выгона, подступившего к самому двору. Где-то под потолком на одной ноте басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни.
Александр Михайлович, перед тем как встать из-за стола, долго и молча смотрел на Николая затуманившимися глазами, потом тихо проговорил:
– Смотрю на тебя, Коля, и диву даюсь: до чего же ты похож на маму! Та же улыбка, та же манера поводить плечами и вздергивать голову, когда тебе противоречат, тот же рисунок бровей, глаза… Только вот глаза у тебя изменились, погрустнели как-то твои черные – мамины – глаза… Взрослеешь, что ли?
– Пора. Расколол уже четвертый десяток и не заметил как… Совсем не заметил, Саша! Годы – все мимо, как во сне!
Николай отвернулся к окну и – то ли от мягкого, задушевного тона, каким были сказаны слова старшего брата, то ли от внезапно резнувшего сердце воспоминания о покойной матери – вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, нестерпимую жалость к себе. И оттого ли, что действительно уже ушла за далекий степной горизонт, потонула в голубой дымке молодость, оттого ли, что непоправимо рушилась семейная жизнь, – это короткое, как ожог, чувство боли было так остро, что Николай ощутил на глазах жаркие слезы и, устыдившись их, устыдившись своей детской чувствительности, бодро сказал, все же не поворачивая от окна головы:
– Хватит о невеселом! В такое утро о грустном не говорят. А ты знаешь, как раз накануне твоего приезда была девятая годовщина маминой смерти… Ну, и хватит!
Заметив его волнение, спохватился и Александр Михайлович:
– А и правда, братик, не ко времени затеял я этот разговор. Но ведь, черт их дери, эти воспоминания, они приходят, не считаясь с твоим настроением, в любое время суток, как зубная боль. Что же ты не сказал насчет годовщины, когда я приехал? Ну, понимаю, хватит. Слушай, Коля, а не закатиться ли нам сегодня на серьезную рыбалку? Что-то пескари меня вздразнили. Ты говорил, что где-то километрах в десяти есть глубокий омут. Может, туда махнем с ночевкой? Нам бы хоть десятка два окуней наловить и ушицы сварить на берегу… Как ты на это смотришь, Коля?
– А я так смотрю: до двенадцати – сборы, затем запрягаю в дрожки Воронка – и айда.
– Это мне нравится! Чем я могу тебе помочь?
– Единственно тем, что не будешь мешать мне собираться.
– Это мне еще больше нравится. Не забудь, подкинь мне какие-нибудь свои старенькие штаны. Не в костюме же ехать на рыбалку.
– Будет исполнено. Да! Разыщи Николашку, и наройте с ним навозных червей. Он знает, где их добыть. И, пожалуйста, не потакай ему во всем, его с собой не возьмем, ночью комары его там заедят.
– Коля, червей мы нароем и парня отговорим от поездки, но зачем отправляться в самую жарищу?
– Ухи хочешь? Ну, так надо ехать пораньше, чтобы сварить рыбу засветло и не возиться с ней в потемках.
– Резонно. Едем, невзирая на жару. Ради ухи из окуней согласен на любую жертву. Нам их и надо всего лишь десяток изловить. Неужто не осилим эту задачу? Пообещай мне тарелку хорошей ухи, и я пешком уйду!
К двум часам пополудни они были уже у реки. Николай выпряг и стреножил Воронка, уложил в кошму все рыбацкое имущество, предложил:
– Пойдем, посмотришь на плес. Называется он Пахомова яма. Старик Пахом когда-то, при царе Горохе, утонул тут, в память этого события и яму назвали его именем. Плес тебе понравится, уверен.
Увязая по щиколотку в сыпучем песке, с трудом продираясь сквозь заросли кустов белотала-перестарка, они спустились по пологому откосу к неширокой песчаной косе.
Перед ними лежала, словно в огромной, врезанной в землю раковине, зеркальная водная гладь метров шестидесяти шириной. Противоположный берег плеса был обрывист, крут, по верху его вплотную к самому обрыву подступал старый, не тронутый ни порубкой, ни прочисткой смешанный лес: невысокие, но кряжистые, в два-три обхвата дубы, карагачи, вязы вперемежку с дикими яблонями, вербы, тополя и осины, – все это буйное смешение лиственных деревьев с густейшим подлеском зубчатой грядой тянулось вверх и вниз по течению реки, а вдали, на границе с холмистой степью, высоко взметнув вершины, ловя верховый ветер, величаво высились осокори и ясени с могучими, похожими на мраморные колонны бледно-зелеными стволами.
Прямо напротив спуска к реке лес разделялся широкой прогалиной. Посредине одиноко красовался древний вяз с такой раскидистою кроной, что в тени ее свободно разместилась отара – голов в триста – овец. Угнетенные послеполуденным зноем, овцы, разделившись на несколько гуртов, теснились вкруговую, головами внутрь, изредка переступая задними ногами, глухо пофыркивая. Даже на этой стороне был ощутим резкий запах овечьего тырла.
Неподалеку от вяза на солнцепеке, опершись обеими руками на костыль, недвижно стоял седобородый пастух – старик, с головою, повязанной выгоревшей красной тряпицей, в грязных холщовых портах, в длинной, до колен, низко подпоясанной рубахе.
Что-то древнее, библейское было в этой живописной картине: вяз патриаршего возраста, старик пастух с овцами, не тронутый человеческою рукою первобытный лес и дремучая тишина, изредка прерываемая посвистом иволги да воркованием горлинки, – все это как бы сошло с полотна старинного художника и воплотилось в жизнь, озвученную и неповторимо красочную.
Взглянув на Николая блестящими глазами, Александр Михайлович прошептал:
– Коля, да ведь это – как в сказке! Черт возьми, никогда не думал увидеть такое…
– Хорошее место, – просто сказал Николай. – Давай сносить к воде пожитки, рыбалить и ночевать будем на той стороне.
– А где же лодка?
– Затоплена, сейчас пригоню ее. Не разувайся, песок очень горячий, не выдержишь.
– Да что ты, брат, по такому девственному песку, где нога человечья еще не ступала, и в обуви? Не могу, это – кощунство!
Он присел на песок, проворно стащил полуботинки, носки, с наслаждением пошевелил пальцами. Потом, после некоторого колебания, снял штаны. Иссиня-бледные, дряблые икры у него были покрыты неровными темными пятнами. Заметив взгляд Николая, Александр Михайлович сощурился:
– Думаешь, картечью посечены? Нет, тут без героики. Эту красоту заработал на лесозаготовках. Простудил ноги, обувка-то в лагерях та самая… Пошли нарывы. Чуть не подох. Да не от болячек, а от недоедания. Давно известно, «кто не работает, тот не ест», вернее, тому уменьшают пайку, и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества! А нарывы, как думаешь, чем вылечил? Втирал табачную золу. Более действенного лекарства там не имелось. Ну, и обошлось, только до колен стал как леопард, а выше – ничего от хищника, скорее наоборот: полный вегетарианец. Надеюсь, временно…
Опираясь обеими ладонями на песок, слегка откинувшись назад, Александр Михайлович смотрел на Николая снизу вверх, улыбался. И так не вязалась его простодушно детская улыбка с грубоватым юмором, что Николай только головой покачал.
– До чего же неистребим ты, Александр! Я бы так не мог…
– Порода такая и натура русская. Притом – старый солдат. Кровь из носа, а смейся! Впрочем, Коля-Николай, и ты бы смог! Нужда бы заставила. Говорят же, что не от великого веселья, а от нужды пляшет карась на горячей сковороде… Ну, нечего дорогое время терять, пошли, а то и на уху не наловим. Нет, это невозможно! Такой плес, и чтобы без ухи остались? Пошли. Хоть мелочишки бы наскрести на ушицу, хоть на самую скудную! Нам пяток окуньков, и хватит. Я, братец, десять лет настоящей ухи не хлебал.
– На добрую уху ты один должен наловить.
– А ты где же будешь? В свидетелях?
– Мне надо заготовить дровишек на ночь, стан оборудовать, словом, я – по хозяйственной части, а ты – обеспечиваешь рыбой. У тебя три часа времени, уху надо сварить засветло, так что все от твоего старания зависит…
– Коля, один я не смогу, – умоляюще проговорил Александр Михайлович. – Ради бога, давай вдвоем ловить, иначе останемся на одном чаю. Я не могу ручаться за успех, а ты опытный рыбак. Нет, только вдвоем! И потом, мы не можем так безрассудно рисковать. Я видел, как Серафима Петровна положила в корзинку хлеб, картошку, укроп, лук репчатый и зеленый, даже пол-литра водки она, добрая душа, выдала нам. Не хватает для ухи сущего пустяка – рыбы, и вдруг ты все подвергаешь ненужному, глупому риску. Я же один ни черта не поймаю!
Николай был непреклонен:
– Хочешь ухи – добывай рыбу. У меня без этого забот хватит. Надо еще к завтрашней заре ракушек-перловиц ведро натаскать.
– А это для чего?
– Для сазанов.
– Коля, это – эфемерная штука, сазаны. Их может не быть, а без ухи мы быть не можем. На кой черт нам журавль в небе, если нужна синица, а она почти в руках.
– Вот и бери ее, эту синицу. И вообще не хнычь. Генерал, а хнычешь. Должен наловить – значит, лови. Рыбы тут, как в садке, а ты ноешь. Переедем на ту сторону, и я поймаю тебе штук десять верховочек. Режь каждую на три части, окунь охотнее берется на головку и хвостик. Целиком рыбку не насаживай, приманишь щуку, и – прощай, крючок! Глубина там с лодки – четыре маховых, то есть шесть метров. Неподалеку, чуть подальше заброса, – карша, огромный вяз. Он весь под водой. Пристанище окуней. Забрасывать будешь так: излишек лесы – удилище-то трехметровое – соберешь в левую руку кругами, правой – от себя, снизу вверх бросок, и леса несет насадку на всю длину. Грузило, ты увидишь, небольшая картечина, сигарообразная форма придана ему для того, чтобы не блюкало при забросе.
– Это наставление надолго? – нетерпеливо спросил Александр Михайлович.
Но Николай, не обращая внимания на вопрос, продолжал:
– Да к тому же легкое грузило не увлечет за собой леску. Клев определишь по кончику удилища. Поплавков не положено, будут мешать при закидывании. Вот тебе перочинный нож резать верховку, он же пригодится в случае заглота наживки. Ну а теперь – за дело. Что касается наставления – извини, но без него ты и леску не сумеешь забросить. Знаю я этих городских рыбаков-дилетантов!
На той стороне плеса Николай вырыл веслом в песке углубление под обрывом, вытащил нос лодки так, что корма низко осела, сказал:
– Ни жучка тебе, ни чешуйки! Подложи вот этот брезентовый плащ на корму, чтобы удилища не стучали, когда будешь класть их. Подержи предварительно в воде минут пять, чтобы замокли. Гибь у них появится отличная! Позднее я приду тебя проведать. Садок привяжешь к гвоздю. Он вбит справа по борту.
Два раза леса в руках Александра Михайловича при закидывании завязывалась замысловатыми узлами. Шепотом чертыхаясь, он подолгу возился с распутыванием, наконец, на третий раз, леса вытянулась, тихо чмокнуло удлиненное грузило, гибкий кончик березового удилища согнулся и выпрямился – грузило легло на дно.
Жара не спадала. Из-под полей старенькой соломенной шляпы по лбу и шее Александра Михайловича беспрерывно катился пот. Капельки его щекотали раковины ушей, холодили под рубашкой спину, но упрямый рыбак только головой встряхивал, а правой руки с комля удилища не снимал.
Не было ни малейшего дуновения ветерка. Редкие тучки еле двигались в накаленной бледной синеве небес. Зеленоватая вода казалась густой, как подсолнечное масло, лишь медленно проплывавшие по ее поверхности соринки указывали на слабенькое течение. Пряно пахло нагретыми водорослями, тиной, прибрежной сыростью.
Вторую удочку Александр Михайлович разматывать не стал, чтобы не рассеивалось внимание. Клева не было. Уже третью папиросу выкурил рыбак, уже несколько раз отчаяние сменялось у него надеждой, а надежда снова покорялась отчаянием. Кончик удилища был так мертво недвижим, что зеленые и желтые стрекозы безбоязненно присаживались на него отдохнуть. Глухая тишина не нарушалась, а как бы подчеркивалась монотонным напевом удода, далеким и горестным голосом кукушки. Время шло, и сладостная дрема стала одолевать Александра Михайловича. Он уже хотел было махнуть рукой на ловлю, растянуться на носу лодки и уснуть, но тут кончик удилища резко качнулся, а затем, судорожно содрогаясь, зарылся в воду. Александр Михайлович вскочил так порывисто, что едва не зачерпнул в лодку воды. На конце лесы тугими толчками рвалась в глубину крупная рыба. Легкое удилище согнулось вдвое. Кое-как дотянувшись до лесы рукой, Александр Михайлович бросил удилище в лодку и уже пальцами и всей рукой остро почувствовал бурное сопротивление добычи. Крупный, около килограмма весом, окунь показал широченный полосатый бок, ушел под лодку. С усилием подтягивая лесу, донельзя взволнованный, счастливый рыбак все же вырвал его из воды. Окунь забился на влажном днище, гулко зашлепал хвостом. Осторожно придавив к спине воинственно поднятый спинной плавник, крепко стиснув возле головы еще хранящее холодок глубинных вод тело красивой, упругой рыбы, Александр Михайлович вынул из ее пасти крючок, бережно опустил окуня в плетенный из хвороста круглый садок и только тогда увидел, как мелко дрожат руки. Вытирая ладони о парусиновые штаны, дивясь своему волнению, он долго улыбался, не спешил забросить удочку, курил и все искоса поглядывал на садок, в сумеречной зеленой тьме которого кругами ходил окунь, изгибая литую толстую спину.
«Еще бы пяток таких красавцев, и уха обеспечена! Да какая уха!» – с восторгом думал Александр Михайлович, снова наживляя и забрасывая удочку.
Минут через пять кончик удилища мелко задрожал, чуть наклонился к воде. После подсечки окунишка величиной с карандашный огрызок покорно пошел к лодке. Александр Михайлович только крякнул, разочарованно глядя на жалкую поживу. Он хотел было выпустить окунька, но пришла на ум поговорка: «Ловим не на вес, а на счет» – и окунек тоже очутился в садке.
Стало прохладнее, солнце закрыла продолговатая туча. Потянул ветерок, и клев участился. Еще один крупный, на килограмм с лишним, окунь долго ходил в темной загадочной глубине, брал лесу на растяжку, упорно, сильно давил книзу, и Александр Михайлович, шепча немыслимые ругательства, все тянулся левой рукой и никак не мог захватить лесу. Окунь сорвался уже в лодке и так высоко подпрыгнул, что едва не очутился за бортом. И снова Александр Михайлович ощутил непривычную дрожь в руках и щемящее радостное волнение.
Время остановилось. Слезящимися глазами он следил за кончиком удилища. Очень хотелось курить, но некогда было достать из кармана папиросы. Шел средний окунь. Брал уверенно и жадно. После того как сорвался первый, крупный, судя по сопротивлению, – сходы пошли один за другим. Четвертый окунь сошел с крючка, чуть не приткнувшись к борту лодки. Секунду ошалело стоял у самой поверхности воды, потом сверкнул зеленой молнией, растворился в глубине.
– Нет, без подсачка ловить – мальчишество! – вслух хрипло сказал Александр Михайлович и с досадой плюнул на то место, где только что стоял окунь.
После двухчасового воздержания с наслаждением закурил, распрямил спину. Сзади неслышно подошел к обрыву Николай, долго смотрел на брата, тихо посмеиваясь.
– Ты в этом соломенном брыле, Саша, удивительно похож на старого деда-бахчевника. И сидишь-то по-стариковски, горбишься, будто тебе все восемьдесят лет.
– Что же, я и на рыбалке должен соблюдать строевую выправку? Ты почему не спросишь, сколько я поймал? Я превзошел самого себя, если хочешь знать! Я недооценил свои способности! Изволь, любуйся.
Николай, тормозя каблуками, скатился с глинистого обрыва, ступил в лодку. В вытащенном из воды садке с влажным шуршанием затрепыхались окуни.
– На очень изрядную уху, – явно желая польстить брату, сказал он. – Сколько счетом? О, да тут два отличнейших горбача!
– Двадцать три хвоста! И несколько штук сорвалось. Почему у тебя нет подсачка для такой рыбы? Это же вопиющее безобразие! Леса длинная, приходится брать ее в руку, и сходы – один за другим.
– Я такую рыбу не ловлю, я с такой мелочью не связываюсь, а крупный черпак для сазанов есть. Не жадничай, Саша, хватит и этого улова. Сматывай удочку, и пошли варить уху. Говорил же тебе, что здесь рыбы, как в садке.
Александр Михайлович с хрустом потянулся, сказал:
– Ты не поверишь, Николай, какое наслаждение я испытал за сегодняшний день. Давно я так не радовался и не волновался! Знаешь, просидел четыре часа, не разгибаясь, а время прошло с начала клева, как четыре минуты. На какие-то часы я вернулся в детство, и какое это блаженство, если бы ты знал! Ни одной мыслишки в голове, ни проблеска воспоминаний… Ты не представляешь, как ты меня порадовал этой поездкой. Иди сюда, я тебя обниму, свирепый ты мой чеченец!
На закате солнца они плотно поужинали рыбой и превосходной ухой. Под разварного окуня Александр Михайлович выпил рюмку водки. От второй решительно отказался.
– Брат, ты меня не приневоливай. Раньше я мог много выпить и быть не очень хмельным, а теперь не то… Да у меня и без водки так хорошо на душе! Давай лучше поговорим. Надо же мне рассказать тебе мою одиссею. Налей мне чашку чаю, покрепче.
От воды потянуло сыростью. Заметно похолодало. На западе, за приречными вербами погорела заря. Синяя тьма надвигалась с востока. Лишь одинокое облачко в зените, подсвеченное снизу солнцем, сияло таким нежнейшим опаловым светом, что Николаю почему-то до боли грустно было на него смотреть.
В кустах несмело защелкал соловей. Александр Михайлович сидел возле потухшего костра, помешивал прутиком золу, искал уголек прикурить от живого огня. На минуту прислушался к затянувшемуся соловьиному щелканью, сказал:
– Молодой, не распелся еще, не выучился как следует. – Помолчал, почмокал губами, раскуривая отсыревшую папиросу. – Вот так и вы, молодые, во всяком случае – некоторые из вас, еще не приобретете жизненного опыта, а уже беретесь судить обо всем, даже о том, чего еще как следует не осмыслили, не продумали до скрытой глубины, ну, и поете с чужого голоса, щелкаете, как вот этот соловейко, а настоящего пения не получается… Пришлось недавно мне говорить с одним таким щелкуном. Он так рассуждал: что, мол, в ваше время, в революцию, было? Все просто, до примитива: «Земля – крестьянам, фабрики – рабочим». А в жизни, в классовой борьбе, дескать, все значительно сложнее. Слов нет, жизнь – сложная штука, но этому «примитиву» – «земля – крестьянам, фабрики – рабочим» – предшествовала и вековая борьба революционеров, и десятилетия огромнейшей работы нашей партии, работы, стоившей жертв, да каких жертв!
Знаешь ли, в двадцатых годах в Париже вышел многотомный труд бывшего командующего Добровольческой армией генерала Деникина. Называется он «Очерки русской смуты». Так вот, Деникин пишет, что не было у добровольцев лозунга, за которым пошли бы солдаты и прогрессивно мыслящие офицеры. А было наоборот: как только Добровольческая армия по пути на Москву вступала на территорию украинских и русских губерний, так все эти корниловцы, марковцы, дроздовцы – сынки помещиков – начинали в своих дворянских поместьях вешать и пороть шомполами мужиков за то, что те поделили помещичью землю, растащили, разобрали по рукам скот и сельскохозяйственный инвентарь. Вот как на деле оборачивалась «одна часть «примитива» – «земля – крестьянам»! Как только Добровольческая армия занимала промышленный центр, обиженные сынки заводчиков и владельцев шахт, те же офицеры Добровольческой армии, принимались вешать и ставить к стенке рабочих, национализировавших их предприятия. Так оборачивалась для рабочих вторая часть «примитива». Все это я не только читал, но и лично наблюдал во время Гражданской воины, сражаясь с этими же добровольцами.
С какой же радости шли бы в Добровольческую армию рабочие и крестьяне? Деникинцы великолепно помогали утверждаться Советской власти! Если это свидетельствует сам Деникин, то о чем же тут говорить? Я за этот «примитив» пошел перед октябрьским переворотом, будучи на фронте председателем полкового революционного комитета. Ты тогда еще был несмышленышем.
Впрочем, еще с мальчишеских лет, еще в гимназии отравляло мне сознание этакое социальное неравенство: сытые, выхоленные сынки купцов, помещиков, прочих состоятельных и бедные, кое-как одетые, в тщательно заштопанных брючишках дети мелких чиновников, кустарей, разночинцев. Еще тогда это рвало мне сердце! Повзрослел, стал читать, задумываться, тыкался носом, как щенок возле блюдца с молоком, а тут – война. В окопах прозрел окончательно. Я ведь в армии был вольнопером и уже после окончания юнкерского стал офицером. Под конец войны я поручиком был. Но и офицерский чин не сделал меня защитником царского режима! Покорила навсегда программа большевиков, начисто отверг половинчатых эсеров, меньшевиков и прочих анархистов, и стал я, братец ты мой, ярым большевиком, бескомпромиссным, пожалуй, немного даже фанатичным. Не было, да и сейчас нет для меня святее дела нашей партии! Да разве я один из офицерского корпуса царской армии пришел к большевикам? А Брусилов, Шапошников, Каменев и многие другие, чинами пониже? Однажды в двадцатых годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о Гражданской войне, и один из военачальников случайно обронил такую фразу о Корнилове: «Он был субъективно честный человек». У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком, но сказал он довольно сдержанно: «Субъективно честный человек тот, кто с народом, кто борется за дело народа, а Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом, какой же он честный человек?» Вот тут – весь Сталин, истина – в двух словах. Вот тут я целиком согласен с ним! Все честное из интеллигенции и даже дворянства пошло за большевиками, за народом, за Советской властью. Иного было не дано: либо – за, либо – против, а все промежуточное стиралось двумя этими жерновами. Дальнейшее ты знаешь. Стал я кадровым военным. Связал свою жизнь с Красной Армией.
И какой же народище мы вырастили за двадцать лет! Сгусток человеческой красоты! Сами росли и младших растили. Преданные партии до последнего дыхания, образованные, умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага, в быту скромные, простые ребята, не сребролюбцы, не стяжатели, не карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов. И жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковров и гобеленов не наживали, в одежде – простота, им и «краснодеревщики не слали мебель на дом». Не в этом у всех нас была цель в жизни! Да разве только в армии вырос такой народище? А гражданские коммунисты, а комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали, что подумаешь, бывало – и никакой черт тебе не страшен. Любому врагу и вязы свернем и хребет сломаем!
Жили мы тогда, как в сказке! Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя! Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые – девушкам, но, черт возьми, хватало и им от наших щедрот, и в обиде на нас они не были! Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему! – Александр Михайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям, потом закурил и продолжал снова. И только по тому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым, видно было его скрытое волнение. – Я, Коля, никогда не уставал любоваться своими людьми. Взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью, втайне любовался ими. И молодые солдаты, и те, которых призывали на территориальные сборы, – у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей. Ей-богу, не вру, не фантазирую! Проснись Суворов да побывай на наших учениях – он прослезился бы от умиления, а от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки!
Я не говорю уже о комсоставе. Насмотрелся я на своих в Испании и возгордился дьявольски! Какие орлы там побывали! Возьми хоть комдива Кирилла Мерецкова или комбрига Воронова Николая, а полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел. Это же готовые полководцы, я бы сказал, экстра-класса! Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил тоже ребята – дай бог! Не уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах! Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, такие как старший лейтенант Лященко Николай или лейтенант Родимцев Саша – это, будь спокоен, завтрашние полководцы без скидки на бедность и происхождение. А вообще всем им – цены нет. Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев… А посмотреть – муху не обидит, милый, скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята, да и дома их оставалось предостаточно, на случай, если пришлось бы встречать незваных гостей… Ты помнишь, у Пушкина есть великолепная характеристика Мазепы, его любви к Марии? – Александр Михайлович, сидевший возле костра по-казахски, ноги калачиком, встал на колени и со старомодной дикцией, без излишней патетики, прочитал на память:
- Мгновенно сердце молодое
- Горит и гаснет. В нем любовь
- Проходит и приходит вновь,
- В нем чувство каждый день иное:
- Не столь послушно, не слегка,
- Не столь мгновенными страстями
- Пылает сердце старика,
- Окаменелое годами.
- Упорно, медленно оно
- В огне страстей раскалено;
- Но поздний жар уж не остынет
- И с жизнью лишь его покинет.
Если для нас, стариков, заменить кое-что, то есть вместо некоей Марии поставить идею, нашу, большевистскую идею, то это нам придется в самую пору! С той только разницей, что и смолоду мы были покорены этой единой страстью и остались верны ей до старости. Как это у него? «Но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет». Здорово сказано! Да, браток, когда перевалит на пятый десяток, и Пушкина иначе воспринимаешь. Русский человек, читая Пушкина, непременно слезу уронит, будь он даже такой солдафон, как я. В лагерях, когда не спалось, я всегда восстанавливал в памяти Пушкина, Тютчева, Лермонтова… Особенно по ночам, в бессонницу, вспоминались хорошие стихи. И душевная мука отпускала, и слезы были не такими жгучими…
Как снег на голову, свалился тридцать седьмой год. В армии многих, очень многих мы потеряли. А война с фашистами на носу… Вот что не дает покоя! Да только ли это! Ну, и со мной случилось, как со многими: один мерзавец оклеветал десятки людей, чуть ли не всех, с кем ему пришлось общаться за двадцать лет службы, меня в том числе. И всех пересажали, на кого он сыпал показания, жен их отправили в ссылку, и мою Аню, конечно. Ты, очевидно, слышал и о методах допросов с пристрастием, и о методах ведения следствия, и о порядках в лагерях. Слышал, надеюсь?
– Слышал.
– Это не скроешь, и я не стану лишний раз тебя ранить, поберегу тебя, браток. Все это было. В разных местах по-разному. И не в этом дело, а в том, как такое могло случиться. Кто повинен? Я глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно, они – не враги. Слов нет, были среди изъятых и настоящие враги, однако их меньшинство, жалкое меньшинство! В тридцать восьмом году в Ростове на Первое мая, как только до тюрьмы долетели с демонстрации звуки «Интернационала», и в тюрьме подхватили и запели «Интернационал». И как пели! Ничего подобного я никогда не слышал в жизни, и не дай бог еще раз услышать!.. Пели со страстью, с гневом, с отчаянием! Трясли железные решетки и пели… Тюрьма дрожала от нашего гимна! Да разве враги могли так петь?! – Голос Александра Михайловича осекся, худое лицо исказилось, но глаза остались сухими, он надолго замолчал и вновь заговорил, только когда справился с волнением. – Я тебе так скажу: настоящие коммунисты и там оставались коммунистами… И я не потерял веру в свою партию и сейчас готов для нее на все! Зачеркнуть всю свою сознательную жизнь? Затаить злобу?! Не могу! На Сталина обижаюсь. Как он мог такое допустить?! Но я вступал в партию тогда, когда он был как бы в тени великой фигуры Ленина. Теперь он – признанный вождь. Он был во главе борьбы за индустрию в стране, за проведение коллективизации. Он, безусловно, крупнейшая после Ленина личность в нашей партии, и он же нанес этой партии такой тяжкий урон. Я пытаюсь объективно разобраться в нем и чувствую, что не могу. Мешает одно, мы с ним не на равных условиях: если я отношусь к нему с неприязнью, то ему на это наплевать, ему от этого ни холодно ни жарко, а вот он отнесся ко мне неприязненно, так мне от этого было и холодно, и жарко, и еще кое-что похуже… Какая уж тут может быть объективность с моей стороны? Однако я – не мальчик и отличнейше понимаю, что предвзятость – плохой советчик. Во всяком случае, мне кажется, что он надолго останется неразгаданным не только для меня. Приведу тебе такой пример. В двадцатых годах после учений в нашем военном округе, о которых я говорил, он согласился отобедать с нами. Было восемь старших военачальников. В разговоре кто-то из наших скептически отозвался об одном командире дивизии: «Он же бывший офицер царской армии». Сталин и говорит: «Ну, и что из того, что бывший офицер? Офицеры бывают разные. Под Царицыном в восемнадцатом году, возле Кривой Музги, попал к нам в плен раненый казачий офицер. Пулеметной очередью был ранен в обе ноги, в мякоть, кости не были затронуты. Мы с Ворошиловым решили с ним поговорить. Приходим. Лежит на носилках, на цементном полу. Спрашиваем: «За что вы с нами воюете?» Плюется, кричит: «С большевистскими комиссарами я не разговариваю!» Во второй раз к нему пришли. Молчит. В третий раз. Походили, привык, стали разговаривать. Ведем с ним политические беседы, разъясняем, что к чему… А теперь он у нас в больших военачальниках ходит».
В восемнадцатом году его заинтересовала судьба одного вражеского офицера, а двадцать лет спустя не интересуют судьбы тысяч коммунистов. Да что же с ним произошло? Для меня совершенно ясно одно: его дезинформировали, его страшнейшим образом вводили в заблуждение, попросту мистифицировали те, кому была доверена госбезопасность страны, начиная с Ежова. Если это может в какой-то мере служить ему оправданием… – Александр Михайлович разом умолк, прислушался.
По траве зашуршали чьи-то шаги. Из сумеречной темноты послышался гулкий басок:
– Рыбакам доброго здоровья!
– Здравствуй, дедушка Сидор, – отозвался Николай. – Проходи, садись, гостем будешь.
К костру подошел овчар, коснулся рукой красной тряпицы на голове, забасил:
– У меня тут овечки неподалеку ночуют, а я думаю, сем-ка пойду к Миколе-агроному, может, ушица у него осталась, должен же он овечьего пастыря покормить. Допрежде ты, бывалоча, меня подкармливал юшкой, а ноне как? С уловом?
– И уха есть, и рыба, и даже выпить деду найдется.
– Спаси Христос, добрый ты человек, дай бог тебе и твоему гостю здоровья.
Старик легко опустился на колени, поджал левую ногу, сел поудобнее и взглянул на Александра Михайловича из-под седых бровей по-молодому пронзительными, но веселыми глазами.
После обычных разговоров о видах на урожай, о травостое, о погоде старик спросил:
– Никак вы, товарищ, братцем нашему Миколе-агроному доводитесь?
– Так точно, отец. Мать у нас была одна, отцы – разные. Мой отец умер, и мать долго вдовствовала, потом вышла за другого. Вот этот другой ее муж и был Колиным отцом. Понятно?
– Чего ж тут непонятного? По моему смыслу, мать – это корень, а отцы – дело такое, одним словом, всякое… Старики-то все у вас померли?
– Да. Мы с братом круглые сироты. Без отцов и бедой и радостью богатеем.
– Ничего! Вы уже большенькие. Проживете и не заметите, как старость и к вам припожалует, постучится в оконце… Так, как вот и ко мне… Люди у нас брешут, будто вы суждены были за политику. Правда ли?
– Был.
– И сколько же вам пришлось отсидеть, извиняйте за смелость?
– Не стесняйся, спрашивай, от тебя, папаша, не потаюсь. – Александр Михайлович подкинул сушняку в угасший костер, чтобы получше разглядеть старика. – Четыре года с половинкой отбыл.
Овчар смотрел пристально, молчал, потом сказал как бы с разочарованием:
– Не так чтобы и много.
– Отсюда глядеть – немного, а там оказалось многовато…
– Оно-то так, но я разумею про себя, что ваша вина перед властью была малая.
– Это почему же так разумеешь?
– А потому. Мою сноху в тридцать третьем году присудили на десять лет. Отсидела семь, остальные скостили. Только в прошлом году вернулась. Украла в энтот голодный год на току четыре кило пшеницы. Не с голоду же ей с детьми было подыхать? По вольному хлебу ходила, ну и взяла не спрошаючи. Вот за эти десять фунтов пшеницы и пригрохали ей за каждый фунт по году отсидки. За них и отработала семь лет. А ты – четыре, стало быть, твоей вины вполовину ее меньше… Ай не так?
– За мной, отец, никакой вины не было, по ошибке осудили. Ты же знаешь, я не за кражу сидел, а темнишь в разговоре, сравниваешь. Но божий дар с поросятиной нельзя сравнивать, не то сравнение получается. Тогда если бы за четыре кило краденого хлеба не сажали, так воровали бы по четыре центнера на душу, верно, папаша?
– Это уж само собой. Растянули бы колхозы по ниточке!
– Ну, вот мы с тобой и договорились. – Александр Михайлович рассмеялся.
Тихонько рассмеялся и овчар, прикрывая рот черной ладонью.
– А ты хитер, папаша, ты – себе на уме! – сказал Александр Михайлович.
– Хитра утка, она на день по сорок раз ухитряется жрать, а я какой же хитрый? С утра кислого молока похлебал с хлебушком и вот тяну до ночи, по вашей милости ушицы попробую – опять живой. У нас на хуторе один я с простиной в голове, а остальные все умные, все в политику вдарились. Вот, к примеру, залезет Иванова свинья к соседу Петру в огород, нашкодит там, а Петро – нет чтобы добром договориться, вот как мы с тобой, – берет карандаш, слюнявит его и пишет в ГПУ заявление на Ивана: так, мол, и так, Иван, мой сосед, в белых служил и измывался над красноармейскими семьями. ГПУ этого Ивана за воротник и к себе на гости приглашает. Глядишь, а он уже через месяц в Сибири прохлаждается. Брат Ивана на Петра пишет, что он, мол, сам в карателях был и такое учинял, что и рассказать страшно! Берут и этого. А на брата уже карандаш слюнявит родственник Петра. Таким манером сами себя пересажали, и мужчин в хуторе осталось вовсе намале, раз-два и обчелся. Теперь в народе моих хуторян «карандашниками» зовут. Вот ведь как пересобачились. Вкус заимели один другого сажать, все политиками заделались. А раньше такого не было. Раньше, бывало, за обиду один другому морду набьет, на том и вся политика кончится. Теперь – по-новому.
– И ты, отец, на кого-нибудь писал?
– Бог миловал. На овечек, правда, хотел писать, жаловаться, что не слухают меня, старика, прут куда попадя, а все больше в люцерну… Я от такой житухи промеж людей и в овчары подался.
Николай разогрел остатки ухи, налил гостю полную миску, отрезал кусок хлеба. Старик ел не спеша, вытянув худую жилистую шею. Зубы у него были не по возрасту хорошие: краюшка черствого хлеба только похрустывала, когда он аккуратно откусывал большие куски. Чайную чашку водки он принял, почтительно склонив голову, выпил до дна и принялся за холодных окуней. После чая, сытый, довольный, сказал:
– Давно так от души не ел, как нынче. Благодарствую, дай бог вам здоровья. К дому мне добираться далеко, ночую тут неподалеку с овчишками и кормлюсь кое-как, насухую, а нынче наелся у вас на два дня.
– Ты один управляешься, без подпаска? – спросил Николай, опрокидывая вверх дном перемытую посуду.
– Один. Помощник мой дома сидит, к экзаментам готовится. Он у меня десятилетку закончил, – с гордостью сказал старик. – Да я и один управляюсь.
– Не боишься, что овечек ночью волки пощупают?
– Не, у меня с волками уговор на время: моих не трогать. Промеж нас условие: ты меня не трогай, и я тебя не буду трогать. В этом лесу нонешней весной знакомая волчица ощенилась, вот я возле ее жилья и пасу овечек. Она вблизу не берет, она далеко от своего гнезда ходит промышлять. И супругу своему не велит поблизости разбойничать. И так я до осени поручаю ей овечек. В августе она молодых волчат на бахчи поведет, арбузами будет кормить. Скажи на милость, как эта животная умеет спелый арбуз от зеленого отличить? Нюх у нее работает, что ли? Ну, а как заосеняет – нашей дружбе до предбудущего года конец. Тогда я от нее овечек подальше держу. Не ровен час заради своих щенят согрешит по холоду, а мне ее зорить нет охоты, пущай живет. Волчица старая, разумная и ко мне уважительная, вот и пущай в спокое доживает. Ей и так уж осталось белому свету радоваться лет пять от силы… Вот вы и мотайте на ус, люди добрые, волчице до холодов можно верить, а вот Хитлеру – не надо бы! Животная – она всегда надежнее, у ней своя, звериная, совесть есть. А у Хитлера какая же совесть? Вон он сколько держав под себя подмял! Ему холодов дожидаться не к чему! У него щенята все как есть повыросли. У них уж небось по шкуркам седая ость пошла, они уж вроде лютых переярков стали…
Овчар еще раз поблагодарил за ужин, попрощался:
– Пойду к своим овечкам дозоревывать. Они без меня скучают. Все-таки с человеком им спокойнее.
Постукивая костылем по пересохшей земле, он вышел из света костра, исчез в темноте.
– Занятный старик! – с удовольствием проговорил Александр Михайлович, и по голосу было слышно, что он улыбается в темноте. – А насчет Гитлера он, в общем-то, правильно соображает. Значит, в народе поговаривают о войне?
– Всякое говорят. А ты как думаешь, генерал?
– Мои друзья-военные ждут. Успеть бы только перевооружить армию новой техникой. Но дадут ли они нам на это время? Там тоже не дураки. Дважды мне пришлось сталкиваться с немцами, в мировую войну, и в Испании на них пришлось посмотреть. Боюсь, что на первых порах тяжело нам будет. Армия у них отмобилизованная, обстрелянная, настоящую боевую выучку за два года приобрела, да и вообще противник серьезный. Но, черт возьми, ведь «русские прусских всегда бивали»? Побьем и на этот раз! Какой ценой? Ну, браток, когда вопрос станет – быть или не быть, – о цене не говорят и не спрашивают! Сообщения нашей печати успокаивают, а вообще-то поживем – увидим! Я лично не исключаю и того, что воевать будем скоро, возможно – в этом году.
Они проговорили до рассвета. Едва лишь забрезжило, Александр Михайлович снова вскипятил чайник, на заварку всыпал целую горсть чая и, потягивая из чашки черный, обжигающий напиток, сказал:
– Привык пить там еще, в Сибири, предельно горячий, все из желания согреться, а теперь и не надо бы, но не могу отвыкнуть. Да, вот о чем тебя попрошу. Ты пригласи как-нибудь своего Ивана Степановича. Надо с ним потолковать. У него наивное представление о действительности. Если нескольких человек освободили, это не значит, что всех подряд будут освобождать. Мерзавец, который нас упрятал, сам оказался шпионом, притом с долголетним стажем. И только когда органы докопались и окончательно убедились в том, что он работал на немецкую разведку, да еще со времен нашего сближения с Германией, еще со времен Рапалло, – взялись за проверку наших дел, убедились в том, что предъявленные нам обвинения – чистейшая липа, ну, и освободили, принеся соответствующие извинения… Мы были уже в лагерях, а дела наши два года разматывались до благополучного для нас кончика. Сложно все, Коля. До чертиков сложно! Давай, пожалуй, на этом закончим сегодня, а не то и рыбалка на ум не пойдет. Эту отраву вкушать надо небольшими порциями, иначе дурнить будет. Да у нас и времени в запасе целая неделя, обо всем успеем поговорить. Показывай-ка лучше свою сазанью снасть и просвещай, что надо делать, чтобы изловить этого зверя. Окуней я половил, а теперь мне надо добыть сазана, чтобы презентовать его Серафиме Петровне. Я должен быть до конца галантен. Понятен тебе мой рыцарский порыв?
– Вполне. Но сазаньи удочки ты не очень критикуй, они проверены на деле.
Николай принес от берега две удочки, сказал:
– Принцип ловли тот же, так же надо забрасывать лесу. Только насадка другая. Видишь ли, здесь сазан на растительную насадку – ну, на тесто, кашу, картошку вареную – не берет, не привык он к постной пище, не вегетарианец он. Вот потому-то я вчера и добывал ракушки. Это – его любимое блюдо.
Александр Михайлович, посмотрев и ощупав лесы, пришел в ужас:
– Позволь, Коля, о каких там принципах ловли и насадках может идти речь, если у тебя лесы толщиной с толстую спичку? Какой же идиот сазан возьмет на такой канат? На твоей леске можно Воронка удержать!
– А что прикажешь делать? – возразил Николай. – Тонкую лесу хороший сазан рвет, как гнилую нитку. Здесь нужна глухая снасть, катушка не годится, кругом поблизости карши. Усвоил?
– А хорошие сазаны здесь есть?
– Увидишь сам или почувствуешь на удочке. Тонкая леса исключена, не выдержит. Сазан уходит с крючком во рту, раненый, и я – за надежную снасть. Я против подранков и на охоте и на рыбалке. Эти лесы я сплел из двенадцати льняных ниток, пусть попробует оборвет.
– И тоньше нет в запасе?
– Нет и не будет.
– Ну тогда делать нечего, будем ждать поклевок на эти веревки. Чахлое дело…
– Так уж и веревки. Просто немного утолщенные лесы.
– Мой жестокий черный черкес, не будем спорить, но лески толсты.
– Согласен, но зато надежны. А потом, Саша, рассуждай здраво, без предубежденности: захочет сазан кушать – возьмет и на толстую, не захочет – не возьмет и на шелковую ниточку. Учти и такое, Песчаная речка – глухая рыбья провинция: сазаны тут сплошь кондовые, малограмотные, ни одного нет с высшим образованием, вот они и берут на всякую леску, берут, надеясь на свою силушку, и преспокойно не только толстые лесы рвут, но и крючки ломают, а иногда и сокрушают удилища.
Александр Михайлович недоверчиво усмехнулся, но ничего не сказал. Они спустились с обрыва. Александр Михайлович снова сел ловить с лодки. Николай устроился на берегу, метрах в двадцати выше по течению, возле поваленного половодьем, наполовину затонувшего тополя.
Утро было прохладное. Над водой подымался туман. Тяжелая, ядреная роса клонила к земле листья травы. И снова разноголосый птичий гомон покорил Александра Михайловича, властно заставил забыть обо всем на свете. Только легкая, неосознанная грусть тихонько теплилась у него на сердце, когда издалека доносился томительный и милый голос кукушки.
Прошло с полчаса. Удочки с насадкой из мякоти ракушек-перловиц были неподвижны. При взгляде на толстые светло-серые лесы, вяло, безжизненно свисавшие с кончиков удилищ, у Александра Михайловича возникала досада, а в глазах сквозила явная безнадежность. «Дохлое дело! Напрасно просижу зорю. Лучше бы уж снова взяться за окуней», – подумал он и потянулся за лежавшей на корме пачкой «Беломора». Но тут внимание его привлек мягкий не то всплеск, не то всхлип. Глянув повыше удилищ, он увидел, как посреди плеса, раздвинув изогнутой спиной воду, показался метровый бронзово-золотистый сазан. Он взмахнул широким, как просяной веник, оранжево-красным хвостом и так оглушительно хлопнул им по воде, что крутые волны пошли кругами и, дойдя до лодки, высоко подняли и закачали низко осевшую корму. И тотчас же, словно дождавшись сигнала, у противоположного берега свечой вскинулся небольшой сазан, а второй – немыслимой толщины – размахнул хвостом воду левее лодки, блеснул червонным золотом чешуи и с тихим стоном снова погрузился в зеленоватую волну.
Игра сазанов продолжалась почти беспрерывно минут пятнадцать, затем удары стали реже. Все это время Александр Михайлович в немом изумлении смотрел на разбушевавшийся плес и не успевал считать выпрыгивавших сазанов и тех из них, которые только на секунду показывались из воды и тонули, с кряхтением погружаясь в родную стихию.
– Теперь жди! – негромко сказал Николай.
И в ответ ему Александр Михайлович, не в силах сдержать восторга, уже совсем не по-рыбацки заорал во весь голос:
– Это черт знает что такое! Я такого представления, Колька, за всю жизнь не видывал!
– Умолкни, ради бога! – все так же негромко посоветовал Николай.
Горящими глазами Александр Михайлович уставился на кончики удилищ, покорно замолчал. Комар больно впился ему в мочку левого уха, но, стоически выдерживая зуд, рыбак даже руки не поднял, ждал потяжки. Однако счастье обошло его стороной. Николай подсек небольшого, но удивительно резвого сазана и молча старался подтянуть его к берегу.
– Не дури, Колька! Не смей, чертов ингуш, тянуть его силком! Дай ему порезвиться, он сам уходится! – азартно советовал Александр Михайлович, стоя на корме во весь рост, от волнения часто переступая босыми ногами.
При одном виде согнутого в дугу удилища Александр Михайлович ощущал озноб во всем теле.
Уже поднявшись на поверхность и глотнув воздуха, сазан собрал последние силы и еще минут пять бойко ходил кругами, оставляя за лесой белесую, косо срезанную прозрачную пленку воды. Вскоре желтобокий красавец килограмма на четыре весом улегся на дне вместительного подсачка. Александр Михайлович не вытерпел, пошел посмотреть. Сидя на корточках, он любовно гладил скользкий, прохладный бок рыбы, с негодованием говорил:
– Везет же этим жгучим брюнетам, всяким ногайцам, кумыкам и прочим представителям нацменьшинств и малых народностей! А ты – исконний русский человек – сидишь на исконней, принадлежавшей еще твоим предкам реке, сидишь, как дурак, и этот распроклятый сазан обходит тебя и неизвестно почему берется на удочку черненького потомка некогда покоренного крымского татарина! Анафемское безобразие! Чертовщина какая-то! Какой мудрец разберется в этой абракадабре?! Как хочешь, но я сгораю от черной зависти!
– Иди, садись в лодку. Счастье тебя ждет, о рыцарь, вверивший свое сердце Серафиме прекрасной, – готовя кукан, улыбался Николай.
– Тебе шуточки, а как я теперь на нее взгляну? Когда она положила в корзину пол-литра водки, я растроганно прижал руку к сердцу, прошептал: «Серафима Петровна, самый жирный, самый крупный сазан из Пахомовой ямы, собственноручно пойманный мною, завтра будет лежать у ваших ног».
– А она что?
– Она царственно улыбнулась, сказала: «Я верю в вас, Александр Михайлович».
– Дорогой Александр Михайлович?
– Нет, просто Александр Михайлович, но «дорогой» висело в воздухе, то есть подразумевалось само собой.
– Так вот, «просто Александр Михайлович», чтобы ваше обещание не повисло в воздухе, чтобы поймать реального, а не подразумеваемого сазана, чтобы вам еще раз царственно улыбнулась ваша Дульцинея Петровна, – извольте идти, проверить насадку и упорно ждать.
– Есть идти, проверить насадку и упорно ждать! – Александр Михайлович круто повернулся, чуть не упал, зацепившись ногой за глыбу глины, но выправился и, посмеиваясь, проворно зашагал к лодке.
На восходе солнца стало еще прохладнее, потянул легкий ветерок, исчез туман, и уже окрасились, светло зазеленели кроны тополей, мягко озаренные низким солнцем.
«Мелкий и средний сазан берут с ходу, рывком, а очень крупный давит солидно, медленно, степенно гнет кончик удилища к воде», – наставлял брата Николай. И вот именно такой клев вскоре заставил Александра Михайловича пережить минуту наивысшего напряжения. Леса на правой удочке выпрямилась, чуть-чуть зашевелилась, пошла книзу, и следом медленно, страшно медленно стал клониться к воде кончик удилища. Собрав всю волю, Александр Михайлович дождался, когда кончик удилища уткнулся в воду, и только тогда плавно, но сильно подсек. И мгновенно пришло такое ощущение, будто крючок на дне намертво зацепился за корягу. А уже в следующий миг мощная потяжка заставила Александра Михайловича вскочить на ноги, взяться за комель удилища обеими руками. Неподвластная сила, чуть ли не равная его силе, гнула удилище с нарастающим тяжелым упорством.
Николай бежал к лодке, преодолевая свалившиеся с обрыва груды земли саженными прыжками. В левой руке его развевался поднятый над головой подсак.
– Удилище! Удилище отводи назад! Не давай ему вытянуть лесу напрямую! – кричал он.
Но Александр Михайлович не слышал его. Он уперся левой ногой в сиденье на корме, откинулся назад, противоборствуя дикой силе, вырывавшей из его рук удилище, и слышал только один пугающий звук: по удилищу, от середины до самой чакановки, шел сухой треск, будто сквозь дерево пропускали электрический ток. Этот треск он не только слышал, но и ощущал побелевшими от напряжения стиснутыми пальцами и мускулами рук.
Николай уже подбежал к лодке, успев на бегу крикнуть:
– Бросай! Да бросай же!..
И в этот момент удилище, согнутое чуть ли не от самых рук рыбака и вытянутое в одну линию с лесой, со свистом распрямилось, сухо и звонко щелкнула оборванная леса. Все было кончено.
– Видел? – хриплым голосом трагически вопросил качнувшийся Александр Михайлович, поворачивая к Николаю бледное лицо.
– Что видел? Бросать надо было вовремя!
– Но… такой канат и бросать?
– Теперь ты убедился, какие сазаны есть в Песчаной? Наука маловеру!
– Нет, Коля, но это же невероятно! Это черт знает что такое! Тянул, как воротом! Силища неправдоподобная! Я его и ото дна не оторвал… Нет, с такой рыбалкой инфаркт мне обеспечен, верный инфаркт! Я до сих пор не приду в себя! У меня все еще, как у мальчишки, дрожат колени…
– Ничего, дыши глубже, и все пройдет.
– К черту с твоими советами! Сидеть буду на этой яме, пока не поймаю родного дедушку этого сазана. Хоть месяц буду сидеть, а поймаю! А что толку, если бы бросил удилище? Ведь он наверняка затащил бы в корягу!
– Наверняка.
– А что же ты говоришь: бросать надо вовремя?
– Все-таки какая-то надежда, авось пошел бы на ту сторону. Такие случаи бывали…
– В вашей деревне с поросенком?
Николай расхохотался, дал волю давно сдерживаемому смеху. Улыбнулся и Александр Михайлович, но что-то очень кисло.
Он все еще никак не мог справиться с волнением, и, когда закуривал, руки его заметно дрожали, и он долго не мог извлечь из коробка спичку.
Около восьми часов у Александра Михайловича взялся еще один сазан. Он так стремительно хватанул насадку и пошел в глубину, что закуривавший в это время рыбак уронил на мокрое днище пачку папирос и едва успел схватить удилище. Сазан поднялся вполводы, лихо сделал два круга, а потом пошел кверху, у самой поверхности взвернул зеленый бурун воды, буйно, с переплеском хлопнул хвостом и сошел с крючка.
Николай был уже у лодки, уже готовил подсак, затопив его в воду, когда сазан так коварно обманул надежды рыбаков.
На этот раз Александр Михайлович внешне спокойно перенес свое поражение. Рассматривая крючок, он слабым голосом проговорил:
– Не везет! Чертовски не везет! Утешаюсь только тем, что этот сазан вовсе не дедушка первому, а скорее всего двоюродный племянник…
– Слабенькое утешение, – сказал Николай, сочувственно улыбаясь.
– Милый мой осетин, в беде и слабое утешение – на вес золота. У нас водка осталась?
– Больше половины бутылки и еще одна непочатая.
– Откуда еще одна?
– Тайком увез, сунул в плащ, когда выходили из дому…
– Мой дорогой имеретинец! Ты – гений! Сейчас пойду на стан и волью в себя целиком чашку, чтобы залить горе. Я полностью выбит из колеи и лишен душевного равновесия. Я, как мякоть вот этой ракушки, расползаюсь на собственных глазах…
– Но тебе же нельзя пить, Саша.
– В этом случае мне даже сам Боткин разрешил бы. Не перечь старшему! Не прекословь!
Они только что собрались завтракать в тени гостеприимного вяза, как на той стороне послышался шум автомобильного мотора, короткий сигнал.
– Наверное, по мою душу, – вглядываясь в прибрежные заросли белотала, недовольно проговорил Николай.
– Что-нибудь случилось?
– Может быть, совещание, мало ли что может случиться. Во всяком случае, очень некстати. Если я уеду, Саша, ты оставайся. Завтра я либо сам приеду к тебе и привезу харчишек, либо кого-нибудь пришлю.
– С удовольствием!..
– Одному не будет скучно?
– Что ты! Для меня рыбалка и одиночество – целительный бальзам. Однако кто же это приехал?
Из кустов белотала вышли двое, подошли к берегу. Николай, вглядевшись, сказал:
– Шофер райкомовской машины и инструктор райкома Ваня Петлин. Нет, тут что-то другое…
– Перевезите меня, Николай Семенович! – послышалось с того берега.
Николай молча спустился к лодке.
Только в прошлом году демобилизованный из Красной Армии старший лейтенант Петлин подошел к Александру Михайловичу строевым шагом, четко приложил ладонь к околышку артиллерийской фуражки.
– Разрешите обратиться, товарищ генерал. – И подал конверт. – Шифровка на ваше имя.
Александр Михайлович прочитал. Широко улыбаясь, крепко обнял стоявшего рядом Николая. Он тяжело дышал и говорил с короткими паузами:
– Ну, брат, приказывают немедленно прибыть в Москву за назначением. Генштаб приказывает. Вспомнил обо мне Георгий Константинович Жуков! Что ж, послужим Родине и нашей Коммунистической партии! Послужим и верой и правдой до конца! – Он стиснул в объятиях Николая, и тот впервые за все время увидел в помутневших глазах брата слезы.
* * *
На синем, ослепительно синем небе – полыхающее огнем июльское солнце да редкие, раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге – широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам – словно вымершая от зноя степь: устало полегшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика.
Николай шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. Сто семнадцать бойцов и командиров – остатки жестоко потрепанного в последних боях полка – шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Так же, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир второго батальона капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком, так же покачивалось на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр второго эшелона, и все так же, не отставая, шли в рядах легко раненные бойцы в грязных от пыли повязках.
Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой.
Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые пять дней! Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез… «Развинтился я, совсем раскис… А все это жара и усталость делают», – думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага.
Теперь он шел, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы, грохочущую лавину немецких танков, и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона… А потом – бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью…
Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковые атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, а не устояли…» – с горечью подумал Николай, вспоминая.
На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи, между строгими рядами их стелющуюся по рыхлой земле повитель, убитого пулеметчика… Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому, что в колхозе не хватило рабочих рук; что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны, заросший сорняками подсолнух; и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень – иначе почему же солдатская смерть смилостивилась, не изуродовала его и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и, словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха? А потом Николай подумал, что все это – чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком это просто дело случая: тряхнуло взрывной волной – и посыпался вокруг, мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно, оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами…
Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах.
Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну.
На склоне высоты ветер вылизал дорогу, начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко зазвучали на оголенной почве до этого почти неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор – с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, – и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой.
Молча шагавшие бойцы оживились. Послышались голоса:
– Должен бы привал тут быть.
– Ну, а как же иначе, отмахали с утра километров тридцать.
Сзади Николая кто-то звучно почмокал губами, сказал скрипучим голосом:
– Родниковой, ледяной водицы по полведра бы на брата…
Миновав неподвижно распростершую крылья ветряную мельницу, вошли в хутор. Рыжие, пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву возле плетней, где-то надсадно кудахтала курица, за палисадниками сонно склоняли головки ярко-красные мальвы, чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким покоем и миром пахнуло вдруг на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь, что эта знакомая и когда-то давным-давно виденная картинка мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж, в знойном воздухе.
На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие, тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцою сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий и грустный аромат доцветающей лебеды.
Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Во дворах, впритирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата, по улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски, в саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью, на отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными недоспелыми антоновками.
Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул:
– А ведь это наша кухня, Микола! Подыми нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней, какого же тебе еще хрена надо?
Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал:
– Вот так ты и письма от сына читаешь: прочтешь немного, оторвешься – и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь.
Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал:
– Вода-то не очень хороша, только в ней и доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?
Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил:
– Тебе все больше сынок письма пишет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдо́вой?
И неожиданно для самого себя Николай ответил:
– Нет у меня жены. Разошлись.
– Давно?
– В прошлом году.
– Вот как, – сожалеюще протянул Звягинцев. – А дети с кем же? У тебя их, никак, двое?
– Двое. Они с матерью жены живут.
– Ты бросил жену, Микола?
– Нет, она меня… Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет, ушла. Оставила записку и ушла…
Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого послышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний?
Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы:
– Что же она, стерва, другого сыскала?
– Не знаю, – сухо ответил Николай.
– Значит, нашла! – убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой. – Ведь вот какой народ, эти бабы! Парень ты из себя видный, получал, конечно, хорошее жалованье, какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала?
Взглянув внимательно на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже два месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду, захотелось его утешить и рассказать о себе, и он присел рядом, заговорил:
– А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное – дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас – главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь, война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно, – самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное женщина, я, брат, их знаю! Видишь рубец у меня на верхней губе? Тоже прошлого года случай. На Первое мая я и другие мои товарищи комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика: если зарядит что – не кончит, пока все обоймы не порасстреляет, и тоже норовит нахрапом брать.
Была на этой вечеринке одна барышня, очень она хорошо «цыганочку» танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет, а жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!» Вот, думаю, новое дело, что же мне, на вечере зажмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу, с вывертом, до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у нее, как у кошки: круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: «Через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть! Ты ногами вертела, а мне расплачиваться». И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху – в меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня была тогда толстая. Не поверишь, тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы – кровь, как при серьезном ранении.
Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я невзвидел! Встаю и пускаю ее, жену то есть, по матушке. «Что же ты, – говорю, – зверская женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт! Я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы». «Так-то, – говорю, – вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность? Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться, имейте это в виду, и дома мы с вами поговорим по душам».
Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, всё как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорогой шла она, проклятая, как живая, а только порог переступила – и хлоп в обморок. Лежит и не дышит, а морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелкой: нет-нет да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани, как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил, она и отошла, крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает.
«Ты, – говорит, – такой-сякой, новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается! Изменник! На всякую девку глаза лупишь! Жить не могу с тобой, с извергом!» – и все такое прочее. Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит – оживела, значит – перезимуешь, милая!
Присел к столу, курю, гляжу: любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: «Ухожу от тебя. У сестры жить буду». Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя, потому и согласился. «Иди, – говорю, – там тебе лучше будет». «Ах, вот как! – говорит. – Такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня? Так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила!»
Оживленный воспоминаниями, Звягинцев достал кисет и, улыбаясь, покачивая головой, стал сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался, но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева, да и сил не было, чтобы подняться и идти по солнцепеку. Закурив, Звягинцев продолжал:
– Подумал я и говорю: «Что ж, Настасья Филипповна, вешайся, веревка за сундуком лежит». Кинула она свой узел, схватила веревку и – в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: «Ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я!» Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками: «Так ты рад бы был, если бы я повесилась?! Такой-то ты любящий муж?!» Насилу ее утихомирил. Хмель с меня как рукой сняло, даром что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю: люди в народный дом пошли спектакль смотреть, а у меня дома – свое представление, бесплатное. И смех меня разбирает, и на душе как-то невесело!
Вот на какие штуки женщины – это чертово семя – способны! Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было: забрала их к себе родительница моя погостить, а то ведь могли их перепугать до смерти.
Звягинцев помолчал и заговорил снова, но уже без прежнего воодушевления:
– Не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Вот только последние два года испортилась она у меня. А испортилась она, прямо скажу, через художественную литературу.
Восемь лет жили, как люди, работала она прицепщиком на тракторе, ни в обмороки не падала, никаких фокусов не устраивала, а потом повадилась читать разные художественные книжки – с этого и началось. Такой мудрости набралась, что слова попросту не скажет, а всё с закавыкой, и так эти книжки ее завлекли, что ночи напролет читает, а днем ходит, как овца круженая, и все вздыхает, и из рук у нее все валится. Вот так раз как-то вздыхала-вздыхала, а потом подходит ко мне с ужимкой и говорит: «Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви объяснился. Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов, как в художественной литературе пишут». Меня даже зло взяло. «Дочиталась!» – думаю, а ей говорю: «Ополоумела ты, Настасья! Десять лет живем с тобой, трех детей нажили, с какого же это пятерика я должен тебе теперь в любви объясняться? Да у меня и язык не повернется на такое дело! Я смолоду никому в нежных словах не объяснялся, а все больше руками действовал, а сейчас и вовсе не стану, не такой уж я дурак, как ты думаешь! И ты бы, – говорю ей, – вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми лучше присматривала». А дети и на самом деле пришли в запустение, бегают, как беспризорники, грязные, сопливые, да и в хозяйстве все идет через пень-колоду.
Подумай, Микола, разве это дело? Я, конечно, не против культурных развлечений и сам люблю почитать хорошую книжку, в какой про технику, про моторы написано. Были у меня разные интересные книжки: и уход за трактором, и книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизеля на стационаре, не говоря уже про литературу о комбайнах. Сколько раз, бывало, просил: «Возьми, Настасья, прочитай про трактор. Очень завлекательная книжка, с рисунками, с чертежами. Тебе надо это знать, ты же прицепщиком работаешь». Думаешь, читала она? Черта с два! Она от моих книжек воротила нос, как черт от ладана, ей художественную литературу подавай, да такую, чтобы оттуда любовь лезла, как опара из горшка. И ругал, и добром просил – не помогло. А бить ее – в жизни не бил, потому что я, до того как на комбайнера выучился, шесть лет молотобойцем работал, рука у меня стала невыносимо тяжелая.
Вот так, братец ты мой, семейная жизненка и шла у нас раскорякой до той поры, как меня в армию не призвали. А ты думаешь, сейчас, в разлуке, мне легче? Как бы не так! Скажу тебе откровенно и по секрету: никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, хоть слезами плачь! Ты сам, Микола, знаешь, каждому из нас тут, на фронте, приятно получить письмо из дому, читают их один одному вслух, вот и ты мне письма от сынишки прочитывал, а я жениного письма никому почитать не могу, потому что мне стыдно. Еще когда под Харьковом были, получил от нее раз за разом три письма, и каждое письмо начинается так: «Дорогой мой цыпа!» Прочитаю – и уши у меня огнем горят. Откуда она это куриное слово выковыряла – ума не приложу, не иначе из художественной книжки. Ну, писала бы по-людски: «Дорогой Ваня» или там еще как, а то – «цыпа». Когда дома был – все больше рыжим чертом звала, а как уехал на фронт – сразу «цыпой» сделался. И во всех письмах скороговоркой, бочком как-то сообщит, что дети живы-здоровы, новостей в МТС особых нет, а потом дует про любовь на всех страницах, да такими непонятными, книжными словами, что у меня от них даже туман в голове сделается и какое-то кружение в глазах…
Прочитал я эти невыносимые письма два раза подряд и сделался от них просто вроде пьяного. Слюсарев из второго взвода подходит, спрашивает: что, мол, жена пишет новенького? А я письма скорее в карман прячу и только рукой ему махаю: отойди, дескать, милый человек, не тревожь ты меня. Он спрашивает: «Все ли благополучно дома? По лицу, – говорит, – вижу, что у тебя несчастье». А что я ему скажу? Придумал и говорю: бабушка, мол, у меня померла, ну он и успокоился, отошел.
Вечером сел я, пишу жене. Поклоны деткам и всем родным передал, об своей службе написал, все чин чином, а потом пишу: не называй меня, пожалуйста, разными неподобными кличками, есть у меня свое крещеное имя, может, лет тридцать пять назад и был я «цыпой», а сейчас вполне в петуха оформился, и вес мой – восемьдесят два килограмма – вовсе для «цыпы» не подходящий. А еще прошу: брось ты про эту любовь писать и не расстраивай мое здоровье, пиши больше про то, как дела идут в МТС, и кто из друзей остался дома, и как работает новый директор.
И вот получаю перед самым отступлением ответ. Беру письмо, руки дрожат, распечатал – и так меня жаром и охватило! Пишет: «Здравствуй, мой любимый котик!» – а дальше опять на четырех тетрадочных страницах про любовь; про МТС ни слова, а в одном месте зовет меня не Иваном, а каким-то Эдуардом. Ну, думаю, дошла баба до точки! Видно, из книжек списывает про эту проклятую любовь, иначе откуда же она выкопала какого-то Эдуарда и почему в письмах столько разных запятых? Сроду об этих запятых она и понятия не имела, а тут наставила их столько, что не перечтешь, у любого конопатого человека на морде конопин меньше, чем запятых у ней в одном письме. А прозвища? Сначала – «цыпа», а потом – «котик», чего же дальше ждать, думаю? В пятом письме, может, она Трезором меня назовет или еще каким-нибудь кобелиным прозвищем. Да что я, в цирке родился, что ли? Из дому захватил я учебник про трактор «ЧТЗ» – с собой ношу на случай, если когда захочется почитать, – так вот хотел было списать из этого учебника страницы две и послать ей, чтобы вышло невестке в отместку, а потом раздумал. Как раз в обиду примет. Но что-то надо с ней делать, чтобы отвадить от этих глупостей… Что ты мне посоветуешь, Микола?
Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными, опущенными книзу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки – тени не успевшей сбежать с губ улыбки.
* * *
Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлинка, и, заглушая ее, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке послышались голоса, смех, потом кто-то прокричал молодым, звучным тенорком:
– Я говорил тебе, что свеча барахлит! Шведский ключ у тебя? Неси его сюда, миленький! Неси, рыбий глаз!
В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая бронебойщик Петр Лопахин. Он курил и лениво переругивался с поваром Лисиченко.
– Опять каши наварил, гнедой мерин?
– Опять. А ты не ругайся.
– Вот где у меня сидит твоя каша, понятно?
– А мне наплевать, где она у тебя сидит.
– Ты не повар, а так, черт знает что. Никакой выдумки не имеешь, никакой хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова, как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить так, чтобы хозяин не видал? Щей бы хороших сварил, второе сготовил…
– Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких!
– Три недели, кроме пшенной каши, ничего от тебя не получаем, так делают порядочные повара? Сапожник ты, а не повар!
– А тебе что, антрекота захотелось? Или, может, свиную отбивную?
– Из тебя бы отбивную сделать! Больно уж материал подходящий, разъелся, как интендант второго ранга!
– Ты поосторожней, Петька, а то ведь у меня кипяток под рукой… В медсанбат-то ходил?
– Ходил.
– Ну и что?
– А ничего.
– Чего же ты ходил?
Лопахин притворно зевнул, помолчал. Улыбающийся Лисиченко, подбоченясь, смотрел на него, ждал ответа.
– Так просто ходил, знакомых искал, – равнодушно сказал Лопахин.
– А там одна была славненькая… Не клюнуло?
– Я и не старался, чтобы клюнуло.
– Ну, ты это брось! Я видел, как ты сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал. Не помогла, стало быть, и медаль? Да и как она тебе поможет? Будь у тебя, допустим, орден, тогда другое дело, а то, подумаешь, невидаль – медаль за отвагу! Там, браток, не с такими орденами попадаются.
– Дурак, – беззлобно сказал Лопахин. – Говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал, а так просто прошелся по хутору. После твоих харчей не очень-то разгуляешься. Последнее время я до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть.
– А что же тебе снится, герой?
– Постные сны вижу, всякая дрянь снится, вроде твоей каши.
«Охота им языками трепать», – подумал Николай и приподнялся, расправляя затекшие руки.
Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь.
– Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?
– Пойди с поваром поговори, у меня голова болит, – хмуро сказал Николай.
Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и понимающе покачал головой:
– Все ясно: подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль? Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело.
С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронебойщики, подпустив их на полтораста – сто метров, но, когда второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя с ходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая, глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли, но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка, хлопнул выстрел – и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой, черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая:
– Эй ты, брюнет с усами! Живой?
Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина.
– Что же ты не стреляешь, в гроб твою душу?! Не видишь, вон они лезут! – заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи.
Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшей на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик.
После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил:
– А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?
Николай повернулся лицом к свету, и Лопахин, увидев его, деловито сказал:
– Нашел я тебя все-таки! Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе.
Они присели около землянки, закурили.
– А ловко ты последний танк подбил, – сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. – Я думал, что вас обоих завалило землей, смотрю, высовывается ружье…
И тогда Лопахин насмешливо прервал его:
– Вот-вот, этого я и ждал… Моей работой ты восхищаешься, а почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищения!
Николай, улыбаясь, ответил, что заминка произошла у него в тот момент потому, что он опорожнил все диски.
Лопахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал:
– В бой собрался, а потом оказалось, что к бою-то ты не подготовлен? В наших отношениях с тобой одного только не хватает: ты бы, как наши союзнички, совесть в карман положивши, мне только патрончики подбрасывал да нахваливал меня, а я бы за тебя воевал… Так, что ли? На красоту были бы отношения!..
Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую, сильную руку, добродушно сказал:
– А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала – воевать вместе будем. Давай познакомимся, – мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовской области? Ну вот, а я из города Шахты. Будем друзьями.
С того дня они и на самом деле подружились простой и крепкой солдатской дружбой. Насмешливый, злой на язык, бабник и весельчак, Лопахин словно бы дополнял всегда сдержанного, молчаливого Николая. И, глядя на них, старшина Поприщенко – медлительный пожилой украинец – не раз говорил:
– Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельцова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить то тесто и слепить из него человека, может, и получился бы из двоих один настоящий человек, а может, и нет, кто ж его знает, что из этого месива вышло бы?
У речки певуче звенели пилы саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил:
– Давай за мост пойдем, там глубже будет.
Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора, им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые, мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом, черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом.
– Эй ты, щеголь! Возьми у ребят песчанки, и пойдем с нами купаться, как-нибудь ототрем тебя, – проходя, сказал Лопахин.
Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся:
– Вот, Микола, тягач так тягач! Сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Подержался я за него – и вроде как дома, в своей МТС, побыл… Этот мотор смело три сцепа комбайнов попрет, даю честное слово!
Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся, потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе.
* * *
Желтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом.
– Мрачноват ты нынче, Николай…
– А чему же радоваться? Не вижу оснований.
– Какие еще тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался! Солнце, речка, кувшинки вон плавают… Красота, да и только! Удивляюсь я тебе: старый ты солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь: если дали нам духу – так это уже все? Конец света? Войне конец?
Николай досадливо поморщился, сказал:
– При чем тут конец войне? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что́ произошло, я не могу. А ты именно так и относишься и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград… Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них и все топаем, и, когда упремся, неизвестно. Ведь это же тоска – вот так идти и не знать ничего! А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно!
Николай скрипнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением, потом заговорил уже спокойнее и тише:
– Ото всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь – живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают… Иди ты к черту со своими кувшинками, мне на них смотреть-то тошно! Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески, ты даже ухитрился вон в медсанбат сходить…
Лопахин с хрустом потянулся, сказал:
– Жалко, что ты со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на нее – и хоть сразу в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу!
– Слушай, иди ты к черту!
– Нет, серьезно! При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас! Не докторша, а шестиствольный миномет, даже опаснее для нашего брата солдата, не говоря уже про командиров.
Николай молча, угрюмо смотрел на отражение белого облачка в воде, и тогда Лопахин сдержанно и зло заговорил:
– А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать, понятно тебе? Бьют нас? Значит, поделом бьют. Воюйте лучше, сукины сыны! Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле, учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете, – не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас с хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне: почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чирей величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим? Брать-то их нам же придется или дядя за нас возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, – тогда и повернется немец задом на восток, понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня – шипеть слюна будет, потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно! А ты и хвост поджал, и слезой облился: «Ах, полк наш разбили! Ах, армию разбили! Ах, прорвались немцы!» Прах его возьми, этого проклятого немца! Прорваться он прорвался, но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем – то при наступлении вдесятеро больнее бить будем! Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им и отступать не придется: не на чем будет! Как только повернутся задом на восток – ноги сучьим детям повыдергиваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю, а тебе вот что скажу: при мне ты, пожалуйста, не плачь, все равно слез твоих утирать не буду, у меня руки за войну стали жесткие – не ровен час, еще поцарапаю тебя…
– Я в утешениях не нуждаюсь, дурень, ты красноречия не трать понапрасну, а лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем? – сказал Николай.
– В Си-би-ри? – протяжно переспросил Лопахин, часто моргая светлыми глазами. – Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка – мой второй номер – говорит: «Дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся». А я ему говорю: «Если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь – бронебойного патрона не пожалею, сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башню так и собью с плеч!» Он назад: говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил, разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют, да еще из хорошего противотанкового ружья? Ну, на том приятный разговор и покончили.
Лопахин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубелые подошвы ног, потом повернулся лицом к Николаю:
– Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева; эти слова будто бы один известный генерал сказал: «Если бы каждый красноармеец убил одного немца – война давно бы кончилась». Значит, мало мы их, гадов, бьем, так, что ли?
Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил:
– Арифметика довольно примитивная… Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению – война закончилась бы, пожалуй, еще скорее.
Лопахин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся:
– Как же генералы без нас могут сражения выигрывать, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается. Генерал без войска или с плохим войском, по-моему, то же самое, что жених без мужского отростка, а мы без генерала, что свадьба без жениха. Есть, конечно, и генералы, похожие на Сашку. Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы, да так до сих пор и клюют. Ну, он и уморился, духом упал и уже думает не о том, как бы немца побить, а о том, как бы его самого еще лишний раз не побили. Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так: чуть где неустойка на фронте вышла – шепотом генералов ругают: и такие они, и сякие, и воевать-то не умеют, и все лихо через них идет. А если разобраться по справедливости, то не всегда они виноваты, да и ругать бы их надо помягче, потому что генералы – самые несчастные люди на войне.
Ну, что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так и есть, как я говорю. Раньше, бывало, по глупости, я сам завидовал генеральскому званию. «Эх, – думаю, – до чего же чистая жизнь! Ходит нарядный, фазан фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать…» А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался.
Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком, и вот как-то подымают роту в атаку. Что-то замешкался я: по совести говоря, огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться, а командир взвода подбегает, «наганом» грозит и орет: «Вставай!» – и матом меня, понятно? Сходили мы в атаку, после этого я и думаю: «Ну, хорошо, я рядовой и получил за свою неисправность один матюжок; я отвечаю только за одного себя, а командир дивизии отвечает за тысячи людей; в случае неисправности с его стороны, сколько же он получает матюков? А командующий армией?» Начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь! Предпочитаю быть рядовым.
Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, не спит, все об одном думает; под глазами у него мешки от тяжелых размышлений, голова раскалывается от разных предположений: все ему надо предусмотреть, все предугадать… И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему! Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопахина, как на родного отца, а Петька сдрейфил и побежал, а за ним и Колька Стрельцов, а за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен бал! Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют, а те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала на чем свет стоит! Ругают потому, что искренне думают, будто один генерал во всем виноват, а они вовсе тут ни при чем. Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает, но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки – тысячи матюков! – как бабочки вокруг лампы порхают. А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы подымают на голове генерала красивую его фуражку, берет он трубку, а сам думает: «Несчастная моя мамаша! И зачем ты меня генералом родила!» По телефону его матерно не ругают: в Москве – вежливые люди живут, – но говорят ему, допустим, так: «Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували-одевали, поили-кормили, а вы такие номера откалываете? Грудному ребенку простительно пеленки пачкать, на то он и есть грудной ребенок, а вы не ребенок и испачкали не пеленки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь объяснить». Тихий такой голос говорит, вежливый, а у генерала от этого тихого голоса одышка начинается и пот по спине бежит в три ручья…
Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть! При всем моем честолюбии не желаю, и баста! И если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: «Берите, товарищ Лопахин, на себя командование энской дивизией», – то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на Кремлевскую стену и оттуда в Москву-реку – вот так!
Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал:
– Скорее окунайся, а то утоплю!
Николай с разбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину.
– Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий! – улыбаясь, говорил он и уже готовился схватить Лопахина, но тот скорчил испуганно-глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми, блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами…
Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца.
– До чего же здорово! Будто заново на свет народился! – сказал он Лопахину.
– После такого купания по стопке бы выпить да хороших домашних щей навернуть, а этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтоб он подавился ею! – раздраженно сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину. – Пойдем разве попросим щей у какой-нибудь старушки?
– Неудобно.
– Думаешь, не даст?
– Может, и даст, но как-то неудобно.
– Э, черт, а если б кухни не было? Какое там неудобство, пойдем! В своей родной области да чтобы щей не выпросить?
– Мы ведь не странники и не нищие, – нерешительно сказал Николай.
Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них – высокий и худой, с младенчески бесцветными глазами и крохотным ртом – нес в руке мокрый узелок, другой шел следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Синее, как у утопленника, лицо его зябко подергивалось, почерневшие губы дрожали. Красноармейцы поравнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил:
– Что у вас в узле, орлы?
– Раки, – ответил неохотно высокий.
– Ого! Где вы их достали?
– Возле плотины. Родники там, что ли? До того холодная вода, прямо страсть!
– Как же это мы с тобой не додумались! – с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая, и деловито спросил у высокого: – Сколько наловили?
– Около сотни, но они некрупные.
– Все равно для двоих это много, – решительно сказал Лопахин. – Принимайте в компанию и нас. Берусь достать ведро и соли, варить будем вместе, идет?
– Сами наловите.
– Да что ты, милый! Когда же мы теперь успеем? Угощай, не ломайся, а как только Берлин займем, пивом угощу, честное бронебойное слово!
Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул:
– Вот это утешил!
Лопахину, видно, очень хотелось попробовать вареных раков. Подумав немного, он сказал:
– Впрочем, могу и сейчас, по рюмке водки на нос у меня найдется, сохранял ее на случай ранения, но сейчас по поводу раков придется выпить.
– Пошли! – коротко сказал высокий, обрадованно блеснув глазами.
* * *
Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшая на одной петле ставня, прогнившие ступеньки крыльца – все говорило о том, что в доме нет мужских рук. «Хозяин, наверно, на фронте, значит, дело будет», – решил Лопахин.
Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и, приложив к глазам сморщенную, коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопахин подошел, почтительно поздоровался, спросил:
– А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить.
Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала:
– Соли вам? Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли!
Лопахин ошалело поморгал глазами, спросил:
– За что же такая немилость к нам?
– А ты не знаешь, за что? – сурово спросила старуха. – Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет, нагляделись на вас вволюшку! А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых, нету! Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было, сколько на свете живу, а не помню! По утрам уж слышно, как на задней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось? Чтоб вас на том свете солили, да не пересаливали! Не дам! Ступайте отсюдова!
Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал:
– Ну, и люта же ты, мамаша!
– А не сто́ишь ты того, чтобы к тебе доброй быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили небось не за раков?
– Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается.
Старуха, наклонившаяся было над рассыпанными кизяками, снова выпрямилась, и глубоко запавшие черные глаза ее вспыхнули молодо и зло.
– Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегли, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?
Лопахин закряхтел и сморщился, как от зубной боли.
– Это все мне без тебя известно, мамаша! Но ты напрасно так рассуждаешь…
– А как умею, так и рассуждаю… Годами ты не вышел меня учить.
– Наверно, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждала.
– Это у меня-то нет? Пойди спытай у соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого, младшего сынка, убили в Севастополе-городе, понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю, а заявись сейчас сыны, я бы их и на баз не пустила. Благословила бы палкой через лоб да сказала своим материнским словом: «Взялись воевать – так воюйте, окаянные, как следует, не таскайте за собой супротивника через всю державу, не срамите перед людями свою старуху-мать!»
Лопахин вытер платочком пот со лба, сказал:
– Ну, что ж… извините, мамаша, дело наше спешное, пойду в другом дворе добуду ведро. – Он попрощался и пошел по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: «Черт меня дернул сюда зайти! Поговорил, как меду напился…»
– Эй, служивый, погоди-ка!
Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним. Молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя немного вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске.
– Посуду тогда принеси, – все так же строго сказала она.
Всегда находчивый и развязный, Лопахин невнятно пробормотал:
– Что ж, мы люди не гордые. Можно взять… Спасибо, мамаша! – И почему-то вдруг низко поклонился.
А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще…
Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке под плетнем, курили. В свернутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились раки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце, сказал:
– Что-то долго не идет наш бронебойщик, видно, никак ведра не выпросит. Не успеем раков сварить.
– Успеем, – сказал другой. – Капитан Сумсков с батальонным комиссаром только недавно пошли к зенитчикам на телефон.
А потом они заговорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что лобогрейками трудно будет косить такую густую, полегшую пшеницу, что женщинам очень тяжело будет в этом году управляться с уборкой и что, пожалуй, немцу много достанется добра, если отступление не приостановится. Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на завалинке, и, прислушиваясь к их грубым голосам, Николай думал: «Только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались и вот уже говорят об урожае. Звягинцев возится с трактором, Лопахин хлопочет, как бы сварить раков… Все для них ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война – это вроде подъема на крутую гору: победа там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на заднем плане, главное – добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова подымаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!»
Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба, но вскоре размышления его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал:
– Ну и жарища! Прямо адово пекло. – И испытующе взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет.
– Насчет щей интересовался? – спросил Николай.
– Какие там щи, если раков будем варить! – раздраженно ответил Лопахин.
– Что же ты так долго там пробыл?
Лопахин воровато повел глазами, ответил:
– Старушка такая веселая, разговорчивая попалась, никак не уйдешь. Все ее интересует: кто мы, да откуда, да куда идем… Прямо прелесть, а не старушка! Сыны у нее тоже в армии, ну, она увидела военного и, конечно, растаяла, угощать затеялась, сметаны предлагала…
– И ты отказался? – испуганно спросил Николай. Лопахин смерил его уничтожающим взглядом.
– Что я, странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?
– Напрасно отказался, – грустно сказал Николай. – За сметану можно бы было заплатить ей.
Глядя в сторону, Лопахин сказал:
– Я не знал, что ты такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Ну да это дело поправимое: обратно ведро я не понесу, хватит с меня этого удовольствия, ты отнесешь и, кстати, сметаны попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмет. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала: «До того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова все им отдать!» Ну, пошли, а то раки наши подохнут к черту!
* * *
Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопахин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни из окутанной паром воды. Приторный запах разваренного укропа стоял возле костра, и Лопахин время от времени шевелил ноздрями, вкусно причмокивал и говорил:
– Ну, просто совсем как на Садовой в Ростове, в гостинице «Интурист»: укропчиком пахнет, свежими раками… Полдюжины пива бы сюда, ледяного, «трехгорного», и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи! От этих ароматов я в огонь могу свалиться!
По переулку, с интервалами, шли на восток автомашины медсанбата. Последней прошла открытая американская машина, новенькая, тускло отсвечивающая зеленой краской, но уже во многих местах продырявленная пулями, с изуродованным осколками капотом. Прислонясь к бортам, в ней сидели легкораненые; оттеняя их смуглые, загорелые лица, ослепительно белели свежие бинты.
– Хоть бы брезентом накрыли машину, – с досадой сказал Николай. – Испекутся ведь на такой жаре!
Высокий красноармеец проводил взглядом раненых, вздохнул.
– За каким лешим понесло их днем? Степь голая, налетят самолеты, ну и наделают лапши. Соображения у людей нету!
– А может, они по необходимости тронулись, – возразил другой. – Вон что-то и саперы перестали молотками стучать, одни мы прохлаждаемся.
Николай прислушался: в хуторе стояла нехорошая тишина, слышался только удаляющийся шум автомашин да беззаботное воркование горлинки, но вскоре с запада донесся знакомый, стонущий гул артиллерийской стрельбы.
– Улыбнулись нам раки! – с отчаянием в голосе воскликнул Лопахин и замысловато, по-шахтерски выругался.
Раков действительно не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, подергивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал:
– Товарищи! Получен приказ: занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка, надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего!
Полк выступил из хутора. Звягинцев толкнул Николая локтем и, оживленно блестя глазами, сказал:
– В бой идти со знаменем – это подходяще, а уж отступать с ним – просто не дай бог! За эти дни так оно мне глаза намозолило, что я не раз думал: «Хоть бы его Петьке Лисиченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вез, а то идем к противнику спиной и со знаменем». Даже как-то конфузно перед людями было и за себя и за это знамя… – Он помолчал немного и спросил: – Как предполагаешь, устоим?
Николай пожал плечами, уклончиво ответил:
– Надо бы устоять. – А про себя подумал: «Вот она, романтика войны! От полка остались рожки да ножки, сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей да кухню, а теперь вот идем становиться заслоном… Ни артиллерии, ни минометов, ни связи. Интересно, от кого капитан получил приказ? От старшего по званию соседа? А где он, этот сосед? Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки, но они, наверное, потянутся к Дону прикрывать переправу. А чего, собственно, они околачивались в этом хуторе? Все устремились к Дону, по степям бродят какие-то дикие части, обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом, и нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок… И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении!»
На минуту Николай тревожно подумал: «А что, если окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти?»
Но настолько сильна была горечь перенесенного поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и, мысленно махнув на все рукой, он с веселой злостью подумал: «Э, да черт с ним! Скорее к развязке! Если успеем окопаться – на фрицах сегодня отыграемся! Ох, и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило. Народ остался в полку бывалый, большинство – коммунисты, и капитан хорош – продержимся!»
Около ветряной мельницы босой белоголовый мальчик, лет семи, пас гусей, он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищенно рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза: до чего же похож! Такие же, как у старшего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы… Неуловимое сходство было и в чертах лица, и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то он теперь, его маленький, бесконечно родной Николенька Стрельцов? Захотелось еще раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына, но Николай сдержался: перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце. Он вспомнит и подумает о своих осиротелых детишках и об их плохой матери не в последнюю минуту, как принято писать в романах, а после того, как отбросят немцев от безымянной высоты. А сейчас автоматчику Николаю Стрельцову надо плотнее сжать губы и постараться думать о чем-либо постороннем, так будет лучше…
Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в вещевом мешке патронов, но потом все же не выдержал искушения, оглянулся: мальчик, пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко, прощально помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, а к горлу подкатил трепещущий горячий клубок.
* * *
Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие, крошащиеся куски, оставляя на месте среза глянцевито-блестящий след.
Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал две короткие пулеметные очереди и ушел на восток.
«Теперь вскорости жди гостей», – заговорили красноармейцы.
Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной, по лицу бисером катился пот.
– Это не земля, а увечье для народа! – сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо. – Ее порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять. Спасибо хоть немец не нажимает, а то, под огнем лежа, в такую землю не сразу зароешься.
Николай прислушался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку.
В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжко колотилось сердце, и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и, с остервенением сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа.
– Ну как, доходная работенка? – спросил Звягинцев.
– Вполне.
– Вот, Микола, война так война! Сколько этой землицы лопаткой перепашешь, прямо страсть! Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь!
– А ну, кончай разговоры! – строго крикнул лейтенант Голощеков, и Звягинцев с не присущей ему ловкостью нырнул в окоп.
Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку, в выдолбленную в передней стенке нишу сложил диски и гранаты, в ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудреным солдатским имуществом россыпью лежали патроны, и только тогда внимательно осмотрелся по сторонам.
Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого терна и боярышника. Два глубоких оврага, начинаясь с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут.
Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. Устало привалившись спиной к стенке окопа, Николай смотрел на бурую, выжженную степь, густо покрытую холмиками старых сурчиных нор, на скользившего над верхушками ковыля такого же белесого, как ковыль, степного луня. В просветах между стебельками полыни виднелась непроглядно густая синева неба, а на дальней возвышенности в дымке неясно намечались контуры перелесков, отсюда казавшихся голубыми и словно бы парящими над землей.
Николая томила жажда, но он отпил из фляги только один глоток, зная по опыту, как дорога во время боя каждая капля воды. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре. В томительном ожидании прошло еще с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их четырнадцать. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый бронированный бензозаправщик.
И вот наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьются сердца и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую, сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство и источники, порождающие его; когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом… А потом, Коля, свидание со смертью – это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете: ты и она… Каждый человек живой, чего же ты хочешь?»
Николай знал, что, как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие: короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму… Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело стало делать десятки мелких, ненужных движений: зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть, потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрываясь взглядом от балки, немного подвинул автомат, а когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, носком сапога нащупал и растоптал их, раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош, пошевелил плечами… Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева.
В балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост шла пехота.
«До чего же обнаглели проклятые! Идут, как на параде… Ну, мы вам сейчас устроим встречу! Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам», – думал Николай, с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как, словно от ветра, колыхнулся росший метрах в двухстах впереди куст боярышника и, срезанные пулями, с него посыпались листья и ветки.
Танки повели с ходу и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая высоты, по большей части около кустов, а потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам, и Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться.
Когда танки прошли бо́льшую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики, в бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы.
Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем.
Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов, второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя по пытавшейся подняться пехоте, по щелям, по выскакивавшим из люков горевших машин танкистам.
Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на сто двадцать, воспользовавшись тем, что прикрывавшее центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение.
Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната.
С левой стороны танка поднялся прорезанный косым, бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт.
Умолкшее за несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок.
Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину, спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми, пенистыми клубами.
Придавленная пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин.
Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева:
– Микола! Умыли мы их, б…! Они с ходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!
Николай зарядил порожние диски, попил немного противно теплой воды из фляги, посмотрел на часы. Ему казалось, что бой длился несколько минут, а на самом деле с начала атаки прошло больше получаса, заметно склонилось на запад солнце, и лучи его уже стали утрачивать недавнюю злую жгучесть.
Еще раз глотнув воды, Николай с сожалением отнял от пересохших губ фляжку, осторожно выглянул из окопа. В ноздри ему ударил тяжелый запах горелого железа и бензина, смешанный с горьким, золистым духом жженой травы. Около ближайшего танка выгорала трава, по верхушкам ковыля метались мелкие, почти невидимые в дневном свете язычки пламени, на склоне дымились обугленные, темные остовы неподвижных танков, и словно бы больше стало холмиков возле сурчиных нор, только теперь не все они были однообразно бурого цвета, многие из них отсюда, с высоты, казались более плоскими, серо-зелеными, и Николай, всмотревшись, понял, что это трупы убитых немцев, и в душе пожалел, что серо-зеленых холмиков не так-то уж много, как хотелось бы ему…
Из балки застучали пулеметы. Николай спрятал за бруствером голову; отдыхая, привалился потной спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там, в этой холодной, ко всему равнодушной синеве ничто не изменилось: так же высоко и плавно кружил степной подорлик, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями; белое с лиловым подбоем облачко, похожее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, по-прежнему стояло в зените и словно совсем не двигалось; все так же откуда-то с вышины звучали простые, но безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонков; лишь слегка прозрачнее выглядела туманная дымка на дальней возвышенности, и обрамлявшие ее перелески теперь уже не казались невесомыми и как бы парящими над землей, а стали синее и приобрели осязаемую на взгляд, грубоватую плотность…
Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение, но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший за высотой грейдер: танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону.
И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота, и снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек и, уже горящий, все еще пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башней, вел огонь, а по накалившейся броне его уже стремительно скользили иссиня-желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще-темная краска.
Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие и порою закрытые солнцем фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка, но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза.
– Опять их умыли… – зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. – Ты живой, Микола? Живой? Ну и хорошо. Хватит ли у нас припасу умывать их до конца, вот в чем беда… Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб…
Он еще что-то бормотал приглушенно и невнятно, но Николай уже не слушал его: низкий, прерывистый, басовитый гул летевших где-то немецких самолетов приковал к себе все его внимание.
«Только этого и недоставало…» – подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце.
Двенадцать «Юнкерсов» шли северо-западнее высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый момент Николай, определив направление их полета, так и порешил, что самолеты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав: «Пронесло!» Но почти тотчас же увидел, как четверка самолетов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту.
Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу стремительно и косо падавшему на него самолету. К ревущему вою мотора присоединился короткий, нарастающий визг бомбы.
Николай не слышал потрясшего землю, обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая, тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень, и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный…
Очнулся Николай, когда самолеты, с двух заходов ссыпав свой груз, давно уже удалились и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску.
Вокруг Николая гремел ожесточенный бой. Из последних сил держались считаные бойцы полка; слабел их огонь: мало оставалось способных к защите людей; уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты; оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух, при каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли… Из носа у него шла кровь, щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукою по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял все: немцы были близко.
Слабыми руками долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск, долго приподнимался, пытаясь встать на колени. У него кружилась голова, кислый запах извергнутой пищи порождал новые приступы тошноты. Но он преодолел и тошноту, и головокружение, и отвратительную, обезволившую все его тело слабость. И он стал стрелять, глухой и равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями: жить и биться до последнего!
Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились три «KB», сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады, и до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад, к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу.
Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались…
Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощеков и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости лицами, он понял, что́ произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса; он тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в бесплодных попытках упереться старчески бессильно, жалко заскользили, заметались по шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог… Николай навалился грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно – сбылось! – высоту отстояли, и вовремя подошла подмога, и бежит трижды проклятый, ненавистный враг!..
Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками Звягинцев и остальные; не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой прижимая к боку выставленный вперед автомат; не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков… Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами; правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки; иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся голоском:
– Орелики! Родные мои, вперед!.. Дайте им жизни!
Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая, трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь – спасительное и долгое беспамятство.
* * *
Подожженные немецкими авиабомбами, всю ночь горели на корню огромные массивы созревших хлебов. Всю ночь вполнеба стояло багровое, немеркнущее, трепетное зарево, и в этом освещавшем степь жестоком сиянии войны голубой и призрачный свет ущербленного месяца казался чрезмерно мягким и, пожалуй, даже совсем ненужным.
Запах гари вместе с ветром перемещался на восток, неотступно сопровождая отходивших к Дону бойцов, преследуя их, как тягостное воспоминание. И с каждым километром пройденного пути все мрачнее становилось на душе у Звягинцева, словно горький, отравленный воздух пожарища оседал у него не только на легких, но и на сердце…
По дороге к переправе шли последние части прикрытия, тянулись нагруженные домашним скарбом подводы беженцев, по обочинам проселка, лязгая гусеницами, подымая золистую пыль, грохотали танки, и отары колхозных овец, спешно перегоняемых к Дону, завидев танки, в ужасе устремлялись в степь, исчезали в ночи. И долго еще в темноте слышался дробный топот мелких овечьих копыт, и, затихая, долго еще звучали плачущие голоса женщин и подростков-гонщиков, пытавшихся остановить и успокоить ошалевших от страха овец.
В одном месте, обходя остановившуюся на дороге автоколонну, Звягинцев сорвал на краю поля уцелевший от пожара колос, поднес его к глазам. Это был колос пшеницы «мелянопус», граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, и весь он – обезображенный огнем и жалкий – насквозь пропитался острым запахом дыма.
Звягинцев понюхал колос, невнятно прошептал:
– Милый ты мой, до чего же ты прокоптился! Дымом-то от тебя воняет, как от цыгана… Вот что с тобой проклятый немец, окостенелая его душа, сделал!
Он бережно размял колос в ладонях, вышелушил зерно, провеял его, пересыпая из руки в руку, и сыпал в рот, стараясь не уронить ни одного зернышка, а когда стал жевать, раза три тяжело и прерывисто вздохнул.
За долгие месяцы, проведенные на фронте, много видел Звягинцев смертей, людского горя, страданий; видел разрушенные и дотла сожженные деревни, взорванные заводы, бесформенные груды кирпича и щебня на месте, где недавно красовались города, видел растоптанные танками и насмерть покалеченные артиллерийским огнем фруктовые сады, но горящий спелый хлеб на огромном степном просторе за все время войны довелось ему в этот день видеть впервые, и душа его затосковала. Долго шел он, глотая невольные вздохи, сухими глазами внимательно глядя в сумеречном свете ночи по сторонам на угольно-черные, сожженные врагом поля, иногда срывая чудом уцелевший где-либо возле обочины дороги колос пшеницы или ячменя, думая о том, как много и понапрасну погибает сейчас народного добра и какую ко всему живому безжалостную войну ведет немец.
Только иногда глаза его отдыхали на не тронутых огнем зеленых разливах проса да на зарослях кукурузы и подсолнуха, а потом снова расстилалась по обеим сторонам дороги выжженная земля, такая темная и страшная в своей молчаливой печали, что временами Звягинцев не мог на нее смотреть.
Тело его смертельно устало и молило об отдыхе, но отягощенный виденным ум продолжал бодрствовать, и Звягинцев, размышляя о войне и чтобы отогнать от себя сон, чуть слышно заговорил:
– Ах, немец ты, немец, паразит ты несчастный! Привык ты, вредный гад, всю жизнь на чужой земле топтаться и нахальничать, а вот как на твою землю перейдем с войной, тогда что? Тут у нас развязно ты себя держишь, очень даже развязно, и мирных баб с мирными детишками сничтожаешь, и вот, изволь видеть, какую махину хлеба спалил, и деревни наши рушишь с легким сердцем… Ну, а что же с тобой будет, когда война на твою фрицовскую землю перехлестнется? Тогда запоешь ты, немец, окостенелая твоя душа, на другой лад! Сейчас ты, в окопах сидя, на губных гармошках играешь, а тогда и про гармошку забудешь, подымешь ты тогда морду кверху, будешь глядеть вот на этот ясный месяц и выть дурным собачьим голосом, потому что погибель твоя будет к этому времени у тебя на воротнике висеть и ты это дело нюхом почуешь! Столько ты нам, немец, беды наделал, столько посиротил детишек и повдовил наших жен, что нам к тебе непременно надо идти расквитываться. И ни один наш боец или командир не скажет тебе тогда милосердного слова, ни одна душа не подымется на твое прощение, уж это точно! И я непременно доживу до того дня, немец, когда по твоей поганой земле с дымом пройдемся, и погляжу я тогда, гад ты ползучий и склизкий, каким рукавом ты будешь слезу у себя вытирать. Должен я этого достигнуть потому, что невыносимо злой я на тебя и охота мне тебя доконать и упокоить на веки вечные в твоем змеином гнезде, а не тут, в какой-нибудь нашей губернии…
Так и шел он, тихо бормоча, обращаясь к неведомому юнцу, в этот момент олицетворявшему для него всю немецкую армию и все зло, содеянное этой армией на русской земле, зло, которое во множестве видел Звягинцев за время войны, зло, которое и сейчас светило ему в пути зловещими отсветами пожаров.
Мысли вслух помогали Звягинцеву бороться со сном, и как-то утешнее становилось у него на сердце от сознания, но все равно, рано или поздно, но не уйти врагу от расплаты, как бы ни рвался он сейчас вперед, как бы ни пытался отсрочить свою неминучую гибель.
– Придем к тебе с разором, собачий сын, придем! Любишь в гости ходить – люби и гостей принимать! – чуть погромче сказал взволнованный своими рассуждениями Звягинцев.
И в это время устало топавший сзади Лопахин положил ему руку на плечо, спросил:
– Что это ты, комбайнер, бормочешь, как тетерев на току? Подсчитываешь, сколько хлеба сгорело? Брось, не мучайся, на эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Тут профессора математики надо приглашать.
Звягинцев умолк, а потом уже другим, тихим и сонным голосом ответил:
– Это я сон от себя разговором прогоняю… А хлеб мне, как крестьянину, конечно, жалко. Боже мой, какой хлеб-то пропал! Сто, а то и сто двадцать пудов с гектара, это, брат, понимать надо. Вырастить такой хлебец – это тебе не угля наковырять.
– Хлеб, он сам растет, а уголь добывать надо, ну, да это не твоего ума дело, лучше объясни мне, почему ты, как сумасшедший, сам с собой разговариваешь? Поговорил бы со мною, а то бормочешь что-то про себя, а я и думаю: в уме он или последний за эту ночь выжил? Ты сам с собой не смей больше разговаривать, я эти глупости строго воспрещаю.
– Ты мне не начальство, чтобы воспрещать, – с досадой сказал Звягинцев.
– Ошибаешься, дружок, именно я теперь и начальство над тобой.
Звягинцев на ходу повернулся лицом к Лопахину, угрюмо спросил:
– Это почему же такое ты оказался в начальниках?
Лопахин постучал обкуренным ногтем по каске Звягинцева, насмешливо сказал:
– Головой надо думать, а не этой железкой! Почему я начальство над тобой, говоришь? А вот почему: при наступлении командир находится впереди, так? При отступлении – сзади, так? Когда высоту за хутором обороняли, мой окоп был метров на двадцать вынесен впереди твоего, а сейчас вот я иду сзади тебя. Теперь и пораскинь своим убогим умом, кто из нас начальник – ты или я? И ты мне должен в настоящее время не грубить, а, наоборот, всячески угождать.
– Это, то есть, почему же? – еще более раздраженно спросил Звягинцев, плохо воспринимавший шутки и не переносивший балагурства Лопахина.
– А потому, еловая твоя голова, что от полка остались одни мелкие осколки, и если еще малость повоевать с таким же усердием, как и раньше, отстоять еще одну-две высотки, – то как раз останется нас в полку трое: ты да я да повар Лисиченко. А раз трое нас останется, то окажусь я в должности командира полка, а тебя, дурака, назначу начальником штаба. Так что на всякий случай ты дружбу со мной не теряй.
Звягинцев сердито дернул плечом, поправляя винтовочный ремень, и, не поворачиваясь, сдержанно сказал:
– Таких, как ты, командиров не бывает.
– Почему?
– Командир полка должен быть серьезный человек, самостоятельный на слова…
– А я разве несерьезный, по-твоему?
– А ты балабон и трепло. Ты всю жизнь шутки шутишь и языком, как на балалайке, играешь. Ну какой из тебя может быть командир? Грех один, а не командир.
Лопахин слегка покашлял, и, когда заговорил снова, в голосе его явственно зазвучали смешливые нотки:
– Эх, Звягинцев, Звягинцев, простота ты колхозная! Командиры бывают разные по уму и по характеру, бывают среди них и серьезные, и веселые, и умные, и с дурцой, а вот уж начальники штабов все на одну колодку деланные, все они – праведные умницы. В прошедшие времена, доложу я тебе, были такие случаи: командир глуп, как бутылочная пробка, но по характеру человек отважный, напористый, на горло ближнему своему умеет наступить, кое-что в военном деле смыслит, ну, и, конечно, грудь у него, как у старого воробья, колесом, усы в струнку, голос для команды зычный, матерными словами он, браток, владеет в совершенстве, словом, орел-командир, и больше ничего не скажешь. Но в войне на одной бравой выправке далеко не уедешь, ты согласен с этим?
Звягинцев охотно согласился, и Лопахин продолжал:
– Вот в таком случае и дают командиру умного начальника штаба. Глядишь, куда лучше дела у нашего орла-командира пошли! Высшее начальство им довольно, авторитет этого командира растет, будто на дрожжах, все командира прославляют, все о нем говорят, а начальник штаба – умный такой, собака, но замухрыжистый от скромности – под командирской славой, как цветок под лопухом, в тени прячется… Никто его до поры до времени не чествует, никто Иван Ивановичем не зовет, а всему делу он голова, командир-то только вроде вывески. Вот такие дела бывали при царе Фараоне.
Довольно улыбаясь, Звягинцев сказал:
– Иногда ты, Петя, толковые штуки говоришь. Конечно, если мне, скажем к примеру, быть бы возле тебя вроде как бы начальником штаба – то уж я не дал бы тебе всякие глупости вытворять! Все-таки я человек серьезный, а ты, не в обиду тебе будь сказано, с ветерком в голове. Понятно, что при мне у тебя дела пошли бы лучше.
Лопахин огорченно покачал головой, с упреком сказал:
– Вот какой ты, Звягинцев, нехороший человек! Все слова мои повернул в свою пользу…
– Как, то есть, я их повернул? – настороженно спросил Звягинцев.
– Повернул к своей выгоде – вот и все. Неудобно так делать!
– Постой-ка, ты же сам говорил, что при умном начальнике штаба у командира дела идут лучше, говорил ты так или нет?
С лицемерным смирением Лопахин ответил:
– Говорил, говорил, я от своих слов не отказываюсь. Это факт, что дела идут лучше, когда у глуповатого командира умный начальник штаба, но у нас-то с тобой будет как раз наоборот: из меня выйдет толковый командир, а ты, хоть и без князька в голове, все же будешь у меня начальником штаба. Теперь тебе, конечно, безумно интересно знать, почему я именно тебя, такого дурака, и вдруг назначу начальником штаба? Сейчас все объясню, не волнуйся. Во-первых, назначу я тебя только тогда, когда в полку из рядового состава останется в целости только один повар, на веки вечные проклятый богом Петька Лисиченко. Его я переведу в стрелки, им буду командовать, а ты будешь разрабатывать всякие мои стратегические замыслы, попутно кашку будешь варить и тянуться передо мной будешь, как сукин сын. Во-вторых, если, кроме Петьки Лисиченко, в составе полка останется еще хоть несколько бойцов – то не видать тебе должности начштаба, как своих ушей! Тогда самое большее, на что ты можешь рассчитывать, – это должность адъютанта при моей высокой особе. Будешь у меня по совместительству адъютантом и ординарцем. Сапоги будешь мне чистить, за обедом и за водкой на кухню бегать, ну и все такое прочее по хозяйству…
Разочарованно слушавший Звягинцев ожесточенно сплюнул и промолчал. Шагавший рядом с Лопахиным красноармеец тихо засмеялся, и тогда Звягинцев, как видно, выведенный из терпения, сказал:
– Балалайка ты, Лопахин! Пустой человек. Не дай бог под твоим командованием служить. От такой службы я бы на другой же день удавился. Ведь ты за день набрешешь столько, что и в неделю не разберешь.
– А ну, поаккуратней выражайся, а не то и в ординарцы не возьму.
– Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? – помолчав, спросил Звягинцев.
Лопахин протяжно зевнул, сказал:
– Оно у меня и сейчас есть, а что?
– Что-то не видно по тебе.
– А я свое горе на выставку не выставляю.
– А какое же у тебя, к примеру, горе?
– Обыкновенное по нынешним временам. Белоруссию у меня немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой небось заняли, а там у меня жена, отец-старик, шахта, на какой я с детства работал… Товарищей многих за войну я потерял навсегда… Понятно тебе?
– Вот видишь, какой ты человек? – воскликнул Звягинцев. – Этакое у тебя горе, а ты все шутки шутишь. И после этого можно считать тебя серьезным человеком? Нет, пустой ты человек, одна внешность в тебе, а больше ничего нету. Удивляюсь я: как это тебя бронебойщиком поставили? Бронебойщик – это дело серьезное, не по твоему характеру, а характер у тебя веселый, ветреный, и, скажем, в духовом оркестре на какой-нибудь трубе играть, в медные тарелки бить или в барабан деревянной колотушкой стукать было бы для тебя самое подходящее дело.
– Звягинцев, опомнись! Скажи, что эти глупости ты спросонок наговорил, иначе влетит тебе от меня, – с притворным гневом прорычал Лопахин.
Но Звягинцев уже окончательно поборол одолевавший его сон и продолжал говорить с увлечением, иногда поворачиваясь лицом к Лопахину, заглядывая в его сонные, но смеющиеся глаза.
– А находишься ты не на своем месте, Петя, потому, что некоторые военные начальники по характеру вроде тебя: со сквозняком в голове. К примеру, почему меня сунули в пехоту, если я комбайнер по специальности и невыносимо люблю и уважаю всякие моторы? Вся статья мне бы в танкистах быть, а я в пехоте землю, как крот, ковыряю. Или же взять тебя: тебе бы только на барабане бить, людей музыкой веселить, а ты, изволь радоваться, бронебойщик, да еще первым номером заправляешь. А то и еще лучше истории бывают. Наша часть, в какую я сначала попал, формировалась на Волге в одном городке, там же стоял казачий кавалерийский запасный полк. И вот прибыло пополнение с Дона и из Ставропольской бывшей губернии. Казаков и ставропольцев определили к нам в пехоту: в саперы пошли казаки, в телефонисты, черт-те куда только их не совали, а ремесленники из Ростова прибыли мобилизованные – их воткнули в кавалерию, штаны на них надели казачьи с красными лампасами, синие мундиры и так и далее. И вот казаки топорами тюкают, мосты учатся ладить да вздыхают, на лошадей глядя, а ростовские – все они мастеровые люди до войны были: то столяры, то маляры, то разные и подобные тому переплетчики – возле лошадей вертятся, боятся к ним приступать, потому что лошадей в мирное время они, может, только во сне и видели. А лошадей в полк прислали с Сальских калмыцких степей – трехлеток, неуков, совсем то есть необъезженные. Понимаешь, что там было? И смех и слезы! Бедные столяры-маляры начнут седлать иную необъезженную лошадь, соберутся вокруг нее несколько человек, а она, проклятая, визжит, бьет передом и задом, кусается, а то упадет наземь и катается по ней, как некоторые непутевые женщины, которые в обмороки падают… Это что, порядок? Один раз я возле железнодорожного склада на посту стоял и видел, как маршевый эскадрон на фронт отправляли. Командир эскадрона командует седловку, а из полтораста бойцов человек сорок вот таких ростовских маляров да столяров по-настоящему седла накинуть лошади на спину не умеют, ей-богу, не брешу! Эскадронный схватился за голову руками и ругается так, что муха не пролетит, а чем эти столяры-маляры виноватые? Вот, братец ты мой, какие дела бывают! А все это потому, что иногда командиры такие попадаются, вроде тебя, с ветродуем в голове.
– Тронул я тебя на беду, – с нарочитым вздохом сказал Лопахин. – Тронул, а ты теперь и несешь околесицу, все в одну кучу собрал, и за здравие и за упокой читаешь, а все это для того, чтобы доказать, что командира из меня не выйдет. Назло тебе командиром стану, вот уж тогда я из тебя дурь выбью, вытяну тебя в ниточку и сквозь игольное ушко пропущу! Мне Коля Стрельцов, перед тем как в госпиталь его отправили, поручил за тобою присматривать. «Смотри, – говорит, – за этой полудурой, за Звягинцевым, а то не ровен час еще убьют его по глупости». Ну, вот я оберегаю тебя. Дай, думаю, заговорю с ним, отвлеку его от мрачных мыслей. А теперь и сам не рад, что затронул тебя. Теперь я уже думаю, чем бы тебе рот заткнуть, чтобы ты помолчал немного… Сухаря пожевать хочешь?
– Дай один.
– На два, только замолчи, не спорь со мной. Ужасно не люблю, когда подчиненные мне противоречат.
Звягинцев фыркнул, но сухарь все же взял, с хрустом разжевывая его, сонно заговорил:
– Вот Микола Стрельцов был настоящий, серьезный человек, не то что ты, пустозвон. И это ты врешь, чтобы он меня полудурой назвал. Он меня невыносимо уважал, и я его также. Мы с ним всегда и об семейной жизни разговаривали и обо всем вообще. Вот из него бы вышел командир, потому что человек он самостоятельный на слова, шибко грамотный: агрономом до войны работал. Его за серьезность характера даже жена бросила. А ты что есть такое? Шахтер, угольная душа, ты только уголь ковырять и можешь да из длинного своего ружья стреляешь кое-как, с грехом пополам…
Звягинцев долго еще говорил о достоинствах Стрельцова, а потом речь его стала тише, несвязней, и он умолк. Некоторое время он шел, низко опустив голову, спотыкаясь, и вдруг резко качнулся, вышел из рядов и направился в сторону. Лопахин увидел, как ноги Звягинцева на ходу стали медленно подгибаться в коленях, и понял, что Звягинцев уснул и вот-вот упадет. Бегом догнав товарища, Лопахин крепко взял его за локоть, встряхнул.
– Давай задний ход, Аника-воин, нечего походный порядок ломать, – ласково сказал он.
И так неожиданны были и необычайны эти теплые нотки в грубом голосе Лопахина, что Звягинцев, очнувшись, внимательно посмотрел на него, хрипло спросил:
– Я что-то вроде задремал, Петя?
– Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке, Не поддержи я тебя сейчас, ты бы на бровях прошелся. Ведь вот сила у тебя лошадиная, а на сон ты слабый.
– Это верно, – согласился Звягинцев. – Я опять могу уснуть на ногах. Ты, как только увидишь, что я голову опускаю, пожалуйста, стукни меня в спину, да покрепче, а то не услышу.
– Вот уж это я с удовольствием сделаю, стукну на совесть прикладом своей пушки промеж лопаток, – пообещал Лопахин и, обнимая Звягинцева за широкое плечо, протянул кисет: – На, Ваня, сделай папироску, сон от тебя и отвалит. Уж больно вид у тебя, у сонного, жалкий, прямо как у пленного румына, даже еще хуже.
Покорно следуя за Лопахиным, Звягинцев нерешительно подержал кисет в руке, со вздохом сожаления сказал:
– Тут всего на одну цигарку, бери обратно, не стану я тебя обижать. Вот до чего мы табачком обнищали…
Лопахин отвел руку товарища, сурово проговорил:
– Закуривай, не рассуждай! – И, за напускной суровостью тщетно стараясь скрыть стыдливую мужскую нежность, закончил: – Для хорошего товарища не то что последний табак не жалко отдать, иной раз и последней кровинкой пожертвовать не жалко… А ты – товарищ подходящий и солдат ничего себе, от танков не бегаешь, штыком работаешь исправно, воюешь со злостью и до того, что с ног валишься на ходу. А я страсть уважаю таких неравнодушных, какие воюют до упаду: с немецкой подлюгой воевать надо сдельно, подрядился и дуй до победного конца, холоднокровной поденщиной тут не обойдешься.
Так что кури, Ваня, на доброе здоровье. А потом, знаешь, что? Ты, пожалуйста, за шутки мои не обижайся, может быть, мне с шуткой и жить и воевать легче, тебе же это неизвестно?
* * *
Последняя ли щепотка табаку, полученная от товарища в трудную минуту, ласковые ли нотки дружеского сочувствия, проскользнувшие в голосе Лопахина, а быть может, и острое чувство одиночества, которое испытывал Звягинцев после того, как Николая Стрельцова увезла в медсанбат попутная двуколка, но что-то толкнуло Звягинцева на сближение с Лопахиным.
На заре, когда остатки полка влились в соединение, занявшее оборону на подступах к переправе, Звягинцев уже иначе, чем прежде, посматривал на ладившего запасную позицию Лопахина. Сам он, как всегда, кряхтя и ругая твердый грунт и горькую свою солдатскую жизнь, быстро отрыл окоп, а потом подошел к Лопахину, улыбаясь краешками губ, сказал:
– Давай пособлю, а то предбудущему командиру полка как-то вроде неудобно в земле ковыряться… – И, поплевав на руки, взялся за лопатку.
Лопахин с молчаливой признательностью принял услуги Звягинцева, но через несколько минут уже начальственно покрикивал на него, донимая непристойными шутками, и, похлопывая ладонью по горячей и мокрой от пота спине нового приятеля, говорил:
– Рой глубже, богомолец Иван! Что ты по-стариковски все больше сверху елозишь. В земляной работе, как и в любви, надо достигать определенной глубины, а ты норовишь сверху копаться. Поверхностный ты человек, через это тебе жена и письма редко шлет, вспомнить тебя, черта рыжего, ничем добрым не может…
Сухой, жилистый Лопахин работал с профессиональной горняцкой сноровистостью и быстротой, почти не отдыхая, не тратя времени на перекурки. На смуглом лице его с въевшейся в поры синеватой угольной пылью слезинками блестели капельки пота, тонкие злые губы были плотно сжаты. Он ловко выворачивал лопаткой попадавшиеся в суглинке камни, а когда крупный камень не поддавался его усилиям, сквозь стиснутые зубы цедил такие фигурные, замысловатые ругательства, что даже Звягинцев – большой знаток по этой части – на минуту удивленно выпрямлялся, качал головой и, облизывая пересыхающие губы, укоризненно говорил:
– Господи боже мой, до чего же ты, Петя, сквернословить горазд! Да ты бы как-нибудь пореже ругался и не так уж заковыристо. Ругаешься-то не по-людски, будто по лестнице вверх идешь, – ждешь и не дождешься, когда ты на последнюю ступеньку ступишь…
Лопахин скупо обнажал в улыбке белые зубы и, блестя озорными светлыми глазами, говорил:
– Это, браток, кто кого привык чаще вспоминать. У тебя вон за каждым словом – «господи боже мой», у меня – другая поговорка. А потом ты ведь – деревенщина, на комбайне катался да чистым кислородом дышал, у тебя от физического труда нервы в порядке, с чего бы ты приучился ругаться? А я шахтер, до войны в забое по триста с лишним процентов суточной нормы выгонял. Триста процентов выполнить – без ума, на одной грубой силе, не выполнишь, – стало быть, труд мой уже надо считать умственным трудом. Ну, и как у всякого человека умственного труда, интеллигентные нервы мои расшатались, а потому иногда для собственного успокоения и ругнешься со звоном, как полагается. А ты, если твое благородное воспитание не позволяет выслушивать мои облегчительные слова, заткни уши хлопьями; артиллеристы в мирное время, чтобы не оглохнуть от стрельбы, так делали, говорят, помогало.
Приготовив запасную позицию, Лопахин вздумал соединить оба окопа ходом сообщения, но уставший Звягинцев решительно запротестовал:
– Ты что, зимовать тут собираешься? Не буду рыть.
– Зимовать не зимовать, а упереться здесь я должен, пока остальные не переправятся. Видал, сколько техники к переправе ночью шло? То-то и оно. Не могу я все это добро немцам оставить, хозяйская совесть моя не позволяет. Понятно? – с необычайной серьезностью сказал Лопахин.
– Да ты одурел, Петя! Когда же мы канаву в сорок метров отроем? Упирайся без канавы сколько хочешь, и на черта она тебе нужна? При нужде, когда приспичит, переползешь и так, переползешь, как миленький! Ну, что ты мне лопатку в зубы тычешь? Сказал, не буду рыть больше, – и не буду. Что я тебе – сапер, что ли? Дураков нет силу зря класть. Хочешь – тяни сам свой ход сообщения, хоть на километр длиной, а я, шалишь, брат, не стану!
– А что же я, меняя позицию, по этой плешине должен ползти? – Лопахин величественным жестом указал на голую землю, едва покрытую чахлой травкой. – Меня первой же очередью, как гвоздь по самою шляпку, в землю вобьют, отбивную котлету из меня сделают. Вот какая людская благодарность бывает: ты его грудью защищаешь от танков, а он лишний раз лопаткой ковырнуть ленится… Ступай к черту, без тебя выроем, только предупреждаю заранее: стану командиром, и представления к ордену тогда не жди от меня, как ты ни прыгай, как ни старайся отличиться, хоть живьем тогда кушай фрицев, а все равно ни шиша не получишь!
– Нашел чем напугать, – устало улыбаясь, сказал Звягинцев, но все же, хотя и с видимой неохотой, взялся за лопатку.
Пока он и второй номер расчета, Александр Копытовский – молодой, неповоротливый парень, с широким, как печной заслон, лицом и свисавшей из-под пилотки курчавой челкой, – очищали лопаты от прилипшей глины, Лопахин вылез из окопа, осмотрелся.
Сизая роса плотно лежала на траве, тяжело пригибая к земле стебельки, оперенные подсохшими листьями. Солнце только что взошло, и там, где за дальними тополями виднелась белесая излучина Дона, низко над водою стлался туман, и прибрежный лес, до подножия окутанный туманом, казалось, омывается вскипающими струями, словно весною, в половодье.
Линия обороны проходила по окраине населенного пункта. Сведенные в роту остатки полка занимали участок неподалеку от длинного, крытого красной черепицей здания с примыкавшим к нему большим разгороженным садом.
Лопахин долго смотрел по сторонам, прикидывая расстояние до гребня находившейся впереди высотки, намечал ориентиры, а потом удовлетворенно сказал:
– До чего же обзорец у меня роскошный! Это не позиция, а прелесть. Отсюда бить буду этих дейчпанцирей так, что только стружки будут лететь с танков, а с танкистов – мясо пополам с паленой шерстью.
– Нынче ты храбрый, – ехидно сказал Сашка Копытовский, выпрямляясь. – Храбрый ты стал и веселый, когда знаешь, что, кроме нашего ружья, тут их еще черт-те сколько и противотанковые пушки есть, а вчера, когда пошли танки на нас, ты с лица сбледнел…
– Я всегда бледнею, когда они на меня идут, – просто признался Лопахин.
– А заорал-то на меня, ну натурально козлиным голосом: «Патроны готовь!» Как будто я без тебя не знаю, что мне надо делать. Тоже с дамскими нервами оказался…
Лопахин промолчал, прислушался. Откуда-то из-за сада донесся женский возглас и звон стеклянной посуды. Рассеянно блуждавший взгляд Лопахина вдруг ожил и прояснился, шея вытянулась, и сам он слегка наклонился вперед, напрягая слух, весь обратясь во внимание.
– На кого это ты собачью стойку делаешь, аль дичь причуял? – посмеиваясь, спросил Копытовский, но Лопахин не ответил.
Смоченная росой, тускло блестела красная черепичная крыша белого здания. Косые солнечные лучи золотили черепицу и радужно сияли в окнах. В просветах между деревьями Лопахин увидел две женские фигуры, и тотчас же у него созрело решение.
– Ты, Сашка, побудь на страже интересов родины, а я на минутку смотаюсь в это черепичное заведение, – подмигнув, сказал он Копытовскому.
Тот удивленно поднял пепельно-серые запыленные брови, спросил:
– За какой нуждой?
– Предчувствие у меня такое, что если в этом доме не школа и не туберкулезный диспансер, то там можно добыть к завтраку что-нибудь привлекательное.
– Там скорее всего ветеринарная лечебница, – помолчав, сказал Копытовский. – Ясное дело, что там ветеринарная лечебница, и ты, кроме овечьей коросты или чесотки, ничего там к завтраку не добудешь.
Лопахин презрительно сощурил глаза, спросил:
– Это почему же… лечебница, да еще ветеринарная? Приснилось тебе, ясновидец?
– Потому что на отшибе стоит, а потом там недавно корова какая-то мычала, да так жалобно, – наверное, лечить ее привели.
Несколько поколебленный в своем предположении, Лопахин с минуту разочарованно и меланхолически посвистывал, но в конце концов все же решил идти.
– Схожу на разведку, – бодро проговорил он. – А если старшина или кто другой спросит, где Лопахин, – скажи, что пошел до ветру, скажи, что ужасные схватки у него в животе и, может быть, даже дизентерия.
Сгорбившись, волоча ноги и скорчив страдальческую рожу, Лопахин околесил окоп лейтенанта Голощекова, миновал телефонистов, тянувших с командного пункта провод, шмыгнул в сад. Но едва лишь вишневые деревья скрыли его от посторонних взоров, как он выпрямился, подтянул пояс, легкомысленно сдвинул набекрень каску и, вразвалку ступая кривыми ногами, направился к гостеприимно распахнутой двери здания.
Еще издали он увидел суетившихся возле сарая женщин, ряды отсвечивавших на солнце белых бидонов и пришел к решительному убеждению, что перед ним либо маслозавод, либо молочно-товарная ферма колхоза. Велико же было его огорчение, когда, ловко прыгнув через плетень, он неожиданно обнаружил около сарая осанистого старика, что-то приказывавшего женщинам. Промышляя, Лопахин всегда предпочитал иметь дело с женщинами. Он нерушимо верил в доброту и восковую мягкость женского сердца, несмотря на довольно частые любовные неудачи, верил и в собственную неотразимость… Что касается стариков, то их он попросту недолюбливал, всех без исключения почему-то считал скаредами и всячески избегал обращаться к ним с какими-либо просьбами. Но сейчас миновать старика было просто невозможно: судя по всему, именно он и был здесь старшим.
Скрепя сердце и мысленно пожелав ни в чем не повинному старику скорой и благополучной кончины, Лопахин направился к сараю, но уже не прежней игривой и развязной походкой завзятого покорителя женских сердец, а строгим строевым шагом, предварительно поправив на голове каску и погасив в глазах веселые огоньки.
Бегло взглянув на прямые плечи и несутулую спину старика, Лопахин подумал: «Наверно, фельдфебелем служил, бородатый дьявол! Почтительностью его надо брать, не иначе». Не доходя нескольких шагов, он щелкнул каблуками, поздоровался и откозырял так, словно перед ним стоял по меньшей мере командир дивизии. Расчет оказался безошибочным: на старика это явно произвело впечатление, и он, тоже приложив узловатую ладонь к козырьку выцветшей казачьей фуражки, не менее почтительно ответил гулким басом:
– Здравия желаю!
– Что это у вас тут, папаша, колхозная конюшня? – спросил Лопахин, с наивным видом указывая на коровник.
– Нет, это наша МТФ. Собираемся вот в отступ…
– Поздно вы собрались, – строго сказал Лопахин. – Надо было пораньше об этом думать.
Старик вздохнул, погладил бороду и, глядя куда-то мимо Лопахина, сказал:
– Больно скоро вы, лихие вояки, добежали до нашего хутора… Позавчера радио передавало, будто бои идут возле Россоши, а не успели мы оглянуться – вы уже возле наших базов и германца небось следом за собой волокете…
Разговор начал принимать явно нежелательное для Лопахина направление, и он искусно направил его по новому руслу, озабоченно спросив:
– Неужто коров еще не переправили за Дон? Коровы, наверно, хорошие у вас, породистые?
– Коровки подходящие в нашем хозяйстве, не коровки, а золото! – с восторгом отозвался старик. – Их-то мы вплавь переправили еще вчера вечером, а вот имущество пока перевозим и перевезем, нет ли – не скажу, потому что на переправе такое столпотворение идет, что не дай и не приведи бог! Немец на мост вторые сутки бомбы кидает, рушит его, когда попадет, а тут военных машин всяких набилось тыщи, возле моста командиры один одного за грудки тягают, где уж нам со своей хурдой переправиться…
– Да, это дело сложное, – подтвердил Лопахин. – Но вы особенно не волнуйтесь, дорогой папаша, наш геройский полк взялся держать оборону, значит, можете быть уверенные, что с ходу немцы на ту сторону Дона не перескочат. Мы им еще на этой стороне кровишки как следует пустим.
– Пропадет наш хутор, все огнем возьмется, если бой тут будет идти, – дрогнувшим голосом сказал старик.
– Да, папаша, хутору вашему, как видно, достанется, но мы будем оборонять его до последней возможности.
– Помоги вам бог, – истово сказал старик и хотел было перекреститься, но, искоса взглянув на Лопахина, на украшенную медалью грудь его, не донес руку до лба и стал степенно гладить седую окладистую бороду. – Стало быть, это ваша часть за садом окопы роет? – помолчав, спросил он.
– Так точно, папаша, наша. Роем, стараемся вовсю, а тут во рту все пересохло… – Лопахин дипломатически замолчал, но старик, видимо, не понял намека. Он все гладил бороду, смотрел на доярок, грузивших на повозку бидоны, и вдруг, зверски выкатив глаза, зычно крикнул:
– Глашка, язвить твою душу, почему до сих пор кобылы нету? Вот как зачнут германцы из пушек бить, тогда вы засуетитесь.
Полная, статная доярка с малиновыми губами и пышной грудью метнула в сторону Лопахина короткий взгляд, что-то шепнула женщинам – и те тихо засмеялись, – а потом уже не спеша отозвалась:
– Скоро приведут, Лука Михалыч, не беспокойся, успеешь до Дона свою старуху домчать…
Лопахин, не отрываясь, зачарованно смотрел на доярку и жмурился, будто от яркого солнца. С заметным усилием он отвел глаза от смугло-румяного женского лица, вздохнул и почему-то вдруг осипшим голосом спросил:
– А что, папаша, хорошо жил колхоз до войны? Упитанность у вашего народа приличная…
– Жил преотлично: и школа, и больница, и клуб, и все прочее было, не говоря уже про харч, всего было в аккурат по ноздри, а теперь все это свое природное приходится покидать. К чему вернемся? К горелым пенькам, это уж как бог свят, – сокрушенно произнес старик.
В другое время Лопахин, может быть, и посочувствовал бы чужому горю, но сейчас у него не было лишнего времени, и он предпринял еще один шаг, чтобы натолкнуть старика на догадку о цели своего прихода.
– Вода у вас в колодезе солоноватая. Роем окопы, пить страшная охота, а вода просто никуда не годная. Как же вы хорошей воды не имеете? – с упреком сказал он.
– Солоноватая? – удивленно переспросил старик. – Да вы в каком же колодезе брали?
Лопахин не пил в этом хуторе воды и, разумеется, не знал, где находится колодец, а потому неопределенно махнул рукой в сторону видневшейся за деревьями школы. Старик удивился еще больше:
– Дивно это мне! В школьном колодезе самая распрекрасная вода в округе, на питье весь хутор там воду берет. С чего же это она могла нынче сгубиться? Вчера оттуда воду приносили, легкая вода, хорошая была, сам пробовал.
Он уставился в землю, размышляя, а Лопахин с досадой крякнул, сказал:
– Нам, к тому же, сырую воду не разрешают пить, папаша, во избежание поносов и других желудочных происшествий.
– Нашу воду можно и сырую пить, – упрямо сказал старик. – Каждый год колодезь чистим, весь хутор пьет, и сроду никто животом не хворал.
Лопахин исчерпал все возможности деликатно надоумить непонятливого старика и, отчаявшись, пошел напролом:
– Молочка пресного нельзя ли у вас добыть или хотя бы масла сливочного?
– А это, сынок, вам надо обратиться к заведующей МТФ. Вот она стоит возле доярок, конопатенькая такая, кругленькая, в серой шальке.
– А вы… кто же вы будете по чину? – растерянно спросил Лопахин.
Старик, разглаживая бороду, с гордостью ответил:
– Я тут конюхом работаю вот уже третий год. Работаю – дай бог всякому: и покос за мной, и присмотр за худобой, и по хозяйству все как есть лажу. Премию нонешний год мне сулили…
Он еще что-то говорил, но Лопахин с досадой шлепнул себя ладонью по каске и, беззвучно шевеля губами, пошел к женщине, покрытой серой шалью.
Заведующая оказалась простой и покладистой женщиной. Она внимательно выслушала просьбу Лопахина, сказала:
– Мы на госпиталь раненым отпустили полтораста литров молока и масла, кое-что еще осталось, с собой нам его не везти. Два бидона молока вашим бойцам хватит? Глаша, отпусти товарищу командиру молока два бидона, вчерашнего вечорошника, и, если осталось в леднике сливочное масло, – тоже дай килограмма два-три.
Довольный и весьма польщенный тем, что его приняли за командира, Лопахин с жаром пожал руку доброй заведующей, проворно спустился в ледник. Принимая из рук доярки холодные, отпотевшие на льду бидоны, он восхищенно сказал:
– Не знаю, как вас, Глаша, по отчеству, но прелесть вы, а не женщина! Просто взбитые сливки, да и только! На мой аппетит – вас целиком можно за один присест скушать: намазывать по кусочку на хлеб и жевать даже без соли…
– Уж какая есть, – сурово ответила неприступная доярка.
– Нечего скромничать, определенно хороша Глаша, да не наша, вот в чем вся беда! И с чего это вас так разнесло, неужели с парного молока или с простокваши? – продолжал восхищаться Лопахин.
– Бери бидоны, пойдем. За маслом потом придешь.
– Я с вами на этом леднике согласен всю жизнь просидеть, – убежденно сказал Лопахин.
Воровато оглянувшись на полуоткрытую дверь, он попытался обнять пышнотелую доярку, но та легко отвела руку Лопахина, показала ему большой смуглый кулак и дружелюбно улыбнулась:
– Гляди, парень, от этого скорее, чем ото льда, остынешь. Я строгая вдова и глупостей этих не люблю.
– От такой вдовы согласен нести любой урон, но отступать не намерен – и без этого наотступался до тошноты, – смиренно сказал Лопахин и упрямо потянулся к доярке, к ее смеющимся малиновым губам.
Но в этот момент обитая камышом дверь ледника широко и некстати распахнулась, в просвете возникла темная фигура, и зычный стариковский бас зарокотал:
– Гликерия! Чего ты там запропастилась? Подолом ко льду примерзла, что ли? Иди скорей, и чтобы кобылу привела мне в два счета!
Лопахин отпрянул в сторону, чертыхаясь вполголоса, гремя бидонами, стал подниматься по скользким от сырости ступенькам. Уже на выходе из ледника он подождал следовавшую за ним все еще лукаво улыбавшуюся доярку, спросил:
– За Дон будете отступать или останетесь? Интересуюсь на всякий случай.
– Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами?
– Пока не по пути, – значительно суше сказал Лопахин, но тотчас же хрипловатый голос его снова обрел воркующую, голубиную мягкость: – А если придется – где мы, Глашенька, встретимся?
Смеясь и отталкивая Лопахина от двери крутым плечом, доярка ответила:
– Вроде бы и не к чему нам встречаться, но уж если так захочешь повидать, что будет невтерпеж, – в лесу на той стороне Дона поищешь. Мы далеко от своего хутора не пойдем.
Вздыхая и кляня в душе непоседливую солдатскую жизнь, нагруженный бидонами, Лопахин побрел к саду. Потянуло его еще разок взглянуть на вдову, такую суровую на вид, но с удивительно ласковыми рыжими искорками в глазах. Он оглянулся и едва не упал, зацепившись ногою за кочку, и сейчас же вослед ему полетел и проник до самого сердца заливистый женский смех…
В окопе Лопахин, не отрываясь, долго пил прямо через край бидона холодную жизнетворящую влагу, потом, отяжелевший от выпитого молока и по-детски счастливый, поручил Копытовскому распределить молоко среди бойцов роты по котелку на брата и строго наказал не обижать остальных, если останутся излишки. Сам он снова собрался идти, но Копытовский посоветовал не ходить:
– Старшина будет ругаться, не ходи. – Лопахин мечтательно улыбнулся, сказал:
– Я, может быть, и не пошел бы, но ноги сами меня несут… Там есть одна такая доярка, Глаша, что, если бы не война, – я согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать.
Прищурив глаза, закрывая черной ладонью рот, Копытовский спросил прерывающимся от смеха голосом:
– За чьи дойки-то?
– Это не важно, – о чем-то задумавшись, рассеянно ответил Лопахин.
Взгляд его скользил по зеленым купам деревьев и надолго останавливался на красной черепичной крыше МТФ.
– Смотри, как бы от старшины тебе нынче не досталось. Он что-то со вчерашнего дня злой, как цепная собака, – предупредил Копытовский.
Лопахин махнул рукой, запальчиво сказал:
– Иди ты со своими советами и вместе со старшиной! Что он мне шагу не дает ступить? Скажи, что Лопахин пошел за маслом, молоком его угости, вот и весь разговор. А если он ко мне попробует привязаться, – я ему отпою панихиду! Я Лисиченкину кашу не могу больше есть, у меня от нее язва желудка начинается. Пусть дают полностью по микояновскому уставу положенный паек, тогда я и ловчить не буду. Что я, психой, чтобы от сливочного масла отказаться, если добрые люди сами его предлагают? Не противнику же его оставлять?
– Ну, если масло дают – нечего дремать, иди, – торопливо согласился Копытовский.
Минуту спустя Лопахин уже шагал по знакомой тропинке в саду, прислушивался к утренним голосам птиц и с наслаждением вдыхал пресный и нестойкий запах смоченной росой травы.
Несмотря на то что в течение нескольких суток подряд он почти не спал, недоедал и с боями проделал утомительный марш в двести с лишним километров, у него в это утро было прекрасное настроение. Много ли человеку на войне надо? Отойти чуть подальше обычного от смерти, отдохнуть, выспаться, плотно поесть, получить из дому письмишко, не спеша покурить с приятелем – вот и готова скороспелая солдатская радость. Правда, письма Лопахин в это утро не получил, но зато ночью им выдали долгожданный табак, по банке мясных консервов и вполне достаточное количество боеприпасов; перед рассветом ему удалось малость соснуть, а потом он, посвежевший и бодрый, рыл окопы, уверенно думал о том, что здесь, у Дона, наконец-то закончится это горькое отступление, и работа на этот раз вовсе не показалась ему такой надоедливо-постылой, как бывало прежде; выбранной позицией он остался очень доволен, но еще больше доволен был тем, что вволю попил молока и повстречался с диковинной по красоте вдовой Глашей. Черт возьми, было бы, конечно, гораздо лучше познакомиться с ней где-либо на отдыхе, уж там-то он сумел бы развернуться вовсю и тряхнуть стариной, но и эта короткая встреча доставила ему несколько приятных минут. А за время войны он привык и довольствоваться малым и мириться со всякими утратами…
* * *
Улыбаясь своим мыслям и тихонько насвистывая, Лопахин шел по тропинке, расталкивая ногами отягощенные росою поникшие листья лопухов, и вначале не обратил внимания на еле слышный низкий, осадистый гул, донесшийся откуда-то из-за горы, но вскоре гул стал отчетливее, и Лопахин остановился, прислушиваясь. По звуку он определил, что идут немецкие самолеты, и почти тотчас же услышал протяжный возглас: «Во-о-оз-дух!»
Лопахин круто повернулся, трусцой побежал к окопам. Только на секунду у него мелькнула горестная мысль: «Накрылось мое маслице, и Глаша тоже…» – а потом, как ни чувствительна была эта двойная утрата, он надолго позабыл о ней…
Четырнадцать немецких самолетов, возникнув чуть выше кромки горизонта, стремительно приближались. Лопахин еще не успел добежать до своего окопа, как из школьного сада звонко ударили зенитки. Темно-серые венчики разрывов вспыхнули чуть впереди и ниже первых самолетов. Затем разрывы зенитных снарядов стали умножаться и, перемещаясь в безоблачном небе, поплыли рядом с самолетами, раскалывая их строй, заставляя менять направление.
– Один готов! – в восторге рявкнул Сашка Копытовский.
Лопахин прыгнул в окоп и, когда поднял голову, увидел, как ведущий самолет, нелепо завалившись на крыло, оделся черным дымом и стал косо падать. С буревым свистом и воем, окутанный дымом и пламенем, пронесся он над линией окопов и взорвался на собственных бомбах, ударившись об утрамбованную землю хуторского выгона. Грохот взрыва был так силен, что Лопахин на миг закрыл глаза. А потом повернул к Сашке сияющее лицо, сказал:
– Ну и серьезная же начинка у него… Если бы эти поднебесные черти, зенитчики, всегда так стреляли!
Еще один самолет, от прямого попадания снаряда разваливаясь в воздухе на куски, упал уже далеко за хутором. Остальные успели прорваться к переправе. Встреченные огнем пулеметов и второй зенитной батареей, расположенной у самой переправы, они беспорядочно сбросили бомбы, потянули прямо на запад, обходя опасную зону.
Не успела улечься поднятая фугасками пыль, как из-за горы появилась вторая волна немецких бомбардировщиков, на этот раз уже числом около тридцати машин. Четыре самолета отделились, повернули к линии обороны.
– На нас идут, – сквозь стиснутые зубы проговорил дрогнувшим голосом Сашка. – Гляди, Лопахин, это пикировщики, сейчас начнут падать… Вот они, пошли!
Слегка побледневший Лопахин, выставив ружье и крепко упираясь ногой в нижний уступ окопа, тщательно целился. Светлые глаза его были так плотно прижмурены, что Сашка, мельком взглянув на него, увидел только крохотные, словно ножом прорезанные щели с глубокими морщинками по краям обтянутых черной кожей глазниц.
– На три корпуса… на три с половиной… на четыре бери вперед! – сквозь режущее уши тугое завывание моторов успел крикнуть растерявшийся Сашка.
Лопахин как сквозь сон слышал его возглас и знакомый надтреснутый голос лейтенанта Голощекова, на высокой ноте прокричавшего привычное: «По самолетам противника!..» Он успел выстрелить и ощутить плечом и всем телом весомый толчок отдачи, в какую-то крохотную долю секунды успел осознать и то, что промахнулся. Знакомый отвратительный свист бомбы вырос мгновенно, сомкнулся с оглушительным взрывом. По каске, по униженно согнутой спине Лопахина, как крупный град, с силой забарабанили комья вздыбленной и падающей земли, в ноздри вторгнулся и захватил дыхание едкий металлический запах сгоревшей взрывчатки. Бомбы часто рвались вдоль линии окопов, но значительно большее число взрывов гремело позади окопов, в школьном саду. Лопахин, пересилив себя, поднял голову, сквозь мутно-бурую пелену взвихрившейся пыли увидел слева взмывавший в голубое небо самолет, различил даже свастику на хвосте его и разогнулся словно пружина, в бешенстве скрипнув зубами, снова припал к ружью.
– Бей же его, стерву! Бей скорее!.. – лихорадочно дрожа, кричал на ухо Сашка.
Нет, на этот раз Лопахин не мог, не имел права промахнуться! Он весь как бы окаменел, только руки его, железной крепости руки забойщика, слившись воедино с ружьем, двигались влево, да прищуренные глаза, налитые кровью и полыхавшие ненавистью, скользили впереди тянувшего ввысь самолета, беря нужное упреждение. И все же он промахнулся и на этот раз… Губы его мелко задрожали, когда он увидел, как самолет, набрав нужную высоту и с ревом развернувшись, снова стал пикировать на окопы.
– Патрон! – клокочущим голосом крикнул он. «Ю-87» резко снижался, поливая желтые гнезда окопов огнем изо всех своих пулеметов. Навстречу ему, яростно захлебываясь, бил ручной пулемет сержанта Никифорова, часто щелкали винтовочные выстрелы, дробно и глухо, сливаясь воедино, стучали очереди автоматов. Лопахин выжидал. Он неотрывно наблюдал за самолетом, снижавшимся с низким, тягучим и нарастающим воем, и в то же время слух его невольно фиксировал все разнородные звуки огня: и обвальный грохот фугасок, сыпавшихся в школьном саду возле огневых позиций зенитной батареи, и частые удары зениток, и заливистые пулеметные трели. Ему удалось различить даже несколько выстрелов из противотанковых ружей. Очевидно, не он один охотился с противотанковым ружьем за обнаглевшим пикировщиком.
– Что ты застыл?! Что застыл, спрашиваю? Ты не раненый?! – кричал Сашка.
Но Лопахин, не отрывая взгляда от самолета, только коротко и страшно выругался, и Сашка присел на шероховатое, усыпанное комками земли дно окопа, убедившись в том, что Лопахин жив и невредим.
На втором заходе кипящая пулеметная струя, подняв пыльцу, начисто сбрила у переднего бруствера окопа низкий полынок, краем захватила и насыпь бруствера, но Лопахин не пошевельнулся.
– Нагнись! Прошьет он тебя, шалавый! – громко выкрикнул Сашка.
– Врешь, не успеет! – прохрипел Лопахин и, выждав момент, когда самолет только что выровнялся на выходе из пике, нажал спусковой крючок.
Самолет слегка клюнул носом, но сейчас же выправился и пошел на юг, покачиваясь, как подбитая птица, медленно и неуверенно набирая высоту. Около левой плоскости его показался зловещий дымок.
– Ага, долетался, так твою и разэтак! – тихо сказал Лопахин, подымаясь в окопе во весь рост. – Долетался! – еще тише и значимей повторил он, жадно следя за каждым движением подбитого самолета.
Не дотянув до горы, самолет закачался, почти отвесно рухнул вниз. Он ударился о землю с таким треском, словно где-то рядом о стол разбили печеное яйцо, и только тогда Лопахин с огромным и радостным облегчением вздохнул, вздохнул всей грудью, повернулся лицом к Сашке.
– Вот как надо их бить! – сказал он, раздувая побелевшие ноздри, уже не скрывая своего торжества.
– Ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, Петр Федотович! – восторженно проговорил Сашка, чуть ли не впервые за все время совместной службы величая Лопахина по отчеству.
Лопахин трясущимися руками торопливо свернул папироску, усталый и какой-то обмякший, сел на дно окопа, несколько раз подряд жадно затянулся.
– Думал, что уйдет проклятый! – сказал он уже спокойнее, но от волнения все еще замедляя речь. – Завалил бы за бугор, ну а там черт его знает – то ли упал он, то ли добрался до своего логова. А это – дело надежное: стукнулся о землю и гори на доброе здоровье…
Не докурив папиросы, он поднялся и с минуту удовлетворенно, молча смотрел на чадившие вдали обломки сбитого самолета. Остальные три самолета, бомбившие зенитную батарею, уходили на юг, но над переправой все еще кружили хищно бомбардировщики, немо хлопали зенитки, рвались бомбы и высоко вздымались радужно отсвечивавшие на солнце бледно-зеленые столбы воды. Вскоре налет окончился, и прибежавший связной позвал Лопахина к командиру роты.
Все поле впереди и сзади окопов было, словно язвами, покрыто желтыми, круглыми, различной величины воронками, окаймленными спекшейся землей. Косые просеки, проделанные в саду бомбами и загроможденные поваленными расщепленными деревьями, обнажали ранее сокрытые ветвями стены и крыши хуторских домов, и все вокруг выглядело теперь необычно: ново, дико и незнакомо. Неподалеку от окопа Звягинцева зияла крупная воронка, у самого бруствера лежало до половины засыпанное землей, погнутое и отсвечивавшее рваными металлическими краями хвостовое оперение небольшой бомбы. Но почти всюду над стрелковыми ячейками уже курился сладкий махорочный дымок, слышались голоса бойцов, а из пулеметного гнезда, оборудованного в старой, полуразрушенной силосной яме, доносился чей-то подрагивавший веселый голос, прерываемый взрывами такого дружного, но приглушенного хохота, что Лопахин, проходя мимо, улыбнулся, подумал: «Вот чертов народ, какой неистребимый! Бомбили так, что за малым вверх ногами их не ставили, а утихло – они и ржут, как стоялые жеребцы…» И сейчас же сам невольно засмеялся, потому что знакомый голос сержанта Никифорова, высокий, плачущий от смеха, закончил:
– …гляжу, а он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня: «Федя, меня не убили?..» А глаза у него, ну прямо по кулаку, на лоб вылезли, и пареной репой от него пахнет… Он со страху-то, видно, того…
Кто-то там, в просторном окопе, смеялся устало и тонко, из последних сил, но безостановочно, словно его, связанного, усердно щекотали. Лопахин, все еще улыбаясь, миновал пулеметчиков и, обходя воронки, догоняя связного, сказал:
– Веселый парень этот Никифоров.
– Сейчас кому смех, кому слезы, а кому и вечная память… – мрачно ответил связной, указывая на разрушенную прямым попаданием ячейку и на красноармейца в залитой кровью гимнастерке, который шел вдали, пьяно покачиваясь, безвольно опираясь на руку санитара.
Лейтенант Голощеков встретил Лопахина широкой улыбкой, движением руки пригласил спуститься в окоп. Пользуясь коротким затишьем, он только что наспех позавтракал. Голощеков вытер черным от грязи носовым платком рот, лукаво подмигнул:
– Ты его снизил, Лопахин?
– Будто бы я, товарищ лейтенант.
– Чисто сработано. Это у тебя первый в практике?
– Первый.
– Ну, присаживайся, гостем будешь. Так говоришь, первый, но надо думать, не последний? – пошутил лейтенант, пряча в нишу котелок с недоеденной порцией каши и доставая оттуда вместительную трофейную флягу.
В окопе лейтенанта пахло не только не успевшей подсохнуть влажной глиной и полынью, но и ременной кожей амуниции, чуть-чуть одеколоном, уксусно-терпким мужским потом и махоркой. Лопахин подумал о том, с какой удивительной быстротой обживают люди окопы, населяя временной жилье своими запахами, совершенно разными и присущими только каждому отдельному человеку. Он некстати вспомнил слова сержанта Никифорова и улыбнулся, но лейтенант истолковал его улыбку по-своему и, наливая в алюминиевый стаканчик водку, сдержанно сказал:
– Это соседи наши, зенитчики, сегодня снабдили горючим, своей у меня давно уже не было… Что же, поздравляю с удачей, бери, выпей.
Лопахин двумя пальцами бережно принял стаканчик, сказал спасибо, но про себя с огорчением подумал, что посуда уж больно не по-русски мелка, и, закрыв глаза, медленно, с чувством выпил теплую, пахнущую керосином водку.
Лейтенант крякнул одновременно с Лопахиным, как бы вместе с ним разделяя удовольствие, но сам пить не стал, убрал фляжку.
– А народец-то стал каков у нас, Лопахин, а? Раньше, бывало, как только самолеты, – все вповалку лежат и землю нюхают, а сейчас уже не то: сейчас ходи над нами на приличной высоте, а то ноги переломаем, а? Так ведь, Лопахин?
– Точно, товарищ лейтенант.
– Подполковник звонил недавно, спрашивал, кто сбил самолет. Народ на тебя указал, да и сам я видел. Наверно, будешь представлен к награде. Ну, ступай, скоро надо ждать наступления, смотри не подкачай насчет танков. Зайди к Борзых, предупреди от моего имени: бой будет серьезный, стоять надо, как говорится, насмерть. Скажи, что я надеюсь на него, а я сейчас пройдусь на правый фланг. Да, что-то немцы усердствуют с налетами, дорогу к переправе себе расчищают… Жаркий будет денек, так что смотри в оба!
Лопахин возвращался к себе кирпично-красный от счастья и выпитой водки, но, подходя к окопу бронебойщика Борзых, согнал с губ улыбку, посерьезнел.
Борзых завтракал, старательно вычищая хлебной коркой стенки консервной банки.
Лопахин прилег возле окопа, спросил:
– Ну как, сибирский житель, тебя и бомбы не берут?
– Меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет, – басовито ответил широкоплечий и ладный сибиряк, не прерывая своего занятия.
– Что ж, угостил бы шанежками, что ли, в гости ведь к тебе пришел.
– Сходи в гости к моей жене в Омск, сегодня воскресенье, она обязательно готовит шанежки, она и угостит.
Лопахин отрицательно и грустно покачал головой:
– Далековато, не пойду, прах с ними, с шанежками с твоими…
– Да, далеконько, однако, – со вздохом сказал Борзых, и нельзя было понять, к чему относится этот легкий вздох: то ли к тому, что далеко от этой голой донской степи до родного Омска, то ли к тому, что так скоро опустела консервная банка…
Не размахиваясь, Борзых швырнул в бурьян пустую банку, тщательно вытер руки о замасленные штаны, сказал:
– Лучше ты меня, Лопахин, табачком угости.
– А свой-то неужели весь пожег? – удивился Лопахин.
– Зачем «пожег»? Чужой завсегда вкуснее, – рассудительно сказал Борзых и, свернув корытцем кусок бумаги, протянул руку из окопа. – Сыпь, не скупись. Если бы мне пофартило сбить самолет – я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям…
Когда в молчании глотнули раза по два терпкого махорочного дымка, Лопахин сказал:
– Лейтенант приказал тебе передать, чтобы глядел в оба. Он с умом парень и думает, что танки на нас будут сначала силу пробовать. За этими высотками, какие против нас, им хорошо сосредоточиваться, к тому же там и подход им хороший, скрытный, балочка с бугра наискось идет, видал ты ее?
Борзых молча кивнул головой.
– Лейтенант так и сказал: «Я, – говорит, – на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь. Стоять будем до последнего».
– Правильно делает, что надеется, – сдержанно сказал Борзых. – Народу нас мало осталось, но ребята все такие, однако, что оторви да брось. Мы-то устоим, вот как соседи?
– Соседи пусть сами о себе беспокоятся, – сказал Лопахин.
И Борзых снова молча кивнул головой.
Лопахин поднялся, пожал широкую, негнущуюся руку товарища, сказал:
– Желаю удачи, Аким!
– Взаимно и тебе.
Миновав две стрелковые ячейки и поравнявшись с третьей, Лопахин, словно перед неожиданным препятствием, вдруг ошалело остановился, протер глаза, сквозь зубы негодующе сказал: «Миленькое дельце! Этого мне еще недоставало на старости лет…» Из окопа, отрытого по-настоящему и с очевидным знанием дела, из-под низко надвинутой каски, не мигая, смотрели на него усталые, но, как всегда, бесстрастные, холодные голубые глаза повара Лисиченко. Полное лицо повара с налитыми, как антоновские яблоки, щеками выглядело необычно моложаво, даже весело, а голубые глаза спокойно и, как показалось Лопахину, вызывающе и бесстыже щурились.
Подчеркнуто шаркающей походкой Лопахин приблизился к ячейке, присел на корточки и, глядя на повара сверху вниз, сказал шипящим и ничего доброго не предвещающим голосом:
– Здравствуйте.
– Наше вам, – холодно ответил Лисиченко.
– Как ваше здоровье? – любезно осведомился Лопахин, испепеляя повара пронизывающим взглядом, еле сдерживая готовое прорваться наружу бешенство.
– Благодарю вас, топайте дальше, к чертовой матери.
– Я бы тебе ответил по всем правилам военной науки, но не для тебя берегу самые дорогие и редкостные слова, – выпрямляясь, сказал Лопахин. – Ты мне ответь на один-единственный вопрос: какой дурак посадил тебя в эту ямку, и что ты думаешь высидеть в этой ямке, и где кухня, и что мы сегодня будем жрать по твоей милости?
– Никто меня сюда не сажал, приятель. Сам отрыл себе окопчик, сам и разместился тут, – спокойным и скучающим голосом ответил Лисиченко.
Лопахин чуть не задохнулся от охватившего его негодования.
– Разместился? Ах, ты… А кухня?
– А кухню я бросил. А ты тут не ахай, пожалуйста, и не пугай меня понапрасну. Мне возле кухни быть сегодня стало грустно, потому и бросил ее.
– Загрустил, бросил и по своей доброй воле пришел сюда?
– Точно. Что тебя еще интересует, герой?
– Ты что же, думаешь, что без тебя оборону не удержим? – скороговоркой спросил Лопахин, пронизывая Лисиченко все тем же немигающим и ненавидящим взглядом. Но не так-то просто было запугать или даже смутить бывалого и видавшего всяческие виды повара. Спокойно глядя на Лопахина снизу вверх, он сказал:
– Вот именно, попал в самую точку, не понадеялся я на тебя, Лопахин, подумал, что дрогнешь в тяжелую минуту, потому и пришел.
– Почему же ты белый колпак не надел? У генеральского повара колпак, видел я, на голове чистый-пречистый… Почему не надел-то? – задыхаясь, спросил Лопахин.
– Ну, так у генеральского, а я для чего же его надел бы? – ожидая подвоха, нерешительно спросил Лисиченко.
Лопахин не выдержал и с наслаждением, со вкусом сказал:
– Надо бы тебе его надеть, чтобы скорее тебя, толстого индюка, тут убили!
Но Лисиченко только рукой махнул и все так же невозмутимо ответил:
– Меня убьют тогда, когда на твоей могиле, Петя, чертополох вырастет, когда тебе земляная жаба титьку даст, не раньше.
Говорить с поваром было бесполезно. Он был неуязвим в своем добродушном украинском спокойствии, словно железобетонный дот, а потому Лопахин, передохнув, тихо и неуверенно сказал:
– Стукнул бы я тебя чем-нибудь тяжелым так, чтобы из тебя все пшено высыпалось, но не хочу на такую пакость силу расходовать. Ты мне раньше скажи – и без всяких твоих штучек, – что́ мы нынче жрать будем?
– Щи.
– Как?
– Щи со свежей бараниной и с молодой капустой.
Лопахин проигрывал игру: над ним явно издевались, а он не находил таких увесистых слов, чтобы достойно ответить.
Снова присел он на корточки возле окопа, призвал на помощь все свое самообладание, проникновенно заговорил:
– Лисиченко, я сейчас перед боем очень нервный, и шутки твои мне надоели, говори толком: народ без горячего хочешь оставить? Гляди, ребята этого тебе не простят. Я первый могу хлопнуть по тебе прямой наводкой, и мне наплевать, что из тебя тогда получится и какого цвета будет у тебя после этого лицо. Ведь ты понимаешь, кто ты есть? Ты – бог войны! Не артиллерия – бог войны, это про нее зря так говорят, а ты самый настоящий бог, потому что главное и в наступлении и в обороне – это харч, и всякий род войск без харча – все равно что ноль без палочки. Чего же ты тут околачиваешься? Иди, милый, отсюда поскорее, пока тебя за ноги не выволокли, иди, маскируйся как следует и, пока все тихо в окрестностях войны, с малым дымом вари кашу. Черт с ней, согласен даже кашу твою есть: без нее хуже, чем с ней. Кто мы есть без горячей пищи? Мы жалкие люди, даю честное слово! Я, например, без хлебова становлюсь несчастней самого последнего итальянца, хуже самого несчастного румына. И прицел у меня становится не тот, и какая-то слабость, в ногах и в руках дрожь появляется… Иди, Лисиченко, и будь спокоен, управимся тут и без тебя. Клянусь тебе, что твоя должность такая же почетная, как и моя. Ну, может быть, на какую-нибудь десятую долю только пониже…
Лопахин ждал ответа, а Лисиченко медленно достал из кармана розовый, расшитый немыслимыми цветами кисет, медленно оторвал от газетного листа косую и длинную полоску и еще медленнее стал вертеть козью ножку. Только начинив цигарку табаком и добыв из трофейной зажигалки огня, он не спеша сказал:
– Напрасно ты меня уговариваешь, герой. С кухней на спине Дон переплыть я не могу – она же меня сразу утопит, переправить ее по мосту тоже невозможно. Подорву я ее гранатой, когда надо будет, а сейчас пока в котле щи наваристые готовятся. Верно говорю. Что ты на меня глаза лупишь? Убери их немножко или придержи руками, а то они у тебя наземь упадут. Видишь, какое дело: возле моста бомбой овец несколько штук побило, ну я, конечно, одного валушка прирезал, не дал ему плохой смертью от осколка издохнуть, капусты на огороде добыл, воровски добыл, прямо скажу. Ну и поручил двум легкораненым за щами присматривать, заправку сделал и ушел; так что у меня все в порядке. Вот повоюю немножко, поддержу вас, а придет время обедать – уползу в лес, и горячая пища по возможности будет доставлена. Ты доволен мною, герой?
Растроганный Лопахин хотел было обнять повара, но тот, улыбаясь, присел на дно окопа, сказал:
– Ты вместо этих собачьих нежностей одну гранатку мне дай – может, сгодится на дело.
– Дорогой мой тезка! Драгоценный ты человек! Воюй, пожалуйста, теперь сколько влезет, разрешаю! – торжественно сказал Лопахин, отцепляя с ремня ручную гранату и с почтительным поклоном вручая ее повару.
Лопахин, наверное, еще попустословил бы с поваром, но снова послышался приближающийся гул самолетов, и он поспешно направился к своему окопу.
И на этот раз на подходе к цели самолеты разделились: часть их ударила по линии обороны, остальные, прорываясь сквозь заградительный огонь зениток, устремились к переправе.
И снова густое облако бурой пыли, словно туманом, заволокло окопы, высоко поднялось в безветренном воздухе, закрыло солнце. Сквозь гул разрывов, воющий свист осколков и глухой обвальный шум падающей сверху земли Лопахин тщетно пытался услышать выстрелы своих зениток. Находившаяся в школьном саду батарея молчала, и Лопахин с горечью подумал: «Накрыли, гады!» Потом на ум ему пришла мысль, что батарея, может быть, успела скочевать со старых позиций, и он несколько успокоился.
В дьявольском грохоте, заполнившем все вокруг, он почти не различал выкриков Сашки. Оглушенный и подавленный свирепствовавшим над землею ураганом взрывов, он все же находил в себе силы и, отрываясь от стенки окопа, часто, но осторожно высовывался над бруствером. Горячие толчки взрывных волн откидывали его голову, но он пытливо смотрел сквозь пелену пыли вперед, стараясь рассмотреть, не идут ли вражеские танки, прикрываясь бомбежкой с воздуха.
В одно из таких мгновений в прорезанной пламенем взрывов и застилавшей солнце темноте он случайно взглянул туда, где был окоп Звягинцева, и с облегчением и радостью увидел, как после очередного выстрела чуть вздрагивает поднятое вверх дуло винтовки, а потом на секунду увидел и шевельнувшуюся каску Звягинцева со знакомой вмятиной на боку, густо запорошенную пылью и теперь уже окончательно утратившую тусклый глянец защитной краски.
«Просто молодец парень! – с восторгом подумал Лопахин. – Этого не запугаешь никакой музыкой…»
Опасения Лопахина вскоре оправдались: не успели самолеты после двух заходов отвалить, как с бугра донесся шум моторов, но уже совсем иной, прижатый к земле, сплошной, перемешанный с лязгом и железным скрежетом гусениц. Почти одновременно по переправе из-за высоты открыла огонь артиллерия немцев, и наши батареи, на той стороне Дона, в лесу, дружно ответили.
– Ну, Сашка, подтяни штаны и держись! – ободряюще улыбаясь, сказал Лопахин. – Да поглядывай, чтобы ни один танкист не ушел, когда запалю машину. Как у тебя настрой? Ничего? Вот и хорошо: главное в нашей вредной профессии – это чтобы настрой не падал.
Он приник к ружью и снова, как и в тот момент, когда вражеский самолет пикировал на окопы, словно бы слился со своим нескладно длинным ружьем, не отводя глаз от задернутых теперь уже поредевшей пеленою пыли стальных гремящих коробок, которые шли с бугра, построившись уступом и образуя как бы тупой клин.
Нет, теперь-то можно было дышать полной грудью! Начало этого боя вовсе не походило на тот бой, когда остатки разбитого полка сумели отстоять высоту и отразить натиск противника, имея всего-навсего четыре противотанковых ружья и несколько пулеметов. Теперь бой разворачивался совсем по-иному. Не успели танки продвинуться и на половину расстояния до намеченных Лопахиным ориентиров, как на пути их уже встал черный частокол разрывов. Била полковая артиллерия, да так старательно и толково, что вскоре из двадцати средних танков, вывернувшихся из-за бугра, три застыли на месте, а четвертый не успел пройти и десятка метров, волоча за собою черный шлейф дыма, как следующий снаряд взвернул у правого борта его лохматый столб земли, и танк легко и послушно накренился, словно пытаясь зачерпнуть краем развороченной башни этой благодатной, черноземной донской земли, которую несколько минут назад он так горделиво попирал гусеницами…
В восторге от стрельбы артиллеристов Лопахин, будто плоскогубцами, сдавил пальцами плечо Сашки, воскликнул:
– Стреляют-то… стреляют-то как! Ах, мамины дети, кто их только учил? Я б того человека в маковку расцеловал! Гляди, Сашка, ведь этак мы с тобой нынче можем безработными оказаться!
С левого фланга, из небольшого садика, стала бить по танкам и батарея ПТО. За несколько минут было подбито еще два танка, но остальные успели прорваться вперед и теперь были от окопов уже не далее как в двухстах метрах.
Лопахин отчетливо видел темно-серый приземистый корпус танка, шедшего немного наискось, видел и смутные очертания какого-то причудливого, хвостатого зверя, намалеванного белой краской на борту танка, чуть левее креста. Все видели его воспаленные и слезившиеся глаза, но он ждал, когда расстояние сократится хотя бы еще на полсотню метров, чтобы бить наверняка.
Из-под гусениц танка выпархивала, низко над землей, над мелким степным полынком стлалась серая пыль. Иногда на солнце вдруг вспыхивал отполированный трак гусеницы, и опять, словно хлопья волочащейся за танком серой ваты, клубилась пыль, а поверх ее было видно, как медленно вращается башня, из дула пушки раздвоенным змеиным жалом на короткий миг вдруг высовывается и исчезает бледный и острый огонек, почти невидимый в лучах яркого утреннего солнца, а затем на правом фланге роты впереди и сзади желтых холмиков окопов вспухает черный, медленно оседающий гриб поднятой взрывом земли и слышится характерно звонкий, лопающийся звук разрыва.
Со второго патрона Лопахин подбил танк. Почти одновременно загорелись еще два танка… Остальные, круто разворачиваясь, повернули назад, скрылись за высотой. И только когда последний танк исчез за пыльным гребнем кургана, Лопахин, сверкнув синеватыми белками, глянул на бледное лицо Копытовского, вкрадчиво спросил:
– Что это ты, Сашенька, какой-то серый стал?
– Посереешь от такой жизни, – тяжело переводя дыхание, ответил Копытовский.
Спустя полчаса немцы повторили атаку. На этот раз около десятка немецких танков уже в сопровождении автоматчиков попробовали пробить брешь в обороне на стыке двух рот, одной из которых командовал лейтенант Голощеков.
Удар пришелся по левому флангу роты Голощекова. Шедший впереди средний танк противника с ходу налетел на плетневую, обмазанную глиной колхозную кузницу, на миг весь окутался пылью и, вырвавшись из-под рухнувших обломков, неся на броне сухой хворост и осыпающийся мусор, расстрелял пушечным огнем расчет станкового пулемета, успел раздавить несколько стрелковых ячеек… Он шел зигзагами, утюжа гусеницами окопы, ворочая низко срезанным, тупым серым рылом. Он быстро приближался к Лопахину, и, когда, покрыв всей громадиной окоп ефрейтора Кочетыгова, вдруг затормозил одну гусеницу и завертелся на месте, стараясь завалить землей глубокий окоп, Лопахин выстрелил. Но не он уничтожил этот танк: по грудь засыпанный землею, уже умирающий ефрейтор Кочетыгов потянулся вверх и, едва лишь танк сполз с его разрушенного окопа, слабым, детским движением взмахнул рукой. Бутылка тоненько, неслышно в грохоте боя чокнулась с покатой серой бронею танка, звякнула и разлетелась на мелкие осколки, а по литой броне поползли горючее пламя, кучерявый, нежно-голубой дымок…
Горящий танк, с взревевшим словно от нестерпимой боли мотором, повернул под прямым углом, ринулся в сад, пытаясь сбить пламя о ветви поверженного огнем густого вишенника.
Ослепленный и полузадушенный дымом водитель, наверное, плохо видел: на полном ходу танк попал в пустой, заброшенный колодец, ударился о выложенную камнем стенку и, накренившись, приподняв дышащее перегретым маслом черное днище, так и застыл там, обезвреженный, ожидающий гибели. Все еще с бешеной скоростью вращалась левая гусеница его, тщетно пытаясь ухватиться белыми траками за землю, а правая, прогибаясь, повисла над взрытой землей, бессильная и жалкая.
Все это видел Копытовский. Дыша коротко и часто, следил он округлившимися глазами за свирепым движением и гибелью вражеского танка и опомнился только тогда, когда над ухом лопнул знакомый выстрел своего, лопахинского, ружья. С птичьей быстротой повернув голову, Копытовский увидел справа, в сотне метров от окопа, танк, шедший неровными, судорожными рывками и через короткое мгновение остановившийся, и почти вплотную возле себя, сбоку, багровое, чужое лицо Лопахина.
Два немецких танкиста, словно серые тени, метнулись из люка остановившейся машины. Один из них, в распахнутом мундире, падая на спину, круто повернулся на каблуках, крестом раскинул руки; второй, без шапки, темноволосый, в серой рубашке с завернутыми по локти рукавами, хотел было встать на колени и вдруг опять приник к земле, приник всем телом, пополз, извиваясь по-змеиному, почти не шевеля руками…
В это самое мгновение замешкавшийся на секунду Копытовский почувствовал, как из рук его с силой рванули автомат: Лопахин, не сводя завороженных глаз с ползущего танкиста, тянул к себе автомат Копытовского, но как только справа, из окопа Звягинцева, треснул одинокий выстрел и ползущий танкист уткнулся носом в землю, Лопахин отпустил автомат, повернул к Копытовскому исказившееся от гнева лицо, со свистом втягивая сквозь стиснутые зубы воздух, заикаясь, сказал:
– Ты сволочь, раздолбанное корыто!.. Ты воюешь или как? Чего вовремя не стрелял? Ждешь, когда он в плен начнет сдаваться?! Бей его, пока он руки вверх не успел поднять! Бей его с лету! Мне немец на моей земле не пленный нужен, мне он тут нужен – мертвый, понятно тебе, мамин сын?!
* * *
Уже высоко над истерзанной снарядами землей поднялось в синем и хорошем небе солнце, уже острее, горше и милее сердцу стал запах пригретого солнцем степного полынка, когда из-за окутанных маревом донских высот снова появились танки и немецкая пехота снова поднялась в третью по счету, бесплодную атаку…
Шесть ожесточенных атак отбили бойцы соединения, прикрывавшего подступы к переправе, немецкая пехота и танки откатились за высоты, и к полудню над полем боя установилось недолгое затишье.
После громового гула артиллерийской канонады, грохота разрывов и пулеметно-автоматной трескотни, раскатами ходившей вдоль всего переднего края, необычной и странной показалась Звягинцеву эта внезапно наступившая тишина… Медленным движением он снял с головы каску, устало провел по грязному лицу рукавом гимнастерки, отирая обильно струившийся пот, затем, с удовольствием прислушиваясь к негромким звукам собственного голоса, сказал:
– Ну, вот и притихло…
Он наслаждался блаженной тишиной и с детским вниманием, слегка склонив голову набок, долго прислушивался к сухому шороху осыпавшейся с бруствера земли. Песчинки и мелкие, черствые крошки глины желтым ручейком стекали по скату насыпи, отвесно падали на дно окопа, ударялись о расстрелянные гильзы, густо лежавшие у ног Звягинцева, и гильзы тоненько, мелодично позвякивали, словно невидимые, скрытые под землей колокольчики. Где-то совсем близко застрекотал кузнечик, Звягинцев послушно повернулся и на этот новый, привлекший его внимание звук. Оранжевый шмель с жужжанием, похожим на вибрирующий стон низко отпущенной басовой струны, сделал круг над окопом, на лету выпустил бархатно-черные, мохнатые лапки, сел на торчавший из бруствера стебель ромашки. Часто мигая, Звягинцев внимательно смотрел на упруго качавшуюся запыленную ромашку, на невероятно нарядного шмеля, смотрел так, будто все это он видел впервые в жизни, и вдруг удивленно вскинул голову: легко пахнувший ветерок откуда-то издалека донес до его слуха чистый и звонкий крик перепела…
И шелест ветра в сожженной солнцем траве, и застенчивая, скромная красота сияющей белыми лепестками ромашки, и рыскающий в знойном воздухе шмель, и родной, знакомый с детства голос перепела – все эти мельчайшие проявления всесильной жизни одновременно и обрадовали и повергли Звягинцева в недоумение. «Как будто и боя никакого не было, вот диковинные дела! – изумленно думал он. – Только что кругом смерть ревела на все голоса, и вот тебе, изволь радоваться, перепел выстукивает, как при мирной обстановке, и вся остальная насекомая живность в полном порядке и занимается своими делами… Чудеса, да и только!»
Растерянно озиравшийся Звягинцев напоминал в эти минуты человека, только что очнувшегося от давившего его во сне кошмара и со вздохом облегчения принявшего простую и желанную действительность. Ему потребовалось еще некоторое время, чтобы освоиться и привыкнуть к тишине. А тишина стояла настороженная, недобрая, как перед грозой, и, продлись она дольше, Звягинцев, наверное, стал бы тяготиться ею, но вскоре на левом фланге короткими очередями застучал пулемет, из-за высоты начали пристрелку тяжелые немецкие минометы, и недолгое затишье кончилось так же внезапно, как и началось.
Подносчик патронов – молоденький малознакомый Звягинцеву красноармеец – подполз сзади к окопу, сказал, кряхтя и отдуваясь:
– Боепитание доставил. Ну, как, борода, заправляться будешь?
Звягинцев провел ладонью по отросшей на щеках медно-красной щетине, обидчиво спросил:
– Какая же я, то есть, борода? Что я тебе – старик, что ли?
– Старик не старик, а около этого, обросший до безобразия. Ну, отсыпай свою порцию.
– Мало ли что обросший… Красоту при таком отступлении некогда наводить, это понимать надо, а года мои не такие уж старые, – недовольно проговорил Звягинцев, начиняя патронную сумку тяжелыми, маслянисто-теплыми на ощупь патронами.
Не обращая внимания на поправку, словоохотливый подносчик сказал:
– Что ты, отец, гнешься в окопе, как грешная душа? Немца на виду нету, стрельбы настоящей тоже нету, вылазь на солнышко, разомни старые кости!
Слова «отец» и «старые кости», очевидно, пришлись Звягинцеву не по вкусу, он поморщился, не без ехидства спросил:
– А почему же ты, парень молодой, на пузе передвигаешься, если немца не видно и огня мало?
– Это я по старой привычке, – смеясь, ответил подносчик. – Понимаешь, при моей специальности до того привык ползком, как пресмыкающееся животное, пробираться, что боюсь, как бы вовсе не разучиться на ногах ходить. Все время так и тянет на брюхе проползти…
– Дурачье дело нехитрое, вполне можешь разучиться, – охотно подтвердил Звягинцев.
От скуки ему захотелось поговорить с веселым парнем, и он спросил, как и всегда при разговоре с молодыми бойцами, невольно употребляя тон слегка снисходительный и покровительственный:
– Ты, паренек, не из третьей роты? Личность твоя мне будто знакомая.
– Из третьей.
– А фамилие твое как?
– Утишев.
– Ты женатый, Утишев?
Парень отрицательно покачал головой, заулыбался.
– Возраст мой молодой, не успел до войны.
– То-то, что не успел… Вот будешь подносчиком работать, отвыкнешь ходить, а после войны вздумаешь жениться и, вместо того чтобы идти на своих на двоих, как все добрые люди делают, вспомнишь военную привычку и поползешь на пузе к девке свататься. А она, сердешная, увидит такого жениха и – хлоп в обморок! А невестин родитель и учнет тебя поперек спины палкой охаживать да приговаривать: «Не позорь честную невесту, такой-сякой! Ходи, как полагается!»
Утишев потянул к себе за лямку патронную коробку, усмехаясь, сказал:
– Небритый ты, а хитрый… Ты мне зубы не заговаривай, я слушать – слушаю, а патронам счет веду. Кончилась заправка! Стрелять не тебе одному.
Звягинцев хотел что-то возразить, но Утишев пополз к соседнему окопу и, не поворачивая головы, вдруг наставительно и серьезно сказал:
– А ты, борода, стреляй поэкономней и пометче, а то ты, наверное, пуляешь в белый свет, как в копеечку. Да про девушек на старости лет поменьше думай, тогда у тебя и руки дрожать не будут…
От неожиданности и обиды Звягинцев не сразу нашелся, что ответить, и, только помедлив немного, крикнул вдогонку:
– Бабушку свою поучи, как надо стрелять, сопливец ты этакий!
Утишев полз, улыбаясь и не оглядываясь, волоча за собой патронные коробки. Звягинцев презрительно посмотрел на его спину с проступившими на лопатках белыми пятнами соли, на веревочную лямку, перекинутую через плечо и глубоко врезавшуюся в добела выгоревшую на солнце гимнастерку, огорченно подумал: «Народ какой-то несерьезный пошел, просто черт его знает, что за народ! Как, скажи, все они в учениках у Петьки Лопахина были… Эх, беда, беда, нету Миколы Стрельцова, и поговорить толком не с кем».
Мимолетно погоревав об отсутствующем друге, Звягинцев привел в порядок свое солдатское хозяйство: выбросил катавшиеся под ногами гильзы, поправил скатку, вычистил травою и припрятал в нишу котелок; хотел было немного углубить окоп, но при одной мысли о том, что надо опять орудовать лопаткой, по кусочку отколупывать сухую и твердую, как камень, землю, все существо его восстало против этого, и он ощутил вдруг такую чугунную тяжесть и усталость в руках, что сразу же и бесповоротно решил: «Обойдется и так, не колодезь же рыть, на самом деле! А смерть, если захочет, – так и в колодезе найдет».
Редкие хлопья облаков плыли на восток медленно и величаво. Лишь изредка белая, насквозь светящаяся тучка ненадолго закрывала солнце, но и в такие минуты не становилось прохладней; раскаленная земля дышала жаром, и даже теневая сторона окопа была до того нагрета, что Звягинцеву противно было к ней прикасаться.
В окопе стояла духота неподвижная, мертвая, как в жарко натопленной бане; назойливо звенели появившиеся откуда-то мухи. Разморенный полуденным зноем Звягинцев, посидев на свернутой скатке, вставал, тер тыльной стороной ладони слипавшиеся глаза, смотрел на подбитые и сгоревшие танки, на распластанные по степи трупы немцев, на бурую хвостатую тучу пыли, двигавшуюся далеко за высотами над грейдером, что тянулся на восток параллельно течению Дона. «Что-то умышляют проклятые фрицы, – думал он, следя за движением пыли. – К ним, видать, подкрепления идут – вон какую пылищу подняли. Подтянут силенки, перегруппировку сделают, залижут болячки и опять полезут. Они – упорные черти, невыносимо упорные! Но и мы не из глины деланные, мы тоже научились умывать ихнего брата так, что пущай только успевают красную юшку под носом вытирать. Это им не сорок первый год! Побаловались сначала, и хватит!» – успокаивая себя, размышлял Звягинцев, а потом перевел взгляд на подбитый Лопахиным танк.
Темно-серая, еще недавно грозная машина стояла, повернувшись наискось, зияя навсегда умолкшим жерлом приподнятого орудийного ствола. Первый танкист, прыгнувший из люка и срезанный с ног очередью автомата, лежал возле гусеницы, широко раскинув руки, и ветер лениво шевелил полу его распахнутого мундира; второй – убитый Звягинцевым – перед смертью успел отползти от танка. Сквозь редкие кустики полыни Звягинцев видел его темноволосый затылок, выброшенную вперед загорелую руку с засученным по локоть рукавом серой рубашки, отполированные, сверкавшие на солнце подковки и круглые, белые, стертые шляпки гвоздей на подошвах ботинок.
– При такой жарище к вечеру и вот этот крестник мой и другие битые обязательно припухнут и вонять начнут. От таких соседей тут не продыхнешь… – почему-то вслух сказал Звягинцев и гадливо поморщился.
По спине его поползли мурашки, и он зябко повел плечами, вспомнив тошнотно-сладкий, трупный запах, с самого начала весны неизменно сопутствовавший полку в боях и переходах.
Давным-давно прошло то время, когда Звягинцеву, тогда еще молодому и неопытному солдату, непременно хотелось взглянуть в лицо убитого им врага; сейчас он равнодушно смотрел на распростертого неподалеку рослого танкиста, сраженного его пулей, и испытывал лишь одно желание: поскорее выбраться из тесного окопа, который за шесть часов успел осатанеть ему до смерти, и поспать без просыпу суток двое где-нибудь в скирде свежей ржаной соломы.
Он без труда восстановил в памяти духовитый запах только что обмолоченной ржи, застонал от нахлынувших и сладко сжавших сердце воспоминаний и снова опустился на дно окопа, откинул голову, закрыл глаза. Его борол сон, и теперь он с удовольствием поговорил бы даже с Лопахиным, чтобы развеять тяжкую дрему, но Лопахин после четвертой атаки немцев перекочевал в запасный окоп и был далеко.
В забытьи, когда незаметно стирается грань между сном и явью, Звягинцев видел жену, детишек, убитого им танкиста в серой рубашке, директора МТС, какую-то незнакомую мелководную речушку с быстрым течением и отшлифованной разноцветной галькой на дне… Речушка бесновалась в крутых глинистых берегах, гудела все настойчивее, сильнее, и Звягинцев нехотя очнулся, раскрыл глаза: над ним высоко в небе шла шестерка наших истребителей, далеко опережая отстающий звенящий гул своих моторов. Звягинцев был человеком практического склада ума и любил свою авиацию не вообще и не во всякое время, а только когда она прикрывала его с воздуха или на его глазах бомбила и штурмовала вражеские позиции; потому-то он и проводил стремительно удалявшихся истребителей холодным взглядом из-под сонно приспущенных век, с тихой злостью забормотал:
– Опять опоздали! Когда нас немцы бомбили и висели над нашим порядком, как привязанные, – вы небось кофей пили да собачьи валенки свои натягивали, а теперь, после шапочного разбора, пошли в пустой след порхать, государственное горючее зря жечь… Истребители бензина вы, вот кто вы есть такие!
Излить свое негодование до конца ему не удалось: немцы начали артиллерийскую подготовку, и на передний край обрушился вдруг такой жесточайший шквал огня, что Звягинцев вмиг позабыл и об истребителях и обо всем остальном на свете…
Сотни снарядов и мин, со свистом и воем вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжущие осколками черные фонтаны земли и дыма, вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь усеянную воронками извилистую линию обороны. Разрывы следовали один за другим с непостижимой быстротой, а когда сливались, над дрожавшей от обстрела землей вставал протяжный, тяжко колеблющийся всеподавляющий гул.
Давно уже не был Звягинцев под таким сосредоточенным и плотным огнем, давно не испытывал столь отчаянного, тупо сверлящего сердца страха… Так часто и густо ложились поблизости мины и снаряды, такой неумолчный и все нарастающий бушевал вокруг грохот, что Звягинцев, вначале кое-как крепившийся, под конец утратил и редко покидавшее его мужество и надежду уцелеть в этом аду…
Бессонные ночи, предельная усталость и напряжение шестичасового боя, очевидно, сделали свое дело, и когда слева, неподалеку от окопа, разорвался крупнокалиберный снаряд, а потом, прорезав шум боя, прозвучал короткий, неистовый крик раненого соседа, – внутри у Звягинцева вдруг словно что-то надломилось. Он резко вздрогнул, прижался к передней стенке окопа грудью, плечами, всем своим крупным телом и, сжав кулаки так, что онемели кончики пальцев, широко раскрыл глаза. Ему казалось, что от громовых ударов вся земля под ним ходит ходуном и колотится, будто в лихорадке, и он, сам охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался к такой же дрожавшей от разрывов земле, ища и не находя у нее защиты, безнадежно утеряв в эти минуты былую уверенность в том, что уж кого-кого, а его, Ивана Звягинцева, родная земля непременно укроет и оборонит от смерти…
Только на миг мелькнула у него четко оформившаяся мысль: «Надо бы окоп поглубже отрыть», – а потом уже не было ни связных мыслей, ни чувств, ничего, кроме жадно сосавшего сердца страха. Мокрый от пота, оглохший от свирепого грохота, Звягинцев закрыл глаза, безвольно уронил между колен большие руки, опустил низко голову и, с трудом проглотив слюну, ставшую почему-то горькой, как желчь, беззвучно шевеля побелевшими губами, начал молиться.
В далеком детстве, еще когда учился в сельской церковно-приходской школе, по праздникам ходил маленький Ваня Звягинцев с матерью в церковь, наизусть знал всякие молитвы, но с той поры в течение долгих лет никогда никакими просьбами не беспокоил бога, перезабыл все до одной молитвы – и теперь молился на свой лад, коротко и настойчиво шепча одно и то же: «Господи, спаси! Не дай меня в трату, Господи!..»
Прошло несколько томительных, нескончаемо долгих минут. Огонь не утихал… Звягинцев рывком поднял голову, снова сжал кулаки до хруста в суставах, глядя припухшими, яростно сверкающими глазами в стенку окопа, с которой при каждом разрыве неслышно, но щедро осыпалась земля, стал громко выкрикивать ругательства. Он ругался так, что на этот раз, если бы слышал, ему мог бы позавидовать и сам Лопахин. Но и это не принесло облегчения. Он умолк. Постепенно им овладевало гнетущее безразличие… Сдвинув с подбородка мокрый от пота и скользкий ремень, Звягинцев снял каску, прижался небритой, пепельно-серой щекою к стенке окопа, устало, отрешенно подумал: «Скорей бы убили, что ли…»
А кругом все бешено гремело и клокотало в дыму, в пыли, в желтых вспышках разрывов. Покинутый жителями хутор горел из конца в конец. Над пылающими домами широко распростерла косматые крылья огромная черная туча дыма, и к плававшему поверх окопов едкому запаху пороховой гари примешался острый и горький душок жженого дерева и соломы.
Артиллерийская подготовка длилась немногим более получаса, но Звягинцев за это время будто бы вторую жизнь прожил. Под конец у него несколько раз являлось сумасшедшее желание: выскочить из окопа и бежать туда, к высотам, навстречу двигавшейся на окопы сплошной, черной стене разрывов, и только большим напряжением воли он удерживал себя от этого бессмысленного поступка.
Когда немецкая артиллерия перенесла огонь в глубину обороны и гулкие удары рвущихся снарядов зачастили по горящему хутору и еще дальше, где-то по мелкорослому и редкому дубняку луговой поймы, – Звягинцев, осунувшийся и постаревший за эти злосчастные полчаса, механическим движением надел каску, вытер рукавом запыленный затвор и прицельную рамку винтовки, выглянул из окопа.
Вдали, перевалив через высотки, под прикрытием танков, густыми цепями двигалась немецкая пехота. Звягинцев услышал смягченный расстоянием гул моторов, разноголосый рев идущих в атаку немецких солдат и как-то незаметно для самого себя поборол подступившее к горлу удушье, весь подобрался. Хотя сердце его все еще продолжало биться учащенно и неровно, но от недавней беспомощной растерянности не осталось и следа. Мягко ныряющие на ухабах танки, орущие, подстегивающие себя криком немцы – это была опасность зримая, с которой можно было бороться, нечто такое, к чему Звягинцев уже привык. Здесь в конце концов кое-что зависело и от него, Ивана Звягинцева; по крайней мере, он мог теперь защищаться, а не сидеть сложа руки и не ждать в бессильном отчаянии, когда какой-нибудь одуревший от жары, невидимый немец-наводчик прямо в окопе накроет его шалым снарядом…
Звягинцев глотнул из фляги теплой, пахнущей илом воды и окончательно пришел в себя: впервые почувствовал, что смертельно хочет курить, пожалел о том, что теперь уже не успеет свернуть папироску и затянуться хотя бы несколько раз. Вспомнив только что пережитый им страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то постороннем, подумал: «Ведь вот до чего довели человека, сволочи!» А потом представил язвительную улыбочку Лопахина и тут же предусмотрительно решил: «Об этом случае надо приправить молчок – не дай бог рассказать Петру, он же проходу тогда не даст, поедом съест! Оно, конечно, мне, как беспартийному, вся эта религия вроде бы и не воспрещается, а все-таки не очень… не так чтобы очень фигуристо у меня получилось…»
Он испытывал какое-то внутреннее неудобство и стыд, вспоминая пережитое, но искать весомых самооправданий у него не было ни времени, ни охоты, и он мысленно отмахнулся от всего этого, конфузливо покряхтел, со злостью сказал про себя: «Эка беда-то какая, что помолился немножко, да и помолился-то самую малость… Небось нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь! Смерть-то, она – не родная тетка, она, стерва, всем одинаково страшна – и партийному, и беспартийному, и всякому иному прочему человеку…»