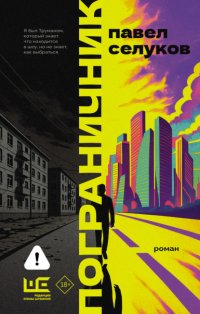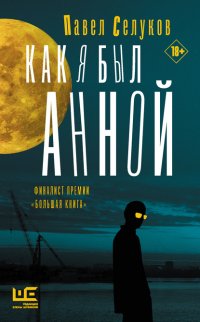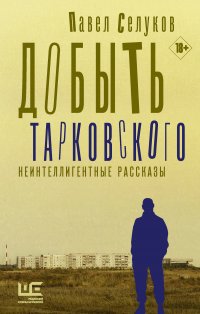
Читать онлайн Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы бесплатно
- Все книги автора: Павел Селуков
Потому что мы подростки
Конфетки
Вадик не любил папу. Нет, папа был хорошим, но автомобилистом. Все на стройке в сифу играют, а Вадик ключи подает в гараже. Будешь тут счастлив. С таким папой, как у Вадика, держи карман шире. Пельмени заставляет с бульоном есть. А там лук вареный. Противный-препротивный. От него плакать хочется. Вадик вообще любил ничего не делать. Он, когда вырастет, прочитает у Воннегута фразу: «Мы родились, чтобы везде ходить и ничего не делать». Вадик этой фразой все недоразумения своей жизни прикроет, как запчасти ветошью. Для этого ведь писатели и нужны, чтобы помогать нам оправдываться. То есть объяснять самих себя самим себе. Но пока Вадик Воннегута не читал и ленился безо всякой философии. А когда ленишься без философии, взрослые сразу начинают тобой помыкать.
А Вадик, он принципиальный. Он один раз из садика сбежал, потому что там молоко с пенкой давали. В дырку заборную ушел. Бродил везде. Спички по ручейку пускал. Мороженку купил. Его родители на милицейском «бобике» нашли. Папа ремня всыпал. Страшновато, но не больно. Папа всегда ремня рядом всыпывает, как бы кровать хлещет. А однажды, когда уже «Волга» появилась, папа за ондатрой поехал. Он на нее силки ставил, ловушки такие, а потом за гаражом свежевал и на шапки пускал. А мама их на рынке продавала. Только это была тайна, потому что браконьерство. А Вадик сразу не понял, что это тайна, и рассказал про ондатр Сашке Куляпину. А Сашка балабол. Всему двору растрепал. Вадик тогда на Кислотках[1] жил, в двухэтажном доме. Там мужики на столе в домино играли. Кричали: рыба! Или: врешь, не уйдешь! Или: накося выкуси!
А Сашка к ним подсел и про ондатр рассказал. Ему очень нравилось, что взрослые его внимательно слушают. А мужики потом папе всё рассказали. Он прямо взбеленился. Дураком Вадика обозвал, болтуном и девочкой. А Вадик не стерпел. Мама в баню ушла, потому что ванной не было, а женский день был. А папа под «Волгой» лежал ногами наружу. Он Вадика не взял, потому что сердился. А Вадик только и рад. В рюкзачок пропитание собрал и зашел к Сашке. Пять вечера было. Ухожу, говорит, я, Сашка, из дома. Не могу больше их терпеть.
Сашка проникся. Ему дома тоже не нравилось. Папы нет, мама горькую пьет, какой тут интерес? Вместе решили уходить. Город где-то был. Пермь где-то. Туда бы, а там видно будет. Или на природу. Шалаш Вадик с папой уже строил. Рыбу удил. В грибах знал некоторый толк. Не так чтобы разбирался, но «белого» в лицо распознавал.
Короче, собрал Сашка рюкзачок, и пошли они в сторону кладбища. Никто их не заприметил. Будний день, на Химдыме все. Это папа по сменам мантулит, потому и на отдыхе. А мама вообще домохозяйка. А кругом лето. Птицы поют, кузнечики стрекочут. Вадик леску с оснасткой взял. Сашка ножик и спички. Еды на три дня. Благодать и душевное равновесие. А на кладбище не были оба. Недетское это место. Кресты тянутся, надгробия. Лабиринты почерневших оградок. Тень такая от деревьев. Призраки, вурдалаки. Мало ли… Мимо хотели пройти. Не прошли. Прямо, оно неизвестно что, а направо кладбище. Зайдем? Айда! Вдвоем не так страшно. А на кладбище тихо… Пошли бродить. Надписи читать, даты. Фоток – видимо-невидимо. С косичками, смотри! А вон усатый. На тракторе работал. Почему на тракторе? Все усатые на тракторе работают. А я и не знал. Мал еще.
Сашка был старше Вадика на год, а когда одному девять, а другому десять, это существенная разница. На одной могилке конфеты нашли. Две «Былины» и три «Лимончика». «Лимончики» я не буду, они без фантика, сказал рассудительный Сашка, а «Былину» съем. Вадик возразил. Не нам конфеты оставили. Воровать нехорошо. Сашка насупился. А кому? Кому их оставили? А Вадик похолодел и говорит: мертвецам. Сашка не сдался. А как они их будут есть? Не могут они их есть. Они мертвые. Вадик застучал зубами. Они по ночам из могил выбираются и конфеты едят. Иначе зачем их тут оставлять, сам прикинь? Сашка прикинул. Догадка Вадика сразила его своей стройностью. Вдруг Сашку осенило. Вадик, Вадик! Ну чего? Надо ночи дождаться и проверить. Могилу найти, чтобы там не сильно взрослый был, мало ли что, и подглядеть из укрытия. Как из засады. Как на войне!
Войну друзья любили. «Батальоны просят огня» вместе смотрели. И про Брестскую крепость, где девушка хромая с седым солдатом жила. Там немцы в самом конце честь ему отдали. Сначала отдали, а потом убили. У немцев, видно, так заведено. Вадик хоть и боялся, но согласился. Это был приятный страх, повизгивающий. Думаешь, с темнотой вылезают или в полночь? Всяко с темнотой. Откуда им про полночь знать, у них часов под землей нету. Так и у нас нету. Вот я и говорю – с темнотой. Солнце начнет садиться, и заляжем. Надо только могилу подходящую найти. Вадик кивнул. Пошли искать. Долго искали. Проголодались – жуть. Сели за столик возле могилы. Печенья навернули, пряников, «Юпи» из бутылки попили. Дальше побрели. Кладбище не большое, но и не маленькое, а для маленьких – большое. Глядь – стемнело. Мрак по кронам пополз.
Сашка побледнел. Бегом, говорит, бегом, подходящую надо! Побежали. А кладбище вкривь-вкось, сильно не разбежишься. Ну, Вадик и упал. В поворот не вошел и треснулся об оградку. Смотрит – девочка на фотке. Лобик такой беленький и в глазах искорки. Посчитал в уме. Одиннадцатилетка. Если на них попрет, они с Сашкой легко ее уложат. Позвал Сашку. Тот согласился. Залегли через три могилы. Палки еще нашли. Крепкие такие, с сучками. Рюкзачки под лавку спрятали. Изготовились. Через полчаса стемнело, хоть глаз выколи. Ветерок поднялся, заперебирал кроны. Береза белеет. Или это не береза? Или береза? Вадику домой захотелось. Только он не мог первым предложить, потому что Сашка его трусом бы назвал. А Сашка на самом деле от возвращения бы не отказался, но молчал по той же причине.
Оба лежали, молчали и боялись. И не отрывали глаз от старой могилы. Полчаса прошло. Или час. Или десять минут. Когда страшно, перестаешь чувствовать время. В этом суть страха. Все перестаешь чувствовать, кроме него. Страх – это такой Александр Македонский душевных фибр. Вадик и Сашка знали про Александра. Вадику мама книжку про него читала, а Вадик Сашке ее потом пересказал. Вдруг друзья услышали хруст. Хруст приближался со стороны могилы. То есть как бы из-за нее. Вадик прошептал: «Это чьи-то кости хрустят». Сашка побледнел как простынка. Метрах в пятнадцати мелькнул луч света. Друзья отчетливо увидели топор в скрюченной руке. Мертвец шел прямо на них. Сашка схватил Вадика и прошептал: «Бежим!» Вадик смешно икнул, и оба ринулись наутек. Бежали сломя голову. Лабиринт оградок развел друзей. Сашка побежал вправо, на выход с кладбища, а Вадика лабиринт увел налево, в самую глубь.
Вадик бежал, как заяц, аж свербело в пятках. Он убежал довольно далеко, когда земля под ногами оборвалась. Вадик ухнул в свежевырытую могилу, боднул головой земляную стену и отрубился. Очнулся в кромешной тьме. Тогда копали не метр двадцать, как сейчас, а полноценные два метра. Вадик попытался выбраться, но не смог. В девять лет никто бы не смог, разве самый что ни на есть акселерат. Вадик заплакал. Звать на помощь было нельзя, потому что на крики мог прийти мертвец с топором. Спать – холодно: от земли тянуло нелетней промозглостью. Вадик примостился на корточках к стеночке, обнял себя руками и снова заплакал. Он плакал очень долго, так долго, что сам не заметил, как уснул. Тем временем Сашка домчался до дома. Там и была-то всего пара километров. Он хотел ждать Вадика во дворе, но его самого ждал во дворе Вадикин папа. Он весь вечер искал сына с участковым на «бобике», а сейчас заехал домой, чтобы узнать, не вернулся ли Вадик. Тут в него и врезался полоумный Сашка. Под нажимом взгляда и пальцев на ухе он быстро все рассказал. Поехали искать.
А Вадик чуток подремал и проснулся от хруста. «Это чьи-то кости хрустят!» Палку Вадик потерял. Поэтому он сжался на дне могилы и закрыл глаза, чтобы стать невидимым. В могилу заглянул луч света. Вадик забыл дышать.
– Ты чего тут делаешь, балбес?
– Дяденька мертвец, не убивайте меня. Я не хотел! Я упал!
– Я не мертвец. Я – сторож. На вот…
Сторож лег на землю и протянул Вадику рукоять топора.
– Хватайся и вылазь. Могилу не обсыпь. Копать потом…
Вадик ухватился за рукоять и выбрался из могилы. Сторож был худым, но крепким еще стариком с роскошными усами.
– Как здесь оказался? Отвечай!
– Из дома сбежал. Хотел посмотреть, как мертвецы за конфетами вылезают.
– Какие мертвецы? За какими конфетами?
– Которые на могилах лежат. Их мертвецам оставляют, чтобы они по ночам вылезали и ели.
– Их копальщикам оставляют. Ради благодарности и чтоб они за могилками смотрели. Етить твою мать! Мертвецы… Пошли.
– Куда?
– В контору. Отцу твоему звонить.
– У нас телефона нет.
– Значит, в милицию. Замерз?
– Маленько…
– Маленько. Шевели поршнями и не упади никуда. Щас чайку попьем.
Сторож взял Вадика за руку и вывел на центральную дорогу. На асфальте Вадик слегка повеселел. Правда, чайку им попить не удалось. Когда они подошли к конторе, там уже стоял милицейский «бобик». И папа. И мама. И Сашка. И товарищ участковый Агапкин.
– Ох и выпорют меня!
– И правильно сделают.
– А вы почему на тракторе больше не работаете?
– Чего?
– Сашка говорит, что все усатые работают на тракторе, а вы вон какой усатый, но не работаете. Надоело, да?
Договорить со сторожем Вадик не успел. К нему подбежал отец, вскинул на руки и отнес в «бобик». Будто он сам ходить не может, будто он маленький какой. Развел телячьи нежности. Но это Вадик про себя так ворчал, а папу обнимал крепко. Фиг с ними, с ондатрами. И с луком. И с ремонтом. Со всем фиг, когда полночи в могиле просидел.
Тристана и Ланселот
Один раз струсил. Обычно не, а однажды да. Раньше были сомнения: в ад там, или в рай, или еще куда. А после того, как струсил, сомнения отпали. Что бы я ни написал, кого бы ни спас, как бы ни жил – ад неминуем. Делами не искупить, в Оптиной пустыни не отмолить, кровью Христовой не отмыть. Серафим Саровский, уж на что Божий человек, и тот не поможет. На даче все произошло. Мне двенадцать лет было. Родители к друзьям в гости приехали и меня с собой взяли. У друзей дети – мой ровесник Коля и одиннадцатилетка Женя. А дача на холме. У меня ятаган из отцовской лыжи. Коля с польским палашом из березы бегает. Он – сэр Гавейн. Я – Ланселот Озерный. Женю мы в Гвиневеры хотели определить, но она не определилась. Нашла палку и полезла в рыцари. Мы ее Тристаной назвали. Ланселот, Гавейн и Тристана.
Весь день носились. Штаб не штаб, Камелот не Камелот, Мерлин не Мерлин (Мерлином был усатый кот Васька). Весь день по небу шныряли тучи. К вечеру загустели, налились чернотой. Мы поужинали уже, когда гром шандарахнул. Побежали на чердак – смотреть грозу. Родители частенько меня сюда брали, и мы с Колей и Женей всегда тусовались на чердаке. Там клево, сеном пахнет, досками, и окно круглое, как иллюминатор. А грозу смотреть вообще шикарно, потому что далеко видать. Я люблю сладко ежиться, наблюдая буйство стихии. Стена дождя с неба упала. Пелена прямо. Шквалистый ветер дерет парник по соседству. А мы в тепле, укрыты надежно. Приятно до чертиков. Гавейн окно открыл. Он у бати сигарету спер. Впышака решил погонять. А я все в пелену вглядывался. Тристана рядом со мной стояла. Мы друг друга как бы любили. Я ее за руку держал. У нее пальчики тонкие, пианистские, вздрагивают.
Смотрю – шарик света в пелене плывет. Ни фонарей, главное, ничего. Почему шарик? Что за фигня? Гавейн тоже заметил. Распахнул окно настежь, чтобы лучше рассмотреть. А шарик как ринется на нас. Вьють! Мы все втроем вглубь чердака отбежали, так это было удивительно. Тут шарик вплыл в окно, и я все понял, потому что знал. Мне отец рассказывал. Шаровая молния. Нельзя двигаться. Можно молиться, глаза закатывать, но двигаться нельзя. Мы все втроем замерли. Глупые дети на дурацком чердаке. А шарик тихонечко так плывет, а потом как бы остановился. Цвет такой. Будто его луна сплюнула на землю. Будто он живой. Я на него посмотрел-посмотрел и стал на Тристану смотреть, а она вся перепуганная. Я ей одними губами: «Не двигайся». Только сказал, шарик чуток подплыл. Гавейн в пол смотрит и на статую похож. А у Тристаны глаза зеленые, выразительные. По ним сразу понятно, что у нее в душе происходит. Она, видимо, что-то слышала про шаровую молнию, слышала, что она убивает, а подробностей не знала.
Я снова шепнул: «Не двигайся». Шарик еще подлетел. И тут я понимаю, в одну секунду прямо понимаю, что щас Тристана побежит и ее молния укокошит. А я же Ланселот, а не насрано. Я сразу смекнул, что мне надо на молнию бежать, и тогда я спасу Тристану. Просто побежать на молнию и все. Любой справится. Метнуться и сгореть. Сразу, пока не побежала Тристана. Без моральной подготовки. Как на дзот. Не сдюжил. Начал с силами собираться. С родителями мысленно прощаться. Так себя жалко стало, позор просто. Периферией Тристану поймал. Ринулась. Шаровая в спину ударила. Взрыв. Светом накрыло, а потом тьмой. Дом загорелся. Родители нас с Колей вытащили. И Тристану вытащили. Только она уже умерла.
А я вырос и дом построил. Своим горбом. Отдельный дом, только для себя. Когда гроза, я у окна сижу. На чердаке. Открою настежь и сижу, вглядываюсь в пелену. Давай, говорю, сука! Я здесь, я не боюсь. Я готов. Не летит. Жена спрашивает: ты куда все время уезжаешь в грозу? Я: так я же громоотводами занимаюсь, проверяю вот. Двадцать лет сижу. Не летит.
Девочка + мальчик + Джованни
В школе я полюбил девочку. Девочка была брюнеткой с жемчужными зубками, оливковой кожей и латинским темпераментом. Надо понимать, какое это диво дивное, ведь учился я не в Майами, а в Перми. Любить девочку, которую любят все, включая трудовика, это как в зрелом возрасте съездить на выставку Брейгеля, а потом всем об этом в Фейсбуке рассказывать. Никого ты этими рассказами не удивишь, дружочек. Там только коматозники, зэки и слепые не были, все остальные были.
Так вот, полюбил я эту замечательную девочку и стал за ней таскаться. Я не хотел с нею просто переспать. У меня были серьезные намерения. Я хотел вступить в брак. Не только девочкам свойственно мечтать о свадьбе, мальчики тоже мечтают о свадьбе, когда под рукой есть такая девочка. О чем еще мечтать в девятом классе, как не о создании полноценной ячейки общества? Свою свадьбу я представлял в храме под чутким руководством веселого попа Валентина. То есть я представлял не свадьбу а венчание. Некоторые люди венчаются в разгар старости, когда уже точно понимают, что ресурсы организма для греховного образа жизни исчерпаны, а впереди только вынужденная праведность и смерть. Одно дело – «косячить» перед загсом и совсем другое – перед Богом. Вариант «не косячить» друг перед другом никому не нравится, поэтому не будем.
Я любил свою девочку втайне от нее два месяца. Любовь достигла апогея в магазине «Продукты». Там продавалось мороженое «Маня и Ваня», а девочку звали Таня. Улавливаете связь? Я заменил в названии букву «М» на букву «Т» и очень глубоко задумался о Тане. Говоря вульгарным языком, залип. Из этого состояния меня вывел голос. Голос сказал: «Привет, Паша». Голос показался мне невероятно милым и страшно знакомым. Я повернул голову и увидел Таню во плоти. Мир подернулся дымкой. Помню, я опал на холодильник и сполз по нему на пол. Потерял сознание от избытка чувств. Внутренний мир и мир внешний сошлись в точке G моих тонких материй. Катарсис без дураков. Пережив такое, я решил подойти к девочке и объясниться, но вместо этого зачем-то предложил ей дружить.
Она согласилась. Мы стали дружить. Я ввел ее в свой круг. Через неделю она сказала мне, что ей нравится Серёжа Кириенко. Не Серёжа Кириенко, который политик и герой Российской Федерации, а мой смазливый приятель с челкой. Я отреагировал трагической паузой. Я понял, что, если прямо сейчас не скажу о своих высоких чувствах, Серёжа Кириенко завладеет моей девочкой. Рассказал. Я был красноречив, как Бинго-Бонго из одноименного фильма с Адриано Челентано, но этого оказалось мало. Девочка зашла издалека. «Понимаешь, – сказала она, – летом я летала в Болгарию и потеряла там девственность с итальянцем Джованни. Золотые пески, мокрый купальник, вот это все. А Серёжа очень на него похож. Ты не похож, а Серёжа похож. Никому не рассказывай, ладно? Ты на меня не обиделся?»
Я помотал головой. Потом кивнул. Затем какое-то вращательное движение совершил. Я не обижался. Планировал хранить этот секрет. До вечера продержался. Вечером встретил Серёжу и все ему рассказал. Она тебя не любит, сказал я. Ты просто похож на Джованни. Ты – опёздол и манекен. Серёжа плакал и проклинал женский род. Я плакал и вслух ненавидел итальянцев. Мечтал купить билет в Италию и поубивать всех Джованни. Ты Джованни? Джованни, си? Бах-бах! Если я когда-нибудь попаду в Италию, придется сдерживаться. Серёжа до сих пор пиццу не ест из принципа.
А девочка выросла и вышла замуж за жгучего брюнета татарских кровей. Притащила его на встречу класса. А я подпил и говорю: «Если б ты только знал, Джованни…» А Джованни по бую – он на выставку Брейгеля летал, и давай мне про нее зачесывать живописно. Я смолчал. Я подумывал выхватить кольт, но не выхватил. Я давно овладел умением заинтересованно не слушать собеседника. Сидел и смотрел на Таню. А она смотрела на меня. Столько иронии и грусти было в наших глазах, что хоть Вуди Аллена вызывай. Снег за окном пошел. А Джованни все тараторил про Брейгеля. Все тараторил и тараторил. Хорошо, что Новый год скоро. Не знаю почему.
Тупень и девушка
Меня перевели из 7 «Е» в 8 «Б». Из самого тупого класса в самый умный. В одночасье я перестал быть самым умным в самом тупом классе и стал самым тупым в самом умном. Селяви. Тогда я не знал этого слова. Если б знал, сказал бы «селяви» и успокоился. Но я не знал и немножко запсиховал. А еще в 8 «Б» училась девушка, которую я любил, как теленок. То есть вздыхал и переваливался на косолапых ногах поблизости. Переваливаться поблизости, будучи тупнем, – это не то же самое, что переваливаться поблизости, будучи гением. К гению все равно подойдут, а к тупню не обязательно.
Особенно мне не давалась алгебра. Однажды меня вызвали к доске за десять минут до конца урока, и все десять минут я мыл доску. Возможно, это было самое длительное мытье доски в истории человечества. Во всяком случае, я утешаю себя этой честолюбивой мыслью. Я исполнял театральную сценку. Тупеньу доски. Например, я уронил тряпку и как бы случайно, торопясь поднять, пнул ее в другой конец кабинета. Уронил линейку. Раскрошил мелок. Смеялись все. Я смущенно улыбался. Полноте, дескать, я и вприсядку могу! Не смеялась только девушка, которую я любил. Ее взгляд выражал взрослое презрение. Мне захотелось взять большой циркуль и выколоть себе глаза, но я каким-то чудом сдержался.
В классе меня невзлюбили исподтишка. Как-то украли портфель и наплевали в него. Умненьким детям это свойственно. Им свойственно не вступать в прямой конфликт, но при этом делать жизнь невыносимой. Я их всех бил. Без разбора. Я не знал, как реагировать иначе. Я даже девушку разлюбил. Я и ее слюну подозревал в злодеянии. Я вообще стал жутко подозрительным. Меня коробил смех. Мне все время казалось, что смеются надо мной. Не скажу, что это походило на ад, не стоит нагнетать, но вопросы к Богу были. Хотел даже попроситься обратно в «Е», однако не попросился, потому что гордость взыграла. За учебники сел. Зубрежка, долбежка, слезы прозрения. На «ты» отныне с дискриминантом. Дробь могу. Синус и К°. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. В таком вот духе.
Больше всего мне полюбилась история. Не переношу латынь, иксов не переношу, игреков, сомнительных загадок. Нравится мне, когда все ясно и понятно. В истории даже если напутано – ничего страшного. Всё равно все давно умерли, чего волноваться? Блеснуть я решил на тесте по истории дворцовых переворотов. Готовился как бешеный. Очень тщательно. Кто кому присунул, кто кого убил. Написал без единой ошибки. Пришел на оглашение итогов. Трояк. Училка ухмыляется. До сих пор ее улыбочка перед глазами стоит. Хорошо, говорит, списываешь, Онуфриев. Завелся. Сами, думаю, напросились. Будет вам красный террор. Все кровью умоетесь. Злоба прямо. И слезы. Как два этих состояния в человеке уживаются, я не знаю.
Ушел за школу пинать гаражи и плакать. На, сука! Получи! Вырасту, всех нагну, падлы! Всех, блядь! Тут голос музыкальный сзади: Виталик! Повернулся. Моя бывшая любовь стоит. Подошла. Иди, говорю, на хуй отсюда! Всех вас нагну, твари! Не уходит. Смотрит в упор. Чё те надо? – спрашиваю. Ничего, говорит. Я видела, что ты сам писал. В тебе столько ярости… Чё? В тебе столько ярости… Чё? В тебе… Заткнись! Поцеловал. Ответила. Чуть ум за разум не зашел. Пять лет встречались. Счастье. Нет вопросов к Богу. Хоть сворой травите, если потом такая поцелует. Говорю ей как-то: образование мне надо получить. А она: не надо. Почему это? – спрашиваю. Ты не про образование, ты про ярость. Ярость поведет тебя по жизни. Просто не потеряй ее. Умная. Ярость. Что это, блядь, вообще такое?
Квартира Виктора
Квартира моя состоит из трех комнат, кухни, ванной, прихожей и туалета. Вы не подумайте, я не риелтор, это пример такой. Я бы мог взять планету или Вселенную (планету написал с маленькой буквы, а Вселенную с большой, видать, есть во мне какое-то чинопочитание), однако брать мы их не будем, потому что про планету ни хрена не знаем, а про Вселенную еще меньше. Квартира в самый раз. Так вот, я не воспринимаю ее целиком. Я в этой квартире вырос, и каждое помещение во мне что-то сформировало. Этакую мышечно-эмоциональную память. Например, в туалете я с детства много читал, и всякий раз, входя туда, автоматически настраиваюсь на спокойно-философский лад. Мой темперамент как бы скукоживается до размеров меланхолика.
На кухне я веду себя иначе. Там я привык быстро есть, потому что кто последний, тот со стола и убирает, и забалтывать отца, чтобы он не психовал и Лёньку Цаплина, который в Афгане погиб, пьяным не вспоминал. Холерик, понимаете? Отец с нами давно не живет, а я все равно веду себя суетливо, болтаю без умолку и очень быстро ем, почти не жуя. В гостиной, которая родительская, я чувствую неловкость. Во-первых, ребенком я вбежал в нее, когда родители занимались сексом, во-вторых, я чувствую свое умственное превосходство над родителями, а это неприлично, особенно если правда. В гостиной я подбираю слова попроще, смотрю в пол и переживаю конфуз.
Следующая комната – моя с сестрой. Она не запирается, и поэтому ощущения личного пространства не возникает. Технически она моя, но не вполне, потому что в любой момент сюда могут зайти. Отсюда пофигизм, нежелание прибираться и застилать постель. Однако я все это делаю, преодолевая себя. Так я ее и воспринимаю – безликим преодолевательным местом. Здесь я как бы тоскую под тяжестью слова «надо». В ванной я мастурбирую. Не сейчас, а в юности. Ванная – место фантазий, темной сексуальной правды о себе. Сангвинический темперамент. Разврат. Голые японские школьницы в неглиже. Тут я свободен, если под свободой понимать сладострастие.
Не так с последней комнатой, где раньше жила прабабка Оля, хотя иногда мне кажется, что она живет там до сих пор. Прабабкина комната пахнет старостью. Окна выходят на солнечную сторону, тут душно, а советский шкаф напоминает гроб, поставленный на попа. В этой комнате я почему-то думаю о семье, истории и смерти. Иногда я ложусь на прабабкину кровать и скрипучим голосом говорю в потолок: «Из блюцца дуй! Ищо, ищо подуй, обжешься, Виктор!» Прабабка стала обращаться ко мне официально, едва я возник. Мне кажется, она просто скучала по мужу, которого звали так же, как меня.
В прихожей мне тревожно. Прихожая – предбанник улицы, а на улице может произойти все что угодно. Я превращаюсь в педанта. Подолгу стою перед зеркалом, причесываюсь, поправляю складки брюк, проверяю карманный нож. Улица меня пугает и будоражит. Никогда не знаешь, куда она тебя заведет. В каком-то смысле моя Пролетарка[2] тоже состоит из комнат, но сейчас не о ней, а о квартире.
В девятом классе из нашей школы исчез урок английского. Родители собрались, скинулись и наняли за свои деньги учителя английского языка. Моя мама предложила нашу квартиру для проведения уроков. Группа была небольшой, двенадцать человек, и мама справедливо решила, что мы все поместимся в гостиной. Когда я узнал, что занятия будут проходить у нас, мне поплохело. Не потому, что я воспринимал дом крепостью, а потому, что я его стеснялся. Стеснялся дешевой старой мебели, драного линолеума, вечно ссущего на пол той-терьера. Но самое главное, я стеснялся той растерянности, в которой пребывал дома. Если б мои одноклассники были моими друзьями, я бы отнесся к этому спокойнее. Но меня швыряли из класса в класс, и та фибра, которая отвечает за дружбу, у меня атрофировалась.
Я не просто понял, что людей на Земле семь миллиардов, а стало быть, не так уж они и ценны, но и увидел это разнообразие, пусть и в маленьком масштабе, пропустив перед глазами пять классов. Эти, те – какая разница? Переход из класса в класс напоминает смерть друзей, а когда они умирают слишком часто, перестаешь в них верить. Это как одноразовые друзья-попутчики в «Бойцовском клубе». В пятницу все эти будущие покойники должны были пожаловать ко мне на урок английского. Оглядываясь назад, я не вижу в этом ничего страшного. Однако если б наш перспективный взгляд был бы столь же ясен, как ретроспективный, человечество давно бы вымерло или освоило Марс. Накануне визита одноклассников я бесплодно пропадал в ванной и подолгу лежал в прабабкиной комнате. В ванной я перенапряг уздечку члена, в комнате возненавидел маму, которую черт дернул пригласить к нам эту группу.
Наконец наступила гнусная пятница. В девятом классе я учился под литерой «А» с богатенькими ядовитыми детьми. Пришли и расселись они без меня – я нервно ел на кухне. «Папа, с ума сойти!
“Спартак” бежит, “Реал” бежит, кто кого перебежит, бог его знает! Ты как думаешь? Хотя это не важно. Глупо размышлять по поводу не произошедших событий. А по поводу произошедших в особенности. Надо просто жить, так ведь, пап? Я пойду».
И я пошел. Одиннадцать иуд за столом. Я сконфузился с порога. Мама щебетала с учительницей. Одноклассники озирались с надменным видом. Начался урок. Пока раскладывали принадлежности, отличница Катя сказала: «Я себе специальную тетрадь для английского купила». Не знаю почему, но я вскинулся и воскликнул с самым идиотским видом: «О, у меня такая же!» Катя тонко усмехнулась и ответила: «Мы все за тебя очень рады, Витя». Группа засмеялась. Я вспыхнул. Подъебнула. Курва. Блядь рыжая. Пизда. Тварь.
Через сорок минут объявили перерыв. Мама притащила печенье и чай. Потек разговор. Одноклассник Коля как бы между прочим спросил: «А где твоя комната, Витя?» Я ответил. Обмолвился о сестре. Коля задрал брови. «Ты живешь с сестрой? Как интересно…» Группа снова прыснула. У меня заболела уздечка, заныла прямо. Я попробовал незаметно поправить член, но незаметно не получилось. Тогда я ушел в ванную, стянул джинсы и полил на него холодной водой из душа. Не помогло. Уздечку жгло. Назад я вернулся злым и с запасом сангвинического темперамента. Я хотел лежать в прабабкиной комнате и говорить в потолок ее голосом, обхватив мошонку руками, а вместо этого зубрил инглиш под ядовитыми взглядами скотов-одноклассников. И так полгода, если я столько проживу. Вот если б урок проводили в ванной или в туалете, я бы им задал, а в родительской комнате я был бессилен. Приняв лежа упор, папа мамочку пёр. А теперь прут меня. Фак.
После еще двух подъёбок, о которых мне больно вспоминать письменно, я закрыл глаза и попытался представить себя одновременно в ванной и в туалете. Ванная и туалет, туалет и ванная, твердил я мантрически, и поэтому не смог адекватно ответить учительнице. На вопрос: что с тобой, Витя? – надо было сказать: извините, все нормально, а я сказал: ванная и туалет, туалет и ванная. За столом повисла тишина. Сисястая Оля прыснула в кулак. Мама смотрела вопросительно. А я вдруг понял, что не выдержу полгода, и на голубом глазу выдал:
– Елена Валерьевна, вы когда-нибудь хотели отрезать себе член и кинуть им в одноклассника? Хау ду ю ду? Лично я очень хочу. У меня уздечка разболелась, вы не посмотрите, что с ней? Мам, ты тоже можешь взглянуть. Оф кос. Давайте я положу член на стол, и мы вместе подумаем, как жить дальше. Вандерфул. Катя, подуешь на него? Только не соси, он побаливает.
Я встал из-за стола и вжикнул ширинкой. Учительница и одноклассники сумбурно ломанулись на выход. Мама была бледна, как узник Кентервиля. Уроков английского у нас больше не проводили. Правда, пришлось сходить к школьному психологу пару раз, но это ничего, очень приятная женщина. Мечты, мечты… Две недели еще сидел на этом дурацком английском, пока спасение не пришло с неожиданной стороны: отец напился, устроил дебош, и к нам перестали ходить. В родной квартире, кстати, я давно не живу. Она меня дробит и разрывает. Еще бы на планете и во Вселенной не жить, и было бы совсем замечательно.
Хижина моего папы
У моего отца есть дача. Он называет ее хижиной. Не хижиной дяди Тома, мой отец не любит читать, что, как мне кажется, разделяет нас хлеще возраста и пресловутой проблемы отцов и детей, а рыбацкой хижиной. Она стоит на берегу Камы в деревне Окуловка, что в Оханском районе, у подножья большого холма, на котором располагается сама деревня. До Камы от хижины метров пятьсот, до маленькой речки Окуловки метров сто. Она впадает в Каму и достаточно глубока, чтобы рыбачить на поплавок. Мой отец на поплавок никогда не рыбачит. Кроме хижины на участке стоит баня и сарай для лодки. У отца есть спиннинги, большая коробка снастей и даже эхолот, чтобы выслеживать судака. Когда мы с Юлей приезжаем к нему в гости, то обычно идем в баню, а на следующий день, поутру, рыбачить на поплавок в маленькой речушке.
Места эти дикие. У истоков Окуловки есть лог, куда приходят кабаны, а на большой остров, который на Каме, ходит медведь, чтобы полакомиться малиной. Их очевидное присутствие слегка действует мне на нервы. Три года назад, в самом конце августа, мы с женой приехали к отцу на выходные. Пошли рыбачить. Спустились к самой речушке по крутому берегу. Поймали немножко сороги коту на обед. Поднялись наверх. Вверху, прямо напротив нас, паслось стадо коров. Я бегло насчитал голов двенадцать. Чтобы попасть в хижину, надо было идти через стадо. Пастуха я нигде не заметил. Пошли. Нервно и озираясь. Я почему-то вспомнил, как мечтал быть матадором, и подивился своей самоуверенности. За нами увязался бычок. Он был с рожками, без вымени, разговорчив и игрив. Мы с Юлей наддали. Бычок не отставал. Мы пустились наутек. Метров через сорок он потерял к нам интерес.
В хижине, уже вечером, я расспросил отца о стаде. Оказалось, оно принадлежит нашей общей знакомой тете Гале. Тетя Галя торговала спиртом в деревне, а ее муж Женька работал лесорубом. Он мог на полмесяца исчезнуть с бригадой в тайге, валя там деревья, а потом складывая из них срубы. Платили лесорубам десять тысяч в месяц. Женька был жилистым и невысоким, с кожей, похожей на кору. На следующий день было воскресенье. Мы уже собирались уезжать, когда отцу позвонила тетя Галя и попросила помочь. Отец позвал меня с собой. Мы поднялись на холм, повернули направо и вскоре вошли в просторный одноэтажный дом с большой русской печью посередине. Женька взял вторую вахту потому что сменщик-бензопильщик ушел в запой. Такое случалось не так чтобы часто, но случалось.
Проблема была в том, что настало время забивать скот. Себе тетя Галя и Женька били одного теленка, а остальных – на продажу по предварительной договоренности. Завтра за своим мясом должен был приехать заказчик из самой Перми. Приготовлять и разделывать КРС (крупный рогатый скот) тетя Галя умела, а забивать у нее не хватало сил. Чтобы приготовить теленка, надо не кормить его сутки до забоя, потом вывести на место, накрепко примотать за рожки к столбу, а перед этим разложить рядом инструменты: кувалду, нож, ведро и веревку. Кувалда нужна, чтобы оглушить теленка, ударив его в лоб. Именно оглушить, а не убить, иначе мясо будет не таким вкусным. Нож нужен, чтобы после оглушения вскрыть вены и артерии на шее. Ведро нужно, чтобы туда стекала кровь, чтобы не залить ею весь двор. А веревка нужна, чтобы подвесить быка за задние ноги, потому что так кровь стекает быстрее.
Все это отец объяснил мне, и мы вышли на задний двор. Теленок уже был примотан к столбу. Рядом лежали кувалда и нож. Тут же стояло ведро, в котором лежал длинный нетолстый канат. Пап? Ну, надо помочь. Пап? Деревенская жизнь, ничего не поделать. Пап? Выбирай – кувалда или нож? Пап? Ты ножом лучше, а я кувалдой. Пап? Ну надо, блядь! Едва мы подошли, теленок заволновался. Зато когда подошла тетя Галя и стала его гладить, мгновенно успокоился. Светило солнце. С холма открывался вид на Каму. Где-то на острове медведь ел малину. А вон там паслись кабаны. Юля, наверное, ест землянику с молоком. Я взял нож. Отец вскинул кувалду. Игривый теленок. За нами бежал. Чувствовал? Знал? Ох и гоню. Хук! Я присел, со всей силой прижал бледное лезвие к шее и потянул его на себя. Не пошло. Поменял угол. Не пошло. Снова поменял. Наконец ударил фонтан. Я отдернулся, чтобы не испачкать джинсы.
В хижину мы вернулись через полчаса. Тетя Галя налила нам по стакану самогонки. Выпили, закусили чесноком, выкурили по три сигареты и пошли. Юле я ничего не сказал. Она в самом деле ела землянику с молоком. К отцу я продолжил ездить, но бить КРС он меня больше не просил. Я ждал, сначала с тревогой, а потом с удивлением, а он молчал. А в том году вообще продал хижину за три копейки.
Белая дверь
Если идти с Пролетарки в сторону железной дороги, а потом пересечь ее и пойти дальше, чтобы пересечь еще два раза, рано или поздно, а точнее – минут через тридцать, вы выйдете к Каме. По пути вам встретится заброшенный свинарник, усеянный окатышами косогор, маленькое озерцо Камушки, большое озеро Белое и заброшенный завод, который то заброшен, то не заброшен, а когда-то производил кирпич. Возле завода вы повернете направо, пройдете метров триста и повернете налево, чтобы вскоре выйти к красной двухэтажной котельной, похожей на особняк. Котельная давно оставлена, и почти вся ее «начинка» то ли предусмотрительно вывезена хозяевами, то ли растаскана в девяностые на цветмет и для дачных нужд. Даже в жаркий день котельная обдает прохладой. На первом этаже валяются коробки, бутылки, всякие фантики и рваные телаги, оставшиеся от стоянки бомжей.
Зато второй этаж в известном смысле прибран. Там стоит копченая печка и лежит белая дверь на четырех брусках. Окно с остатками рамы выходит на Каму. Только песчаный пляж отделяет котельную от реки. Из окна видны понтоны и большой поваленный тополь, возле которого принято жарить шашлык. На другом берегу – а в хорошую погоду он виден без труда – возвышаются странные железные конструкции, похожие на куриные ноги. Иногда они ныряют в воду и чего-то там вылавливают. Или черпают песок. Или ныряют не в воду, а еще куда-то, потому что из котельной этого не разглядеть. В июле пол котельной устилает тополиный пух. Он хрустит под ногами и лезет в нос, как бы подбивая оставить Каму и сбежать домой. Но мы не сбегаем. Мы – это я и Оля. Конечно, котельная принадлежит не только нам, но только мы можем находиться здесь без выпивки и ганджубаса.
Чуть ли не каждый день лета 2003 года мы проводим здесь. Купаемся, загораем, жарим на костре сосиски, ныряем с понтонов и занимаемся любовью. Когда загорелая Оля ложится на белую дверь, это производит на меня сильное впечатление. В первый раз я задохнулся, но подумал, что это пройдет, однако не прошло. Даже к исходу лета мне нужно приложить усилие, чтобы оторвать глаза и перейти к действиям. Обычно мы приходим на Каму к девяти утра, потому что нам трудно спать по отдельности. Ну, и пока не наступила жара. Раньше мы ходили через завод, но в конце июля там установили шлагбаум и появились охранники с овчаркой. Мы сворачиваем прямо возле шлагбаума, и охранники провожают нас взглядами. Им жарко сидеть в будке, и они бродят по пыльной дороге с сигаретами в зубах.
Все лето охранников было двое, а сегодня мы встретили троих. Оля закончила одиннадцатый класс и поступила в Политех на социолога. В школе мы учились вместе, но меня выгнали из десятого класса за драку, и теперь я прозябаю в училище. Все говорят, что мне там не место, но, когда говорят, что тебе где-то не место, – это всегда пустое. Я это хорошо понимаю, потому что проучился в училище целый год, а «тебе там не место» ситуацию никак не изменило.
Когда мы подошли к шлагбауму, один охранник крикнул:
– Куда прете?!
Я показал ему рукой на обходную тропинку. Мы приблизились. Оля была в шортиках и маечке. Охранники заулыбались. Двое были одеты по форме, а третий стоял в черной футболке. Я подумал, что он дурак, потому что только дурак наденет черную футболку жарким летом. «Черный» пролез под шлагбаумом и шагнул нам навстречу.
– Купаться пошли?
– Да. Нельзя?
– Можно. Только не утоните.
– Чего?
– Шучу.
«Черный» хохотнул и хлопнул меня по плечу. Во рту блеснул металлический зуб. Я вежливо улыбнулся, и мы с Олей повернули на тропинку. Укрытая высокой травой, она была почти не видна с дороги. Метров через десять Оля шепнула:
– Он смотрит.
– Что?
– В черной рубашке. Я чувствую.
– Да пошел он!
Тропинка вильнула, и Оля расслабилась. Возле Белого озера мы побежали. Там было много комаров, и мы всегда пробегали этот участок. Пятидесятиметровый «коридор» из березок и борщевика, наполненный комариным звоном, а в конце пустырь, за которым котельная и Кама.
Песок обжигал пятки, и поэтому мы разделись возле самой воды и поплыли на понтоны. Понтоны тоже горячие, но там есть деревянные мостки, на которых хорошо лежать сразу после купания. Все лето я учил Олю нырять головой вперед. Из стоячего положения она не могла нырнуть до сих пор, но из сидячего ныряла уже уверенно.
Нанырявшись всласть, мы легли на мостки и стали смотреть в небо. Небо было глубоким. Облака делают его плоским, а когда их нет, небо превращается в костер, и на него можно смотреть очень долго, потому что смотришь в него.
– Знаешь, если б я шла одна, он бы на меня напал.
– Кто?
– Охранник в черной рубашке. Он меня всю обшарил. Физический такой взгляд. Как ладонь.
– Оля, блин! Ты все еще думаешь об этом уроде? Смотри – коршун!
– Орел.
– Нет. Орлы у нас редкость. Коршун.
– Ястреб.
– Да нет.
– Сокол.
– Издеваешься?
– Может, грач?
– Да что с тобой?
– Ничего.
Оля встала с мостков и бомбочкой прыгнула в Каму. Хотя бомбочка – это не про нее. Она была худенькой, кроме попы и груди. И еще высокой. Всего на восемь сантиметров ниже меня, а я метр семьдесят восемь.
Я нырнул следом. Оля поплыла к берегу. Я ее почти догнал, когда она резко повернула вправо. Я не отставал. Наконец Оля устала и легла на спину. Я подплыл.
– Ну, чего ты?
– Знаешь, мог бы и посочувствовать.
– Я сочувствую. Тебя облапил глазами тупой охранник. Это большое горе…
Оля брызнула мне в лицо и уплыла на берег. Я видел, как она постелила полотенце и легла. Не большое покрывало, а именно полотенце. Чтобы лежать в гордом одиночестве. Я решил поплавать и подождать, пока Оля остынет. На нее иногда находит. Рядом плавал селитерный окунь. Из-за червяка он не мог уйти на глубину, и я немного поиграл с ним, поддавая рукой и подбрасывая в воздух. Минут через пятнадцать я вышел на берег и молча расстелил покрывало. С Камы подул свежий ветерок. Я знал, что Оля мерзлячка и скоро ей станет холодно, но первой она все равно мириться не станет. То есть не ляжет на покрывало, не прижмется, не укроется полотенцем. Она упрямая. Если б я верил в гороскопы, то обозвал бы ее типичным овном.
– Оль? Ну, прости… Помнишь, как в «Форресте Гампе»? Дерьмо случается. Просто выкини этого урода из головы и иди ко мне.
Оля любила «Форреста Тампа». Мы его раз двадцать смотрели. Он, видите ли, наполняет ее сердце теплотой. Нет, мое тоже наполняет, но не двадцать же раз за полтора года! Оля привстала.
– Тебе правда жаль?
– Правда. Мне вообще жаль, что мир такой, какой он есть. И еще мне жаль, что мы должны к нему приспосабливаться. Иногда мне кажется, что я понимаю Курта.
– Воннегута?
Я машинально ответил:
– Кобейна.
А потом вскинулся:
– Опять издеваешься?
– Да!
Оля вскочила и упала на покрывало, закинув на меня руку и ногу. Я откатился, стряхнул полотенце и укрыл ее. А потом лег рядом, и мы как бы скукожились под ним, прилипнув друг к другу. Оля выдохнула:
– Поцелуй меня.
– У тебя зубы стучат.
– Поцелуй, а то укушу.
– Ладно.
Не знаю, сколько мы пролежали, но вспотели оба.
– Оль?
– Ммм?..
– Пойдем в котельную?
– А ты взял?
– Взял.
– Которые за десять рублей?
– А что? Ты чувствуешь разницу?
– Нет. Просто «Контексы» без голых баб.
– Чем тебе не угодили голые бабы?
– Как-то неприятно, что ты таскаешь их в кармане.
– Ты чокнутая.
– Да?
– Нет.
– Нет?
– Да.
– Гад.
– Между прочим, десять рублей тоже надо где-то взять.
– Не будь мелочным.
– Я специально.
– Я знаю.
Мы собрали одежду, полотенце и покрывало и пошли в котельную. Первый этаж мы пробегали молнией, потому что там не только мусор валялся, но и попахивало. На втором Оля сразу легла на дверь. Мы не занимались сексом на голой двери, потому что однажды я до крови стер колени, а Оля натерла копчик. Просто ей нравилось принимать сексуальные позы на белом фоне, а мне нравилось на это смотреть. Потом Оля вставала, я быстро стелил покрывало, и уже тогда все происходило. Я снял плавки и услышал шаги. Оля села. Я пулей натянул плавки. Шагнул к лестнице. Из проема показались охранники. «Черного» не было, пришли двое других. С дубинками на поясах. Один был в оспинках, а второй с густыми сросшимися бровями. Лет тридцати или тридцати пяти. У шлагбаума я их не разглядел. Я отступил к Оле, как бы закрывая ее собой.
«Оспа» был главным. Я это понял, потому что он держался увереннее и первым открыл рот:
– И чё мы тут делаем? Бухаем на подведомственной территории?
– Нет. Просто сидим. У нас нет алкоголя.
– И чего вы тут сидите?
– Здесь прохладно, вот и сидим.
«Оспа» подошел вплотную и посмотрел на Олю.
– Прешь ее?
– Чё?
– Соска твоя?
– Ты слова выбирай, слышишь?
– А то чё? Борзый, да?
«Оспа» толкнул меня в грудь и схватил Олю под локоть. Я отлетел, но тут же вернулся и ударил справа. Кулак провалился в пустоту. Ударить второй раз я не успел. «Однобровый» пробил мне в печень. Я упал на колени. Боль была адской. «Оспа» пнул меня в лицо. Я упал. Охранники носили берцы. Оля закричала. Я попытался встать, но не смог. Изо рта полилась рвота. Я услышал звук пощечины. Взвыл.
– Ну чё ты моросишь? Поебём тебя немножко и отпустим.
Эти слова меня подхлестнули. Я вздернул себя на ноги и бросился на «Однобрового». В глазах двоилось. Каким-то чудом я сумел вцепиться в глотку. Сзади прилетело. «Оспа» ударил меня дубинкой. В почки. А потом в затылок. Я упал. Не на пол даже, а будто бы в кисель. Оля кричала. Я пытался встать. Я очень хотел встать. Ничего и никогда я так сильно не хотел, но тело меня не слушалось. Я мог только выть. И слушать, как кричит Оля. Я сумел перевернуться на бок, когда увидел черное пятно. Оно промелькнуло мимо меня и обрушилось на «Оспу» и «Однобрового». По котельной разнеслись чмокающие звуки ударов.
– Вы чё, пидорасы, охуели?
– Саныч, да ты чё?!
– Хуй в очё! Присунул? Отвечай, мразь!
– Нет. Не успел.
– Если б успел, я б тебе сам присунул.
– Саныч, ты чё лютуешь?
– Я даже не начинал. Пиздец вам, петухи.
Я очнулся от пощечины. На корточках передо мной сидел «Черный». Костяшки его кулаков были сбиты в кровь. Я сел и огляделся. В голове мутилось. На груди подсыхала рвота.
«Оспа» и «Однобровый» лежали на полу. Они напоминали груду мяса. Ко мне подлетела Оля.
– Миша! Господи! Ты жив!
Во рту у меня страшно пересохло, и я ответил с трудом.
– Жив.
И посмотрел на «Черного». Он понял.
– У меня машина на улице. Я вас домой отвезу. Выблядки твою подругу не изнасиловали. Хотите – пишите заяву. Но я их конкретно отпиздохал. И работать здесь они больше не будут. Решайте сами. Мне похуям.
– Дома решим. Оль?
– Да! Что?
– Помоги одеться.
Оля помогла. За все это время «Оспа» и «Однобровый» ни разу не пошевелились.
Уже одевшись, я спросил «Черного»:
– Почему ты впрягся?
– В смысле? Ты ёбнутый, что ли?
Я был весь избитый, но мне стало стыдно.
– Извини.
– Поехали.
«Черный» высадил нас у банка. Оля помогла мне дойти до лавки.
– Миша, надо скорую вызвать.
– Не надо. Легкий сотряс. Пройдет.
– Миш…
– Чего?
– Если б этот не появился, меня бы изнасиловали.
– Я знаю.
– И как бы ты с этим жил?
– Что?!
– Как бы ты с этим жил?
– А ты бы как жила?
– Может, и не жила бы. А ты?
– Убил бы их.
– А чего в котельной не убил?
– Оль… Ты меня винишь? Я пытался…
– Я знаю. Прости меня, Мишенька. Надо все забыть.
– Или убить их.
– Или написать заявление.
Но мы ничего не сделали. Оля не хотела, чтобы узнали родители. А я не убийца. Легко сказать – убью. А вот сделать это… Я не смог. Наверное, я слабак. Или плохо любил. Осенью мы с Олей расстались. Это получилось как-то само собой, совершенно естественно. Будто между нами возникла прозрачная стена, а потом она по капле налилась бетоном. Мы перестали друг друга слышать, чувствовать, видеть. Нет, мы счастливы, но с другими людьми. Или не счастливы. Я не знаю.
Трудный путь к толстым женам
Их было двое – Гоша и Витамин. Семнадцать и шестнадцать лет соответственно. Контекст известен – Пермь, 2002 год, правый берег Камы. Конкретизировать не имею права. Я не стукач, понятно? Гоша и Витамин. Не идиоты. То есть идиоты, но не дураки. Нюанс тонкий, но я в вас верю. Они были бедны. Им с неохотой одалживали церковные мыши. Они смотрели передачу «По домам!», где особняки, мотоциклы, бассейны и двести пар кроссовок у необразованного негра. А вокруг Гоши и Витамина – душно. Из перспектив – каторга завода и толстая жена с пригоршней детей. Я не оправдываю их, я рассказываю, как они оправдывали себя. Как зрел в подростковых умах глупый преступный замысел.
Замысел был таков – украсть на пляже ключи от квартиры у знакомого парня и обчистить ее. Разбогатеть. Любить продажных женщин. Пройти по краю. Они обдумывали это на веранде детского сада, где когда-то плакали над молоком с пенкой. Они видели согбенных родителей, нищих пенсионеров, холеных коммерсов и лживых министров. Они все понимали и постоянно злились. Весь мир был виновен в их унизительной бедности. Их злость была велика. Если б они могли взорваться, как взрываются ядерные бомбы, этот мир смело бы к собачьим чертям. Но они не могли.
– Как же мы, Гоша…
– Так вот, Витамин.
– Перчатки?
– В аптеке возьмем.
– Маски?
– Да какие маски. Зайдем спокойно. Нал и рыжьё, там их до хрена.
– Нал и рыжьё. На юга?
– А чё нет? Море, бля…
– А если…
– По воровской пойдем. Тут ловить нехуй.
– Родителей жалко.
– Пчелке расскажи.
– Какой пчелке?
– У которой жалко в попке.
– Ладно. Нече терять. Исполним.
– Братан, друган, Джеки Чан, руку жал, почти сестра.
– Сам знаешь.
В выходные Гоша и Витамин украли ключи. Они пошли купаться вместе со знакомцем, и пока он плавал, Гоша вытащил ключи из кармана его шорт. Потом приятели разыграли сценку. Гоша глянул на часы и воскликнул:
– Бляха! Я ж на юбилей к деду опаздываю! Пиздец, забыл. Побежали, Витамин.
Знакомец уставился.
– А Витамину-то зачем с тобой бежать?
– Меня тоже позвали. Я евоному деду с картофаном помогал. Блин. Бежим.
Знакомец задергался.
– Я с вами. Чё я тут один буду?
– Ну, на хода тогда.
Знакомец натянул шорты на мокрые плавки и быстро напялил кеды. Гоша и Витамин уже рвались в путь. Бежать предстояло долго – минут тридцать. Юбилей деда был сочинен специально, чтобы знакомец подумал, будто обронил ключи во время бега.
Украв ключи, Гоша и Витамин выждали три месяца. Хмурым октябрьским днем они зашли в аптеку, купили две пары тонких медицинских перчаток и пошли на дело. До этого они две недели вставляли в дверь знакомца спички. При помощи этой хитрости они выяснили, в какое время хозяева доподлинно отсутствуют. Невозможно открыть дверь так, чтобы маленький кусочек спички не выпал. По вторникам он не выпадал до глубокого вечера. Гоша и Витамин хотели обшарить квартиру, не наводя беспорядка, найти рыжьё и нал и тихонько ретироваться. Когда хозяева вернутся, они даже сразу не поймут, что обворованы. А когда поймут, то есть хватятся денег и золота, запросто могут подумать на сына. Стырил, поганец, и прокутил с дружками. Где деньги и золото, ремня захотел, и все такое. Шанс был. Небольшой, но был.
Знакомец жил на пятом этаже. Гоша и Витамин вошли в подъезд без пятнадцати час. Спокойное время. Народ на работе. Дождик моросит. Пацаны спецом ждали дождика, чтобы он разогнал лавочных старух. Без суеты поднялись на пятый этаж. Гоша достал ключи и открыл дверь. Витамин волновался за его спиной. Вошли. Двухкомнатная хата. Слева – ванная и туалет. Прямо – большая комната. Справа от нее комната поменьше. Налево после ванной и туалета – кухня. Гошу и Витамина привлек сервант в большой комнате. Они открыли дверцы и стали перебирать вещи и заглядывать во всякие баночки, возвращая их на прежние места. Пол был дощатым и иногда поскрипывал. От каждого скрипа пацаны замирали и прислушивались. Они замерли в третий раз, когда в дверь позвонили. Звонок оглушил обоих. Витамин побледнел. Гоша прижал палец к губам.
Звонок прозвенел опять. И снова. И еще. Гоша побежал к балкону. Витамин ринулся за ним. Хладнокровие исчезло. Паника заслонила горизонт.
– Чё на балконе-то, чё на балконе-то, а?
– Заткнись, Витамин. Может, до тополей допрыгнем.
Пацаны вышли на балкон. До тополей было метров пять. Плюс – пять этажей внизу. Нечего и думать. То есть только думать об этом и можно. Вернулись в комнату. Звонок продолжал надрываться.
Гоша и Витамин застыли в коридоре. Гоша прошептал одними губами:
– Соседи спалили. Это мусора. Больше некому.
– Участковый, полюбасу. А то бы давно дверь сломали. Чё будем делать?
Гоша уставился на Витамина.
– Сдаваться, хули тут делать?
Глаза Витамина нехорошо блеснули.
– Я в зону не пойду, пошли они.
– А куда ты, блядь, пойдешь? Куда?!
От нервов и тупости друга Гоша повысил голос. Витамин шикнул.
– На кухню пойду. За ножом.
– Чё?
– Чё слышал.
Витамин зашел на кухню и вытащил из подставки широкий нож для разделки мяса. Вернулся в коридор.
– Слушай сюда, Гошан. Я ныкаюсь в ванной. Ты открываешь дверь и втаскиваешь мента. Я выпрыгиваю и валю его наглухо. Все, блядь, понял?
– Витамин, ты чё? Это мокруха. Да нас потом…
– Не, я в зону не пойду. Делай.
Витамин подтолкнул Гошу к входной двери, а сам зашел в ванную. Гоша был сбит с толку. Обычно тихий Витамин вдруг превратился в лютого мокрушника, и эта трансформация напугала его едва ли не сильнее звонка. Гоша на цыпочках подошел к двери. Прислушался. Не дыша посмотрел в глазок. Сбоку встал, не видно ни хера. Хитрый, сука. Изнутри замок открывался без ключа. Гоша схватил колесико, быстро его провернул и распахнул дверь. Вылетел на лестничную площадку Никого. То есть вообще.
Похлопав глазами, Гоша вернулся в квартиру и заглянул в ванную.
– Никого нет. Пошли отсюда.
Бледнющий Витамин побежал на кухню и вернул нож на место. Закрыть дверь Гоша не смог. Его руки так тряслись, что попасть ключом в замочную скважину не получалось. Не разбирая ступенек, пацаны скатились вниз. На ходу сорвали перчатки.
– Кто звонил, блядь? Кто, нахуй, звонил?
– Успокойся, Витамин. Откуда я знаю?
На первом этаже оба замедлили шаг и как ни в чем не бывало вышли из подъезда. На лавке сидела пестрая стайка цыган – женщины и дети. Витамин замер. Гоша потянул его за рукав:
– Пошли, ты чё?
Витамин вырвался и подошел к цыганам.
– Здорово, цыги. Вы по подъезду шарились и в двери звонили?
Ему ответила пожилая цыганка:
– Ходили. Деток кормить надо. А в чем дело, уважаемый? Хочешь, погадаю? По глазам вижу, непростая судьба тебя ждет.
Гоша стоял, как веслом огретый. А Витамин заржал дико, а потом согнулся пополам и выблевал завтрак.
Отойдя от дома на приличное расстояние, пацаны сели на лавку. Вдруг Витамин сказал:
– Назад надо идти. Нал с рыжьём не нашли. Похер на этих цыган. Закончим.
Гоша взвился.
– Ты пизданутый? Ты мента готов был завалить. Не пойду никуда. Лучше на завод.
Витамин замялся. Адреналин покидал его кровь, а вместе с адреналином уходил кураж. Пацан сдувался, как матрас.
– Ладно, Гошан. Может, тогда водки?
– Вот это дельное предложение. Айда ко мне, у меня до девяти родаков не будет.
Наутро пацаны проснулись с похмелья. Они жили в одном подъезде и за пивком пошли вместе. У банка к ним подошел мужчина в штатском и с «корочками» в руках.
– Уголовный розыск, молодые люди. Мне нужна ваша…
Договорить ему не дал Гоша. Вид «корочек» и словосочетание «уголовный розыск» произвели на него чудовищное впечатление.
Он пошатнулся и затараторил:
– Мы не хотели. Мы только влезли, но ничего не взяли. Там цыгане в дверь звонили. А Витамин участкового зарезать хотел. Нож на кухне взял. Для мяса. Не китайский. Или китайский. Я не знаю.
Оперативник угро воззрился:
– Чего?
В разговор вмешался Витамин:
– Не обращайте внимания, он УО. В специальной школе учится. Чем мы можем вам помочь?
– Мне понятые нужны. Тут недалеко. Пойдемте.
– Мы не можем. Мы несовершеннолетние. Мне шестнадцать, а моему умственно отсталому брату семнадцать.
– Понятно.
Оперативник мгновенно потерял к пацанам интерес и двинул по улице дальше. А Гоша и Витамин повернули за угол и сели на лавку.
– Витамин, я…
– Ничего не говори, а то я тебе въебу.
Помолчали.
– Витамин?
– Ты заебал.
– Нахуй эти рыжьё и нал. Пошли в «Сони Плей-стейшн» играть?
– В «Фифу»?
– Ну да.
– Пошли.
И они пошли. А потом в учагу. И на завод. К толстым женам и россыпи детей. Такое счастье! Такой восторг!
Бесконвойница
Познавательно жить на Пролетарке. Особенно юности это касается. Всё под рукой, что юности угодно: железная дорога, Кама, лес, карьеры песчаные, завод-громыхайло, женская колония. Можно на поездах кататься, можно с баржи нырять, можно грибы собирать, можно на тарзанке над карьером летать, а можно влюбиться в красивую бесконвойницу. Я так и поступил в семнадцать лет. Пили у товарища в Зоне (так поселок называется, который возле колонии вырос), а там она двор метет. Я на лавке курил с лихим видом и как-то сразу обратил на нее внимание. Не часто встретишь приталенный бушлат. Контраст сразил. Корявое древко метлы обхватывали наманикюренные белые пальцы. И грация. Грацию не спрячешь. Четыре вещи не спрячешь: солнце, луну, эрекцию и грацию. А она и не прятала. Музыку в наушниках слушала. Пританцовывала с метлой. Странная. Легкая. Как бы не отсюда.
Замахнул писят грамм. Пошел к ней. Не к ней, а как бы мимо, с индифферентным видом. Я тогда выглядел примерно так же, как сейчас, только волос и зубов было побольше. Прохожу рядом, а она напевает: «Ни один ангел дня не споет для тебя!» Да ладно, думаю. Еще как споет. Глянул в лицо. Встал как вкопанный. Красивая – смерть. Даже не знаю, как описать, потому что красота – это ведь тайна. Ты сам про нее ничего не понимаешь, откуда тут словам взяться. А я подшофе. Заговаривать с девушкой, когда она в наушниках, туповато, а вот к танцу присоседиться можно. Присоседился. То есть затанцевал рядом. Без слов. А она увидела и засмеялась. Я улыбнулся. Показал руками, мол, бросай метлу. Бросила. Подошел. Башкой смешно кивнул, типа, отрекомендовался. Мадам, приглашаю вас на танец, и все такое.
Обнял за талию. Мужчина, женщина, просто всё. Она меня за шею обхватила и наушник в ухо вставила. Плеер с диском. Похимичила. «Сигарета мелькает во тьме…» Ну, вы поняли. Танцуем. Ништяк. Смешно обоим. У нее глаза лучатся, у меня лучатся. Даже говорить неохота. Запахло весной, завтра в школу не пойдем. Я почему-то с ней очень интеллигентно заговорил. Не знаю. Она и так сидит, а тут еще я по фене начну ботать. Нехорошо. Книг-то много прочитал. Умел уже варьировать речь. И вот мы танцуем, молчим, смотрим друг на друга, кругом зона эта скотская, со свинарника говном несет, а я такой говорю:
– Хочешь, я буду твоим парнем? У меня водка есть.
Идиот. Нет чтобы «клянусь луной, посеребрившей кончики деревьев» или про глаза что-нибудь. Сказал и чуть не взвыл. При чем тут водка? Каким парнем? Может, сразу поженимся?
А она рассмеялась и говорит:
– Давай для начала познакомимся. Меня зовут Катя.
– Саша.
– Говори – Александр.
– Почему?
– Потому что ты Александр.
– Ладно. Что еще?
Я типа прикололся. А Катя – нет.
– Ну смотри. Я – бесконвойница. Ты на меня запал. Запал ведь?
– Запал.
– Ты мне тоже нравишься. Понятно, что у наших отношений нет будущего, но переспать с тобой я хочу. Ты хочешь со мной переспать?
– Хочу.
– Отлично. Далее. Мне тридцать лет. Тебе, наверное, лет двадцать?
– Двадцать, да.
– Десять лет разница. Это проблема?
– Нет.
– Отлично. У меня есть два часа. Где мы это сделаем?
– В квартире моего друга. Вон он, на лавке сидит.
– Вижу. Резинка есть?
– Нету.
– Сумеешь вовремя достать?
– Постараюсь.
– Иди решай с другом, я подожду.
Если честно, от таких лобовых раскладов я немного офигел. А с другой стороны – пошло оно все! У меня будет секс с обалденной бесконвойницей, что еще надо? Подошел к приятелю, ключи от хаты взял, дал денег на бухару, спровадил. В три минуты уложился. Пыл юношеский. Махнул рукой. Подошла.
– Всё в порядке, Кать. Пойдем.
Поднялись на второй этаж. Зашли в квартиру. Спальня. Диван не убран. Катя обошла комнату. Без бушлата она смотрелась выигрышней.
– Раздевайся, Александр, и ложись в постель. Я в ванную и сразу к тебе.
Ушла. Разделся. Лег. Скованность какая-то. Не привык я так деловито к сексу подходить. Лежу, в потолок гляжу. Подтопили приятеля. И кто там наверху живет? Андрияшкин? Нет. Митрошин? Митрошин вообще в другом доме. Шадрин? Точно, Шадрин. И чего это он? По пьяни? Или недоглядел? Щас навесные потолки пошли. Интересно, они спасают от затопления или нет? Если спасают…
Додумать глубокую мысль про потолки я не успел. Катя пришла из ванной. Голая. Скользнула. Прижалась. Куснула в шею. Поцеловались. У меня сразу встал, в семнадцать лет такое бывает. Полез сверху, как обычно. Миссионерка, то-сё.
– Ты чего?
– Чего?
– А как же прелюдия?
– Чё?
– Поласкай меня.
– Как это?
– Поцелуй шею.
Поцеловал.
– Вот так?
– С языком.
– Так?
– Да.
– Еще?
– Ты постоянно будешь спрашивать?
– Не знаю.
– Целуй меня всю. Везде. Опускайся ниже. Медленно.
– Везде?
– Ох… Везде, да.
Доцеловал до живота. Распробовал этот кайф. Съесть ее захотел. Особенно грудь. На животе тормознул. Куда дальше-то? Ноги, что ли, целовать? Тупо как-то. Или не ноги? Если не ноги, можно в угол петушиный заехать. Тут Катя давай мою голову вниз толкать. Нежно, но настойчиво.
– Ты почему остановился? Продолжай!
– Так у тебя тело кончилось.
– Не кончилось. Прямо там поцелуй.
– Ногу, что ли?
– Не ногу, дурачок, клитор.
– Чё?
– Просто не сопротивляйся, я тебя направлю.
Направила. Поцеловал. Побрито все. Думал, пахнуть как-то будет. Не пахнет. То есть пахнет, но приятно. Удивительно даже. Я знал, конечно, что мужики такие номера тёлкам исполняют, но… Как-то это… Как бы сказать… А с другой стороны… Интересно, блин. С детства ведь под запретом. Лизну, думаю, разок. Ради общего развития. Клитор – это вот он. По-любому это он, больше некому. Лизнул. Раз, другой, третий. А ниже, думаю, если? Ниже – это как? Биология. Что там в учебнике писали? Половые губы? Не похоже на губы. Половые створки. Или створки у устриц? Да какая, блядь, разница!
Катя застонала. Я ободрился. Катя яростно задвигала бедрами. Я чуть ртом не отпал, но не отпал. Язык только онемел. И челюсть устала. Это как бокс – надо потерпеть, чтобы не облажаться. Не облажался. Катя сама от меня отползла. Судорожно.
– Чё ты?
– Ничего. Спасибо.
– Я правильно все сделал?
– Правильно. Правда, еще есть над чем поработать.
– Всегда есть над чем поработать.
– Тоже верно. Ты – супер. Не заморачивайся.
Я вытер подбородок и лег рядом. Полежали. Катя давай прелюдию исполнять. Прелюдия. Дурацкое слово. Доисполняла до живота. Обхватила. Неужели, думаю, в рот возьмет? Неужели, думаю, она такая масть и защеканка? И как мне потом с ней целоваться? Как пить после нее из кружки? Детей как крестить? Взяла. Глубоко. Не как проститутка, а с душевным трепетом. Я офигел. Покрестим как-нибудь. Чуть не приплыл, но Катя, видимо, это почувствовала и села сверху. Положила мои руки себе на грудь.
– Ласкай соски.
– Соскай ласки.
– Чего?
– Я не в себе. Не обращай внимания.
– Тебе узко во мне?
– Очень узко.
– Хорошо.
И, знаете, все действительно было хорошо. И на второй раз, и на третий, и на четвертый, и на пятый, и на шестой. Только мы почти не говорили. Я ей задавал вопросы, а она не отвечала внаглую. Отшучивалась. Меняла тему. Сводила все к сексу. А я влюблялся. Падал прямо в яму чувств. Стал наводить справки по своим каналам. Навел. Родители друзей вертухаями в зоне работают. Да и по воровской пробросил. Мужа она убила. Ножом. Ей полгода сидеть осталось из девяти. С Екатеринбурга сама. Екатерина Дмитриевна Гончарова, 1976 года рождения.
А Митрошина закрыли. Гоп-стоп. Он мне ключи от своей хаты оставил. Ну, чтобы я приглядывал, сильно не бухал и любовь с Катей крутил. Митрошин говорит: любовь – дело молодое. Не знаю. А немолодым как быть?
Короче, приперся я в Зону на седьмое свидание. Головой верчу – Кати нет. Всегда есть, а тут нет. Смотрю, бесконвойница ко мне идет какая-то. Бабища здоровенная. Подошла и говорит:
– Ты – Александр?
– Да.
– Айда в подъезд зайдем, потрещим.
Зашли. Еле увернулся. В миллиметре от печени заточка прошла. Ёбнул двойку на автомате. Жестко, по-мужски. Наступил на голову. Прижал.
– Ты чё, сука? Рамсы попутала?
Воет. Кочевряжится.
– Пусти! Катьку мою увел, гнида! Кончу тебя!
Я от удивления чуть башку ей не раздавил.
– Ты кто, перхоть? Катя моя подруга.
– Она моя подруга, жаба! Восемь лет моя ковырял очка. А ты ей мозги запудрил, пес!
Здесь я все понял. Чертовы женские зоны.
– Слышь ты, кобла старая, охолони! Катя сама разберется, с кем ей…
Скрипнула дверь. В подъезд зашла Катя. А в подъезде темно. Внизу особенно. А я ногу с коблиной головы не убрал. Я ей вообще, по-моему, пару зубов выбил, когда двойку выписал.
Короче, сначала Катя увидела меня.
– Привет. Я опоздала. Я…
Тут она увидела коблу. Офигела. Бросилась к ней. Схватила меня за ногу. Оттолкнула. Я соступил.
– Вера, Вера! Что с тобой?
– Избил он меня, Катенька. Я поговорить хотела, а он избил. Слово не дал сказать. Зуб выбил.
И заплакала, артистка. Я задохнулся.
– Катя, она врет. Она заточкой меня пыталась пырнуть. Приревновала. Не понимает, что у нас с тобой серьезно. Я про тебя все знаю. И про Екатеринбург, и про мужа, и про освобождение. Я прикинул кое-что. У меня будем жить. Я на завод наймусь. Я…
Катя помогла кобле подняться и молча ушла вместе с ней. Я еще что-то бормотал в спину, но меня никто не слушал. Заточка так и осталась валяться на полу. Я ее себе забрал. А вчера разбирал инструменты и нашел. Вспомнилось вот. Пятнадцать лет прошло. Смешно это все. Такой наив. А Катю я больше никогда не видел. Не трагедия, ничего. Нормально.
Потому что мы подростки
Сентябрь. Березы поникли. Я б тоже поник, но я не береза. А кто я? Папа говорит – бестолочь. Мама говорит – сыночек-деточка. Сестра говорит – братик. Учителя говорят – эй ты, в пиджаке! Пацаны говорят – Вагон. Таня говорит – ты мой бойфренд, понял? Понял, говорю, не дурак. Дурак бы не понял. Шучу так. Она никогда не смеется. Я в том году Жванецкого смотрел и челюсть вывихнул. Хохотал потому что. В травмпункт пришлось ехать. А хирург полотенце на большие пальцы намотал и в пасть мне полез. Щелк-щелк! Починил. Не смотри, говорит, больше Жванецкого, а то умрешь. Чего, спрашиваю? Шучу, говорит. Неделю хотя бы не смотри. А то опять перекосо… бочит. Я знаю, что он «перекосоёбит» хотел сказать, но вывернулся, потому что я подросток.
Подростком быть хреново. Желания взрослые, а возможности детские. Ну, почти детские. Это когда презервативы уже можешь купить, а сексом заниматься все равно негде. Мы с Таней давно хотим им позаниматься. Все вокруг занимаются, и мы говорим, что занимаемся, а сами не занимаемся, потому что там кровь какая-то. Я не хочу, чтобы из Тани кровь текла. И Таня не хочет. А Миша, старшак мой, говорит, что и рыбку съесть, и… причиндалы оббежать не получится. Крови, говорит, необязательно много будет. Как бы плевок такой кровью, а не прямо чтобы кровь. Не знаю. Это же Таня. Она когда на стройке упала, я чуть с ума не сошел. Насилу подорожник отыскал, чтобы коленку ей залепить. Полчаса дул, пока она хныкала.
А тут сентябрь. Золотая осень, вечер пятницы. На веранде все собрались. Мы всегда на веранде в садике собираемся, чтобы болтать и пить пиво. Я, Таня, Миша, Андрюха, Коля, Игара, Оля, Кристина, Женя и Виталя. Не по парам, а просто компания. Друзья, типа. Ну, не типа. Друзья и всё. А в этот раз у Миши день рождения был, вот он водки и принес. Мы с Таней вдвоем стояли. Она как бы во мне стояла. Прижалась спиной крепко-крепко, а я ее руками обнял и даже разжимать их не хотел, чтобы стаканчик взять, но разжал и взял. Нельзя Мишу обижать. Выпили. Еще выпили. И Таня маленько выпила. Повернулась и зашептала на ухо:
– Когда мы уже… Пофиг на кровь. Я хочу. Давай сегодня? У меня родители на дачу уехали.
Я растерялся. Я когда пью, у меня ни о чем, кроме того, что я пью, не думается. Нет, я не то чтобы… Но такими делами лучше на трезвую голову заниматься. И так стресс, а ты еще и пьяный.
– Тань, ты уверена? Бухаем же…
– Ну и что? Может, так и надо? Чтобы не бояться.
– Бояться надо. Как не бояться? Ты не боишься?
– Сейчас еще выпью и перестану. И ты выпей.
– Выпью. Просто…
– Что?
– Не знаю. Чуйка у меня. По трезвянке надо, не так.
– Ты слишком много думаешь. Ты вообще хочешь?
– Хочу, конечно. Ты сама знаешь, что хочу.
Таня зыркнула.
– Знала. Теперь не уверена.
– Ну, прекрати. Давай только не будем ссориться.
– Не будем, конечно. Будем пить.
Если честно, у меня желание пить пропало. А у Тани, наоборот, усилилось. Правда, она пиво пила, а не водку. Будто для нее жест стал важнее содержания. А потом… Не знаю даже, как сказать. Виталя музыку на мафоне навалил, и девчонки стали танцевать. «Долина, чудная долина» и все такое. А Таня… Короче, она напилась и давай к Андрюхе подкатывать. Он постарше. Нам с Таней по пятнадцать, а ему семнадцать. Я смотрю – она перед ним танцует, бедрами вертит и вообще ластится. Андрюха кент, конечно. Но бухой, а Таня очень красивая. Руки на талию ей положил. А Таня на меня смотрит и как бы извивается. А я тоже нетрезвый. Мне, с одной стороны, обидно, а с другой стороны, я понимаю, что она это для ревности делает. На-ка вот, полюбуйся! Не хочет он меня. Пьяный он. А я вот так! И вот так. Нравится? Смотри, не отворачивайся. Смотри, кому говорю!
Смотрю. Куда мне деваться? На Андрюху с кулаками кинуться? А он тут при чем? Известно ведь – сучка не захочет, кобель не наскочит. Выпил пятьдесят грамм, подошел к Тане, взял под локоть.
– Хватит, Таня. Мы пойдем к тебе. Если хочешь, можем прямо сейчас пойти.
– Не можем. Я с Андреем пойду.
– Чего?
– Чего слышал! Я тебя больше не люблю. Отвянь.
Отвял. В смысле – отошел. Злость такая. И обида. Злость победила. Иди ты, думаю, прошма подзаборная! Блядина. Тварь гнусная.
– Насыпь полстакана, Мишаня. Хочу наебениться в говно!
– Чё так?
Я показал глазами на Таню. Она обнималась с Андреем. Типа по-дружески, но на самом деле ни хрена не по-дружески. Мореста тупая. Миша отреагировал с улыбкой:
– Не парься. Малолетка. Чё с нее взять? На. Держи.
Полстакана я выжрал залпом. Включили фонари. Серые тополя покрылись золотым. Вторые полстакана зашли на отлично. Я оглох, окосел и почти офигел. Подошел к Тане.
– Нравится тебе Андрюха, да?
– Нравится.
– А знаешь почему?
– Почему?
– Потому что ты блядь! Я подорожник на стройке, а ты… Ты умерла для меня, поняла? Ты мертвая, Таня. Никогда больше не подходи ко мне и не разговаривай со мной. Ненавижу тебя.
У Тани «балкон» отпал. Она не видела, что я два раза по полстакана вшатал. Держался я очень трезво. В мозгах алкоголь уже был, а в теле еще не было. Преступное состояние. Похую мороз, Миша говорит. Да пошла она! Я закурил и отошел к забору. Смотрю – пацаны идут: Пейджер, Ниндзя, Бизон, Джон и Гуляш. Неблагополучные. Ну, мы все неблагополучные, а они как бы вдвойне. Перелезли. Поручкались. На Железке два дня назад куртку кожаную с Бизона сняли. По беспределу. Избили. А сейчас цинканули, что эти ухари в баре «У Камина» бухают. Надо, типа, туда ехать и месить их. За Бизона ответку давать. Поехали, зовут. Их там много. Поддержка нужна. А наши чё-то замялись. Неохота им за чужую куртку под молотки идти. А мне охота. Мне похер вообще. У меня и нож с собой. Я такой на Таню посмотрел и говорю:
– Я с вами, пацаны! Замесим уродов. Мишаня, плескани на посошок.
И «бабочку» достал. Выкидуха такая. Вжих-вжих-вжих! Смерть в глазах. Вперед, говорю, братва, укокошим гадов! И к забору пошел. Наши отговаривать не стали. Им самим неловко, что они не едут, а тут хоть я. И то хлеб, как папа говорит.
Я уже на забор влез и даже ногу перекинул, когда меня сзади дернули, и я упал. Чё, думаю, за херня?! Смотрю – Таня. Ты чего, говорю? Попытался встать, а она не дала. Легла сверху и лежит. Дурак, говорит, они все малолетку прошли, ты тоже хочешь? Пусти, говорю. Они там все кровью умоются, суки! У меня нож! Не пускает. Поцеловала. Ответил. Пока я лежал, все уехали. Ну всё, говорю. Пошли уже к тебе, у меня вся спина грязная. Или ты с Андрюхой? Заткнись, говорит. Умерла я, значит? Умерла?! Заткнись, говорю. Ушли. Куда, спрашиваю, тут? Сюда. Не лезет. Еще бы. Надо смазать. Чем? А я откуда знаю? Слюной. Только не плюй. Я псих, по-твоему? Смазывай уже. А если пальцем? Не надо. Давай сразу. Как бы сильно, но плавно. Это как? Я не знаю. Делай уже что-нибудь, господи! Таня, ты в порядке? Больно, блин! Продолжать? Конечно.
А Пейджер, Ниндзя, Бизон, Джон и Гуляш на той разборке «У Камина» человека нечаянно убили. Битой по голове. И ногой. Получили от девяти до одиннадцати лет колонии. Я это потом узнал. Таня, думаю, Танечка! Цветы купил. То есть хотел купить. Денег не сумел найти. Искал-искал… Говорю же, хреново быть подростком.
Мой львенок
Влюбился, дурак. Семнадцать лет мне было. А ей пятнадцать. Развитая. С грудью. Катя, Катенька, Катюша. В юбке. Из полка ГАИ. Дочь мента. Не Авария, глазки в пол. Челка, как у пони. В автобусе едем из Драмтеатра, а она мне руку в карман засунула и гладит. Все вздыбилось. От волос до… Мука такая. Что ж ты, говорю, со мной делаешь? И в губы. Ем прямо, наесться не могу. А она поманит-поманит и гонит. Я девочка еще, говорит. Нельзя так сразу, говорит. Была кокеткой, стала Снежной королевой. Меня уже из школы турнули. Отец пьет. Бурс уже. Мрак такой. И чувство гнусное, что скоро или посадят, или убьют. Ты, говорю, мой лучик. Лучик мой, блядь. Но про себя. Спину держу. Лицо то есть. Малолетка. Буду я… Нет так нет.
А снится, манит. Мини-юбка, декольте и такая, знаете, шелковистая молодость. Глаза зеленые.
А сама на львенка похожа. Точнее, на львицу Налу, которую Симба любил. А я какой Симба? В лучшем случае дядюшка Шрам – пройдоха с криминальными наклонностями. Горе-свергатель. Раз пошли на дискотеку в «Радугу». Катя туда в первый раз пошла, а я не в первый. Кругом весна, ручьи не журчат, но и говна почти не осталось. Цветы купил. Три белых розы. Банален был до ужаса. А «Радуга» – это ведь толковище, местный ринг. То с Зоной деремся, то с Железкой, то с Комсиком. Пять на пять. Как в хоккее. Пришли. Оплатил два билета. Скинули ветровки. Я обалдел. Катя белую блузку надела. Вырез, смекаете? Просвечивает. И без лифчика. Рельеф. Ты чего, говорю, творишь? Это ж «Радуга»! Через час все перепьются. И что? – спрашивает. Тебе не нравится, как я выгляжу? Я для тебя так оделась. И носиком шмыгнула. И крутанулась на носочках, юбочка вразлет.
Я застыл. Пятнадцать лет. Понравиться мне хотела. Любит, видно. Неужели любит? А если любит? Если все-таки любит? А я? Не отходи, говорю, от меня. Вплела свои пальцы в мои. Нежность прямо. Разрыв аорты, бля, как писал один поэт. Мысль в башке мелькнула – уводи ее из «Радуги», дурак! Зачем тебе дискотека, если рядом такая Катя? Не увел. Верил в себя. В семнадцать лет многие в себя верят. Пошли на танцпол. Токс-токс-токс, ке паса парадокс. Три шестерки. Вот это всё. Полумрак. Тени. «Тени в раю». Ремарк написал. Фашня ебучая. Гуляш по-сегедски. Что это за фигня, интересно, гуляш по-сегедски? Протиснулись в центр зала, танцуем. Я в боксерской стойке танцую, фронтальной. Не знаю почему. А Катя плавно так, с бедрами. А я тогда сорокинским был. Наши не пришли еще. Зато цаплинские пришли. Мы в нулевые почти все на Северном кладбище рядками ляжем. Под черными гранитами. Смотрю – цаплинские мою Катю глазами жрут. Твари недоношенные. Заслонил ее от них. С другого бока стал танцевать. Те встали. Поплясать, типа. Смотрю – а вокруг одни цаплинские. Смотрю – сам Цаплин идет. Нож в заднем кармане нащупал. Суки, думаю, какие же вы все суки!
Смотрю – Сорокин в зал вошел. И Дюк. И Митя Весло. И Марат Лысый. И Вася Шанс. И Серёжа Ниндзя. И Бизон. Выдохнул. Медляк включили. Прижал Катю к себе, волосами дышу. Вкусно. Она даже не поняла, по какому краешку мы прошли. Я тогда зоны не боялся. Вокруг все оттуда, чего ее бояться? А сейчас боюсь. Не зоны, а того, что ее можно не бояться. Это ведь не люди уже, а почти смертники. Смотрю – Сорокин рукой машет. Подошел.
– Зоновские здесь. На улицу зовут. Иди.
Я замялся.
– Не могу, Миша. Я с девушкой.
– И чё?
– Да ты посмотри! Ее раздербанят без меня.
– Не раздербанят. Я за ней присмотрю. Иди. Мне не по масти.
– Да знаю. Но ты уж как следует за ней присмотри. Ее Катей зовут.
– Ты нас познакомь, а то закопытит.
– Лады. Пойдем.
Познакомил. Вот, говорю, Катя, это мой бригадир Миша Сорокин. За Бурсом смотрит и вообще. Он с тобой побудет, а я отойду ненадолго. Тут снова медляк воткнули. А Катя глазками сверкнула и говорит:
– Приятно познакомиться, Миша. Потанцуем по-дружески?
Миша на меня посмотрел и положил ей руки на талию. Я, конечно, не придал этому значения, но в душе чё-то зашевелилось. Змея какая-то. Легко она… И Миша. Фигня полная. Подруга друга – считай, мужик. Поговорка есть. На улицу вышел. Пятерка зоновских стоит, кисти мнет. Наших четверо. Влился. Хрустнул шеей. Понеслась. Через пятнадцать минут вернулся в «Радугу». Наша взяла. Прилетело пару раз, но не солидно. На танцпол побежал. Миша один, Кати нет. Где, спрашиваю, Катя? Ты обалдел, Миша?! А он такой – она в туалете, успокойся, нам надо поговорить… Потом, говорю, потом! Побежал в женский туалет. Ворвался. Катя над раковиной плачет. Щека краснющая. Что, говорю, случилось? Почему? Как?! А она всхлипывает. Слезы текут. Кто, ору, кто, блядь?! А она – Миша твой, урод.
Тут у меня планочка и опустилась. Влетел на танцпол и сразу на Мишу. С двух рук. А он КМС по боксу. Ему хоть с трех рук – один хер. Ушел, качнул, пробил в печень. Я задохнулся, но в ноги прошел. Упали. Партер, блядь. До глотки доползти и зубами рвать. В сонную вцепиться. Загрызть. А Миша большие пальцы мне на глаза положил и надавил. Чувствую – слепота приближается. Замер. А Миша воспользовался и говорит:
– Твоя Катя целоваться полезла, а я ей пощечину дал. Она блядина, дурак тупой. Слезь с меня.
Лучше б он мне глаза выдавил, честное слово. Помню, сполз с Миши и на пол сел. Сижу и задыхаюсь. Хочу вздохнуть и не могу. А Миша встал и заорал:
– Бизон, тащи коньяк! Помрет щас, романтик херов.
А потом, уже тише:
– Ниндзя, найди эту Катю и вышвырни из клуба. Не уйдет – на голову наступлю.
Чувствую – горлышко в губы толкают. Глотнул. Еще глотнул. Отпустило децл. Напился вдрызг. Буянил. Ночью домой пришел. Бабы – бляди и все такое. А утром проснулся, походил, походил и позвонил Кате. Не знаю. Хотел сказать ей все, что я о ней думаю, а вместо этого сказал: «Чего ты… Зачем ты так… Львенок». А она мне про пощечину и про то, что я ее бросил. А я… Неважно это. Простила она меня, короче. Ну полезла к Мише, он пацан видный, с кем не бывает. Любишь ведь не потому, что это или там то, а хрен знает почему. Полгода встречались. Потому что я дурак, говорю же.
Шпингалеты
В детстве я мохал клей. Недолго. Раз пять. Наливал клей в кулек, совал кулек в рукав, подносил рукав к носу и вдыхал. Голова кружилась. «Мультики» видел. Один раз блеванул. Нормально. А в восьмом классе пришел синдикат. Та же водка, только самодельная. На Пролетарке тогда было две синдикатошных. Одну держал Колупай, вторую Мазай. Колупай торговал синдикатом «на березовых бруньках». Уж не знаю, где он брал эти бруньки, наверное, просто врал ради рекламы. Мазай работал основательнее. Он торговал лимонным синдикатом с димедролом. Лимон сообщал напитку приятную кислинку. Димедрол сносил башню. В восьмом классе много не надо. Пили возле столовой в туалете. Покупали стакан чая, половину выливали в унитаз и добавляли синдикат.
Тот день, о котором я хочу рассказать, был погожим и прекрасным. Бабье лето. Стайка воробьев в школьном дворе. Свежесть, солнце. Бывает такое – идешь в школу, понимаешь, что бессмысленно, что жизнь будет разворачиваться на других фронтах, но все равно чего-то ждешь: то ли чуда, то ли драки. Без причины. Исключительно в силу антуража. Я ходил в школу с черным пакетом, в котором болталась одинокая тетрадь. Нас, двоечников, было легко отличить от старательных учеников по этому пакету. Кастовость. Еще не блатные, но уже вот-вот. Обычно мы собирались за школой, чтобы покурить перед уроками. Собрались и на этот раз. Предчувствие важного и небывалого в то утро охватило не только меня. Все пацаны были взволнованы непонятно чем и хотели побугуртить. Скинулись на синдикат. Обеды мы отжимали у лохов, а родительские деньги спускали на выпивку и сигареты. Ближе к школе, в соседнем доме, торговал Мазай.
Мы взяли три бутылки на десятерых. Кое-как отсидели алгебру. Собрались у туалета. Взяли чаю. Накатили. Еще накатили. Помню, я захмелел и обнял Гришу. Гриша сказал: «Мы – охуенные пацаны». А я ответил: «Этот мир принадлежит нам!» Я так ответил не потому, что был амбициозен, а потому, что посмотрел фильм «Лицо со шрамом». На фоне пролетарской жизни карьерный взлет Тони Монтаны поражал детское воображение. Когда мы допили третью бутылку, мне стало хреново. Блевать в туалете, где все пьют, я не хотел, поэтому пошел в туалет на третий этаж. Там я зашел в кабинку и поправил самочувствие. Сел на унитаз отдышаться. Уснул. Туалет был общим. Без разделения на девочек и мальчиков. А кабинки не закрывались. Они никогда не закрывались, потому что ради безопасности на них не привинчивали шпингалеты. Не знаю, как это соотносится с безопасностью. Из безопасности что угодно можно вывести, даже кандалы.
Я проснулся от крика. Девочка кричала. Она пришла в туалет, чтобы покакать, а другие девочки ее подкараулили, открыли кабинку и стали хохотать. Это я сейчас понимаю, какое это унижение и какая это беспомощность – сидеть на унитазе, натягивать трусики и смотреть в скалящиеся лица. Но девочка не растерялась. Она ополоумела. Я встал на свой унитаз, окинул туалет нетрезвым взглядом и увидел, как она зачерпнула какашки и бросила ими в девочек. Девочки завизжали и убежали. А я быстро вышел из туалета и разыскал пацанов. Они сидели в столовой. Конечно, я рассказал им эту историю. Целый урок проспал, между прочим.
Старшим среди нас был второгодник Слава по прозвищу Бизон. Он предложил толковую идею. Давайте, говорит, шпингалеты пришпандорим. У трудовика стырим и сделаем. Слава часто ходил в туалет на третий этаж с журналом Cool и подолгу там сидел. Он, видимо, любил читать на толчке, хотя сейчас я в этом сомневаюсь. Короче, мы пришли к трудовику, и пока я и другие пацаны спрашивали у него всякую ерунду, Слава стыбрил три шпингалета, саморезы и отвертку. Не стыбрил, как тыбрят в фильмах, а спокойно взял, потому что наш трудовик был меланхоликом. В училище он будет моим мастером и на третьем курсе выдаст нам дипломы предыдущего выпуска, чтобы мы поменяли титульные листы и благополучно защитились. Трудовик был реалистом и не ждал от нас самобытных дипломных работ.
Шпингалеты мы прикручивали торжественно. Чуть не разодрались за право ввинчивать. Я один саморезик тоже вкрутил. Замеряли. Над высотой думали. Старались, корпели. Заподлицо. На следующий день новинку обнаружила завуч. Месяц заставляла трудовика скрутить шпингалеты, но тот ленился, и она отступилась. От нашего трудовика все отступались, такой уж он человек. А Славу Бизона через год убили. Говорят, Мазай с димедролом переборщил, а Слава с Гансом напились и полезли в квартиру на втором этаже в бараке. Думали, там никого нет. Поживиться хотели. Атам мужик жил с беременной женой. Видит, двое в окно лезут. Сбегал в подсобку, вернулся с топором. Слава сразу умер, а Ганс пластиной в черепе отдела лея.
Гришу на 38-й опустили. Он туда в восемнадцать лет попал. Без передних зубов вышел. Я тогда пил. Если б не пил, маляву бы отписал, и ничего бы этого не было. Я не знал. Мы с ним не здороваемся. Не потому, что он «масть», а я порядочный. Не здоровается как-то и всё. А вчера я в школу пришел. Меня выступить пригласили перед старшеклассниками после январских праздников, вот я и пришел согласовать детали. Сейчас моя школа называется «Мастерград». Там очень прилично, и дети другие. Безвредные.
Я когда домой шел, в старое здание заглянул. Там теперь малятки учатся. Не знаю, зачем заглянул. Ностальгия. Походил, побродил. В туалет поднялся. На третий этаж. Пригляделся. Вы не поверите – висят наши шпингалеты! Никого почти не осталось, кто их прикручивал, а они висят. Я в этом вопросе не могу ошибаться. У меня глаз – алмаз. Нюхом чую. Верняк. Один в один. Минут пять на шпингалеты смотрел, как дурак. Точно – они. Так обрадовался! Скрутить даже попробовал на память. Не смог. И так ключом подлазил и сяк. Весь извертелся. Тут девочка в туалет зашла. Дяденька, спрашивает, вы что делаете? Ничего, говорю. Я ваш новый трудовик, шпингалеты проверяю. И ушел. Мудно все это. Чудо, фантазия… В любом случае – хрен отымешь.
Между ужасом и кошмаром на острове Бенедикта
Шмоня
Съехался с одной. Нормальная баба. Ну, не баба – тёлка. Девушка, то есть. Люда, блядь. Не блядь как призвание, а блядь как «ты куда это, блядь, понес?!» В таком вот связующем ключе. Полгода прожили. Однушка. Она работает, я – пью. Когда не пью – в ноутбуке царапаю. Секс-шмекс. Я – альфа. С утра до вечера могу. Люде в жилу. Розу ей подарил. Иду домой, смотрю – роза на лавке лежит. Почти новая. Красная, как губа разбитая. Прикарманил. Вечером моя с работы пришла. На, говорю, цветочек тебе. Полчаса рыдала, такое ее постигло бабское счастье. От умиления, видно. А я чё? Бизон откинулся. Кирнули. На неделю. Потом, правда, еще на две, но это мы на юг ездили, это не считается.
Вернулся – пиздец. Кошку завела. На три недели буквально за сигаретами вышел, а она уже притара-канила. Чё это, говорю? За каким хером, Людмила? А она такая – плохо было без тебя, для утешения.
Утешилась? – спрашиваю. Да не особо, говорит. Может, тогда на природу ее? С собаками поиграет. Нет, говорит. Это Анфиса. Я к ней привязалась. Так отвяжись, говорю. Где этот чертов канат, давай я отвяжу. Нету каната. Голая бабская эмоция, противоестественная, как секс с козой. А кошка мелкая, что крыса. Утром на ногу нассала. Левую. Сука ты, говорю, Анфиса. Подтер, дальше лег. Через полчаса проснулся обосранным. Правую ногу изгадила, тварь такая. В подъезд вышвырнул. Снова лег.
Тут кошка давай в подъезде орать. Вдруг, думаю, какой-нибудь пидор мучает мою кошку? Это же прямой урон репутации! Кошка-то моя. Получается, он как бы меня мучает, а я на диване терпилой лежу. Соскочил. Финский взял. Вылетел. Никого. И хули, говорю, ты орешь? А она об ногу башкой – хуяк, хуяк, только ласково. Вернул на место. Лежи, говорю, рядом, не мороси. Моросит. На грудь залезла и давай лапами мять. Жамк-жамк, жамк-жамк. С когтями. Чё, говорю, любишь, когда жестко? А я сам люблю, когда жестко. Пригляделся. Нормальная баба, хоть и кошка. Погладил мальца. Забалдела. Так и уснула на груди. А у меня кожа дубленая, вспотеешь жамкать.
Днем аджику спиздила. Я в ноутбуке царапал, а она со стола уволокла. Слышу – бренчит. Зашел. И нахуя, говорю, тебе аджика, Анфиса? Хоть бы сосиску стащила или, там, хлеб. Воровайка.
В пятницу Люда вечером пришла и говорит: завтра Анфису к ветеринару повезем, надо стерилизовать. Чё это за фигня? – спрашиваю. А Люда такая: ну, это чтобы она кота не просила и не рожала. Как лесбиянка, что ли? Удивился. Нет, говорит, как кастрат. Я обалдел. Нельзя, спрашиваю, без этого обойтись? Трахаться-то всем хочется, не только нам с тобой. Нельзя, отвечает. Все так делают, и мы будем. Поехали с утречка. Почикали. Или перевязали. Анфиса под наркотой домой вернулась. Ходит по хате, шатается, залипает. Как Пейджер, когда маком хуйнется. Нара, говорю, ты моя нара. Нара-воровайка. Может, спрашиваю, партак тебе наколоть? Мяучит.
Положил в постель. Подвинься, говорю, Люда, Анфисе места мало. И не жмись ко мне, а то еще раздавишь. Надулась. Не Анфиса – Люда. Смешная баба. Не любишь кошку – плохо. Любишь – еще хуже. А как ее не любить, если она, как я? Ворует, блажит, пожрать любит, спит вдосталь. У меня, может, с Анфисой больше общего, чем с Людой. Я ее переименовал. Шмоней окрестил. Да не Люду, блядь, – Анфису. Шмоня, потому что шмонается везде. Ящики в комоде навострякалась выдвигать. Выдвинет и шмонается там, как я в чужом серванте, когда рыжьё с наликом ищу. Был бы у Шмони большой палец, сейфы бы научил открывать. Не кошка, а в натуре маруха. Ебать-то много кого можно, а так, чтобы для души… Ищи ветра в поле. Летом на дачу поехали. К Людкиным старикам. Картошка-хуёшка, говна коровьего для удобрения подсобрать. Шмоню с собой взяли. Возвращаюсь на дачу с тележкой. В тележке – говно. В небе – солнце. Вокруг – трава. Ништяк.
Вдруг слышу – лай и скулеж пронзительный. А братское сердце чует. Побежал. Смотрю – ала-бай Шмоню к забору гонит. Наддал. Нож на ходу достал. Сцепились. Здоровый, падла. Килограмм семьдесят. Чуток меня полегче. Я ему с разбегу пинанул.
Шмоня утекла. А этот хрен на меня переключился. Я левую руку вперед выставил, а правую назад отвел. Алабай за левую и схватил. Они тупые, если вдуматься. Я резать горазд, но тут не стал. За нос ухватил. Нож выронил и ухватил. Алабай присел. Пасть разжал. Прокусил к хуям, но мне похер. Об меня папка с детства бычки тушил, я к боли привычный. Хозяин подбежал. Забирай, говорю. Еще раз без поводка увижу – завалю обоих. Ушел. Убежал прямо. И я убежал. Сначала на дачу, а потом в травму. Уколы эти блядские от бешенства ставил. А Шмоня ничё – живет, ворует, высыпается. На моей левой руке спит. Чует, дуреха, какому месту житухой своей обязана.
После дискотеки
На дискотеку ходил. Люблю танцы. Тыц-тыц-тыц! Ножкой можно, можно рукой. Головой обязательно. Бедрами. В легком ключе. Игриво. Клуб «Семь». Есть такое заведение в Перми для не самых молодых людей. Не то чтобы кому за тридцать, но и не кому за двадцать, это уж точно. Подпил. В два часа ночи пену пустили. Я ей так радовался, так радовался! Скакал прямо. Не знаю почему. Дальше не помню. Совсем. Проснулся в чужой квартире. Не открывая глаз, смекнул это обстоятельство. У меня подушка из гречишной шелухи, а тут синтепон. И кровать жестковата. И без трусов. И попугай за спиной чирикает, а я попугаев не держу. И дышит рядом кто-то. Запахи витают незнакомые.
Глаза поостерегся сразу открывать. Иной раз откроешь, глянешь, и сам не рад. Тьфу-ты ну-ты, думаешь, нормально же лежал! Сначала слегка приоткрыл, градусов на пятнадцать. Простыня красная, претенциозная. Пять градусов добавил. Локоть. Локоть как локоть. Сложно делать по нему далеко идущие выводы, кроме того, что локтю явно не восемнадцать. Еще пятнадцать градусов накинул. Одеяло. Голубое. Это постель или флаг? Аргентина? Ямайка? Мы все умрем? Распахнул градусов на семьдесят. Подбородок. Вроде женский. Приятная упрямость. Хилари Суэнк? Старая телка из «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури»? Клинт Иствуд? Вздрогнул. Шевельнул веком. Губы. Щетины не видать. Как бы запекшиеся. Сосалась с кем-то. Блядь, наверное. Люблю блядей. Исполать тебе, блядь, и все такое.
Нос. С горбинкой. Армянка? Грузинка? Боксерша? Только бы не… Посмотрел на шею. Лебединости нет, но и кадыка нет, а это, я считаю, главное. Выдохнул незаметно. Расщеперил веко дальше. Твою мать! Глаз один. Правый. И на меня смотрит не мигая. А на левый повязка круглая надета. Зажмурился. Что ж это, думаю, получается? Я сплю, а рядом лежит одноглазая женщина, подперев голову рукой, и смотрит, как я сплю? И почему наши законотворцы за репосты сажать придумали, а сажать тех, кто за спящими людьми наблюдает, – нет? Вторые ведь намного опаснее. И зачем, думаю, я глаза открыл? Шел бы себе с закрытыми. Дурак. Одноглазая, кажется, заметила, что я проснулся. Иначе бы она не спросила: «Паша, тебе принести минералки?» Ну и манеры.
Будто мы родственники, а не белки, жиры, фосфора и углеводы, случайно увенчанные разумом и ожидающие смерти на этой самой землянистой из планет.
Молчу. Придвинулась. Губами полезла. Задышала. Я – сел. Надел трусы, джинсы, пуловер, носки, ботинки, куртку, шапку, перчатки. Задумался. С кухни пахло кофием. Снял ботинки, куртку, шапку, перчатки. Одноглазая недоумевает. Прошел. В турке обнаружил. Налил. Открыл форточку. Закурил с охуительным видом. Одноглазая села напротив. У меня, говорю, к тебе только один вопрос по существу. Одноглазая вскинулась – какой? Как тебе работалось с Тарантино в фильме «Убить Билла»? Заебись? Одноглазая обиделась. Дурак, говорит. Мы ночью играли в пиратов. Ты был капитаном Бладом, а я Арабеллой Бишоп. А потом ты попросил меня проснуться пораньше и смотреть, как ты спишь, потому что это жутко странно и тебе было бы интересно это почувствовать.
Я проснулась и смотрела. А повязку для смеха надела. Круто ведь, ты просыпаешься, а рядом лежит одноглазая телка и смотрит, как ты спишь? Вот больная, думаю. Откашлялся. Спросил имя. Брунгильда. Ну, думаю, пора валить. А Брунгильда говорит: тебя имя смутило? Так-то я Катя, но ночью ты попросил меня называться Брунгильдой, потому что ты Зигфрид. Ой, думаю, всё! Инсинуации пошли. Невозможно такое терпеть! Пойду, говорю. Спасибо, Бруи… Катя. А она такая: тебе фотографии прислать? Какие? – спрашиваю. Ну, моих ступней. Чего? Ступней. Ты говорил, что обожаешь ступни. Я могу с разным педикюром сделать, сфоткать и прислать тебе. Мне нетрудно. Нетрудно ей… Извращенка. Вспыхнул. Убежал.
Чизкейк
Егор был бедным, но талантливым. Он писал картины и находился на том этапе биографии, когда еще чуть-чуть, и в дамки. Все вокруг говорили: Егор, надо потерпеть! Егор терпел. Работал грузчиком четырехдневку на ПЗСП, чтобы оставалось время на творчество. Платили ему тринадцать тысяч рублей в месяц. О покупке зимней куртки старался не думать. Он много о чем старался не думать. Когда пишешь, не думать как-то легче, чем когда просто живешь.
Весной в его жизнь ворвалась Женя. Она была красивой городской девушкой – модной, уверенной, смешливой. Егор в нее влюбился, а Женя им заинтересовалась. Вскоре между ними возникла дружеская привычка – раз в неделю пить кофе. Это была целая церемония. Они долго выбирали место, потом день и время (Женя была очень занятой), много говорили по телефону, а затем уже встречались. На фоне заводской мрети, неизбывной бедности и зыбких надежд Женя была для Егора отдушиной. Он испытывал физическую потребность быть с ней рядом, пусть и раз в неделю. Они не целовались, не касались даже друг друга. Но иногда уехать с Пролетарки и просто выпить кофе в красивом месте с красивой девушкой – душеспасительно. Особенно если ты художник, которому многое сулят, но у которого пока ничего нет.
Женя не знала, что Егор отказался от сладкого, чтобы пить с ней кофе. Парню было стыдно рассказывать ей о своем финансовом положении. Он находил свою бедность унизительной. Бывало, он невыносимо хотел сникерс, но не покупал его, потому что понимал – где один сникерс, там и второй. Бюджет Егора выглядел таким образом: 13 т.р. зарплата – 3 т. 200 р. коммуналка – 500 р. интернет – 300 р. телефон – 1 т.р. кошачий корм… На продукты оставалось 266 р. в день. Не погужуешь, но жить можно. Главное – есть с хлебом и налегать на супы и макароны.
В июле Егор заболел. Сначала он пытался лечиться народными средствами (пил парацетамол, чай с малиной, полоскал горло содой). Однако ангину народными средствами не лечат, и парню пришлось купить лекарств на две тысячи рублей. Как вы понимаете, из восьми тысяч на еду осталось всего шесть. То есть ровно 200 рублей надень. А еще надо было отложить 500 рублей на встречу с Женей. Таким образом, на еду оставалось 183 рубля. Известно – беда не приходит одна. Сразу после выздоровления у Егора заболел кот. У него воспалилась железа на заднице. Кот плакал и не находил себе места. Художник плюнул на все, взял шесть тысяч и поехал с котом в ветеринарку. Из ветеринарки он вернулся с прооперированным котом и тремя тысячами рублей.
Бюджет Егора рухнул до 100 рублей на день. Конечно, он мог занять у знакомых или у бабушки (родители Егора пили горькую на Комсомольском), но делать этого не хотел, потому что отдавать было нечем. Парень решил затянуть пояс потуже и перетерпеть до зарплаты. Но как он ни затягивал пояс, как ни изгалялся и ни исхитрялся, за неделю до зарплаты у него в кошельке осталось 300 рублей. И это с учетом свидания, которое было намечено на завтра. Егор отчаялся и попытался занять 500 рублей у товарища. Товарищ не дал – он пропил кучу денег в прошлые выходные. Тогда Егор решил позвонить Жене и что-нибудь ей наврать, чтобы отменить встречу. Потом ему стало стыдно, и он захотел рассказать девушке правду. Позвонил. Не смог. От ее голоса у него мурашки по коже забегали, и он так захотел ее увидеть, что… пошел на свидание пешком.
Расстояние от Пролетарки до города – девять километров. Егору надо было пройти восемь. Он договорился встретиться с Женей в кафе на набережной. В кафе были французские окна и открывался красивый вид на Каму. Восемь километров не так уж много для молодого мужчины. Проблема была в том, что идти приходилось вдоль оживленной трассы, чья обочина не приспособлена для пешеходов. Плюс – стояла страшная жара, и хоть Егор и побрызгался с ног до головы дезодорантом, он все равно сильно вспотел. План был такой – сэкономить на проезде, а в кофейне удовлетвориться чашкой эспрессо за 80 рублей. К тому времени Егор воспринимал мир в буханках. Например, проезд на автобусе туда-обратно означал две буханки или четыре дня относительной сытости.
Ровно в шесть вечера пыльный и потный Егор вошел в кофейню. Он думал, что Женя уже там, но ее нигде не было. Егор сел за столик и стал ждать. Официант принес меню. Фотография сочного бургера произвела на парня неизгладимое впечатление. На следующей странице располагался чизкейк. Молочный, увитый карамелью, с листиком мяты наверху. Чизкейк был слабостью Егора. Он ел его два раза в жизни, и рецепторы хранили память о нем, как великую драгоценность. Поиграв в гляделки с пирогом, Егор резко захлопнул меню и скрестил руки на груди. Этим жестом он как бы отрезал себя от глупых соблазнов. Десять минут седьмого, пятнадцать минут седьмого, двадцать минут седьмого. Жени не было. Егор позвонил. Девушка долго не брала трубку.