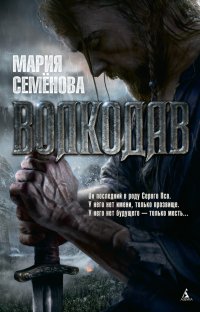Читать онлайн Викинги бесплатно
- Все книги автора: Мария Семёнова
© М. В. Семёнова, 2017
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®
Два короля
Историческая повесть
Так гласят старинные хроники… Давным-давно – тысячу сто лет тому назад – жил в Дании, на острове Зеландия, могущественный вождь. Звали его Ра́гнар. А ещё носил он прозвище – Ло́дброк, то есть Кожаные Штаны.
Не было такого моря, где бы ни носились его страшные полосатые паруса. Это он, поднявшись по реке Сене, в 845 году взял и дочиста разграбил Париж. А на обратном пути к морю разметал, как песок, две армии французского короля Карла. Это он немного погодя покорил на севере Англии королевство Норсхамбрия. Это он ещё через несколько лет совершил поход в русские земли, но потерял там сына и сам едва не сложил голову…
В 867 году Рагнар Кожаные Штаны отправился в Ирландию. Поначалу этот поход складывался удачно, но для Лодброка он оказался последним. Старый викинг был пленён своим злейшим врагом, норсхамбрийским королём Эллой, и в цепях привезён в его столицу – город Йорк, который тогда назывался Эофорвиком…
1. Лодброк
Отчего бы и не припомнить теперь, что мне снилось там, в Ирландии? Это, конечно, легче всего – искать в прошлом предостережения, которым в своё время не внял. Ведь всякий сон, говорят, сбывается так, как его истолкуют.
Ла́дгерд получит весть о моей судьбе и посмеётся. О, она посмеётся, моя Ладгерд, мать моего старшего сына, – Лодброк умер в оковах, обманом захваченный в плен!.. Рагнар, Рагнар, скажет она. А ведь тебя называли прозорливым и мудрым. Как же это ты не распознал вражеских воинов в слугах, подносивших пиво?..
Дорого я дал бы за то, чтобы вызнать – кто же всё-таки продал меня англам… Много зим длилась моя жизнь, и не ко всем бывал я справедлив, и ей, моей Ладгерд, выпало понять это раньше других. Уж не она ли отомстила мне за давнюю обиду?
Ладгерд… Нет, она била в спину только тогда, когда враг пускался от неё наутек, не смея повернуться лицом. Я-то это знаю, я же видел её, мою Ладгерд, с копьём в руках, на носу боевого корабля. Она не изменила себе и в тот день, когда мы с ней смотрели друг другу в глаза и оба знали, что эта встреча последняя. Ты, усмехнулась она, ни дать ни взять Си́гурд-змееборец. Ты так же, как он, забываешь любимую ради другой. Вот только Сигурду помутило разум питьё, настоянное на злом колдовстве. А тебя, мой конунг, и околдовывать не понадобилось.
А я ей ответил… должно быть, я делаюсь стар, если не могу не то что придумать ответ, но даже и вспомнить сказанное однажды! Я ей ответил: если я – Сигурд, стало быть, мне надо ждать скорой смерти? Которой ты, моя Ладгерд, непременно добьёшься? И ещё я сказал, что, пожалуй, не стану бегать от подобной судьбы, если только она, Ладгерд, поклянётся умереть на моей могиле. Они у меня всегда были остры одинаково – оружие и язык.
Но за ней тоже ни разу ещё не пропадало, будь то меткий удар или беспощадное слово. А что, спросила она, уж не испугался ли ты, мой конунг?
Испугался? Я, Лодброк?..
Впрочем, тогда я ещё не успел стать тем, кто я ныне. И прозвища не носил. Но и тогда никто не оскорблял меня безнаказанно. На неё одну я никогда не замахнулся бы – на мою Ладгерд, и она это знала. Если я когда-нибудь буду нужна тебе, Рагнар конунг, сказала она. Я или мои воины. Ты только позови.
Я не позвал её обратно. Ни тогда, ни потом. А теперь даже у Фри́длейва, нашего сына, блестит в усах седина, и люди называют его разумным. Хорошо иметь сына, который о многом судит так верно. Это даже приятнее, чем никогда не ошибаться самому.
Он был уже взрослым мужем, когда я полюбил в последний раз. Фридлейв говорил, что Убе, мой младший, ненавидел меня из-за безродной матери, которую я ему дал. А мать чтил за то, что она сделала его сыном Лодброка.
Уж не его ли люди были там, в Ирландии, подле меня?..
2. Король Элла
Всю жизнь я ждал этого дня. Все девятнадцать лет. Каждый вечер я ложился спать с мыслью о Рагнаре Лодброке, и он снился мне по ночам. Он заносил надо мной свой топор, а я не мог пошевелиться. Сколько помню себя, столько же – и этот сон. Всегда один и тот же. Я просыпался в холодном поту и лежал с открытыми глазами, обдумывая месть. Потом засыпал вновь и гнался за ним по чёрному ночному болоту, и оно расступалось у меня под ногами. А Лодброк смеялся и ускользал от меня, пропадая в тумане.
Я скрывался, я нищенствовал на дорогах страны, принадлежавшей мне по праву рождения, и люди, которые должны были бы сдёргивать передо мной свои драные шапки, из милости давали кров мне, королю, и позволяли съесть корочку хлеба, испечённого под перевёрнутым котлом!
Мне так хотелось унизить его – посмеяться над ним, когда его скованного привезли сюда, в Эофорвик. Мне казалось, что у меня проросли за спиной крылья, что я взят на небо живым, как пророк Илия. Я был полновластным хозяином Норсхамбрии, и тень Лодброка не лежала больше поперёк моего пути.
Ну что, морской король, сказал я ему, нравится ли тебе Эофорвик?.. Хороша ли земля, в которой сгниют твои кости?..
А он стоял передо мной в цепях, босиком, по щиколотку в грязном талом снегу. И два воина крепко держали копья, нацеленные ему в грудь. И пожелай я оказаться одного с ним роста, мне потребовалось бы встать на скамью…
Но я не вставал! Я принудил его – Лодброка! – стоять, когда сижу я, норсхамбрийский король. Я казался себе самому величественным и важным. И только потом, когда его уже увели, понял, что был не величествен, а жалок и глуп. От себя-то этого не скроешь.
Я сидел перед ним в позолоченном кресле – надутый маленький король. А он стоял и с усмешкой в глазах разглядывал меня и мой двор. Моих воинов, и святых отцов, и старого Этельреда. Разглядывал, как утёс разглядывает волны, лопочущие у ног! А я смотрел на Рагнара, задрав голову, и думал, что унизил его.
Я ждал, что он станет затравленно озираться, а не то попробует напасть. Но и тут мне суждено было ошибиться. Он вдруг заговорил, и я вздрогнул от неожиданности, ведь я уже забыл, что сам только что к нему обратился. И я приготовился слушать по-датски, но он заговорил не по-датски, и я вспотел от волнения, испугавшись, что не пойму, и подумал, что же делать, если я не пойму… но всё это продолжалось один миг, потому что Рагнар отвечал мне на моём родном языке – на языке саксов.
Жил-был маленький, тщедушный охотник, сказал он мне. Однажды этот охотник метнул свой тоненький гарпун и нечаянно оцарапал кита. А кит взмахнул хвостом и уволок его с собою на дно. Вот так, Элла конунг.
И тогда я приказал увести его, потому что не знал, как на это ответить. Я готовился торжествовать, но теперь вместо радости в душе моей поселилась тревога. И смутное ощущение, будто я что-то делаю не так.
Один Этельред не удивляется, видя, что его король хмур и невесел и не празднует победы над таким врагом, каким был Лодброк… Был! Он ещё жив, но больше он не увидит ни солнца, ни бегущих в небе облаков. Я один определяю, долго ли он проживёт. Я стою над ним, как змеелов, прижавший палкой ядовитого гада…
Я, Элла, король всего Севера, от Хамбера до реки Форс.
3. Лодброк
Как славно, когда есть о чём вспоминать… Уж верно, мои сыновья позаботятся, чтобы этот молодой конунг пережил меня не намного. Но сколько бы ни отмерила ему судьба, никто не произнесёт его имени, не назвав сперва моего. Потому что он никогда не совершит даже доли того, что выпало совершить мне, Рагнару Лодброку. Как это говорил Фридлейв, мой старший? Если и родится когда-нибудь вождь славнее, чем ты, Рагнар конунг, то, должно быть, его станут славить совсем за другое, нежели тебя. Ибо трудно представить, чтобы кто-то был отважнее или щедрее!
А ведь он никогда не осмелился бы приписать мне чужой подвиг или качество, которым я не обладал. И все вокруг, и я сам сразу поняли бы, что это неправда, и назвали бы подобную речь издёвкой, а не похвалой.
Хорошо иметь таких сыновей.
Мой род подобен высокому, раскидистому древу. Свежий ветер колышет и раскачивает упругие ветви, и каждая по-своему хороша, но одна – всех выше и всех непокорней… Я сам обрубил эту ветвь. Я прогнал от себя Убе, моего младшего сына.
Кто отказал бы ему, вздумай он, сын Лодброка, посвататься к дочери самого знатного вождя? Но он предпочёл без моего ведома жениться на простой рыбачке. И привёз показать мне свою белобрысую девку, уже сыграв свадебный пир.
И я в раздражении бросил ему: ты не мог пройти мимо немытой девчонки, должно быть, оттого, что и в тебе самом течёт рабская кровь!.. Девчонка расплакалась и стала совсем некрасивой, и я уже понадеялся, что усовещу моего Убе. Но он только обнял её за плечи, привлекая к себе, и тихо сказал: надо же было тебе, отец, переодеваться женщиной, чтобы повидать мою мать! Ты так любил её, что не побоялся даже позора. А теперь попрекаешь меня низким рождением…
Двадцать два года никто не смел вспомнить о том, как я, Лодброк, ходил в женском платье. Горько думать об этом, но из всех сыновей моей храбрости больше всего досталось именно Убе, и я привык видеть в нём, как в зеркале, второго себя.
Я прогнал его вместе с его женой, навсегда запретив показываться на глаза… А ведь окажись он рядом со мной там, в Ирландии, не сидел бы я теперь в гнилой яме у Эллы конунга – в Нортимбраланде… Где же ты был, Убе?
А впрочем, как знать, может, оно и к лучшему, что в моей смерти виноват только я сам. Будь это кто-то другой, этот другой мог бы остаться ненаказанным. А мне никуда уже не уйти. Правда, англы станут думать, что казнят меня совсем за другое. Откуда им знать, что я пытался помешать моему Убе любить ту единственную, которую избрало его сердце!..
Но с этим, как видно, ничего уже не поделаешь.
4. Король Элла
Раскрыв от волнения рот, слушал я рассказы старого Этельреда о кровавой вражде Синехерда и Синевульфа, давным-давно живших на нашей земле… У меня разгорались глаза, когда я воображал себя среди товарищей храброго Озрика. Я жалел о том, что опоздал родиться на целых сто лет. Я завидовал могучим королям минувшего – Оффе и Эдвину. Я и сейчас завидую им, но только совсем по-другому. Они прожили свои славные жизни, понятия не имея о том, кто такой Лодброк.
…Дважды бежал я из Эофорвика, бросая стены, выложенные прадедовскими руками. Дважды – и в первый раз меня несли, потому что ходить я ещё не умел. Я родился в день битвы, под одним из тех раскидистых зелёных дубов, которыми так славится наша земля. И никого не было рядом с моей матерью, королевой, кто помог бы ей, укрыл её от беды… Один Этельред, но он и тогда был уже стариком.
Может быть, оттого я и вырос таким непохожим на предков? Говорят, я мало схож даже с отцом. Он был золотобородым великаном, а я в свои девятнадцать лет ещё кажусь мальчишкой. Или это оттого, что я рос бездомным бродягой и Этельред не всякий вечер знал, чем станет кормить меня назавтра?
Мой отец никогда не видел меня, потому что Лодброк отнял нас друг у друга. Отцу не пришлось носить меня на руках и подкидывать высоко-высоко, заставляя задыхаться от ужаса и восторга. Он погиб в день моего появления на свет, погиб в неравном бою на берегу широкого Хамбера. Он отстаивал свою страну и не смог её отстоять, и Лодброк убил его, а в Эофорвике посадил править своего сына И́вара, который тогда уже был старше, чем я теперь.
Ивар сидел в моём доме, а меня кормили чужие люди, и Этельред не смел открыть мне, кто я такой. А когда я совсем замучил его расспросами о родне, он повёл меня в лес, показал холмик под корнями дуба и сказал: здесь лежит твоя мать. Она умерла молодой. И я стал думать, почему же в наших сказках на помощь красавице, гибнущей в лапах дракона, всегда вовремя является доблестный воин, а она, моя мать, умирала в лесу, на мокрой от дождя земле, и никто не примчался спасти её, а ведь она тоже была красавицей?.. Добрый мой Этельред – он выслушал меня и заплакал.
А потом я узнал, что я не просто Элла, а Элла сын Хейма, сын великого короля. Я завидовал подвигам давно умерших героев, но кому из них этот трон достался таким трудом и мукой, как мне! Мне ведь не являлись прекрасные феи, и мудрый волшебник не показывал меча, вросшего в наковальню, и воины, железной стеной окружающие меня теперь, тоже не сами собой встали из земли! Это только гонцы, разносящие вести, так легко врываются на площади с криком: слушайте, все люди, наш король Элла разбил в бою викинга Ивара, сына Лодброка, и заставил его бегством спасаться из Эофорвика!
Тогда я тоже долго боялся поверить, что это всё наяву, что это и вправду со мной. И оно оказалось-таки призрачным, моё счастье. Ровно через год старый Рагнар вышиб меня из моего Эофорвика – вышиб одним ударом, с налёту, даже не отдохнув после долгого перехода на кораблях! И опять я бежал, и опять мне снилось море, сплошь покрытое страшными полосатыми парусами, и опять каждую ночь Лодброк заносил надо мной свою секиру, смеясь: да с кем ты вздумал тягаться, малыш?.. Со мной, что был славен и знаменит ещё до рождения твоего отца?..
Ну что же – посмотрим, как это выйдет у его сыновей! Я могу хлопнуть в ладоши, и все увидят над воротами его голову, насаженную на копьё. Седую голову Лодброка, заставившего франков петь по церквам: спаси нас, Господи, от ярости норманнов!.. Но стоит мне вспомнить тот взгляд, которым он наградил меня тогда во дворе, те единственные слова, которые я от него слышал, – и моё счастье сникает, точно птица с перебитым крылом. И я чувствую себя сборщиком яиц, забравшимся по скалам на непомерную высоту. Если я велю расправиться с Лодброком, это будет убийство, а не победа. А как победить его? Если бы я знал!
Я определённо сделал что-то не так. Но у меня, как у скалолаза на круче, есть теперь дорога только вперёд…
5. Этельред, книжник
Величайшую истину рёк тот, кто первым отметил проворство недобрых вестей. Ещё не все у нас в Норсхамбрии прослышали о пленении Лодброка, а приезжие люди уже рассказывают, как приняли эту новость его сыновья!
Бьёрн, по прозвищу Железнобокий, играл в кости; и якобы он так сильно стиснул кулак, в котором держал фишки, что потекла кровь. А Ивар, прежний властитель Эофорвика, охотился. И будто бы копьё, выпавшее из руки, пронзило ему ступню – но он не заметил боли… А Убе, которого Рагнар прогнал от себя и единственного из одиннадцати сыновей не наделил королевством, – Убе пировал в окружении верной дружины. И только кивнул головой и продолжал веселиться, словно ничего и не произошло…
И когда Элла, мой король, услышал об этом, он сразу же сказал, что опаснее всех – рыжий Убе. Ведь самые страшные омуты, в отличие от рокочущих, но мелководных перекатов, всегда внешне спокойны и тихи.
Вчера вечером мой король пришёл ко мне и долго листал мои книги, словно пытаясь что-то в них найти. Потом сел напротив меня и спросил: о чём ты пишешь сейчас, отец мой? О том, отвечал я, как ты нынче утром охотился и затравил старого кабана. И как юные вепри набросились на тебя, угрожая клыками. Элла усмехнулся… Неспроста это было, сказал он погодя. Я ведь и вправду затравил старого кабана. Я – как неопытный дровосек, подрубивший корень огромного дерева, и ствол вот-вот рухнет мне на голову, размахивая ветвями. Но скажи, мудрый Этельред, что я мог сделать ещё?.. Другие короли либо насмерть перепуганы, либо надеются откупиться, подобно Карлу, повелителю франков. Все они только и ждут, чтобы сыновья Лодброка срубили мне голову, и тогда они растащат мою Норсхамбрию по частям! Один Э́льфред, сын короля Уэссекса, рад прийти мне на помощь, но его отец не даёт ему этого сделать. Я не боюсь смерти, отец мой, но не окажется ли, что всё было напрасно?..
И я ничего не мог ответить моему мальчику, моему королю. Я спросил его: а как ты думаешь поступить с пленником? Элла вздохнул, и тень легла на его лицо. Ты сам знаешь, отец мой, как я его ненавижу, проговорил он тихо. На этой земле нет никого, кто ненавидел бы его больше, чем я. Но я хочу, чтобы перед смертью он посмотрел на меня снизу вверх. Понимаешь, снизу вверх. А он пока что поёт победные песни, сидя в своей яме. Иногда мне хочется вытащить его оттуда и сразиться с ним в поединке – лицом к лицу. Но я не делаю этого, ибо старый волк легко одолеет меня. Хотя он и стал, говорят, похож на свой собственный призрак. А как ещё заставить его почувствовать себя ниже меня – я не знаю…
…Так мы беседовали с моим королём, когда вошли воины и привели человека, от усталости не державшегося на ногах. Этот человек рассказал, что в устье Хамбера появилось множество боевых кораблей, двигавшихся вверх по реке. А вели их сыновья Лодброка, поклявшиеся вызволить отца или по крайней мере стократно за него отомстить. А берегом Хамбера шло войско короля Мерсии, вступившего с ними в союз.
Сказав так, человек тот повалился на пол и немедленно уснул. Мой король велел раздеть его и уложить, а когда проснётся, дать ему еды и светлого эля. И ещё сказал что-то на ухо старшему из воинов… Но что именно, я не слыхал.
Я смотрел на свои книги и жалел о том, что на их месте не было доброго меча, крепкого панциря и окованного щита. И спрашивал себя, кому в этом мире, живущем по законам железа и крови, нужны мои рукописи, мои слабые пальцы, натруженные пером, мои старые полуслепые глаза?.. Будет вечер, и будет утро, и снова чей-то сапог мимоходом втопчет в пыль всё то, чем я жил долгие годы…
И опять я начну всё с самого начала.
Когда же мы вновь остались наедине, мой король вдруг сказал мне: отец мой!.. Я только сейчас, в разговоре с тобой, понял, что всю жизнь ошибался! Я с детства мечтал о мести и был готов возроптать, когда судьба дала этому исполниться, а я не почувствовал удовлетворения! Теперь я понял отчего. Отец мой, ты помнишь, как мы с тобой однажды увидели волка, задравшего отбившуюся от стада корову? У нас животы подводило от голода, но мы не отважились подойти. А на другой день мы встретили стадо, быть может, то самое, и на наших глазах его рога согласно отбросили целую стаю! Ведь это был знак, отец мой, это был знак, посланный мне свыше, но как же долго я оставался слепым и глухим! Я дрался с соседями из-за жалкого клочка пустоши или леса, а должен был сделать всё возможное для единения наших сил. Одному мне с Лодброком не тягаться, но сообща мы могли заставить его заключить с нами мир! Мир, ты понимаешь?.. Но пока у меня было время, я не видел дальше собственного носа. А теперь сыновья Лодброка подняли его топор, и это конец. И с ними идут на меня мерсийцы, которые могли бы стать мне друзьями. И мир, который мог меня прославить, теперь принёс бы только бесчестье…
Он бессильно опустил голову на руки и надолго умолк. Но потом я услышал, как он пробормотал: однако коль скоро Господь предал Рагнара в мои руки – живым он от меня не уйдёт…
6. Лодброк
Что ещё они кричат там, наверху?..
Рагнар, эй, Рагнар! Слышишь, Лодброк!.. Надевай-ка свои знаменитые кожаные штаны, сейчас они тебе пригодятся…
Над ямой стоят двое: я хорошо вижу, как в багровом факельном свете блестят их глаза. Резким движением они опрокидывают большую корзину… и змеи, целый клубок извивающихся гадюк валится мне на голову! Тысячехвостая смерть с шипением растекается по полу…
Я не боюсь её. Даже те, кого тянули за языки обида, гнев или хмель, ни разу не отваживались назвать меня трусом.
Я был храбр!
Когда мои корабли шли морем, то казалось – их паруса полосаты оттого, что сам О́дин вытирал о них меч. И голодные чайки с криком летели над нами, спрашивая, скоро ли на покрасневших волнах снова закачается пища!
Я снова вижу мои боевые корабли, узкие, стремительные, хищные. Гордо и грозно летят они над тёмно-синей пучиной, и белоснежная пена окутывает поднятые форштевни!
Всё дальше и дальше уходят они от меня… уже без меня.
А когда мы высаживались на берег, то после первой же ночи в лесах и оврагах начинали перекликаться волчьи стаи. И чёрные во́роны, каркая, подзывали друг друга – скоро Лодброк снова устроит для них пир!
Я был храбр!
Я первым бросался в сечу, и песня просилась из груди, и когда мои люди подхватывали её – никто не мог против нас устоять. Ни франки у стен Парисаборга, ни англы здесь, в Йорвике, ни даже пермы, сведущие в колдовстве!
Я был храбр!
Я с улыбкой думал о смерти, уверенный, что встречу её в вихре битвы, стоя, как дерево во время грозы! И упаду смеясь – сжимая в руке меч и уже видя перед собой распахнутые двери Вальхаллы и Отца Богов, поднимающего приветственный рог!..
Но в моих зрачках отражаются только осклизлые стены…
Они уходят всё дальше, мои корабли. Ты затравил старого кабана, Элла конунг, но берегись поросят! Уходят без меня, уходят, и ничего уже не разглядеть в сияющей морской синеве…
Убе, мой сын, где же ты, Убе…
7. Этельред, книжник
…Укрепи, Господи, дух мой, дай силу написать о дальнейшем, ибо глаза мои застилает туман, а перо падает из рук!
Я видел, как Элла, мой король, стоял в кругу поверженных тел, вращая вкруг себя меч. И как потом он упал и не мог больше подняться, и лишь тогда стал заметен его невысокий рост и мальчишеские тонкие руки… И сыновья Лодброка долго стояли над ним, вложив в ножны оружие. А потом одновременно шагнули вперёд, и я увидел, как они связали моего короля и повели его туда, где лежало тело их отца, чтобы мёртвый мог насладиться страданиями живого…
А битва ещё длилась, и вот уже рухнула моя дверь, высаженная ударом секиры, и я отшатнулся, потому что сквозь пролом на меня смотрело лицо Рагнара Лодброка. Только морщины старости ещё не покрывали его, и длинные усы были огненно-рыжими вместо седых.
И я заслонил собой свои книги, схватив костяной ножик, попавший мне под руку… Но викинг почему-то не тронул меня. Ты – Адальрад? – спросил он, опуская топор. Что тебе до того, отвечал я, делай то, зачем пришёл, убийца моего короля! Какая тебе разница, как меня звать?
Но он не двинулся с места. Меня называют Убе сыном Рагнара, сказал он. И не много чести прибавит мне расправа со стариком. Я дерусь с теми, кто этого стоит. А убивать подобных тебе – развлечение для трусов и рабов.
Тогда горе придало мне дерзости, и я крикнул: ну так и что же с того! Твой отец был немногим моложе меня!..
Он уже повернулся, чтобы уйти, но эти слова заставили его оглянуться. Да, пожалуй, ты прав, проговорил он медленно, пожалуй, отец был не моложе тебя.
Они поправили мою дверь и заперли её снаружи, чтобы я не мог выйти. И тогда я упал на колени и стал молиться о душе моего короля. Я не думал, что мне доведётся увидеть его ещё раз. Но под утро за моей спиной снова скрипнула дверь, и я увидел рыжего Убе. Идём со мной, Адальрад, сказал мне датчанин. Твой конунг был мужествен. Он заслуживает, чтобы ему дали умереть по законам его веры.
И я пошёл. Я не помню, как мы спускались по лестнице, как он вёл меня через двор – а там уже возводили погребальный костёр для его отца, – помню только, как я увидел моего мальчика… Я всё не верил, что он умирает, я уложил его голову к себе на колени, я всё хотел чем-нибудь ему помочь…
Отец мой, прошелестели его губы. Если останешься жив, отправляйся в Уэссекс, к юному Эльфреду. Может быть, ему удастся то, что не удалось мне… И я пообещал ему, и он успокоенно закрыл глаза, и я уже думал, что это конец.
А Убе стоял рядом с нами, и кто-то подошёл к нему спросить, не пора ли тащить предводителя англов – Ивар конунг хочет зажигать священный костёр… Убе велел воину убираться.
А мой мальчик открыл глаза ещё раз, чтобы взглянуть в рассветное небо, которое ветер на миг очистил от зловонного дыма пожаров. Он сказал мне: отец мой… я убил Рагнара, но победить его так и не смог… однако ты напиши в своей книге, что и я умер непобеждённым…
Я слышу имя Рагнара, проворчал Убе. Что он там говорит об отце, этот твой конунг? Я перевёл ему, и он скривил губы: победитель!.. Но потом Убе задумался и в конце концов сказал: а жалко, что мы с ним после смерти пойдём на разные небеса. Я бы вовсе не отказался сесть с ним в Вальхалле за один стол!..
А я посмотрел на моего короля и увидел, что душа его отлетела. Мой мальчик уснул, как всегда в детстве, положив голову на мои колени.
Убе дал мне беспрепятственно выйти из города… Я спросил его: для чего он приказал оставить мне жизнь? Какой смысл в ней теперь, после гибели моего короля?.. Убе выслушал и усмехнулся. Тебя называют мудрецом, Адальрад, сказал он. Но как я погляжу, кое-что тебе всё-таки недоступно.
…И вот мой посох и стоптанные сандалии шаг за шагом отмеряют пройденный путь. Передо мной лежит долгая, долгая дорога на юг: её завещал мне мой мальчик, мой король. Я постараюсь добраться к Эльфреду в Уэссекс. Я расскажу ему о жизни и смерти моего короля; пусть он задумается над этим рассказом. В минуту отчаяния Элла назвал ошибкой всю свою жизнь. Не мне судить, так ли это, – но если так, пусть Эльфред её не повторит.
Однако ему будет легче.
Ему не придётся сражаться с Лодброком.
Орлиная круча
Историческая повесть
Рассказ первый
Арни и Арнарбрекка
Арни знал, как рождаются плавучие горы… Далеко-далеко в Западном море есть острова, от берега до берега покрытые льдом. Люди верят, что это вовсе не острова, а макушки древних великанов, вколоченных в земную твердь молотом рыжебородого Тора. Не многие мореплаватели подходили к ним на кораблях. И ещё меньше вернулось, чтобы рассказать.
Лёд на островах копится веками. Его так много, что он расползается под собственной тяжестью, словно куча песка. Лёд достигает воды, и солёные волны принимаются грызть его снизу. Зелёные трещины уходят в белое тело ледника. Морские бури сотрясают его край. И наконец он не выдерживает. Всем телом вздрагивает поверженный исполин. В гуле и грохоте, в чудовищных волнах от побережья откалывается гора… Сперва она медленно оседает глубоко в воду. Потом так же медленно всплывает. И ещё долго раскачивается, выбирая, на каком боку плыть. Но наконец морское течение увлекает её с собой. Неторопливо движется ледяная гора, и нет силы, способной встать на её пути…
Арни ни разу не покидал родного фиорда. Он никогда не ходил в море на корабле, и далёкие острова не вырастали перед ним из тумана. О том, как рождаются ледяные горы, он слыхал от людей. А вот как они умирают возле берега, напоровшись на подводные скалы, Арни видел сам…
1
Это было его третье лето на верхних лугах. Верхние луга называются сетер; там много доброй травы, и морские ветры сдувают мух с коровьих боков. Скот проводит в горах целое лето, нагуливая жир. А чтобы не было стаду убытка от жадного зверя или человека, охочего до чужого добра, на сетере до самой зимы живут собаки и пастухи.
Горные луга не разгораживают заборами, потому что они принадлежат всем. Рога здесь встречаются с рогами и копыта с копытами – так гласит закон. Этот закон составили мудрые люди. Скот бродит где хочет, и никто не смеет прогнать чужую корову, приберегая лакомую траву для своей. Когда же до праздника Зимних Ночей остаётся всего месяц и приходит время возвращаться домой, то-то беспокойства прибавляется пастухам! И делается ясно, кто зря кормит свою собаку, а кто – не зря.
У Арни был пёс многим на зависть. Быстроногий, мохнатый и сущая погибель для волков. Арни называл его Свасуд – Ласковый, хотя люди считали, подобное имя мало ему подходило. Свасуд знал всех своих коров и без ошибки отбивал их в любой толкотне. Пастухи за него предлагали красивую крашеную одежду и даже серебро. Но Арни только смеялся.
Лето кончалось… Ещё несколько ночей, и снизу, со двора, придёт работник и скажет, что пришла пора гнать стадо домой.
Арни сидел без всякого дела и смотрел в море. Свасуд спал рядом на нагретых солнцем камнях. Просторное море до самого горизонта покрывали зелёные лепёшки шхер. Арни очень хотелось побывать на островах, а ещё лучше – там, дальше, куда с пастбища нельзя было и заглянуть. Может, где-нибудь там, в шхерах, стоял на якоре боевой корабль Свана Рыжего. В начале лета во двор заглянули люди от самого Хальвдана конунга и передали, будто кто-то видел в море его паруса и как бы не стряслось от этого большой беды. Хозяин двора тогда здорово перепугался и не мог скрыть свой страх, и люди рассказывали, будто Скьёльд Купец, живший у вершины фиорда, перепугался ещё сильней. Арни тогда сразу же захотелось, чтобы викинги действительно причалили где-нибудь поблизости и наделали переполоху ещё больше. Арни уж разыскал бы знаменитого Свана. Да и спросил его, берёт ли он к себе на корабль беглых рабов.
Потому что Арни родился рабом, а раб всю жизнь роется в грязи. Если, конечно, не сумеет выкупиться или убежать. Но выкупаются всегда кузнецы и другие мастеровитые люди, а Арни был пастухом. Вот и снился ему Сван Рыжий на боевом корабле. Однако в проливах здешних шхер уверенно плавал только тот, кто тут вырос и хорошо знал берега. Любой другой очень скоро оказался бы на камнях. И даже Сван.
А горное пастбище-сетер, где ходили коровы, обрывалось в море с такой высоты, что откос прозвали Арнарбреккой – Орлиной Кручей, и вовсе не из-за орлов. Арни нашёл бы о чём рассказать, если бы захотел. Два года назад, когда Свасуд ещё был пушистым и бестолковым щенком, этого щенка угораздило свалиться с Арнарбрекки вниз. Глупым часто бывает удача. Когда Арни подполз к краю обрыва, мокрый щенок еле слышно плакал далеко внизу, выкарабкавшись из воды на камень. Арни, успевший полюбить малыша, спустился за ним вниз. Завязал его в свою рубашку и взобрался назад… Опасный путь туда и обратно отнял полдня. Поединок с Арнарбреккой был подвигом даже для взрослого парня, не то что для мальчишки десяти зим от роду, но Арни никому не стал говорить. Потому что все эти полдня коровы на пастбище оставались без присмотра, и навряд ли следовало ждать за это похвал. К тому же он тогда изодрал себе все колени и локти и натерпелся такого страху, что стыдно было и вспомнить…
Обыкновенно Свасуд всё замечал раньше хозяина. Когда он вдруг проснулся и насторожил уши, Арни сразу схватил его за ошейник. В собачьей груди уже клокотало глухое рычание. Свасуд никогда не лаял, потому что его отцом был волк. Коровам и другому понятливому зверью вполне хватало такого вот рычания. Да ещё железного лязга зубов.
Свасуд долго тащил Арни через кусты. Эта часть луга была загромождена валунами, и пастух долго не мог понять, чей же запах достиг бдительного собачьего носа. Однако потом впереди послышались голоса. Арни остановился: чужие люди редко забредали на сетер, а если и забредали, то незачем было ждать от них добра. Но ему показалось, что те, впереди, говорили не о коровах. Он тихо велел Свасуду лечь, и тот лёг, хотя и не очень охотно. Шерсть у него на загривке по-прежнему стояла торчком. Дважды звать его не придётся.
Арни по-охотничьи крался на голоса, пока они не зазвучали совсем рядом. Тогда он опустился на колени и осторожно выглянул из-за скалы.
Людей было трое… Двоих сыновей Скьёльда Купца Арни сразу узнал. Скьёльдунги стояли к нему спиной. Один держал в руках меч, а другой – натянутый лук со стрелой на тетиве.
Третий, в синей рубашке, прижимался лопатками к скале. Он опирался одним коленом о камень, и сапог на той ноге был красным от крови. В правой руке у него тоже был меч, а левая стягивала на груди рубаху, и из-под ладони расползалось уродливое пятно. Однако было видно, что раны не скоро его повалят. И ещё: сыновья Скьёльда его боялись! Даже израненного и даже вдвоём.
Опасного зверя приканчивают издали – стрелой. Или ждут, чтобы он истёк кровью, и тогда уже наклоняются снимать с него шкуру. Братья Скьёльдунги переходили с места на место и громко переговаривались, выбирая, как поступить. Человек у скалы молчал и не шевелился, только меч в руке легонько подрагивал – вверх-вниз.
На глазах у Арни стрелок быстро прицелился и спустил тетиву. Незнакомец почти не глядя отмахнулся мечом. Головка стрелы стукнула о железо. Человек усмехнулся:
– Переломаешь все стрелы, сын Скьёльда. Придётся тебе бежать домой за другими, а мне скучать здесь, ожидая тебя!
На этом Арни решил, что видел достаточно. И хотел потихоньку скрыться за валунами. Но из-под ноги покатился голыш, и братья разом обернулись. Их отделял от Арни едва десяток шагов. Арни стоял на четвереньках и испуганно таращил глаза. Человек у скалы поудобнее поставил колено и проговорил:
– Не много надобно Скьёльдунгам, чтобы вздрогнуть от страха. Чего ещё ждать от сыновей такого отца!
Подобные насмешки могли взбесить хоть кого. Старший из братьев шагнул к Арни и топнул на него ногой, как на котёнка, подобравшегося к молоку:
– Пошёл!..
Так случается – человек с перепугу совершает поступки, которых и сам от себя не ждёт. Арни вскочил на ноги и запустил в старшего Скьёльдунга камнем. И кинулся наутёк.
Он не промахнулся, бросив свой камень, и эта глупость должна была кончиться худо: за спиной послышалась ругань, потом тяжёлый топот погони. Сын Купца определённо хотел сорвать на нём зло. Арни почему-то сразу понял, что убежать не сумеет. И вместо того чтобы запутать преследователя в скалах, помчался по открытой поляне. Топот становился отчётливее…
Арни не позвал на помощь собаку, но Свасуду не понадобилось приказа. С глухим рёвом он пролетел мимо Арни – чёрная пасть и белые зубы, перервавшие глотку не одному волку. Арни мгновенно испугался за него больше, чем за себя. Собачьи клыки – плохое оружие против меча. Он обернулся, и как раз вовремя, чтобы увидеть: преследователь, уже замахнувшийся на пса, вдруг судорожно изогнулся назад… потом упал на колени… и рухнул наземь лицом вниз!
Свасуд перелетел через упавшего. Он, конечно, сразу вернулся, схватил толстый суконный рукав и принялся трепать. Но больше для порядка. Ибо в спине лежавшего торчала стрела, всаженная по самые перья…
Арни закричал. Сгрёб Свасуда за шею и спрятался с ним за ближайший валун. Зубы громко стучали, хотелось заплакать. Вдобавок ко всему на сетере вдруг сделалось необыкновенно тихо: вместо трёх голосов теперь не раздавалось ни одного. Только уже по-осеннему лениво гудели жуки да мирно звенел поблизости колокольчик на шее коровы… Но стоило немного скосить глаза, и взгляд натыкался на вытянутую руку убитого Скьёльдунга, и подкатывала тошнота. И Свасуд продолжал тихо ворчать, не торопясь прятать клыки.
Арни долго не решался выглянуть из-за валуна, но сидеть так до бесконечности тоже было нельзя. В конце концов он всё-таки собрался с духом, осторожно высунул голову и посмотрел туда, откуда прилетела стрела. И тотчас юркнул обратно, а сердце заколотилось у горла.
Но потом он посмотрел снова. И на сей раз выпрямился во весь рост. Покрепче взял Свасуда за ошейник… И пошёл с ним назад, к той скале.
Человек в синей рубашке сидел на земле, неуклюже подвернув под себя перебитую ногу. Голова беспомощно свешивалась на грудь. Арни никогда не видел сражений, но случившееся здесь было понятно даже ему. Когда старший Скьёльдунг отвлёкся погоней, а младший замешкался – незнакомец сумел прыгнуть и дотянуться мечом. А потом поднять обронённый лук и свалить второго врага.
Шаги Арни и рычание собаки заставили его открыть глаза. У него были тёмно-медные волосы и такие же усы. И всё лицо в давно не бритой щетине. Он приподнял голову и посмотрел на Арни, словно собираясь что-то сказать, но вместо слов изо рта по подбородку потекла кровь. Человек закашлялся и медленно повалился на бок, уткнувшись лицом в траву.
Отскочивший было Арни подобрался к нему, думая про себя, как бы не пришлось заваливать камнями троих вместо двоих. Но на виске человека подрагивала тонкая жилка. Тогда Арни стянул с убитого лучника добротный кожаный плащ, перекатил на него раненого и покрепче ухватил плащ за два конца. Тащить было тяжело, Арни сберегал силы и часто останавливался передохнуть. Предстояло много дел, а до пещеры, где он жил летом, было далековато.
Арни родился рабом, и его редко спрашивали, что он думал о людях. Но такому человеку определённо следовало помочь!
2
Над шхерами неторопливо дотлевал закат. Синяя рубашка сушилась возле костра, натянутая на прутья. Арни выстирал её в ручье, пустив плыть по течению порядочно грязи. Высохнет, надо будет ещё зашить её, а то совсем изорвалась. Добрая рубашка, льняная. И вся вышитая по вороту. Видно, не с простого человека пришлось её снимать!
Арни вправил ему ногу и заключил её в самодельный лубок. Это было легко. Арни привык возиться с животными, а с ними ведь всякое приключалось. Зато с обломком стрелы, засевшим в правом боку, пришлось-таки повозиться. Стрела вошла глубоко и была к тому же обломана у самого тела. Арни долго пытался её подцепить, потом прижался лицом и ухватил скользкое дерево зубами. Человек застонал и сжал кулаки, но дышать сразу стал легче. И кровь изо рта больше не шла.
Арни уложил его и укрыл козьей шкурой, под которой обычно спал сам. Следовало позаботиться об убитых. Было страшно идти туда снова, но Арни знал, что иначе мертвецы могли повадиться вставать по ночам, а ему совсем не хотелось, чтобы коровы начали доиться кровью или падать вниз с Арнарбрекки. Он расстегнул на обоих Скьёльдунгах пояса и как мог перепортил оружие, прежде чем засыпать его камнями и землёй: вот теперь всё будет спокойно. Арни не позарился ни на одежду, ни даже на серебряные обручья. Ну их – пускай берёт тот, у кого есть охота беседовать с выходцами из могил… Арни не устоял только перед луком и колчаном со стрелами, потому что это было сокровищем. Меч, конечно, больше притягивает глаз. Но раба с мечом мало кто видел. И если подумать как следует, не много пользы в нём пастуху. Другое дело лук. Он защитит от врага, он и накормит… Арни долго колебался, брать или не брать, но в конце концов взял. Надо будет только поскорей выучиться метко стрелять. Тогда, может, знаменитый Сван вправду примет его когда-нибудь к себе на корабль…
Лицо у человека было не особенно молодое, но и не старое. Арни сказал бы, что он прожил на свете тридцать зим. Или тридцать пять. Роста он был не слишком высокого, но зато жилистый, словно весь сплетённый из моржовых ремней… Такого одной стрелой не убьёшь.
Что он станет рассказывать о себе, когда откроет глаза?.. Арни разглядывал медные усы незнакомца и думал, что навряд ли стоило приставать к нему с расспросами. Викинга узнаю́т по оружию и по дерзким речам. И ещё по ладоням: по каменной коросте мозолей, причинённых рукоятью весла. Арни слыхал от людей: на подобную ладонь можно уронить горящие стружки, и она не почувствует огня. Руки у незнакомца были именно такие. И меч под стать рукам. Арни не стал далеко прятать меч, положил так, чтобы викинг его увидел, как только откроет глаза. Потом принёс в пещеру лук и попробовал натянуть. Ничего не получилось. Обидевшись, Арни снял с лука тетиву и лёг спать.
За ночь костёр несколько раз погасал. Арни было холодно без одеяла. Он просыпался и раздувал угли. А под утро позвал Свасуда и обнял его, прижимаясь к горячему мохнатому боку. Но крепко заснуть так и не удалось. В конце концов Арни выбрался из пещеры, не дожидаясь рассвета. Мёрзнешь – грейся работой! Нет лучшего средства.
Предутренний воздух легонько покалывал ноздри, небо над горами еле серело, на вершинах лежали плотные облака. День будет неприветливым. Арни попрыгал на месте, спрятав руки под мышками. Несколько ночей назад в море отбушевал шторм, и за шхерами до сих пор глухо гудело. Острова заслоняли берег, и под Арнарбреккой никогда не случалось сильного прибоя. Только ветер порою бывал, как теперь, ощутимо солёным. Такой ветер станет хлестать по лицу, когда Сван Рыжий возьмёт его к себе на корабль. Ведь справится же он когда-нибудь с этим луком. И научится подшибать одну стрелу другой на лету!
В море было ещё совсем по-ночному черно. Зевая, Арни привычно оглядел горизонт… и неожиданно заметил яркий огонь, мерцавший вдали, на одном из островов. Приглядываясь, Арни прошёлся вдоль края откоса. Всё это явно было неспроста. Синяя рубашка – цвет мести, в синее одеваются убивать, и о том немало рассказывается. Недаром же говорят люди, что Бог войны Один приходит в синем плаще! Викинг кому-то мстил там, в глубине страны, а люди на острове надеялись его подобрать.
Обидно будет, если они прождут понапрасну несколько дней и уйдут опечаленные, думая, что их товарищ погиб…
Арни возвратился к пещере только после полудня, когда коровы напились из ручья и он укрыл их от дождя в загоне под нависавшей скалой. Нырнув под каменный кров, Арни сразу обнаружил, что викинг очнулся. Хлеб и сыр, оставленные возле костра, были съедены до крошки; при виде вошедшего он рывком приподнялся, рука метнулась к мечу. Но потом он узнал Арни и насмешливо сощурил глаза:
– Ты ещё здесь, трусишка! Я думал, ты давно уже дома и клянчишь у хозяина бляшку от моего ремня!..
– Я не трусишка, – сказал Арни. – И не бляшку я бы там получил, а хорошую затрещину за то, что бросил коров.
Викинг усмехнулся:
– Я вне закона от Вестфольда до Халогаланда, и многие не поскупятся на серебро, увидев мою голову отдельно от тела.
Арни покраснел так, что на глазах выступили слёзы:
– Как тебя объявляли вне закона, я не слыхал. А вот как ты застрелил того малого с мечом, это мне запомнилось. И ещё я думаю, что волосы у тебя подходящие, но Сван Рыжий на тебя совсем не похож.
– Это ещё почему?
У него были очень светлые глаза, серо-зелёные, умевшие без промаха послать смертную стрелу. Арни нипочём не отважился бы с ним спорить, если бы не знал, что в случае чего легко убежит. Он сказал:
– Свану не понадобилось бы помощи против тех двоих.
Викинг снова рванулся сесть, но боль в груди заставила откинуться обратно в сено. Он негромко засмеялся:
– Отстегать бы тебя, паршивца, да неохота вставать.
Арни дал ему кружку молока, поправил сползшее одеяло и побежал обратно под дождь. Мимо его стада сегодня должно было пройти другое, которое уже перегоняли домой. Любопытные телята увяжутся за чужими, если не проследить.
Вечером, когда Арни приготовил поесть, викинг сказал ему:
– Стемнеет, выйдешь наружу и поглядишь, что там в море.
Арни ответил:
– Если ты про костёр на острове, то я ведь так и подумал, что он горит для тебя. Его зажигают между скалами, и видно только отсюда… с Арнарбрекки.
– Арнарбрекка!.. – пробормотал викинг. – Орлиная Круча!
Он пошевелился и вздрогнул, сдвинув раненую ногу.
– Где здесь можно спуститься к воде?
Арни подумал и ответил:
– Нигде.
– Говори толком, пастушонок!..
– Я спускался один раз, – сказал Арни неохотно. – Две зимы назад. Но только это было днём и без дождя, и у меня не болела нога. Я лазил достать щенка…
Викинг сжал зубы и переложил больную ногу с места на место. Потом ещё раз. Арни посмотрел и подумал, что остановить такого и впрямь было нелегко.
– Мне нужно плыть на этот остров, – сказал викинг погодя. – Ты, пастушонок, покажешь мне, где слезал, и сделаешь костыль, чтобы я мог туда дойти. И шевелись, я хочу успеть до темноты!
Арни принёс ему всё тот же кожаный плащ:
– Не нужен тебе костыль… Свою ногу ты ещё достаточно обобьёшь, пока будешь спускаться!
Добравшись к обрыву, Арни оставил викинга разглядывать отвесные кручи, сам же вернулся в пещеру. И странное дело: сколько раз прежде он ночевал здесь один, но тут его каменный дом внезапно показался ему опустевшим…
У него хранилось несколько крепких верёвок – привязывать коров. Арни смотал их и сунул за пояс. Ещё в углу пещеры стоял бочонок, в нём были спрятаны от мышей лепёшки и сыр. Арни торопливо вытряхнул еду и тщательно заколотил круглую крышку. Немного поколебался – и привязал сверху своё козье одеяло. Пусть бочонок побережёт силы пловца, а тёплая шкура не даст ему застыть в холодной воде…
Викинг лежал на животе, подперев подбородок кулаками. Было видно, что хмурые скалы Арнарбрекки ничего хорошего ему не пообещали. Он обернулся к подошедшему Арни и, конечно, сразу понял, зачем понадобились бочонок и одеяло. Повозившись, он расстегнул свой тяжёлый кожаный пояс – весь в серебре. И протянул его Арни:
– Держи! Это тебе.
– Не надо, – сказал Арни и вздохнул. – А то никто не поверит, что ты разделался с теми двоими и ушёл.
Викинг помедлил, потом застегнул круглую пряжку и сказал:
– Когда-нибудь я ещё побываю в здешних местах.
И в это время на острове за проливом загорелся костёр.
3
Свасуд всё вертелся вокруг хозяина и визжал. Арни посадил его около плаща:
– Стереги!..
– Ты-то куда? – спросил викинг. – Я тебя не звал.
Арни обвязался верёвкой и перекинул её через плечо, чтобы не так резала ладони. Он сказал:
– Ты же сорвёшься один.
Викинг не стал ни соглашаться с этим, ни спорить. Молча привязал другой конец верёвки к своему ремню и пододвинулся к краю обрыва. Арни помог ему устроить меч за спиной. Медлить не стоило: солнце садилось.
Бочонок плыл вниз, глухо постукивая о камни. Порою он застревал на уступах, потом неожиданно скатывался, и двое отчаянно цеплялись за расщелины скалы. Обождав, двигались дальше.
Викинг шёл первым, и приходилось ему нелегко. Он то и дело повисал на руках, а когда и на одной, выискивая опору для ноги и колена. Переводил дух и запускал пальцы в новую трещину несколькими пядями ниже. Камни дважды пытались сбросить его, и оба раза он изворачивался по-кошачьи, удерживаясь на стене. Он не говорил ничего, но даже в сгущавшихся сумерках его лицо порой делалось белей молока. Арни знал: опять пришлось опереться на раненую ногу. Арни держался выше и сбоку. Он перекладывал верёвку с плеча на плечо; на обоих под рубашкой горели красные полосы. Во время передышек он прижимал руки к мокрым камням – ободранные ладони приятно холодило, зато потом на камнях оставались кусочки кожи и сукровица из лопнувших волдырей. Арни не жаловался. Он старался не думать о чёрных зубах валунов, что скалились далеко внизу, ожидая неверного движения. Поначалу это удавалось с трудом, но в какой-то миг страх словно бы свалился с Арнарбрекки раньше самого Арни – он мимолётно почувствовал это и сразу же позабыл, потому что на том конце верёвки опять нужна была помощь.
Пепельные сумерки постепенно угасли, пришла ночь. Арни ощупью искал опору ногам. А сверху доносилось горестное поскуливание Свасуда, но постепенно оно отодвигалось всё дальше, сливаясь с медленно нараставшим плеском воды…
Потом викинг легонько дёрнул верёвку и сипло выговорил:
– Ну, всё.
Арни подполз на четвереньках. Викинг не мог впотьмах видеть его ладоней, но сказал:
– Сунь руки в воду.
Арни послушался этого совета, и ему показалось, будто он нечаянно схватил раскалённое железо. Перед глазами побежали разноцветные пятна, руки мгновенно отнялись до самых локтей. Морская вода заживляет, но это лекарство не для девчонок. Когда боль отпустила, Арни поднял голову и посмотрел в море. Огонь по-прежнему мерцал вдалеке, чертил по волнам изломанную дорожку и звал… Викинг тяжело дышал рядом в темноте. Можно было представить, чего ему стоил этот спуск с Арнарбрекки, если уж Арни сидел еле живой. А ведь он одолел лишь первую половину пути. Он лежал неподвижно и только всё сплевывал сквозь зубы, – наверное, опять пошла кровь…
– Эй, пастушонок, – позвал он наконец. – Где ты там, иди-ка помоги. Надо мне плыть.
Доброе одеяло пришлось безжалостно прорезать ножом. Распоров его, Арни помимо воли ужаснулся дыре и тому, как трудно будет теперь её зашивать. Но тут же спохватился, ведь этой шкуре не суждено было больше греть его по ночам. Викинг просунул голову в отверстие и затянул пояс. Потом привязал бочонок, чтобы не потерять. И неуклюже, боком сполз с прибрежного камня. Стылая вода приняла его, и он сказал:
– Немного похолоднее, чем в бане.
Сильно оттолкнулся здоровой ногой и молча поплыл туда, где вспыхивал далёкий костёр. Некоторое время Арни ещё различал светлое пятно – козью шкуру, потом и оно растворилось в ночи.
Тут только Арни понял, что всё кончилось. Он вскочил на ноги, прижал ладони ко рту и закричал изо всех сил:
– Сван!.. Сван Рыжий!..
Море не отозвалось. Зато сверху, со скал, внезапно послышался лай. Лай катился по отвесной стене Арнарбрекки, ударялся о воду и метался между камнями, как живое существо. Это Свасуд впервые в жизни залаял от тоски и страха за хозяина. Арни вложил пальцы в рот и свистнул, как всегда это делал, успокаивая коров. Свасуд наверху ещё несколько раз тявкнул, жалобно, совсем по-щенячьи, и замолчал. Понял, наверное, что хозяин жив и собирается вскоре вернуться.
Действительно, надо было возвращаться.
Арни потянулся вверх, ощупывая ближайший выступ скалы. И подумал, что лезть в потёмках наверх покажется ещё неуютнее. Но будет и легче. Ведь он будет один.
И вдруг опустил руки, а потом скорчился на мокрых камнях и заплакал. Он сам не понимал отчего. Должно быть, оттого, что опять остался беспросветно один и чёрная Арнарбрекка грозно возвышалась над ним в темноте. И жестоко саднило ладони, и предстояло ещё долго, очень долго карабкаться по скале, прежде чем Свасуд вылижет их своим ласковым языком…
А ещё он плакал потому, что здесь даже Свасуд не мог увидеть его слёз.
Рассказ второй
Погоня
Крепкими мужами называли Скьёльда Купца из Долины и двоих его сыновей… Не зря называли. Слабой руке не совладать бы с таким большим и богатым двором, как Жилище Купца. И это стало особенно заметно после гибели Скьёльдунгов и самого Скьёльда. Люди рассказывали, всем троим пришла смерть от рук Свана Рыжего, мстившего Купцу за какое-то давнее дело. У отчаянного викинга будто бы хватило дерзости в одиночку явиться к Скьёльду во двор. И когда тот вышел навстречу – сказать ему вместо приветствия:
– Защищайся, Купец.
Скьёльд же был тогда вовсе не стар годами. И притом крепок, как ясеневое копьё. Люди не зря дали ему ещё одно прозвище: Драчун. Однако Сван уложил Драчуна чуть не первым ударом. Вытер меч и пошёл себе не торопясь за ворота, бросив на прощание:
– Есть брат у О́рма-со-Шрамом.
Так и ушёл. Много было свидетелей, но никто не посмел его остановить. Чтобы преградить путь такому Свану, надобно самому родиться в море, на боевом корабле. А сыновья Скьёльда были далеко, на охоте.
Они вернулись на другое утро и сразу пустились в погоню. Люди рассказывали, они даже настигли викинга, но мало что нашли, кроме своей смерти. Сван разделался с обоими и спустился к морю со скал Арнарбрекки, считавшихся неприступными. И вплавь переправился на острова, к своему кораблю.
Этому второму подвигу свидетель был один: раб-пастушонок Арни Ингуннарсон. От него и узнали. Впрочем, мальчишка был неразговорчив и скуп на слова, и его скоро перестали расспрашивать. Посиди, как он, по полгода со стадом в горах, вовсе разучишься говорить. Да и что он понимает в сражениях, ему лишь бы никто не тронул коров.
С тех пор минуло три зимы.
1
Это было его шестое лето на верхних лугах…
Весной родичи Скьёльда окончательно поняли, что не сумеют удержать наследной земли. Горько было прощаться с древним гнездом, но ничего не поделаешь, пришлось. Свершили скейтинг, передали из полы в полу горсть земли, взятой из-под хозяйского места… Рабы остались у новых владельцев, кто захотел. Кто не захотел – достались другим. Фри́длейв Фи́тьюнг, хозяин Арни, купил сразу троих. Парня по имени Ха́валь, девчонку Ту́рид и её старого деда, знавшего хорошие травы. Широкоплечий Хаваль, ровесник Арни, достался Фридлейву дёшево, родичи Скьёльда почему-то много не запросили. Дед-травник обошёлся в три марки серебра, целое сокровище, но люди говорили, он того стоил. А Турид не нужна была вовсе, но упрямый старик нипочём не хотел покидать внучку, пришлось взять и её. Фридлейв мог себе это позволить, недаром его звали Фитьюнгом – Богатеем.
Арни, конечно, видал раньше и Турид, и Хаваля, всё-таки соседи. Однако дружить не дружил. Теперь он невольно приглядывался к новичкам. И заметил, что Турид вовсе не рада была жить с Хавалем в одном дворе. Арни не было до этого дела.
Коровы ещё ходили по нижним лугам, и работы у Арни пока было немного. Можно провести две черты на земле и поиграть с ребятами в мяч. Или взять удочки и поехать за рыбой. Это нравилось ему даже больше. Красться в лодке вдоль береговых скал, представляя себе, будто это Сван Рыжий послал его вперёд!..
В тот день ему не повезло. Хитрая рыба упорно обходила его крючки. А потом из глубины фиорда потянулся туман, и Арни погнал лодку домой.
Когда он причалил, вокруг уже колыхалось белое молоко. Арни бросил вёсла на берег, выскочил сам и стал закатывать штаны, собираясь вытащить лодку. И тут перед ним неожиданно возникла Турид. Запыхавшаяся. Испуганная.
– Можно я посижу в твоей лодке?
Арни не успел ответить. Девчонка прыгнула через борт и мигом перебежала на корму. По гладкой воде раскатилась медленная волна, лодка сдвинулась с камней и стала отходить прочь от берега. Арни шагнул в воду, ловя её за носовое кольцо.
Тут песок скрипнул под мягкими сапогами. Из тумана появился Хаваль. Подошёл. Остановился у края и стал смотреть на Турид и Арни. Арни стоял по пояс в воде – останавливая лодку, он вымочил-таки штаны. Наверное, вид у него был забавный, потому что Хаваль вдруг улыбнулся.
– Меня называют Хавалем сыном Хамаля сына Хрейма из Жилища Купца, – сказал он дружелюбно. – Я у вас тут третий день и не всех ещё знаю. Как зовут тебя люди?
– Арни… Арни Ингуннарсон.
– Ингуннарсон, это по матери. А по отцу?
Арни вздрогнул и подобрался: это был уже вызов! Нет худшего оскорбления, чем напомнить безродному: у тебя нет отца, ты не можешь назвать, от кого был рождён! Арни оставил лодку и выбрался из воды. И вдруг оказалось, что он не уступает Хавалю ни ростом, ни шириной плеч. Мокрые штаны облепили его ноги, и стало заметно – эти ноги привыкли к горам.
– Меня называют Арни Ингуннарсоном, – сказал он сквозь зубы.
Сейчас Хаваль ударит. Арни перехватит его руку. И как следует вывернет. Чтобы запомнил.
Но Хаваль даже не перестал улыбаться.
– Я обидел тебя? – спросил он участливо. – Не сердись, Ингуннарсон. Я же не знал.
Арни неожиданно сделалось стыдно.
– Ладно, – буркнул он, чувствуя, что краснеет.
Отвернулся и увидел, что лодка с Турид успела отойти довольно далеко. Девчонка сидела смирно, глядя на берег. В лодке не было вёсел.
Делать нечего, пришлось лезть в воду и плыть к ней. Когда наконец под килем снова зашуршал песок, Хаваля на берегу уже не было. Дура девка, с внезапной злостью подумал Арни про Турид. Хаваль ему, пожалуй, понравился. Это достойно – признаться в нечаянной глупости. Нет, незлой малый. Хотя, конечно, болтун.
Пока Арни тащил лодку в корабельный сарай, а потом шёл домой, Турид не отходила от него ни на шаг. И только уже во дворе куда-то незаметно пропала. В девичью побежала, наверное.
И чем это Хаваль так её напугал? Небось выскочил навстречу из тумана. Она и вообразила невесть что.
Арни подумал об этом и почти сразу забыл.
А через две ночи стада погнали на сетер.
Минувшая зима выдалась не из сытых, но коровы успели подкормиться на нижних пастбищах и шли весело. Арни лишь изредка брался за хворостину, и то потому, что дорога пролегала через земли соседей: не дело, если приключится потрава.
И впереди, и позади него поднимали пыль десятки копыт. Арни знал, что не все пастухи так радовались лету, как он. Кто-то оставил дома молодую жену. Кто-то заранее вздыхал о том, как станет до осени скучать в горах, не видя человеческого лица. Арни было легче. Девчонки на него не слишком заглядывались. И близкой дружбы ни с кем он не водил.
Зато как же крепко он любил свои горы! Орлиную Кручу и волны, бормочущие у подножия скал!.. Зелёные шхеры и огромную, вогнутую чашу моря…
И ещё одно, о чём Арни никому не рассказывал. Вот уже три года он терпеливо смотрел в море, надеясь увидеть там паруса. Сван Рыжий пообещал, что вернётся.
Арни не знал, как выглядел его корабль. Но не сомневался, что узнает его сразу.
2
На сетере всё было по-старому. Пещера, служившая Арни летним жилищем, и та, казалось, была ему рада: возле входа покачивали головками голубые цветы. Цветы словно знали, что Арни их не затопчет. Да. Первые несколько ночей диковато покажется спать здесь одному, за зиму привыкаешь к общей лежанке, к сопению и вздохам двух десятков людей. Потом это пройдёт.
Свасуд подошёл к пещере спокойно. Добрый знак: не придётся выселять угнездившееся зверьё. Арни внёс вовнутрь одеяло и короб с едой. И разложил костёр, изгоняя из пещеры затхлую сырость. Вот теперь его дом и впрямь годился, чтобы в нём жить.
Потом он пошёл поздороваться с Арнарбреккой.
Пастухи в горах живут по-охотничьи. Что добудешь, с того и сыт. Или не сыт. Ходить домой самому далеко, а работник со двора приезжает нечасто. Арни лазил по Арнарбрекке, собирая яйца, и бил стрелами пернатую дичь.
Ему, конечно, не позволили тогда оставить себе лук убитого Скьёльдунга. Но старый умелец, такой же невольник, сделал ему другой – по мнению Арни, нисколько не хуже. И из этого лука он выучился пускать семь стрел подряд с такой быстротой, чтобы последняя сходила с тетивы, пока первая была ещё в воздухе. И он уже не помнил, когда промахивался в последний раз. Лук был вправду хорош. А всё дело в том, что однажды зимой, когда валили лес, Арни вытолкнул мастера из-под падавшей сосны.
Арни принёс с собою на сетер несколько ячменных лепёшек, загодя разрезанных на ломтики и высушенных у очага. До праздника Зимних Ночей он будет лакомиться ими, съедая по сухарю в день. Иначе недолго и позабыть, что едят люди в долинах, те, которым не надо пасти коров.
Однажды Арни нашёл у себя в пещере целый свежий хлеб.
Он недоверчиво понюхал его, помял пальцами. Потом, не удержавшись, отломил горбушку и отправил её в рот. Угостил Свасуда. Завернул остальное в тряпочку и нахмурился. Кто-то позаботился о нем. Это было приятно. Однако этот кто-то определённо считал, будто он, Арни, не может сам себя прокормить. Это злило.
– Ищи, – велел Арни собаке. – Свасуд, ищи!
Волкодав уверенно довёл его до широкой тропы, по которой гоняли коров на пастбища и обратно. Здесь Арни остановил его, поняв, что слишком поздно затеял погоню. Добро! С этим заботливым он встретится в следующий раз. Арни почему-то сразу решил, что тот пожалует снова.
Может быть, это Хаваль.
Теперь, уходя, Арни оставлял Свасуда у пещеры, наказывая:
– Стереги!
Долго ждать не пришлось, непрошеный благодетель попался назавтра же после того, как кончился хлеб.
Арни издали увидел девчонку Турид. Та сидела на земле, прислонившись к камню, и обеими руками прижимала к груди свёрток. Арни проглотил слюну, стоя за сотню шагов. А рядом с девчонкой лежал Свасуд. Время от времени она пробовала пошевелиться, и тогда волкодав лениво приподнимал губу, показывая кончики клыков. Турид вздрагивала и вновь испуганно замирала.
При виде хозяина пёс застучал хвостом по земле. Арни взъерошил ему загривок и сказал, обращаясь к Турид:
– Я тебя не просил сюда приходить!
Ему казалось, это должно было прозвучать сурово и очень по-мужски… Турид отшатнулась, словно он на неё замахнулся. Уронила свой свёрток и кинулась прочь – только взвились длинные волосы, схваченные ремешком. Свасуд серой тенью метнулся было вдогон, но сразу остановился, ещё прежде, чем Арни успел его отозвать. И вернулся, виляя хвостом.
Арни вздохнул. На душе почему-то сделалось гадко. И было похоже, что он совершил какую-то глупость. Ладно. Подумаешь, важность!
Он пожал плечами и отломил от хлеба, сколько поместилось в ладонь.
Ещё через несколько дней Арни поймал себя на неожиданной мысли: вот кончится хлеб и Турид снова придёт! Это было открытие. Арни слишком привык к одиночеству. И не привык кого-нибудь ждать. Если не считать Свана Рыжего с его кораблём. Но что касается Свана, в глубине-то души Арни знал – это было не ожидание, а больше мечта. И притом не из тех, которые сбываются быстро. Если сбываются вообще.
И до чего же, оказывается, здорово, если где-то там о тебе думает другой человек. И ты сам думаешь о нём. С Арни никогда так не было прежде.
Он снова стал оставлять Свасуда у пещеры… Пока однажды не обнаружил своего сторожа преспокойно спящим на солнышке, а рядом, у камня, завёрнутый хлеб. И никаких следов Турид. Свирепый пёс отпустил её, посчитав за свою.
– Эх ты! – сказал ему Арни. Он часто разговаривал со Свасудом, потому что больше было не с кем. Но на сей раз пёс так и не понял, чем провинился.
Стало быть, девчонка боялась. Однако ходила ведь.
Арни поразмыслил и решил, что не будет её больше выслеживать. Некогда ему ловить эту Турид, бегая за ней по горам. Зря он тогда на неё накричал. Ничего. Он ещё покажет ей Арнарбрекку и цветы, живущие в расселинах скал. И какая зелёная вода там внизу. А ещё он поймает пёструю мышку-лемминга и подарит ей. Пусть приручает.
Арни вылепил из глины маленькую фигурку коровы и поставил на камень, куда Турид обычно клала свой хлеб.
3
Арни возвращался к пещере, когда Свасуд вдруг ощетинился и зарычал. Рычание было таким, что Арни счел благом взять его за ошейник. Возле его дома находился кто-то чужой. И не Турид.
Потом он услышал постукивание камней и понял, что нежданный гость вовсе не хотел застать его врасплох. И действительно – у входа в пещеру сидел Хаваль. Сидел вытянув ноги – должно быть, устал, взбираясь на сетер.
И от нечего делать метал камешки в глиняную корову.
Одного рога у неё уже не хватало. Арни хмуро спросил:
– Для чего ты это делаешь?
Хаваль живо обернулся:
– Ты поклоняешься корове? Не сердись, я не подумал.
– Я не поклоняюсь, – буркнул Арни.
Но почему-то ему стало смешно, злость пропала. Молиться корове!.. Хотя говорят же, что самого первого человека вылизала из солёного камня корова Аудумла…
А может, и не смешно ему стало, а больше неловко. Тоже занятие для мужчины, лепить из глины коровок. Хорошо ещё Хаваль не знал, для кого он старался. Засмеял бы.
Свасуд яростно хрипел и норовил встать на дыбы. Арни удерживал его с трудом, пришлось прикрикнуть. Тогда Свасуд угомонился и лёг, но не перестал глухо ворчать.
– А злой он у тебя, – сказал Хаваль с одобрением. – Прямо волк! И зубы что надо.
Арни смахнул с камня глиняные обломки.
– Значит, это ты теперь будешь возить домой сыр? А где твоя повозка?
Хаваль презрительно сплюнул.
– Не буду я возить никакого сыра. Я убежал!
Убежал!
Арни уставился на него так, будто никогда раньше не видел. Многие мечтают о свободе, но многие ли отваживаются её взять? Арни не первое лето подумывал уйти от Фридлейва Богатея. А вот Хаваль не думал, он просто взял и ушёл.
– Что случилось-то? – спросил Арни, помолчав. – Хозяин обидел?
Хаваль ответил:
– Он мне велел разбрасывать по полю навоз. У Скьёльда я привык собирать стрелы на охоте. И ещё я присматривал, чтобы другие не ленились, особенно девки. Это мне было больше по нраву!
Арни заметил:
– Я смотрю, не в Жилище Купца ты направляешься.
Хаваль мотнул головой:
– Я решил, что стану жить сам по себе здесь в горах. А если появятся викинги, уйду к ним. Говорят, Свана Рыжего опять видели на севере. Он возьмёт меня, потому что я сильный и хорошо дерусь.
Арни приглаживал Свасуду вздыбленную шерсть, но при этих словах его рука остановилась. Он поднялся:
– Ты небось есть хочешь.
Хаваль растянулся на траве и закинул руки за голову. Наверное, мысленно он уже был на корабле Свана и отдыхал после тяжёлого перехода, после шторма в зимнюю ночь.
– Я у тебя там хлеб нашёл, мягкий, и где только берёшь! Дай ещё, если есть.
Когда стало смеркаться, Арни позвал Хаваля заночевать с ним в пещере. Хаваль отказался:
– Сразу видно, что ты пастух, а не воин. Викингам редко доводится спать под крышей, и надо мне привыкать.
Однако ночью пошёл дождь, и Хаваль всё-таки попросился под кров. Свасуд очень не хотел пускать в пещеру чужого. Кончилось тем, что Арни пришлось его привязать. Свасуд обиделся и отвернулся, положив голову на лапы. Арни стало совестно перед ним, но и гостя гнать не годилось.
Хаваль улёгся по другую сторону огня. Он сказал:
– Слушай-ка, Арни! А может, уйдёшь вместе со мной? Я сделаюсь вождём, а ты моим воином. А?
Арни долго молчал, потом ответил:
– Телята ещё слабенькие. Там видно будет, когда подрастут.
Хаваль весело фыркнул. Но если он и говорил что-то ещё, Арни не слышал. Он набегался за день, глаза у него закрывались. Он уснул.
Утром он спросил:
– Поможешь мне с коровами, пока викинги не появились?
Молока было много, телята выпивали не всё, и Арни уже просил у хозяина кого-нибудь на подмогу. Фридлейв в ответ велел ему быстрей поворачиваться, хотя Арни и так не ленился. Хаваль сказал сердито:
– Не для того я бежал, чтобы снова рыться в навозе!
Арни пожал плечами. И не стал его уговаривать.
В тот день лопоухий белоголовый телёнок застрял в узкой щели между камнями. Арни намаялся, пока разыскал несмышлёныша и вызволил из западни. И то больше благодаря Свасуду, вовремя почуявшему несчастье. Был уже вечер, когда Арни промыл Белоголовому ободранные бока и пустил его в загон.
Вернувшись к пещере, он увидел Хаваля сидящим на том же камне, что накануне. Поодаль, в траве, лежал колчан Арни и его лук.
– Я охотился, – сказал Хаваль.
Арни подобрал лук, вытер его и снял тетиву. Нагнулся за колчаном. В колчане не хватало нескольких стрел.
– Я их потерял, – сказал Хаваль беспечно. – Я взял без спроса, потому что не мог тебя отыскать.
Браниться было бессмысленно. Арни только спросил:
– Добыл что-нибудь?
– Оленя.
Арни выпрямился, чувствуя, как проходит усталость. За это многое можно было простить. Хаваль всё-таки не дармоед, каким начал было казаться. Вкусного копчёного мяса надолго хватит обоим, да и Свасуд навряд ли откажется от костей. Может быть, хоть тогда он наконец перестанет рычать на Хаваля, как вот теперь.
– Далеко? – спросил Арни, прикидывая, как они вдвоём поволокут тушу к пещере.
– Далеко, – сказал Хаваль равнодушно. – Он сорвался в море, и я его не нашёл.
Арни молча принёс сухарей и кислого молока. Он молчал всё время, пока они ели. Потом сказал:
– Я пока ещё не воин на твоём корабле. Если тебе опять понадобится мой лук, спроси прежде, можно ли взять!
На другой вечер Хаваль к пещере не пришёл. Арни не стал его разыскивать. Только подумал: похоже, впредь следовало носить лук с собой. Он так и сделал и через несколько дней убедился, что был прав. Хаваля он больше не видел, но однажды из пещеры пропали все сухари. И половина сыров, за которыми вот-вот должны были приехать из дому.
Хаваль? Некому больше.
Викинги грабили торговые корабли и населённые дворы по берегам. Они брали добычу в бою, но никогда не крали втихомолку.
Свасуд внимательно обнюхивал каменный пол. Можно было пустить его по следу, отыскать Хаваля и поколотить.
Арни не стал этого делать. Хавалю, беглецу, и правда несладко жилось здесь в горах. Одному, без жилья, с пустым животом. И почти без оружия. Он не принёс с собой ничего, кроме ножа.
– Работнику я скажу, что сыр испортили лисы, – сказал Арни Свасуду. – И что я скормил его тебе…
Свасуд завилял хвостом и ткнулся носом в его ладонь.
4
Арни спал, и ему снились телята. Любопытные доверчивые мордочки, пахнущие молоком. За лето Арни успевал каждому дать имя. И когда осенью приходило время забоя скота, он всякий раз старался куда-нибудь скрыться хотя бы на день-полтора. Он заранее знал, что будут заколоты самые слабые. Те, которые всё равно не дотянут до новой травы. Те, с которыми он всего больше возился…
Арни снились телята в знакомом загоне под нависавшей скалой. И рыжий бык, что бегал вдоль изгороди и гневно ревел. Арни испугался, как бы этот бык не разворотил ветхого забора. Проснулся и открыл глаза.
Над горными пастбищами бесновалась ночная гроза. Арни слышал, как у входа в пещеру били оземь тугие струйки воды. Только-только начинало светать.
Арни прислушался к неистовым раскатам грома и сел, протирая глаза. Прошлым летом после такой же грозы он два дня стаптывал ноги, собирая разбежавшихся коров. Надо сходить посмотреть, как они. Успокоить…
Арни натянул на голову капюшон плаща и шагнул в мокрую мглу. Не было на свете места уютнее его пещеры. И постели теплей, чем охапка сена с вылезшим меховым одеялом. Ноги сами понесли Арни привычной тропой. Не в первый раз. Тем приятнее будет потом отогреваться подле костра.
Арни и Свасуд были уже на середине пути, когда пёс внезапно заволновался. В сером полусвете блеснули ощеренные клыки. Свасуд ринулся вперёд и в несколько стремительных прыжков исчез за валунами.
Отчего-то забеспокоился и Арни. Прибавил шагу, потом побежал. Кожаный плащ неплохо защищал от дождя, но бежать в полную силу мешал, путался в ногах. Арни как раз подумал, не стоило ли совсем бросить его, – но тут навстречу из-за скалы вывернулся Белоголовый.
Первой мыслью Арни было – сломали-таки ограду!.. Перепуганный телёнок жалобно мычал и всё падал, скользя на мокрых камнях. Того гляди переломает себе ноги. Арни живо поймал его, обхватил за шею, чтобы привязать… и почувствовал под пальцами кровь.
Белоголовый не пытался вырваться из знакомых рук и только дрожал. Арни заставил его повернуться и наскоро осмотрел. Кто-то хотел зарезать бычка: острый нож провёл по белому горлу длинную полосу. Но, видно, вору неожиданно помешали. Белоголовый отделался царапиной, к концу лета от неё не останется даже следа.
Со стороны загона донесся приглушённый расстоянием крик. Арни торопливо привязал Белоголового и помчался вперёд, на ходу отшвырнув плащ.
Было уже достаточно светло, и Свасуда он увидел сразу. Коровы и телята сбились в кучу в дальнем конце загона, под скалой. Свасуд лежал посередине площадки. Он приподнимал голову и пытался ползти, но не мог.
Арни в мгновение ока перемахнул забор и кинулся к нему. Свасуд успел остановить вора, но за это была заплачена дорогая цена. Арни упал на колени и сорвал с себя рубашку, уже понимая – ни к чему. Могучий пёс слабел на глазах, из раны на шее хлестала кровь. Арни всё-таки попытался унять её, но повязка немедленно промокала, ему никак не удавалось её завязать. Тогда он приподнял Свасуда и обнял его, изо всех сил прижимая его голову к своей груди. Что-то горячее потекло по его рукам, по животу. Свасуд царапнул лапами землю, лизнул его в щёку и заскулил.
Он скулил всё тише и тише…
Арни мчался вниз по склону прыжками длиннее собственного роста. Ноги без промаха переносили его с камня на камень, всё тело звенело, как тетива. Он держал след по пятнам крови, те были совсем свежими, поредевший дождь ещё не успел смыть их. Убийце не так уж сильно досталось: пятна делались светлее и реже, да и убегал, ничего не скажешь, проворно… Арни молча летел с камня на камень, почти не глядя под ноги. Жаль, тот, другой, уходил вниз по склону, не вверх. Если бы вверх, Арни давно бы уже стоял с ним лицом к лицу. И у него тоже был нож.
Ничего. Всё равно не уйдёт.
Потом камни кончились, и под ногами зачавкала глина – шрам давнего оползня. Сразу стало трудней, но зато перед глазами были следы. Арни пустился по ним с удвоенным упорством. Скользил, падал и поднимался опять. Тесёмки на ногах размокли, облепленные грязью сапоги болтались, съезжали. Арни бросил и сапоги, побежал дальше босиком.
Но вот след оборвался. Убийца не удержался на крутизне, на четвереньках скатился вниз, в заросший узкий овраг. Арни не раздумывая сел на скользкую глину и съехал по проложенному пути. Его сбросило с невысокого обрывчика, но он не потерял равновесия и сразу вскочил.
Перед ним сидел Хаваль, такой же мокрый и грязный, как и он сам.
Казалось, он не удивился появлению Арни. И уж во всяком случае не испугался его. Он сказал:
– Это хорошо, что я тебя встретил. Помоги-ка. У твоего пса и впрямь зубы что надо!
Левая рука у него была прокушена пониже локтя – должно быть, заслонился, когда Свасуд на него налетел. Он резал испорченный рукав, намереваясь сделать повязку.
Арни сказал:
– Не за этим я сюда пришёл.
Охрипший голос звучал совсем не так грозно, как ему бы хотелось. Арни вытер правую ладонь о штаны. Нож висел у него на поясе, в кожаных ножнах.
Хаваль постепенно начал что-то понимать:
– Если ты сердишься, сними шкуру со своего волка. Когда я стану викингом, я набью её серебром!
Эта мысль понравилась ему, он засмеялся. Арни сказал:
– Не буду я с тобой торговаться.
Он стоял перед Хавалем голый по пояс, перемазанный в глине и крови. Хаваль опустил свой рукав на колени.
– Да ты никак драться хочешь, пастух? Ты, трусишка, годный только пасти коров?
Арни сказал:
– Сван Рыжий тоже сперва назвал меня трусишкой. Но ему пришлось убедиться, что это не так.
Хаваль поднялся, кровь из прокушенной руки больше не шла. Он недобро усмехнулся:
– Сван Рыжий? Стало быть, ты про него не всё рассказал? Ну смотри, пастушонок. Я поучу тебя драться.
Он ударил без предупреждения, в живот, снизу вверх, наверняка. Арни перехватил его руку. Нож Хаваля прочертил по его груди, но глубоко не вошёл. Хаваль никак не ждал от пастуха подобной сноровки. Он успел испытать безмерное удивление, когда нестерпимая боль разорвалась в левом боку, а каменистое дно оврага само собою поднялось дыбом, ударило его по спине…
Обратно к пещере Арни принёс Свасуда на руках. Дождь не прекращался; нечего было и думать набрать сухих дров, чтобы хватило на погребальный костёр. Арни осторожно опустил Свасуда на камни. В пещере была лопата.
В пещере сидела Турид.
При виде Арни она ахнула, прижала руки к щекам. Он и действительно мог перепугать хоть кого. Но Турид вскочила ему навстречу:
– Кто тебя ранил?..
Арни вдруг заорал на неё:
– Убирайся отсюда!..
Турид съёжилась, но почему-то не побежала. Тогда Арни схватил её за руку и выдернул из пещеры под дождь:
– Я тебе сказал, убирайся!..
Но она уже увидела Свасуда. Склонилась над ним. Стала гладить мокрую свалявшуюся шерсть:
– Ласковый…
Надо было бы ударить её. Но ярость неожиданно погасла. Арни сел рядом. Дождь стекал по его лицу и груди, смывая сочившуюся кровь. Становилось холодно.
– Я хлеба принесла, – сказала Турид тихо.
Арни кивнул.
– Хаваль лежит внизу в овраге, – проговорил он негромко. – Я завалил его камнями. Скажешь дома, чтобы его не искали.
Он помолчал и добавил:
– Не приходи сюда больше.
Турид поднялась и молча пошла прочь, касаясь руками камней. Арни проводил её взглядом. Потом принёс из пещеры лопату.
Рассказ третий
Стрелок из лука
В ту весну на береговые скалы навалилась ледяная гора. Целое лето она постепенно таяла на солнце, и в море со звоном бежали прозрачные ручейки. Северный великан умирал медленно и неохотно. Когда дыхание осени позолотило на берегу лиственные деревья, ледяные зубцы возвышались над шхерами по-прежнему величаво и грозно.
Айсберг сидел в проливе между двумя островами, и его хорошо было видно со скал Арнарбрекки, с верхних лугов. Арни нравилось смотреть, как ледяные утёсы день ото дня меняли свой облик, превращаясь в потоки воды. Сияя на солнце, вдали возникало то человеческое лицо, то силуэт корабля. Если бы гора не таяла, а росла, Арни, пожалуй, нравилось бы ещё больше.
В прошлом году его хозяин, Фридлейв Богатей, купил несколько новых рабов. Один, по имени Хаваль, вскоре сбежал. Как узнали потом, беглец подался в горы, туда, где пас коров Арни Ингуннарсон. И чего эти двое не поделили на широких зелёных лугах, узнать людям так и не удалось. Только то, что Хаваль убил собаку, помогавшую Арни, и пастух отомстил за неё, как за человека. У Хаваля не было родственников, способных затеять тяжбу, и на том кончилось дело.
Свара двоих рабов, не стоившая долгого разговора.
Ещё к Арни на сетер бегала девчонка Турид. Люди видели, она таскала ему хлеб. Когда пастух возвратился со стадом домой, его шутки ради спросили, скоро ли свадебный пир. Арни огрызнулся в ответ.
Что же до хозяина, Фридлейв сначала хотел наказать пастуха, потом передумал. От беглеца Хаваля при жизни толку было немного, да и стоил он дёшево.
С тех пор прошли три полугодия: одна зима и два лета.
1
Кончалось его седьмое лето на верхних лугах… и шестнадцатое в жизни.
Назавтра предстояло гнать стадо домой. Ещё одна ночь в пещере, возле костра, – и потом вниз. Скоро праздник Зимних Ночей, которым благодарят Богов за урожай и приплод.
Арни заранее связал свою котомку. И бродил напоследок по знакомому пастбищу, прощаясь с ним до новой весны. Между скалами рдели, как факелы, тронутые заморозком кусты. Осень в горах всегда наступает раньше, чем внизу.
Арни ходил один. Похоронив Свасуда, он так больше и не завёл себе новой собаки. Ему предлагали славных щенят и говорили, что пастух без собаки – не пастух. Это была правда, Арни соглашался. И продолжал управляться один.
Арни любил своё пастбище. И чёрную Арнарбрекку с её хмурыми скалами, стремительно уносившимися вниз. Весной на этих откосах так и кипела хлопотливая, шумная жизнь, но теперь птиц почти не было, все разлетелись. Орлиная Круча молча возвышалась над морем, и оттого море казалось торжественно притихшим в ожидании шторма.
Осень есть осень: будет и шторм.
Арни подошёл к самому краю, и камешки потекли из-под ног, звонко отскакивая от уступов. Холодный ветер веял под пасмурным небом. Он не мог раскачать сильной волны, но вокруг островов кипели белые ожерелья. Осень щедро раскрасила шхеры, и Арни не сразу заметил корабли. Но когда заметил – больше не отводил от них глаз.
Два словно бы игрушечных судёнышка неспешно ползли по ветру… Паруса были полосатые, красные с белым. Арни знал: такие паруса сшивают из множества полотнищ и для крепости ещё простёгивают тонким канатом. Не всякому шквалу под силу их разорвать.
Грозные паруса боевых кораблей…
День понемногу клонился к вечеру, и Арни видел, как корабли подобрались к острову и спрятались среди скал. Викинги не хотели на ночь глядя соваться в проливы и устраивались на ночлег. Это выглядело разумным.
Остров был тот самый, на котором люди Свана Рыжего разводили для своего вождя сигнальный костёр.
Мудрено ли, что Арни всю ночь крутился с боку на бок и думал о викингах! Но под утро его всё-таки сморило, и привиделась мать.
Светловолосая красавица вошла в пещеру и села возле огня, и Арни знал, что её звали Ингунн. Он очень плохо помнил свою мать, поэтому ему нравилось думать, что она была красавицей. Ингунн молча смотрела на него и только всё кивала головой, словно одобряла какое-то решение, которого он ещё толком не принял. Арни проснулся и пожалел, что опять не удалось с нею поговорить. Своя правда в этом была. Если он кое-как представлял её внешне, голос не задержался в его памяти вовсе. Слишком рано она умерла. Даже не успела рассказать ему об отце. А теперь не хотела говорить и во сне.
Арни был на неё за это немного сердит.
Его отцом долго считали Хёрда рыбака, утонувшего во время лова трески. Люди говорили, Хёрд был таким же молчаливым и имел похожую родинку на плече. Арни предпочитал зваться Ингуннарсоном. Скверный нрав имел Хёрд и вдобавок был трусоват. Когда Арни думал об отце, он неизменно вспоминал Свана. Вот чьим сыном он назвался бы с радостью. Хоть приёмным. А если не суждено, так и Хёрд здесь ни при чём.
Может, к Арни, как некогда к безродному Оттару, явится верхом на вепре ласковая Богиня Фрейя. Разбудит под землёй вещую великаншу и заставит рассказать ему о родне. Нет, навряд ли. Когда-то Боги и впрямь жили среди людей, но те дни давно миновали. И притом Оттар действительно был из хорошего рода, но только никто об этом не ведал. Арни родился рабом и сыном рабыни. Светлой Фрейе не о чем было бы ему рассказать.
Но он знал ещё и то, что родившийся невольником не всегда им умирал. Во все времена герои сами выращивали свою судьбу.
2
Пока Арни гнал коров вниз, ему почти не удавалось взглянуть, что делалось в море. И всё-таки он видел – корабли медленно ползли к берегу; они осторожно двигались на вёслах, и следовало думать, что на носу каждого стоял человек с гибким шестом, внимательно щупавший глубину. Боевой корабль не боится застрять на мели, но притаившийся камень способен его погубить.
Может быть, к вечеру они войдут в фиорд.
Арни срезал хворостину и принялся подгонять ленивых коров. Фридлейв хозяин наверняка прикажет спрятать стадо, чтобы викинги не перерезали на мясо весь скот. Корабли надо было опередить. Арни полагал, что это удастся.
Почему-то он был уверен, что первым принесёт вести во двор. Он ошибся. Едва его стадо миновало лесок, как навстречу верхом на лошади попался сам Фридлейв Богатей. Отсюда уже было видно устье фиорда, и Фридлейв всё оглядывался – не показались ли корабли. Мимо по дороге одна за другой катились повозки, нагруженные добром. Хозяин не надеялся оборониться от страшных гостей. Возницы надрывали глотки, крича на лошадей. И даже крепкий мохнатый конёк под Фридлейвом, обычно спокойный, чувствовал общее волнение, плясал и вертелся.
Заметив стадо, хозяин поскакал прямо к Арни. Было видно, что расторопность пастуха доставила ему облегчение.
– Гони к Трём Головам!
Первое, что делают викинги на чужом берегу, – ловят скот. Три Головы были невысокой горой, за которой, если её обогнуть, начиналась целая путаница теснин. Там легко могло спрятаться стадо в девять раз больше того, что гнал Арни Ингуннарсон. Конечно, спрятанное всегда можно найти, но для этого понадобилось бы изрядно углубиться в страну. А викинги очень не любят удаляться от берега, и всем это известно.
Арни уже начал поворачивать стадо, когда Фридлейв вернулся и велел отделить нескольких животных, притом не самых старых и жилистых. Они останутся во дворе вместе со съестными припасами. Викинги непременно должны найти чем поживиться. Может, тогда они хотя бы не спалят дом.
Три коровы сразу же истошно заревели, словно предчувствуя, что ничего хорошего их не ожидает. У Арни сердце облилось кровью, но он промолчал.
Мимо со скрипом и руганью катились повозки. Они тоже спешили к Трём Головам. На одной из них Арни заметил жену хозяина и троих его дочерей. Арни никогда с ними не ссорился. Другой повозкой правил старый раб, тот, что лучше всех знал целебные травы. Такого невольника Фридлейв, конечно, покинуть не мог. А рядом с повозкой, уцепившись за бортик, бежала Турид. Было вовсе не до того, но Арни задержал на ней взгляд. Ему не приходилось с ней разговаривать с самого прошлого лета, с того дня, когда погиб Свасуд. Но отчего-то радостно было думать: девчонку не бросили. Турид на миг обернулась. Только на миг. Арни закричал на коров. В суматохе он навряд ли справился бы с ними один, но помощники подоспели со всех сторон.
Большинство людей Фридлейва уходили, как и сам Арни, пешком. У хозяина было всего четыре повозки. И много больше добра, чем эти повозки могли уместить за один раз. Очень кстати пришёлся бы теперь Богатею его крутобокий и быстрый корабль; но корабль был послан на юг, в Вестфольд, с мехами, добытыми зимой, и не поспел ещё возвратиться…
Вечером Арни сидел в кустах на склоне горы и смотрел на фиорд. Некоторое время назад он понадёжнее привязал коров, проследив, чтобы всем хватило травы. Почесал каждой за ухом и между рогами. А быка хлопнул, как равного, по налитому плечу. Бурое страшилище, которое он когда-то сам выпоил молоком, потёрлось широченным лбом о его бедро и низко, глухо прогудело что-то на прощание… Арни убежал оттуда со всех ног. А то как бы не распустить сопли и не передумать.
Арни сидел на склоне горы и смотрел на фиорд. Лук и берестяной колчан висели у него за спиной. Сван Рыжий спросит его, многое ли он умеет из того, что необходимо для воина. Он ответит, что вроде неплохо бьёт в цель. По крайней мере, люди так говорят. Сван велит показать. Тогда Арни приложит одну стрелу к тетиве, другую схватит пальцами левой руки, а третью возьмёт в зубы. И выпустит их быстрее, чем Сван успеет сосчитать до трёх.
Солнце садилось прямо против устья фиорда, между горами. Оно било в глаза, и корабли выросли словно из ниоткуда посередине залива – один несколько впереди, второй следом за ним. Вечер был тихий, и парусов не ставили. Зато вёсла работали стремительно и быстро, взмахивая, как крылья, – корабли так и летели. Фиорды глубоки, здесь можно не опасаться камней.
Арни хорошо видел ощеренные драконьи морды на штевнях. И круглые щиты по бортам. Под щитами равномерно вспыхивали на солнце мокрые лопасти вёсел. Потом корабли вошли в тень прибрежной горы, и вёсла погасли. Только белые бурунчики вскипали под ударами и вновь пропадали. Над водой начал собираться туман, последние косые лучи полосами тянулись к берегу. Корабли с разгону выбежали на песок прямо против двора. Арни никогда не видел ничего красивее. И страшней. Люди выпрыгивали в мелкую воду и шли к воротам. Каждый нёс щит. А где щит, там неподалёку меч или топор.
Сердце гулко и часто заколотилось в груди, Арни понял, что это был страх. Он боялся туда идти. Не таким виделся ему долгожданный приход кораблей. Каким? Теперь он и сам не сумел бы твёрдо сказать.
Ворота во двор были предусмотрительно оставлены распахнутыми настежь. Викинги вошли внутрь ограды, и скоро над крышей хозяйского дома родился дымок зажжённого очага.
Арни поправил ремень колчана и зашагал вниз.
3
В доме шёл пир.
Мореходы стосковались по горячей еде, по жару огня; здесь того и другого было в избытке. Жаль только, хозяйские дочери не захотели повеселиться с ними за столом. Но и это невелика беда. Молодые воины ещё найдут себе жён.
В разгар веселья со двора послышался какой-то шум. Потом дверь отворилась. Двое викингов, оставленных снаружи, втолкнули в дом белобрысого парня в одежде раба. Один из воинов внёс отобранные у него лук и колчан.
Лук, как сразу отметили опытные глаза, был совсем не из плохих.
Головы начали поворачиваться. Сто человек разом смотрело на Арни. Одни весело, другие безразлично, третьи с раздражением.
И среди них не было Свана.
Не в силах поверить, Арни снова и снова обегал глазами длинный дом. Светловолосые, темноволосые, бородатые, безбородые… трое или четверо рыжих… все чужие. Свана не было.
Арни вдруг мучительно захотелось обратно на верхние пастбища, к коровам, в пещеру, туда, где чёрной стеной поднималась в тумане угрюмая Арнарбрекка…
Сидевший на почётном сиденье опустил рог, из которого пил:
– Кого ещё вы там поймали?
Он был молод. Ненамного старше самого Арни. Но если в Арни за сто шагов можно было распознать пастуха – этот с головы до пят был воином и вождём. Серебряные пластинки мерцали на рукояти его меча. Меча, который был частью его тела. И который Арни в руках-то держал всего один раз. Синие глаза смотрели не мигая, в упор. Вряд ли он перед кем-нибудь их опускал.
Старший из воинов усмехнулся в усы:
– Это здешний раб, Ве́мунд вождь, и мы его не ловили, он прибежал сам. Он говорит, что хочет видеть Свана Рыжего.
Тут уж на самых равнодушных лицах появилось удивление и любопытство. Вемунд откинул русоволосую голову и засмеялся:
– Свана Рыжего! А Хальвдан конунг ему, случаем, не нужен?
Шутка понравилась, захохотал весь дом.
– Ишь чего захотел, длиннопятый.
– А ну, раб! Вынеси-ка объедки!
– Если проголодался, так и скажи…
Большая полуобглоданная кость пролетела и шлёпнулась возле ног. Арни стоял неподвижно. Так вот какова была она в действительности, его мечта. Она сидела объевшаяся жареного мяса, захмелевшая от ячменного пива. И потешалась над ним на разные голоса. Следовало бы ему понять кое-что ещё во дворе, когда он увидел три коровьи шкуры, растянутые на заборе.
Оставалось только одно: поднять голову повыше… Арни так и поступил.
Вемунд вскинул руку, прекращая шум:
– Они называют меня Вемундом хёвдингом сыном Асбьёрна из Раумсдаля… и придётся тебе разговаривать со мной, поскольку Свана Рыжего здесь нет. А сам ты кто таков?
Сердце ухнуло в гулкую пустоту, Арни предвидеть не мог, что это-то окажется самым трудным – назвать своё имя. Имя безродного, не знающего, от кого был рождён. Он набрал побольше воздуха в грудь и словно шагнул вниз с Арнарбрекки:
– Есть пастухи у Фридлейва Богатея, есть среди них Арни Ингуннарсон.
Он сжал кулаки, ожидая новых насмешек. Но почему-то их не последовало.
– Арни, – повторил Вемунд вождь. – Созвучно слову Орёл! Странное имя для раба. Так чего ты просишь, пастух?
Арни сказал уже без всякой надежды:
– Говорят, я неплохо стреляю из лука. Возьми меня к себе на корабль.
Он посмотрел на руку в чёрных мозолях, державшую рог, покраснел и добавил:
– А грести я научусь.
Седобородый воин, сидевший поблизости от вождя, приподнялся со своего места:
– Вемунд, я его выкину за дверь…
Другой, молодой и одноглазый, без трёх пальцев на правой руке, крикнул из дальнего угла:
– Возьми мальчишку, хёвдинг! Из него получится толк!
Арни озирался. Длинный дом так и гудел.
– Тихо! – вновь перекрыл шум Вемунд вождь. Было видно, что он не прочь позабавиться. – Что ж, для меткого стрелка у меня место найдётся. Только придётся тебе сперва показать, такой ли ты на самом деле Орёл. Дайте ему его лук и поймайте какую-нибудь курицу во дворе!
И это он называл испытанием?.. Арни привычно закинул за спину колчан и пробормотал, не удержавшись:
– Я не привык стрелять в привязанных кур.
Вемунд перебил его, стукнув по столу кулаком:
– А я не привык, чтобы мне перечили пастухи!
Арни пожал плечами и уставился в пол. Не требуется большого искусства для охоты на кур. Но пусть будет так.
Долго ждать не пришлось. Скоро снаружи послышался хохот, и дверь вновь отворилась:
– Смотри, Вемунд, какая славная курочка… Уж очень ей хотелось взглянуть, весело ли у нас!
Арни обернулся…
Однажды он видел, как на другой стороне фиорда случился оползень. Люди рассказывали – накануне там появлялась какая-то старуха и ходила кругами против солнца, бормоча и плюясь…
В полной тишине половина горы вдруг заскользила вниз и накрыла работника, перегонявшего коз…
И лишь много мгновений спустя долетел страшный голос обвала!
Между двумя воинами на пороге стояла Турид.
4
Подле могучих парней она и впрямь казалась цыплёнком. Готовя потеху, викинги живо выволокли несколько столов и толкнули Турид к стене. Она прижалась к брёвнам спиной и замерла. Она смотрела на Арни, державшего в руках лук.
Арни сглотнул. Во рту было сухо. Он облизнул губы и негромко сказал:
– Я не стану в неё стрелять.
Вемунд расхохотался:
– Чего ждать от раба… Вы все трусы, невольники. Ладно, не убивай её, если так уж боишься. Но позабавить меня тебе всё-таки придётся. Если ты действительно не впервые стреляешь, ты сумеешь пригвоздить её волосы, не поцарапав щёк. И поживей, если не хочешь, чтобы я велел тебя выпороть.
Кто-то из викингов заворчал, осуждая такое решение. Но вслух возражать не стали. Одной рабыней больше, одной меньше, невелика беда, если будет что вспомнить.
Турид смотрела на Арни, не отводя глаз. Арни помедлил ещё некоторое время. Потом вытащил из колчана три стрелы. Одну он приложил к тетиве, вторую схватил пальцами левой руки, а третью приготовился взять в зубы. Чтобы выпустить их быстрее, чем кто-нибудь успеет сосчитать до трёх. Покрепче расставил ноги на утоптанном земляном полу.
– Долго возишься, – сказал Вемунд.
Арни повернулся к нему, и Вемунд потом говорил, будто взгляд пастуха сразу ему не понравился. Арни поднял лук и сказал:
– Я молюсь Уллю, Богу стрелков. И если моя рука дрогнет, значит он потребовал жертвы. Вот только не оскорбился бы Улль, что ему подарили рабыню. Сиди смирно, Вемунд хёвдинг, твои волосы мне нравятся больше…
Если он надеялся, что ему дадут это сделать, то надеялся зря. Сидевшие подле вождя мгновенно сорвались с мест, хватая оружие. А это они умели делать ещё быстрее, чем он мог стрелять. И стал бы этот миг для Арни последним, но Вемунд вскочил на ноги и гаркнул во всю силу лёгких:
– Не трогать!
Воины, привыкшие повиноваться, остановились. Потом стали усаживаться на места.
Арни стоял белый, как летнее облако. Но лука не опускал.
Вемунд сел. Положил ногу на ногу. Отхлебнул пива. И сказал спокойно:
– Стреляй, Арни Ингуннарсон. Не станут говорить, будто я боюсь пастухов.
…Ох, далеко же она была теперь, Арнарбрекка! Пасущееся стадо и дымный костёр под каменным кровом пещеры! Не было туда больше дороги. Шагнувшему в пропасть не вернуться с середины прыжка. Арни прицелился. Насмешливые синие глаза смотрели в упор. Они не мигали. Вемунд сидел нога на ногу и не спеша потягивал пиво. А в доме стояла тишина.
Арни смотрел на Вемунда и знал, что будет счастлив, если когда-нибудь станет таким… хотя бы вполовину таким…
Хотелось уронить лук и броситься на колени.
Арни спустил тетиву. Потом второй раз и третий, пока первая стрела ещё дрожала в стене. Он высыпал их, словно камешки из ладони. Это было легко. Гораздо легче, чем подбивать стрелу стрелой на лету.
– А ты мне нравишься! – сказал Вемунд хёвдинг. – Пожалуй, я и вправду возьму тебя на корабль. Садись с нами есть, мне по душе дерзкие щенки вроде тебя!
Сейчас ему трудновато было бы сразу вскочить: две стрелы касались древками его шеи, третья разрезала на виске кожаную повязку. Люди в доме зашевелились, стали переговариваться. Случившееся стоило того, чтобы запомнить.
– А мне не по душе хёвдинги, похожие на тебя!.. – крикнул Арни, и голос сорвался. – Такие, которые сперва унижают людей, а потом только смотрят, на что те годны!..
Он шагнул к Турид и крепко схватил её за локоть:
– Пошли!..
Арни шёл к двери, и качался пол под ногами. Он толкал перед собой Турид и как мог старался её заслонить. Он знал, что сейчас будет убит, иным кончиться не могло. Что это будет – меч, или копьё, или просто кулак тяжелее всякого топора? Какая разница. И Свасуд будет скулить лунными ночами над скалами Арнарбрекки, потому что никто больше не придёт его навестить…
Арни шёл к дверям и не видел, как за его спиной Вемунд вождь вскинул руку, смиряя своих людей. Вемунд тоже получил урок.
Арни уже потянулся к двери, когда за нею послышались голоса и топот копыт. Потом дверь распахнулась… Все сидевшие за длинным столом тотчас поднялись, в том числе Вемунд, приветствуя хёвдинга много старше себя.
И встал на пороге… В синей рубашке, шерстяном плаще и кожаных штанах. И были у него тёмно-медные волосы и такие же усы. И одна нога – деревянная ниже колена.
Он показался Арни выше ростом, чем в прошлый раз. Может быть, оттого, что тогда он так и не видел его толком во весь рост.
Сван Рыжий смотрел на Арни. Арни смотрел на Свана.
Потом викинг шагнул вперёд, сгрёб Арни в охапку и стиснул так, что в колчане хрустнули стрелы:
– Я ездил на Арнарбрекку и в Жилище Купца… Пастушонок, где ты пропадал?
Арни ничего не ответил, ибо лицо почему-то сделалось мокрым, и показывать это не годилось. Взрослый парень, рядом со Сваном он снова был маленьким мальчиком. Он никогда и не думал, какое это блаженство. Наверное, именно так и бывает, когда обнимает отец.
Потом он нечаянно коснулся его деревянной ноги и подумал, что Свана ранят ещё раз только в том случае, если он, Арни, не сумеет вовремя спустить тетиву. А этого произойти не могло.
А Турид стояла рядом с ним и не могла убежать, потому что он продолжал крепко держать её руку в своей. И выпускать не намеревался.
– Пастушонок, – сказал Сван, – я не спросил тот раз, как тебя звать…
Рассказ четвёртый
Орёл, сын Змея
Когда страной правят конунги, нередко бывает, что одного и того же человека попеременно считают то преступником, то героем. Это смотря по тому, кого рядом с конунгом окажется больше: его друзей или его врагов.
Вот и Свану Рыжему досталась такая судьба. Погиб в полынье Ха́львдан Чёрный из рода И́нглингов, объявивший его вне закона, и Вестфольдом и другими владениями Инглингов стал править молодой Ха́ральд. Этот конунг во многом походил на отца. Но не во всём.
Хальвдан думал объединить страну, чтобы иметь побольше земель, но мало что из этого вышло, кроме ссор с могущественными людьми.
Харальд тоже хотел править повсюду от Вестфольда до Халогаланда. Он сразу же разослал весть, что не собирается продолжать немирье со всеми, с кем враждовал его отец. Он пригласил вернуться многих изгнанных из страны. И в том числе Свана.
Харальд замышлял большие дела, ему нужны были сторонники.
Сван Рыжий как раз гостил в Раумсдале, у Вемунда сына Асбьёрна, своего побратима. Стояла глухая зима, и океан был чёрным от непогоды. А фиорды стыли в сумрачной белизне, забитые льдом. И кто-нибудь другой предпочёл бы дождаться весны и тепла – но только не Сван. Сван приказал прорубить лёд и спустить на воду корабли. Пусть видит конунг: он звал к себе человека, которого следовало позвать.
Вместе со Сваном отправился в путь и Вемунд на своём корабле. И ещё приёмный сын Свана – Арни по прозвищу Стрелок. Про этого Арни говорили, будто он впрямь искусно стрелял. И для него это был первый настоящий поход.
Зимнее плавание по морю редко проходит спокойно; но в тот раз Свану была удача во всём. Харальд конунг ждал его и принял радушно. Сван Рыжий был сильным врагом, из такого получится надёжный союзник. Харальд зимовал нынче в Северном Мёре, на острове Лю́гра. Сван когда-то расправился с прежним хозяином Люгры – Тордом Козлом. За это-то Хальвдан конунг и объявил его вне закона по всей стране. Но теперь здесь жили совсем другие люди, и викинг не держал против них зла.
Арни, которому иногда ещё снились по ночам коровы, приглядывался к новому месту и множеству незнакомых людей. Потом оказалось, что и к нему тоже приглядывались.
Как-то вечером его отозвал в сторону человек с лицом, испещрённым целой сетью морщин. Когда он улыбался, по загорелой коже бежали белые трещинки. Он выглядел бы стариком, если бы не эта улыбка. И ещё глаза, зоркие по-молодому. И руки, когда он брал в них арфу и начинал говорить песнь. Арни знал уже, кто это такой: Альвир Хну́ва, ближний друг конунга и прославленный скальд. И даже Сван его уважал.
– Тебя называют сыном Свана, – сказал Альвир скальд. – Но не видать по тебе, чтобы ты вырос на корабле.
Арни ответил:
– Я приёмный сын, и Сван совсем недавно ввёл меня в род. А родился я невольником и был пастухом.
Скальд кивнул:
– Вемунд рассказывал, как ты его проучил… Хороший наследник будет у Свана. Ты нравишься мне, и я думаю, что ты не обидишься, если я тебе скажу, что знавал человека, на которого ты похож гораздо больше, чем на Свана. Хотя и на Свана ты тоже очень похож…
Арни растерянно молчал, не зная, что и сказать. Альвир Хнува повёл его к морю, на пристань. Холодные серые волны медленно разбивались о дубовые сваи, припорошенные снегом. Альвир подошёл к самому краю и указал пальцем на промёрзший деревянный настил у себя под ногами:
– Вот здесь погиб человек, про которого я говорю.
1
– Восемнадцать зим назад, – сказал Альвир скальд, – стояли такие же холода. И фиорды были забиты льдом, а по берегам лежал снег. И только тот выходил в море, кого гнала из дому нужда.
Вот уже много ночей с юга на север вдоль берега шёл запоздавший корабль… Это был торговый корабль под синим парусом, чтобы не лезть на глаза викингам и иным отчаянным людям. А хозяин корабля звался Скьёльдом Купцом. И он возвращался домой из Вестфольда, где торговал целое лето и даже не собрался вовремя отплыть.
У него на корабле было много народу – свои работники и ещё другие люди, припозднившиеся в пути. Каждый из них заплатил Купцу звонким серебром за место на деревянной скамье. Корабль приставал к берегу, и одни путники поднимались на палубу, другие уходили на берег.
Когда Скьёльд остановился в Южном Мёре, у одного населённого мыса, к нему проводили молодую девушку по имени Ингунн дочь Бранда, желавшую добраться в Северный Мёр.
– Оттуда весной будет судно в Исландию, – так объяснила Купцу сама Ингунн. – Туда перебрались все родичи, а здесь у моего воспитателя и дом и двор размыла река…
Скьёльд сказал:
– А две марки серебром у тебя найдётся?
Ингунн всплеснула руками:
– Как же я проживу зиму, если отдам тебе всё, что у меня есть?..
– Уступил бы ты, Скьёльд, – проворчал кто-то из корабельщиков, но Купец виду не подал, что слышал эти слова. Он-то знал, что другого корабля в Северный Мёр не будет до лета, и пусть девчонка расплачивается, если хочет увидеть родню. Кончилось тем, что он принёс весы, и серебро исчезло в его кошеле. Скьёльд указал Ингунн одну из скамей:
– Будешь сидеть рядом с тем парнем в войлочной шапке.
Корабль между тем готовился отплывать, и Ингунн дочь Бранда пошла и села там, где ей было указано. Человек в шапке молча подвинулся к борту, освобождая ей место. Мельком глянул на неё и вновь опустил голову, кутаясь в плащ…
Но от этого короткого взгляда у Ингунн пробежал по спине холодок. И она оглянулась на берег, уже отодвигавшийся прочь, за полосу дымной чёрной воды. Никогда прежде ей не бывало так страшно. Если этот человек посмотрит на неё ещё раз, непременно что-то случится. Она не знала, хорошее или плохое. Но случится обязательно, и от этого было вдвое страшней.
На ночь Скьёльд остановился у безлюдного побережья. В заледенелых утёсах бродило чуткое эхо, и люди невольно понижали голос, беседуя друг с другом. Спать же легли прямо на палубе, под скамьями. А чтобы не сыпался снег, натянули сверху пёстрый шерстяной шатёр.
У каждого, в том числе и у Ингунн, было при себе тёплое одеяло или плащ, но холод донимал беспощадно. Ингунн пыталась поплотнее сжаться в клубочек, не смея перевернуться на другой бок: не потревожить бы угрюмого соседа, страшно подумать. Потом неожиданно её, полусонную, обняло мягкое тепло… Ингунн расправила затёкшие ноги, и добрый сон быстро перенёс её домой.
Она открыла глаза, когда в тучах забрезжил неяркий поздний рассвет. Поверх её плаща лежал чужой плащ. Человек в войлочной шапке сидел на своём месте возле борта. Он хмурился, щупая сквозь меховую куртку свой правый бок.
Ингунн приподнялась на локте:
– Спасибо тебе… Вот твой плащ.
Он даже не повернул головы:
– Оставь у себя.
Вот так она впервые услышала его голос. А сказано это было сквозь зубы и нехотя. Ингунн попробовала возразить:
– А как же ты?..
– Я сказал, оставь у себя!
Он явно не привык, чтобы с ним спорили. Ей очень хотелось чем-нибудь его отдарить, но как это сделать, Ингунн не знала. Спросить, не болит ли бок, не надо ли помощи?.. Наверняка он ответил бы – не твоё дело. Или ещё как-нибудь вроде того.
Поэтому Ингунн промолчала…
Следующие две ночи она вновь спала под его тёплым плащом, и спалось ей хорошо. И за всё это время они не обменялись ни словом. Ингунн только и вызнала у мореходов, как его звали: Одд.
По крайней мере, так он разрешал себя называть.
А потом налетел тот шторм…
* * *
– Откуда же ты всё знаешь?.. – спросил Арни, волнуясь. – Ведь это было давно!
– Я был там, сын Свана, – ответил Альвир скальд. – И я сам видел всё то, о чём сейчас говорю.
– Но откуда же ты знаешь, о чём она подумала? И почему промолчала? Ты с ней говорил?..
– Плохим был бы я скальдом, если бы не привык всматриваться в людей, – проговорил Альвир негромко. – И многое замечать, скрытое от других. И я сразу понял, что они полюбили друг друга тотчас же, как только встретились на корабле. И что суждено им было от этого великое счастье и великая беда…
Тут сзади подошёл Сван Рыжий. И остановился послушать.
2
– Мы видели, как подходил шторм, – сказал Альвир скальд. – Тучи опускались всё ниже, а потом по воде побежала тёмная полоса…
– Вели подобрать парус, Купец, – посоветовал Одд.
Он редко открывал рот по пустякам, и многие нашли, что он был прав. Скьёльд же ответил:
– Не ты хозяин здесь, на корабле.
Одд промолчал, но тут шквал налетел, и кораблю едва не пришлось остаться без мачты.
Тёмное небо понеслось над самой водой, цепляя верхушки волн. Бешеный ветер нёс пригоршни снега. В снастях выла стая волков. Дочери морского Бога Ньёрда заглядывали через борта.
Но всё бы ещё ничего, если бы у рулевого весла сидел умелый и опытный кормщик. Скьёльд же, как скоро стало понятно, куда больше привык браниться на прибрежном торгу, чем в бурю править нагруженным кораблём. Да и за самим кораблём можно было бы ухаживать получше. Шторм заставлял его стонать и скрипеть, и в плохо проконопаченные швы сочилась вода.
Когда Скьёльд в третий раз подставил волне борт и у промокших людей стали появляться на одежде сосульки – Одд поднялся на ноги и пошёл к нему на корму. Сидевшие ближе других потом утверждали, будто он при этом сказал:
– Нечего всем гибнуть из-за того, что один глупец здесь хозяин.
Скьёльд и в этот раз не пожелал ему уступить. И – полетел на палубу, сбитый с высокого кормового сиденья. Он не смог отползти далеко, потому что загодя привязался верёвкой. Вот и пришлось ему сидеть здесь же у борта и слушать, как Одд приказывал его людям.
А у Одда это получалось неплохо.
Он стоял на корме как приросший, и качка не могла его поколебать. Он сразу велел спустить парус до половины и подвязать его снизу – корабль пошёл ровнее и легче, и волны перестали захлёстывать.
– Женщины пусть возьмут вёдра и вычерпывают воду!
Тогда открыли трюм и увидели, что туда уже набралось порядочно воды. Ингунн первой спустилась под палубу и принялась за работу. Руки тотчас же занемели от холода, а потом и ноги, потому что стоять приходилось прямо в воде. Вёдер оказалось мало, и в ход пошли кожаные шапки мужчин. Постепенно вода перестала прибывать, и появилась надежда.
Так продолжалось весь день и почти всю ночь. Одд никому не позволил сменить себя у руля. Правду сказать, охотников было немного. У него посинели руки, державшие прави́ло, и кто-то отдал кормщику свои рукавицы. Одд поблагодарил кивком.
Глядя на него, люди верили – где-то там, впереди, ждала безопасная гавань, и он не ошибётся, направляя туда корабль. Под утро ветер унёс войлочную шапку у него с головы, и стал виден длинный рубец на лбу, рассекавший левую бровь.
Ингунн продолжала вычерпывать воду, но если бы у неё было время оглянуться – она бы непременно подумала, что Одд не зря показался ей значительным человеком…
Зато Скьёльд внимательно посмотрел на его шрам. И на то, как он держал руль. И ничего не сказал.
Перед рассветом вдали заревел прибой, потом в темноте показались белые буруны.
– Это Люгра! – прокричал Одд.
Волны яростно кипели у скал, и он увёл корабль к подветренному берегу, где было потише, и велел взяться за вёсла.
С этой стороны скалы выглядели не такими крутыми, но пристать оказалось не легче: мёртвая зыбь с грохотом врывалась на песчаную отмель. Присмотревшись, Одд развернул корабль к берегу и приказал сесть по двое на весло, чтобы грести как можно сильней. Опытные мореходы поняли, для чего это делалось, и приготовились не жалеть рук.
Между тем их заметили с острова. В предутреннем сумраке ярко загорелись костры, и кто-то уже спешил с факелами к воде – выручать попавших в беду.
Потом Одд облюбовал волну вдвое выше других и велел грести так, чтобы трещали борта. Волна догнала корабль, и Одд сумел её оседлать, потому что люди хотели спастись и старались что было сил.
Кто-то задел веслом дно, и тяжёлая рукоять сбросила со скамьи обоих гребцов. Но дело уже было сделано: судно перелетело через гремевший о камни прибой и с маху пробороздило килем песок. Одд первым выскочил через борт и упёрся плечом. Жители острова подоспели на помощь: множество рук подхватило корабль и живо втащило подальше на сушу, туда, где море больше не могло его достать.
– Я хозяин острова Люгра, и называют меня Тордом Козлом, – переводя дух, сказал рослый бородач. – Мой дом здесь поблизости, и очаг уже разожжён!
Он обращался к Одду, явно сочтя его старшим на корабле. Но тут подошёл Скьёльд:
– А я зовусь Скьёльдом Купцом из Жилища Купца, что в Овечьей Долине. Неужели ты, Торд, меня не узнал?
Немногие оставшиеся на корабле начали выбираться. Ингунн, всё ещё сжимавшая в руке деревянное ведёрко, попыталась подняться с колен – и не смогла. Она только тут почувствовала, как вымокла и замёрзла. Ноги не слушались, в ушах стоял звон. Ингунн заплакала, решив, что сейчас все уйдут греться и бросят её одну. Но тут в трюм заглянул Одд. Увидел её там и вынес на берег на руках…
* * *
– Я знаю, что было дальше, – хмуро проговорил Сван. Но скальд покачал головой:
– Многое ты знаешь, Сван Рыжий, однако не всё. Потому что тебя не было здесь тогда. А я был.
3
– Торд принял нас хорошо, – рассказывал Альвир. – Он накормил всех и дал обсушиться. А спать отвёл в просторную ригу, на сено, потому что в доме без нас народу хватало. Мы и устроились все вместе, как прежде на корабле.
Ингунн куталась в пушистое волчье одеяло, но крепко заснуть не могла. Замёрзшие руки и ноги в тепле отошли и мучительно ныли. В полусне возникали размытые, зловещие лица. Ингунн вздрагивала и просыпалась.
Очень хотелось, чтобы скорей наступило новое утро. Но спать легли рано, и до рассвета было ещё далеко.
Среди ночи тихонько отворилась дверь, и вошёл Торд хозяин и с ним Скьёльд Купец. Скьёльд держал в руках головню. Ингунн ни с того ни с сего почувствовала ледяной страх и съёжилась, замерев. Но они никуда не пошли от двери. Скьёльд оглядывался, вытянув шею. Потом толкнул хозяина локтем и провёл пальцем по своему лбу, через левую бровь. Торд кивнул, и Скьёльд показал ему глазами в один из углов. Торд присмотрелся и снова кивнул. Они вышли так же тихо, как вошли. И бережно притворили за собой дверь…
Ингунн долго не осмеливалась пошевелиться. Сердце отчаянно колотилось. И ноги почему-то перестали болеть. А может, и не перестали, просто она больше не слушала их жалоб. Наконец она поднялась и скользнула в тот угол, куда показывал Скьёльд. Она уже знала, кого там найдёт.
Одд, казалось, крепко спал, зарывшись лицом в мех. Ингунн наклонилась и протянула руку, намереваясь тронуть его за плечо.
Одд мгновенно повернулся к ней и как клещами стиснул запястье. Глаза у него были свирепые. Ингунн едва не вскрикнула, но клещи тотчас разжались: он узнал её и увидел, что в руке не было ножа.
– Это ты, – пробормотал он голосом, хриплым спросонья.
Ингунн, ослабев, опустилась в мягкое сено. У неё дрожали губы, было почему-то обидно. Он всё-таки помял ей руку, кровь медленно возвращалась в кончики пальцев. Одд тоже сел и взял её руку в свою. А потом обнял её за плечи, и Ингунн закрыла глаза, потому что по щекам поползли слёзы.
А больше всего ей хотелось, чтобы он никогда не разжимал рук.
– Я шла тебя разбудить, – сказала она тихо. – Скьёльд сюда приходил с Тордом Козлом… Он показывал ему тебя… Одд, я за тебя боюсь…
Одд кивнул. Он долго сидел молча, потом проговорил:
– Не так меня зовут, как тебе кажется. Чаще меня называют Ормом, а ещё Ормом-со-Шрамом, потому что у меня рассечён лоб.
Орм значит Змей, подумала Ингунн. И мне всё равно, кто ты на самом деле: викинг, которого боится всё море, или просто Одд в войлочной шапке…
– Я поссорился с людьми Хальвдана конунга, которые опились пива и стали меня задирать, – сказал Орм. – Я был там один. Я был ранен и отлёживался у человека, не захотевшего меня выдать. А теперь я добираюсь домой… в Халогаланд.
Ингунн подумала о том, что ей могло показаться. Что Скьёльд, узнавший викинга, вовсе не замышлял ему худа. Или даже наоборот – показывал его Торду, чтобы тот оказал Орму-со-Шрамом приём, достойный вождя…
Ей очень хотелось в это поверить. Она сказала:
– А может быть, всё обойдётся?..
– Может быть, – сказал Орм. И добавил: – Побольше бы мне удачи, не в Исландию бы ты отсюда поехала.
Темень в риге, наполненная дыханием спящих, нависла над Ингунн, словно готовая рухнуть скала… Орм не надеялся увидеть свой северный берег ещё раз.
И тогда Ингунн выговорила совсем тихо:
– Не так велика будет неудача, если останется сын.
Утром к Орму, лежавшему с открытыми глазами, подошёл Скьёльд.
– Шторм приутих, – сказал он шёпотом, чтобы не разбудить спавших вокруг. – Прошу тебя, помоги перегнать корабль к пристани. Ты, как я помню, ловко с ним управлялся.
Орм поднялся на ноги и молча пошёл за ним. Но от самой двери вернулся, сказав, что забыл рукавицы. Скьёльд вышел наружу, пообещав подождать.
Тогда-то Орма поймал за рукав молодой парень, не спавший всю ночь. Это его сбросило веслом со скамьи, и в ушибленной груди тяжело хрипел кашель. Он возил в своей котомке звонкую арфу, и люди считали, что он неплохо рассказывал песни.
– Будь осторожен!.. – с трудом выговорил молодой скальд. – Недобрыми глазами смотрит на тебя Скьёльд…
Орм вышел за дверь.
А Ингунн крепко спала под его тёплым плащом.
Первыми, кого он увидел во дворе, были Торд хозяин и Скьёльд Купец. И с ними десятка два людей Торда – все снаряжённые, точно на битву.
– Я-то думал, я в гостях у тебя, Козёл!.. – усмехнулся Орм, когда они шагнули к нему все разом. Он был безоружен: его меч остался далеко, там, где его ранили конунговы люди. Он сказал: – А ты, Купец, сражаешься так же искусно, как водишь в море лодью. Следовало бы тебе заманить меня подальше отсюда. А то как бы твои корабельщики, Скьёльд, не проснулись да и не надумали за меня заступиться!
Потом он сказал ещё:
– Дома у меня подрастает брат. Он рыжеволосый, и зовут его Сван. Запомни хорошенько это имя, Козёл. И ты, Скьёльд, запомни…
И видевшие говорили потом, будто с этими словами он выхватил топор из рук у того, кто стоял к нему ближе других. И бросился вперёд, не дожидаясь, пока те наконец решатся напасть.
Молодой скальд действительно разбудил всех мореходов. И многие сразу схватили оружие и бросились в дверь – им тоже показалось несправедливым убивать человека, выручившего всех из беды. Хотя бы он был вне закона и враг самому Хальвдану Чёрному из рода Инглингов. Конунгу Вестфольда, Эстфольда и обоих Мёров…
Они никого не нашли во дворе и побежали на пристань, откуда слышались голоса. Но бежать уже не было надобности. Орм-со-Шрамом лежал на стылых брёвнах, запорошенных снегом, и его кровь смешивалась с морской водой. А нападавшие стояли вокруг, тяжело переводя дух. Четверых среди них недоставало.
Орм узнал Ингунн, когда она оттолкнула с дороги кого-то из вооружённых мужчин и рванулась к нему. Он сказал:
– Будет сын, назови его Арни.
* * *
– Я думал потом, отчего он не кликнул на помощь, – продолжал Альвир Скальд. – Наверное, он видел, что нас было меньше. Да и в бойцы мы после шторма плохо годились. Вот он и решил: зачем гибнуть многим, если нужна была одна его жизнь. И ещё он хотел, чтобы Ингунн всё-таки попала домой.
– Как они выглядели? – спросил Арни. – Он… и моя мать?
Скальд ответил:
– Я уже плохо помню их лица, ведь это было давно. Только то, что оба казались мне очень красивыми, и он и она.
Арни молча пошёл прочь. Он держался неестественно прямо. Сван проводил его глазами. Арни сел на деревянный настил и стал смотреть в море. Море по-прежнему катило серые волны, низкие облака роняли редкий снежок. Восемнадцать зим назад на этом самом месте плакала его мать. А может быть, и не плакала, но мало кто отважился бы заглянуть ей в глаза. И она не знала, что Скьёльд не получит от конунга никакой награды за предательство человека, спасшего ему жизнь. И, раздосадованный неудачей, продаст её как рабыню своему соседу – Фридлейву Богатею, и злым делом назовут это люди. И там, в неволе, у неё родится сын, и она назовёт его – Арни. И умрёт молодой, не успев рассказать ему об отце…
– А не приврал ли ты, скальд? – спросил сумрачно Сван. – Я ведь со многими беседовал и знал почти всё, о чём ты тут толковал. Но я ни от кого не слышал про девушку. Только от тебя одного!
Альвир спокойно выдержал его взгляд:
– Других ты расспрашивал о гибели брата, а не о его любви. Я слыхал, твоего сына ждёт дома невеста. Пускай же у них будет сын Орм, если не врут люди и это действительно так.
Сольвейг и мы все
Историческая повесть
Теперь я спрашиваю себя: уж не Всеотец ли послал мне Торгрима, испытывая, хорошим ли станет вождём Эйрик сын Эгиля сына Хаки из Хьялтланда… Могучий Один, Отец Богов и людей, вечно стар. У него длинная борода и всего один глаз. Людям кажется, будто второй глаз он отдал вещим норнам, с тем чтобы они позволили ему напиться из источника мудрости, клокочущего под корнями Мирового Древа.
Был ли то просто залог, как думают люди? Или столь горек на вкус оказался дарующий мудрость напиток, что даже славнейший из Асов не смог его вынести и сам в муке вырвал собственный глаз?
1
В тот год мы зимовали в Раумсдале, у одного крепкого бонда по имени Гуннар. Мы – это Хёгни ярл и все викинги, ходившие на трёх его кораблях. И я, его воспитанник.
Много славных обычаев завещали нам предки. Но самый славный – тот, что велит родовитым людям отдавать детей на воспитание менее знатным. Всё в нем: и великая честь, и доверие к младшему товарищу по прежним походам. И добрая наука для мальчишки, которого называют сыном вождя.
Вот и я рос не дома – в Хьялтланде, на Островах, – а у старого Хёгни. А Хёгни ярл часто бросал якоря во владениях Гуннара бонда, когда приближалась зима и с нею пора вытаскивать корабли. Гуннар был всегда рад нас принять. Мы ведь приходили к нему не с пустыми руками. Хёгни каждое лето водил нас в походы и когда торговал, когда грабил. У него нигде не было земли и своего дома. Но зато на Гуннаровом дворе его слушались как самого хозяина. Мудрено ли – морской ярл! Хёгни даже поселил у него единственного человека, который звал его родичем и которого старый ярл берёг ещё больше, чем свои боевые корабли. У Гуннара жила его внучка, юная Асгерд. Мы с ней выросли вместе. Мы очень дружили, и называли нас женихом и невестой. Я с детства знал, что попрошу её у старого Хёгни себе в жёны, когда подрасту.
И вот теперь я был взрослым, я видел уже шестнадцать зим, и, наверное, всё случилось бы так, как мы тогда оба хотели.
Если бы не пришёл Торгрим…
День, когда всё началось, выдался непогожим. Морской великан Эгир, повелитель подводной страны, с самого утра заварил в своём котле неистовый ветер. Тяжёлые зимние волны, как водится, пробудились не сразу. Но к вечеру даже во дворе сделалось слышно, как за сторожевыми скалами фиорда ревел и бесновался прибой. Морской великан пробовал раскачать гранитные берега, но нет, этот корабль был слишком остойчив. Тогда Эгир нагромоздил в небесах чёрные тучи, и снежная буря обрушилась на фиорд.
Мокрые хлопья летели сплошной пеленой. Они слепили сощуренные глаза, липли к одежде и впивались в лицо, точно железные иглы. В такую погоду разумные люди предпочитают сидеть дома. За толстыми земляными стенами, у светло горящего очага. И рассказывать о чём-нибудь, заняв руки работой. И радоваться, что не пришлось угодить в эту бурю за три дня пути от ближайшего жилого двора…
Другое дело, никто из нас, молодых, нипочём не захотел бы в этом сознаться.
Когда стало темнеть, всех принял новый длинный дом, где Гуннар хозяин устраивал домашний тинг и пиры. Стены дома изнутри были бревенчатыми, а снаружи – из земли и камней. Крышу, подпёртую прочными столбами, выстилал дёрн. Оттого летом длинный дом походил на громадный валун, скатившийся с ближних гор и обросший зелёным мхом и травой. А зимой, заметённый по крышу и окружённый сугробами, – на сугроб. И во всякое время года он походил на корабль.
Просторный дом гостеприимно вместил всех, даже рабов. Рабы устроились по углам, возле входной двери. Разложили для починки старую сеть и тихо разговаривали между собой, стараясь не мешать.
Я хорошо помню, что Хёгни ярл сидел на почётном сиденье, между резными родовыми столбами. На это место в любом доме сажают самого знатного, будь то хозяин или его гость. А я принёс с собой медвежьих сухожилий и плёл для лука новую тетиву, забравшись с ногами на широкую лавку. Скоро уже рабыни приготовят вечернюю еду и внесут в дом столы.
Вот так мы сидели все вместе по праву свободных людей, и Кари сын Льота рассказывал о своей молодости и о разных приключениях, которые с ним бывали. Обо всём этом мы слышали прежде не один раз и не два. Но Кари умел говорить занятно, и его рассказы не надоедали.
Кари недавно встретил свою сороковую зиму. Но женщины по-прежнему считали его красивее иных молодых. Кари был вправду хорош собой и любил дорогие одежды. Но не за красоту выделял его Хёгни ярл, а за бесстрашие и умение сражаться. Он ходил кормщиком на его корабле и, как говорили, знал толк в кораблях. А мы называли его – Хольмганг-Кари, то есть Поединщик. Это за то, что он в молодости нередко пугал людей, притворяясь бе́рсерком.
Берсерк!.. Слово как хриплый боевой клич… Одетый в медвежью шкуру – вот что оно означает. Берсерк – это неистовый воин, в котором скрытно живёт дух предка-медведя. В сражении или просто в мгновение гнева этот дух может проснуться. Тогда берсерк теряет речь и только страшно рычит. Он истекает пеной и кусает свой щит. Он не чувствует боли от ран. И когда доходит до схватки, такой воин стоит сотни обычных, потому что по сути он уже не человек, а волшебный медведь. Бывает, такими рождаются, бывает, становятся, и не всегда по собственной воле. Всякий вождь, за которым следуют один-два берсерка, считает, что удача его велика. Однако берсерки неуживчивы и часто скитаются сами по себе, вызывая людей на поединки и отнимая жён и добро. За это их многие боятся и мало кто любит.
Наш Кари в своё время путешествовал таким образом по всему Вику, от Хисинга до Скирингссаля, и никто не смел поспорить с ним лицом к лицу, хотя он лишь притворялся.
Вот каков был наш Поединщик, и вот о каком былом он весело рассказывал, когда со двора вдруг послышался остервенелый лай собак. В подобную ночь собаки не станут выскакивать по пустякам. Помнится, Кари замолк на полуслове. А я сразу подумал о медведе, которого чья-то неосторожность подняла из берлоги и погнала, тощего, страшного, в свалявшихся космах, к человеческому жилью на разбой. А может, сам белый Хозяин Льдов приплыл к берегу на подхваченном ветром обломке? Такое бывало.
Псы, казалось, хотели и не отваживались напасть. И что-то чужое упрямо шло к нашему порогу сквозь это рычащее, задыхающееся от ненависти и страха кольцо…
Наверное, не я один подумал тогда о медведе. Все повернулись к двери, и многие потянулись к оружию, висевшему на стенах. А рабы положили сеть и подняли засов.
Сырой вихрь ворвался в дом. Пламя очага взвилось и яростно зашипело. Во дворе было темно. Несколько человек подхватили копья и вышли наружу с горящими головнями в руках. Было слышно, как они закричали на собак. А потом вернулись в дом, ведя с собой человека.
Он был высокого роста, худой и широкоплечий. Он держал в руках свои лыжи. Громадный пёс прижимался к его коленям, показывая клыки не намного короче боевых ножей. От этих-то клыков с воем отскакивали наши сторожа. Однако хозяин пса вовсе не походил на охотника, заплутавшего в погоне за зверем. Нет. Он хорошо знал, куда шёл и зачем. И он добрался, куда ему хотелось. А на боку у него в чехле висела секира.
Такие странники появляются из темноты и вновь исчезают куда-то, но память о них всегда задерживается надолго…
Он стоял возле двери и молча смотрел на нас, сидевших по лавкам. А мы смотрели на него. И тут оказалось, что мою Асгерд его приход околдовал меньше всех. Я и не приметил, когда это она сорвалась со своего места рядом со мной. Живо сбегала на другой конец дома, где готовилось угощение. И вернулась с большой чашкой горячего отвара.
Незнакомец был мокрый, хоть выжми, и одежда на нём вся заледенела. Он рукой ободрал лёд с бороды, стащил меховую шапку. Он был темноволосый, с неровными седыми прядями на макушке. Словно кто взял белой краски и мазнул его по голове. Впрочем, он был моложе, чем выглядел. Я это понял по глазам.
Он взял у Асгерд горячую чашку и долго держал её в руках, отогревая ладони. Руки были большие и красные. Он плеснул в огонь, жертвуя духу приютившего его очага. И тихо сказал:
– Покорми и Серого, красавица, если ты так добра.
Я был среди тех, кто сразу подошёл рассмотреть незнакомца поближе. Я сделал это ещё и потому, что боялся, как бы улёгшийся волкодав не набросился на мою бесстрашную Асгерд. Но, видно, пёс был измучен не меньше хозяина. Она поманила его, и Серый покорно поплёлся, оставляя на полу цепочку мокрых следов. Я взял у пришельца меховую куртку и повесил на деревянный гвоздь в стене. Потом я повёл его к хозяйскому месту. Пусть Гуннар бонд и старый ярл примут его как надлежит.
– Будь гостем, – сказал ему мой воспитатель. – Это дом Гуннара бонда сына Сиггейра, а я зовусь Хёгни сыном Хедина, морским ярлом. А ты кто?
Человек посмотрел ему в глаза и ответил:
– Люди зовут меня Торгримом.
Я ждал – и все ждали, – чтобы он назвал имя своего отца. И землю, где был рождён. Тогда мы знали бы, кто это такой пожаловал и чего от него ждать. Но Торгрим молчал. И я уже видел, что его молчание пришлось не по нраву старому ярлу. Я хорошо знал своего воспитателя. Торгриму не видать от него ни доверия, ни любви.
Но мне, привыкшему к мудрости старого Хёгни, впервые не захотелось с ним соглашаться… Торгрим чем-то понравился мне. Быть может, тем, что назвал красавицей мою Асгерд. Я любил её. Но другие люди смотрели на неё обычными глазами. И видели просто круглолицую девочку со смешными конопушками на носу…
Я повёл Торгрима с собой, чтобы дать ему сухую одежду. Я был вдвое моложе его, но тоже не из маленьких. И пока мы шли, он вдруг сказал мне:
– Так, значит, вот каков сын Эгиля конунга сына Хаки, которого, как я слышал, недавно внесли в могильный курган.
Я удивился таким словам и ответил:
– Ты не ошибся, пришелец, не пойму только, откуда тебе меня знать. Ты же меня ни разу не видел.
У Торгрима глаза сидели глубоко под бровями, и оттого казалось, будто он всё время угрюмо смотрел исподлобья.
– Я видел твоего отца, и этого достаточно. Ты похож на конунга. У тебя то же лицо.
И эти речи озадачили меня ещё больше, потому что до тех пор меня чаще называли похожим на мать. Я любил свою мать. Я всегда привозил ей подарки, когда мы заходили на Острова. Однако для воина больше чести продолжить собою отца. И я был благодарен Торгриму за то, что он первым подметил моё сходство с отцом и сказал о нём вслух.
А когда он примерял мою рубашку, ему случилось оступиться впотьмах, и я увидел шрамы у него на спине.
Очень давнишние, они тянулись вдоль хребта, как две толстые белые змеи… И, как две змеи, шевелились при каждом движении. Я поднял было руку… и не посмел притронуться к ним. Что могло оставить такие следы? У меня мелькнула было догадка, но я её сразу отбросил. Нет. Не уходит живым тот, кому запустил когти в спину «кровавый орёл»…
Я спросил его:
– Что это такое у тебя на спине?
Он замер с моей рубашкой в руках. Словно почувствовал внезапный удар и пытался понять, не смертельную ли рану ему нанесли. Потом медленно повернулся. И проговорил неожиданно спокойно:
– Вот теперь я узнаю, умеет ли молчать сын конунга Островов.
Тут я подумал, что за всем этим, быть может, стояло какое-то бесчестье. Ведь рубцы на спине – совсем не то, чем хвастается воин. Но я ничего не сказал. И не то чтобы я побоялся сцепиться с ним в тесной каморке, куда мы забрались. Просто мне не хотелось зря его обижать.
За едой Торгрим коснулся моего локтя своим. И спросил:
– Кто это там сидит, такой рослый, с крашеными ресницами?
– Это Хольмганг-Кари сын Льота из Вестфольда, – сказал я ему. – И людям кажется, что мало проку ссориться с ним, потому что он почти что берсерк и умеет за себя постоять.
– Вот как?.. – усмехнулся Торгрим.
И я было встревожился, ожидая каких-то язвительных слов, назначенных рассердить нашего Кари. Так иной раз поступали пришлые задиры, которым вечно не терпится испытывать себя и других. Но Торгрим ничего не добавил, и тогда я сказал:
– А та, что покормила твоего Серого, – это Асгерд дочь Хальвдана сына Хёгни, нашего ярла. И я посватаюсь к ней, когда займу место отца.
Немало мужества надо для спора с бурями вроде той, что заметала снегом наш фиорд. И чем бы ни кончился такой спор, редко он проходит для спорившего бесследно.
Торгрим не показывал виду, но я-то подметил, как он замёрз. Он пил пиво и ел горячую рыбу, но согреться так и не смог. Ночью я слышал, как он ворочался, а потом начал кашлять. Он уснул только под утро, когда пришёл Серый и свернулся у него в ногах.
Я слышал всё это, потому что он лежал на лавке рядом со мной, под одеялом, которое я ему подарил. Если бы не нашлось лишнего, я отдал бы ему своё. Гость ни в чём не должен узнать недостатка. Гость живёт в доме, сколько пожелает, и уходит, когда ему захочется. И даже если этот гость – твой кровный враг и ты это знаешь. Торгрим мог не приглянуться старому Хёгни, но даже и он, мой приёмный отец, никогда не отважился бы прогнать его за порог!
Утром Торгрим поднялся с трудом… Он очень не хотел признаваться, что заболел, но, когда он выбрался из-под одеяла, его затрясло. Я сказал ему:
– Ты простудился.
Он посмотрел на меня и неохотно кивнул. Начинавшийся жар заставлял его судорожно, толчками вбирать в себя воздух. Я хотел принести мёда или сушёной малины, но он вдруг спросил:
– Куда ты положил мои лыжи?
Вот, значит, как он решил избавляться от хвори. Встать на лыжи и гнать себя без всякой пощады, пока не прохватит обильный исцеляющий пот… Не каждому это под силу, тут нужен крепкий дух и закалённое тело. Я подумал, что Торгрим был уже слишком болен для лыжного бега. Но я промолчал: он ведь вовсе не походил на человека, который нуждается в советах юнца. Я принёс ему лыжи и сказал:
– Я пошёл бы с тобой.
Старый Хёгни навряд ли похвалит меня, отпусти я его одного.
Снаружи было тихо… Над горами и морем неподвижно стояло серое небо. Лишь в одном месте в облаках желтела промоина, и оттуда тускло светило солнце, негреющее, медного цвета. Оно даже не отбрасывало теней.
За ночь похолодало, и мокрый снег превратился в наст, твёрдый, прочный, как боевой щит… Наст легко выдерживал человека, но кабанов и лосей ждали тяжкие времена. Обутые копытами ноги станут проламывать ледяную кору, и кровь окрасит следы, привлекая хищного зверя. И будут задыхаться и биться подо льдом глухари, закопавшиеся в снег накануне. И только волки, перекликаясь, погонят охваченную ужасом добычу…
Мы привязали лыжи к ногам и двинулись со двора. Я видел, каким усилием дались Торгриму первые сотни шагов. Болезнь ломала его, он то и дело вытирал слезившиеся глаза. По-моему, раз или два он даже приостанавливался в раздумье: а не повернуть ли назад, в приветливый дом, к пылающему очагу и пушистому одеялу… Но нет. Он только заставлял себя идти всё быстрей. Он был очень горд и упрям, я уже успел это понять. Я держался у него за плечом. Пусть ему кажется, что я вот-вот его обгоню. Некоторое время спустя мы неслись уже во весь дух, и Серый поспевал за нами, вывалив из пасти язык.
Наверное, Торгрим всё же хорошо знал, что делал. Его движения постепенно делались легче и слаженней, только лыжи со свистом неслись по гладкому насту. Поймать его здорового наверняка было непросто, даже теперь я не без труда шёл с ним наравне. Я смотрел ему в спину и думал о том, как извивались на этой спине белые змеи. Мне было жалко, что он не захотел рассказать.
Потом мы прошли лес и выбрались к морю.
Оно было пустынным до самого горизонта и чёрным, как воронёный металл. Только там и сям виднелись не то белые гребни, не то обломки льдин. Прибой всё ещё грохотал далеко внизу, у подножия береговых скал. Тяжёлые волны медленно рушились на камни, намораживая белые бороды на гранитные подбородки утёсов… Здесь Торгрим остановился и вытер лицо снегом.
– А ты совсем неплохо бегаешь, конунгов сын, – сказал он мне. – Теперь домой!
Почему-то он большей частью называл меня не по имени, а вот так – конунгов сын. Или как тогда в каморке: сын Эгиля. И мне это нравилось. Старый Хёгни предпочитал называть меня мальчишкой. А иногда ещё сопливым. И хотя всё это было одинаково справедливо, именоваться сыном конунга было приятней…
Дома я увидел, что Асгерд всё-таки заварила малину. И заботливо держала питьё на углях, чтобы не остыло. Я с досадой подумал, что Торгрим, пожалуй, откажется. Ладно, впредь наука, не лезь к старшему со своими хлопотами, покуда не просят. Но вышло иначе. Торгрим с удовольствием выпил, и я впервые увидел на его лице нечто вроде улыбки:
– Спасибо, красавица.
И она покраснела, моя Асгерд дочь Хальвдана сына Хёгни. А Торгрим сразу пошёл на своё спальное место. И прежде чем снять с себя рубашку, уселся лопатками к стене. Глаза наши встретились, и Торгрим кивнул. Он мне доверял и говорил об этом глазами, и я был горд, что он мне доверял.
Он закутался в одеяло и немедленно заснул, и тогда-то мы с Асгерд подобрались к нему поближе. Когда ещё рассмотришь человека так пристально и без помехи. Мы сидели тихо, чтобы не побеспокоить его. Наконец Асгерд шепнула:
– А он красивый, правда ведь?
Я удивился. Я назвал бы Торгрима мужественным. Пожалуй. И сильным. Но красивым? Темноволосого, с тёмными глазами?.. Однако потом, когда я поразмыслил, мне показалось, будто моя Асгерд не так уж сильно ошиблась.
Другое дело, это была угрюмая красота боевого корабля, летящего в штормовом море навстречу врагу…
Тут Торгрим шевельнулся во сне. Скрипнул зубами. И что-то хрипло пробормотал, но что именно, я не понял.
– Что он сказал? – на ухо спросил я у Асгерд.
Она подумала и ответила:
– Он кого-то позвал… Это было женское имя.
– Какое?
Но Асгерд расслышала не намного больше, чем я.
– Не тёрлась бы ты тут, – сказал я ей. – Смотри, подхватишь болезнь.
Моя Асгерд склонила голову набок и посмотрела на меня озорно:
– Ты боишься, Эйрик сын Эгиля, как бы я не полюбила его вместо тебя!..
И убежала со смехом, довольная, что удалось меня подразнить.
2
Если хочешь весной выйти в море, зимой думай о корабле. А ведь мне предстояло плавание из Раумсдаля в Хьялтланд, на Острова, и это будет не просто поход. Когда я приеду домой, люди моего отца ударят мечами в щиты и назовут меня конунгом вместо него. Если пожелают, конечно.
– Жаль, поторопились мы продать тот корабль, что взяли нынешним летом возле Сольскей! – сокрушался старый Хёгни ярл. – Следовало бы тебе явиться домой на собственном корабле, и притом добытом в бою!
Я слушал его и думал, что мой воспитатель, как обычно, был прав. Летом нам действительно достался знатный корабль. Не намного хуже тех, на которых ходил сам ярл. Впрочем, сделанного не воротишь, что толку жалеть. Но когда Хёгни заговорил об этом во второй или в третий раз, Торгрим неожиданно подал голос, хотя его никто не спрашивал. И вот что он сказал:
– Не меньше славы выстроить хороший корабль, чем отнять его у врага.
Хёгни покосился на него, и я знал, что старику понравились эти слова. И не понравилось, что именно от Торгрима довелось их услышать. Но пока он раздумывал, как поступить, подошёл Хольмганг-Кари.
– Мне случалось строить корабли! – заявил наш Поединщик. – И не я оплошаю, если мне дадут десяток людей в помощь и точило для топора!
Хёгни ничего тогда не ответил, ибо не любил поспешных решений. И людей, склонных такие решения принимать. Но мы часто зимовали в здешнем фиорде. И каждый раз чинили корабли, так что у Гуннара скопилось в сараях немало доброго дуба, ясеня и сосны. Целых брёвен и уже расколотых на доски. Хватит с избытком для починки старых лодий и для строительства новой. Может быть, Гуннар даже ждал, что когда-нибудь мы соберёмся строить корабль.
А что касается Кари – все знали, что иногда он любил-таки прихвастнуть, но никогда не говорил о себе неправды. И если он обещал, это значило, что весной мы поднимем четыре паруса вместо трёх.
Когда Хёгни велел поставить стены и накрыть крышей новый науст – корабельный сарай, я сказал:
- Готово жилище
- для дерева моря.
- Равнина тюленей
- путника примет…
Торгрим, подававший мне охапку корья для крыши, внимательно посмотрел на меня:
– Стало быть, ты к тому же и скальд, конунгов сын.
Я ответил:
– Это верно, но я пока редко складываю хорошие песни.
Торгрим лишь кивнул и ничего не добавил. Но мне показалось, что он, и без того нелюдимый, помрачнел ещё больше. Так, словно моя короткая виса растравила в нём медленно тлевшую боль. Меня очень тянуло сказать ему ещё другие свои песни и послушать, что он о них думал, я почему-то сразу решил, что он должен был понимать в них толк. Но что-то остановило меня, и я промолчал.
Корабль!
Есть ли что краше боевого корабля, летящего под полосатым парусом по вздыбленным непогодой волнам! Сорок молодых гребцов одновременно кладут руки на его вёсла. И ещё столько ждут своей очереди, готовые сменить уставших. Щерится на носу злобная клыкастая пасть, и прочь бегут все недобрые духи, освобождая дорогу… И даже морская великанша Ран сворачивает свою сеть, в которой после бурь остаются утонувшие в бездне… Если она отыщет поживу, это случится не здесь.
Двадцать с лишним шагов можно будет пройти по палубе моего корабля от форштевня до рулевого весла. И только пять – от борта до борта. Стремительный, он будет похож на иглу в руках женщины, вышивающей цветными нитками по тёмному полотнищу моря. Воистину так шьёт норна, вещая Богиня судьбы. А нити – это жизни людей, которые её старшая сестра выпряла на своей прялке. И будущее служило ей куделью, пока она пряла.
Норны обрезают цветные нити острыми ножницами, когда какую придётся…
Старому Хёгни по-прежнему не нравился Торгрим. А ещё больше не нравилось, что нас часто видели вместе.
– По-моему, не ты приблизил его, а скорее он позволяет тебе, сыну конунга, быть около себя! – проворчал однажды мой воспитатель. – А если он сбежавший раб вроде Тунни из Уппсалы? Ты об этом подумал?
Тунни, о котором он говорил, жил когда-то у Ауна, конунга свеев, и тот доверял ему, рабу, все свои сокровища. Но потом старого хозяина отнесли на погребальный костёр, а сын конунга, сев на место отца, отнял у Тунни ключи и послал его пасти свиней. Обиженный раб собрал десяток таких же недовольных и ушёл со двора. Конунг хотел поймать его и заставить вернуться, но не сумел. Говорили, что Тунни и его люди стали жить сами по себе и даже нападали на других. И много зим оставались сущим бедствием для страны, пока наконец Тунни не встретил противника сильнее себя. А было это давно.
Я сказал старому Хёгни:
– А хотя бы и раб, если иной свободный может у него поучиться.
Я хорошо помню, как удивил ярла этот ответ. И я думаю, что с того дня он не полюбил Торгрима больше. Ибо старик навряд ли не заметил, что именно с его приходом я впервые начал возражать вырастившему меня.
Между тем Кари-Поединщику Торгрим пришёлся по сердцу не намного больше, чем ярлу. Может быть, он тоже чувствовал, что от Торгрима словно бы тянуло ледяным ветерком. Как от плавучей горы, когда она медленно тает под солнцем, застряв у береговых скал. Я ни разу не видел этих двоих беседующими между собой. И тем не менее мне упорно казалось, будто они всё время приглядывались один к другому. Особенно Кари. И ещё я видел, что теперь уже он оказался на месте задиры-юнца, что намеренно тревожит признанного воина, надеясь потягаться с ним и добыть себе славу… Это стало особенно заметно после того, как мы узнали прозвище гостя: Вига-Торгрим, то есть Боец.
В сарае уже лежало на брусьях огромное, гладко отёсанное бревно – киль корабля. Он станет резать серые морские волны и цепляться за них выпирающим хребтом, когда ветру вздумается потащить судно вбок. В тот день мы пропитали его горячей смолой и пошли отмываться. И Кари выдернул у Торгрима середину полотенца, сказав:
– Такому никчёмному работнику достанет и дырявого края.
Это была величайшая неправда, и притом сказанная прилюдно, и все ждали, что Торгрим по достоинству ответит на вызов. Но он не побежал в дом за секирой, хотя она и висела там на стене. Только усмехнулся – и вытер руки рубашкой…
Тогда многим стало казаться, что он совсем не так храбр, как думали раньше. Я сказал ему об этом вечером, во время еды, и спросил, почему он позволял называть себя трусом. Торгрим ответил:
– Тому нет проку в большой силе, кто показывает её по пустякам.
И я задумался над его словами, а потом решил, что их надо будет запомнить.
Теперь я не мог представить себе, чтобы Торгрим появился в нашем доме иначе, как только шагнув навстречу из свирепой метели, бушевавшей в ночной тьме над обрывами фиорда… Когда я пытался вообразить себе что-то иное, перед глазами неизменно вставал пустынный морской берег, не украшенный ни человеческим жилищем, ни парусом корабля. И Торгрим, который один-одинёшенек шёл по этому берегу, и даже чайки не окликали его, проносясь над катящимися волнами. А волны выплёскивались на берег, смывая следы.
Я стал мечтать, как меня выберут конунгом и я подарю ему щит. И сам сложу щитовую драпу – стихи обо всём, что будет на нём нарисовано.
Торгрим по-прежнему не рассказывал о себе, и у него не допытывались ответа. Все помнили, как жил на свете могучий Гейррёд конунг, любимец Одина, не боявшийся никого. И как однажды он велел схватить незнакомца, забредшего к его очагу, поскольку тот тоже не пожелал рассказывать, кто он таков. И вот упрямца посадили между двумя кострами на полу и держали восемь ночей, так что одежда на нём прогорела до дыр. И невдомёк было Гейррёду, что это сам Один решил испытать, как его любимец принимает гостей!
Тело корабля схоже с человеческим телом. Есть в нём и хребет, и рёбра, вместилище жизненной силы, и кожа, боящаяся ран. Но только всё это делается из крепкого дерева. И хребет называют килем, кожу – обшивкой, а рёбра – шпангоутами. Их в моём корабле должно было быть двадцать четыре. Кари старательно рисовал их углём на склеенных берестяных листах. Мы прикладывали эти листы к дубовым доскам и обводили, а потом вытёсывали и прилаживали к килю.
Мы работали дружно. И скоро сделалось видно, как красиво расширялся посередине и плавно сужался к корме и носу мой новый корабль. У него будут высокие борта, чтобы без опаски выходить в открытое море. И стройная мачта, для которой на киле был заранее приготовлен тяжёлый деревянный упор. И дракон на носу. В него перейдёт душа жертвенного животного, которое будет заколото в день спуска на воду корабля. Мы будем надевать дракона на штевень, выходя в открытое море. А когда острова Хьялтланда поднимут над горизонтом свои зелёные спины – спрячем под палубу. Ибо негоже пугать добрых духов страны, где собираешься гостить.
Хёгни ярл пристально наблюдал за тем, как строился мой корабль. Он был старше нас всех и немало повидал славных судов. Но и он не находил, к чему бы придраться.
Однажды поздно вечером, когда кончали работу, мой воспитатель похвалил Кари и сказал в шутку:
– Берегись, не начали бы тебя звать за твоё умение вместо Поединщика – Строгалой.
Все слышавшие засмеялись, а Кари ответил так:
– Всяко может случиться, но пока ещё находятся люди, которые не отваживаются схватиться со мной.
Не я один при этих словах оглянулся на Торгрима… Торгрим что-то доделывал возле кормы, и сперва я решил, будто он то ли не расслышал, то ли не понял, что речь шла о нём. Но потом он отряхнул с себя стружки и не торопясь пошёл к нам вдоль корабля.
– Ярл, – сказал он, подойдя, – вели своему человеку исправить шпангоуты, как я покажу. Иначе этот корабль не будет так быстроходен, как всем бы хотелось.
Тут уж наш Кари вспылил по-настоящему:
– Много понимает в кораблях пришедший пешком!
Он сжал кулаки, и, по-моему, даже усы у него встали дыбом, как проволочные. Иному противнику хватило бы одного его вида, чтобы убежать без оглядки. Должно быть, он и впрямь неплохо притворялся берсерком, путешествуя по Вику…
Торгрим спокойно повернулся к нему спиной и пошёл из сарая.
Безоружный Кари в бешенстве подхватил с полу дубовый обрубок и кинулся было следом, но Хёгни ярл остановил его:
– Нечего ссориться. Завтра я сам посмотрю, в чём там дело.
Но я-то видел, что мой воспитатель был сильно озабочен и полез бы смотреть прямо теперь, будь в сарае хоть немного светлей.
А когда мы кончили умываться и пришли в дом есть, там сидела на лавке моя Асгерд. Я подошёл, собираясь сесть подле неё, и увидел у неё на коленях рубашку Торгрима. Асгерд пришивала заплату на разорванный рукав. Я сказал:
– Ты чинишь Торгриму рубашку?
Она подняла голову и спокойно спросила:
– А что?
– Ничего, – сказал я и подумал: ведь вправду нету дурного, если кто-то зашивает чью-то рубашку. Но садиться рядом с ней мне уже не хотелось. И ещё мне почему-то вдруг показалось, будто она стала много старше и взрослее меня… хотя мы родились в один год, и все это знали.
Ночью я долго вертелся с боку на бок.
Воины, ходившие за отцом, ударят мечами в щиты и назовут меня конунгом. Я буду водить их в походы и сделаюсь славен и знаменит. Так пройдёт много зим. А потом однажды я приеду в Скирингссаль. Или в другое какое-нибудь место. Но там тоже будет торг и пленники, привезённые для продажи. И я случайно увижу Торгрима, стоящего со связанными руками и с опущенной головой. И Асгерд, вцепившуюся в его локоть. И хозяина, торгующегося сразу с двумя покупателями, и каждому будет нужен только кто-то один.
Тогда я подойду к ним, и торговцы сразу куда-то исчезнут, потому что со мной подойдут мои люди, и все мы будем держать руки на топорах. А может, им не мало покажется и моего лица…
У меня будет с собой достаточно серебра, так что я выкуплю и Торгрима, и Асгерд и отпущу их на свободу, и вот тогда-то она задумается, кто из нас двоих любил её крепче.
Мне понравилось то, что я придумал. Правда, тому, кто пожелает назвать Торгрима рабом, придётся проявить немало сноровки. Скорее уж он отправит в Вальхаллу десяток врагов и сам останется лежать, где стоял. Да и не получится из него раб. Я подумал, что будущее редко выходит таким, каким нам хочется его видеть. Но жаль было расставаться с придуманной поездкой в Скирингссаль, и я сказал себе, что Торгрима, может быть, ранят в бою. Или оглушат.
Утром мы собирались начать обшивать корабль досками… Добрые доски в два пальца толщиной уже лежали на козлах, готовые встать каждая на своё место – по шестнадцати на каждый борт. А рядом стояла смола в горшочках и пухлые шнуры коровьей шерсти, в три нитки. Мы уложим их между досками, и вода не проберётся вовнутрь. Мне очень хотелось скорее увидеть корабль одетым в деревянную плоть. Поэтому я спал беспокойно и проснулся задолго до света. Меня разбудили осторожные удары топора, доносившиеся снаружи.
Я испугался спросонья, решив, что проспал и работу начали без меня. Но длинное бревно в очаге сгорело едва наполовину, и люди вокруг ещё спали под одеялами. Не было только Торгрима, я сразу это заметил, ведь мы с ним по-прежнему спали спиной к спине.
Я потихоньку оделся и пошёл в корабельный сарай.
В сарае действительно кто-то работал. Дверь была прикрыта неплотно, и по снегу двигались отсветы от лучины, горевшей внутри. Ещё я услышал голос. Это был голос Торгрима, и он говорил песнь:
- Вёсла и нос
- вепря волн
- прозваньем укрась
- Отца Побед.
- Железо кали,
- дерево жги,
- могучие руны
- пусть оно помнит…
Это была хорошая песнь, и я совсем было собрался войти и спросить Торгрима, кто её сложил. Но тут он заговорил снова, и я передумал. Я не понял, чью песнь он вспомнил сначала, но теперь он пытался сложить свою собственную, и у него ничего не получалось. Он яростно сражался со словами, и бой был неравным. Его висы рождались безжизненными и тусклыми, как оружие, слишком долго пролежавшее в сырости: им ещё можно замахнуться, но сто́ящего удара уже не нанесёшь… Никакого сравнения с той песнью, которую я услышал вначале.
Потом он умолк и не то вздохнул, не то зарычал…
Я громко кашлянул и пошёл к приоткрытой двери, нарочно со скрипом приминая сапогами снег.
Торгрим стоял на коленях у левого борта, подтёсывая на свой лад последний шпангоут… Он поднял голову, когда я вошёл, и мне не показалось, чтобы он смутился. Я спросил его:
– Зачем ты портишь корабль?
Торгрим не спеша опустил топор и выпрямился, разглядывая свою работу. Весь борт действительно сильно изменился, и теперь я не мог понять, к худу или к добру. Торгрим сказал:
– Твой Кари совсем не плохой мастер, но кое-чего ему всё же недостаёт.
Тут я подошёл поближе, и он добавил:
– Я не трогал другую сторону, чтобы можно было сравнить.
Я встал у кормового штевня и начал смотреть. Я всё старался представить, как лягут доски на один борт и на другой, и подтёсанный борт неизменно оказывался красивее. А я знал, что самый лучший корабль обыкновенно бывает и самым красивым, и дело тут не в резьбе.
В конце концов я опустился на четвереньки, чтобы заглянуть ещё и снизу. И тут дверь отворилась опять, и в сарай вошёл Кари. Должно быть, его тоже разбудил стук топора. И он, конечно, сразу понял, что произошло.
Я думал, Поединщик снова начнёт кричать и браниться, однако ошибся. Кари долго молчал и лишь постепенно наливался кровью, так что глаза выступили из орбит. А потом пошёл к Торгриму, стискивая кулаки.
– Ты загубил мою работу, бродячий пёс. Я убью тебя…
– Не убьёшь, – сказал Торгрим. – Это ты ошибался, а я был прав.
Но Кари был менее всего расположен убеждаться в его правоте.
– Ты будешь драться со мной!.. – прохрипел он, подойдя вплотную. – Не видал я тебя в деле, Торгрим Боец! И я думаю, что ты только и способен подсаживаться к невесте, когда поблизости нет жениха!
Он никогда бы не произнёс этих слов, если бы знал, что я здесь и всё слышу. Я ведь стоял на четвереньках за килем, и при лучине меня трудно было там разглядеть.
Торгрим ничего ему не ответил…
Но я увидел, как его руки, державшие обрезок доски, медленно сжались. И пальцы вошли в твёрдое дерево, словно железные клещи! Тогда я вскинул глаза и заметил, что у него задрожали ноздри и губы. Но не так, как от обиды или бессильного гнева. Это была какая-то страшная дрожь.
Тут я сообразил наконец, что к чему. Я выскочил из-за киля и схватил его за локти:
– Торгрим!
Может быть, он успеет узнать меня, и тогда я попробую его остановить. А если нет, он убьёт меня о ближайший шпангоут. А потом и Кари, как бы тот ни бежал. А потом разнесёт в щепы и корабль, и корабельный сарай. Больше всего мне было жалко корабль…
Я вцепился в Торгрима что было сил, называя по имени. Глаза у него жутко блуждали, и за все свои шестнадцать зим я не встречал зрелища хуже, но тогда у меня просто не было времени испугаться. Он из последних сил боролся с безумием, и мне уже стало казаться, что ему не помочь, но тут он вдруг закрыл глаза и сел прямо на пол, едва не свалив и меня. По его лицу покатился пот.
Потом он выговорил:
– Это хорошо, что ты подоспел… Жаль было бы убить Кари. Он славный малый, хотя и глупец…
Его голос звучал хрипло и прерывался. Он так сцепил пальцы, что побелели суставы. Я сел рядом и лишь тут как следует понял, в какой переделке только что побывал, и зубы у меня застучали сами собой. А ведь я сражался в походах и, говорили, не отставал от других. Я коснулся рукой спины Торгрима, и он кивнул, не открывая глаз.
– Ты тогда не сказал этого вслух, – произнёс он еле слышно. – Но ты верно догадался, что мне собирались врезать орла… В тот день я стал берсерком и перестал быть скальдом…
В сарае было холодно, и я сказал:
– Пошли в дом.
Он попытался встать и не смог. Я знал, что это такое: бессилие, овладевающее берсерками после припадка. Можно рассказывать о берсерках всякие небылицы, подражать им, как Кари, завидовать тем, у кого они ходят на корабле. Но я смотрел на Торгрима и думал о том, что совсем не хотел бы оказаться в его шкуре. В медвежьей шкуре, и ему от неё уже не избавиться…
Я всё-таки заставил его подняться и тут заметил, что Хольмганг-Кари всё ещё стоит возле двери, прилипнув к ней лопатками, и теперь в его лице нет ни кровинки. Он не побежал, но не смог и прийти мне на помощь. Я не осудил его – как назвать трусом отступившего перед яростью берсерка!.. Я только махнул ему рукой, чтобы он скорей уходил…
Когда мы с Торгримом вернулись в дом, Кари лежал на своём месте, под одеялом, и притворялся, что спит. Может быть, утром он решит, что ему приснилось. И будет так думать, пока не заглянет в сарай.
Торгрим уснул, а я долго ещё смотрел на продымлённые стропила, едва освещённые очагом. Мне опять вспоминалась придуманная поездка в Скирингссаль. Но теперь всё это выглядело таким мелким и глупым в сравнении с творившимся наяву. Я спросил себя, знала ли Асгерд, кому зашивала рубашку. И решил, что, скорее всего, нет, но это не имело значения, ведь я-то не собирался ничего ей говорить.
3
Торгрим всё же зря посчитал нашего Кари глупцом. Теперь я думаю, до утра Поединщик на многое успел взглянуть иными глазами. Когда мы пришли в сарай, он уже вовсю стучал топором возле правой стороны корабля. Хёгни ярл с удивлением посмотрел на него и на то, как изменились оба борта. Кари объяснил почти весело:
– Я решил переделать шпангоуты так, как посоветовал Торгрим.
Тогда оглянулись на Торгрима. Но Торгрим промолчал. Он разводил огонь, чтобы варить смолу и размягчать еловые корни. Промолчал и я. Мы трое ни о чём не договаривались друг с другом, но о случившемся ночью не обмолвился ни один.
Между тем жизнь в доме продолжалась как прежде. Женщины ставили пиво, привязывали камни к нитям ткацких станков, кроили и вышивали одежду. Надо было делать и мужскую работу – охотиться. Мальчишки ходили в лес, устраивали силки, били тупыми стрелами осторожную птицу. И мы, воины, всякий день становились на лыжи. Иногда к вечеру волокли домой оленя или лося. А чаще выходили на лёд, сковавший фиорд от одного берега до другого, и долбили в нём лунки. Подо льдом ходила жадная зубатка, большеголовая треска и жирная сельдь. Зима выдалась холодная, и лёд был надёжный. Только одно опасное место подстерегало рыбака: там, где в фиорд впадала быстрая речка. Возле её устья лёд оставался непрочным даже в самый сильный мороз. Но все это знали, и в ту сторону никто не ходил.
Борта моего корабля поднялись уже до самого верха. Гладкие доски красиво находили одна на другую. Третью сверху сделали толще всех остальных. Кари прорезал в ней отверстия для вёсел – гребные люки. Скоро будет настлана палуба и поставлены скамьи. Мы сядем на них и будем грести. А у берега, на ночлеге, снимем скамьи и натянем над палубой просторный шатёр…
Каждый уже знал, на какую скамью сядет. И вытачивал для гребного люка круглую крышку, украшая её узором, кому какой был по душе.
Я знал, что иные строители предпочитали скреплять бортовые доски заклёпками: так быстрей. Но Кари сказал мне, что это не от большого ума. Если корабль сшит еловыми корешками, его борта легко гнутся под ударами волн, и самый лютый шторм их не сломает. Такое судно кажется Эгиру мягким, словно морской зверь, покрытый жиром и мехом. И море не трогает его, принимая за своего.
Когда корабль гонится за врагом, парусу помогают быстрые вёсла. Не всякое судно при этом способно нести щиты на бортах. Бывает, они закрывают гребные люки, мешая грести. Кари позаботился и об этом. Всё-таки он был хорошим мастером, наш Кари.
А ещё – весной, перед спуском на воду, корабль надо будет покрасить. Я долго думал, какой цвет для него выбрать. Если красный, его даже без паруса будет далеко видно в серых морских волнах. И все будут знать, что мы боимся немногих. А если коричневый или серый, его легко будет прятать за скалами, опустив мачту. И неожиданно нападать на купеческие корабли, идущие вдоль берега.
Я решил сделать его чёрным… Как утёсы на севере или океан в непогоду. Чёрным, как ворон, спутник Отца Побед.
Я часто размышлял о Торгриме и о моей Асгерд, именно так, о двоих сразу, словно тому и следовало быть. Однажды Хёгни ярл накричал на свою внучку. Я не слышал, что он ей говорил, но она вышла с закушенной губой. Впрочем, её глаза сухо горели, и она совсем не считала, что виновата. Я не стал к ней подходить.
Когда Сигурд Убийца Дракона отведал колдовского напитка, он лишился памяти и забыл о любимой. Тогда его невеста Брюнхильд добилась гибели жениха. А потом ударила себя в сердце над его погребальным костром.
Я заглядывал в себя, и что-то мне совсем не хотелось убивать мою Асгерд дочь Хальвдана сына Хёгни… или умирать самому. Я стыдился и думал, что, наверное, любил её недостаточно сильно. И мне было совестно перед ярлом. Ему ведь наверняка хотелось породниться с конунгом Островов.
Я думал: а что, если времена и впрямь измельчали, как сетуют старики, и люди разучились крепко любить?.. Это теперь я знаю, что был просто мальчишкой, молодым глупым мальчишкой, и не ведал толком, что такое любовь.
Однажды в морозный день Торгрим собрался на рыбную ловлю. Он приготовил снасть и крепкие берестяные салазки и спросил меня, не хотелось ли мне пойти с ним. Тогда я подумал о том, что ярл на моём месте давно бы уже заставил Торгрима драться, и сказал:
– Не хочу.
Торгрим стоял как раз возле своего спального места, где висел на стене его боевой топор.
– Ну как знаешь, – пробормотал он и натянул через голову меховой полушубок.
Днём я снял его топор со стены и вытащил из чехла. Топор был острым и очень тяжёлым. Страшное оружие в умелой руке. А на лезвии, смазанном медвежьим салом от сырости, проступали глубоко вбитые руны. Двадцать четыре знака, привлекающие удачу к человеку, умеющему их начертать… Наверное, Торгрим не только холил своё оружие, но и владел им искусно. Я знал в этом толк: я тоже любил секиру гораздо больше меча.
Я погладил топор, примерился и раза два взмахнул им для пробы. И тут заметил мою Асгерд, вошедшую со двора. Я залюбовался ею, потому что она разрумянилась с мороза. Но потом она скинула тёплый плащ, и на руке блеснуло запястье. Я не дарил его ей… Оно было стеклянное, и я сразу понял, откуда оно у неё. Не каждая набралась бы смелости открыто носить подобный подарок…
Наверное, надо было бы мне сорвать с неё этот браслет и растоптать на полу. Или бросить в очаг. Многие так поступили бы и ещё как следует припугнули девчонку, чтобы впредь думала, кому улыбаться.
Я сказал:
– Надерёт тебе уши Хёгни ярл…
Моя Асгерд ответила:
– Ты-то никогда не посмеешь!
Мы стояли по разные стороны очага. Я опустил руку с топором и сказал:
– Это ты верно подметила. Ты всем так дерзишь или мне одному, потому что я на тебя не замахнусь?
Она вспыхнула ещё больше, и теперь уже не мороз был в том виноват. Не могла она так скоро забыть, как мы с нею сидели на кривой сосне над обрывом и она гладила мою ладонь, ороговевшую от весла, а я рассказывал о Западной Стране, где мы сражались и брали добычу… Может быть, ей стало стыдно, моей Асгерд. Но только на миг.
– Ты взял его секиру! Ты хочешь драться с ним и решил испортить его секиру!
Я удивился про себя, почему огонь не сжёг этих слов, пока они летели над очагом. Ещё я подумал, что Торгрим, пожалуй, долго не станет дарить ей второго браслета, если ему передадут.
– Уйди отсюда, Асгерд, – сказал я тихо.
Она ушла, даже не подобрав плаща. Недаром она была внучкой ярла, моя Асгерд дочь Хальвдана сына Хёгни.
Я остался стоять с секирой в руке… Даже у злобного Бога Локи, немало наделавшего гадостей людям и Асам, есть жена, которая его любит. Локи лежит в глубокой пещере, связанный за свои преступления необоримыми путами. А со свода пещеры свешивается змея, так что яд капает ему на лицо. Злобный Локи отчаянно корчится, и люди зовут это землетрясением. Но жена его Сигюн берёт чашу и подставляет под ядовитые капли, чтобы Локи мог передохнуть…
Каждому нужна своя Сигюн, и Торгрим, должно быть, нашёл ту, которую искал. Но я-то не был виновен, если её звали совсем не тем именем, что он продолжал шептать по ночам. Может быть, через двадцать зим и я скрипну зубами, вспомнив об Асгерд. А наяву стану дарить украшения совсем другой.
Но до тех пор я ещё вернусь в Хьялтланд, на Острова. И обниму там свою мать. Она-то никогда не скажет, что я хотел испортить чужой топор.
Потом я пошёл в сарай, взял там крышку от своего гребного люка и вырезал на ней Знак Вечности: три треугольника, сплетённые так, что невозможно понять, где кончается один и начинается другой…
* * *
Солнце везут по небу два могучих коня – Арвак и Альсвинн, Ранний и Быстрый. Солнце пышет огнём, но Боги приделали к упряжи кузнечные меха. Меха раздувают небесное пламя и дают прохладу коням.
Летом, когда луга покрыты травой, Арвак и Альсвинн сыты и веселы. Высоко на небосклон вывозят они свою хозяйку и никак не хотят спускаться обратно. Зимой всё по-другому. Зимой кони скоро устают и торопятся в стойло. И потому-то зимой ночь тянется дольше дня.
Когда солнце начало клониться к закату, я подумал о Торгриме и спросил старого раба, в какую сторону тот уходил. Старик отвечал, что вверх по фиорду.
Тогда я сразу подумал о речке и попробовал вспомнить, предупреждал его кто-нибудь или не предупреждал. Во всяком случае, я ему не говорил ничего. И я не пошёл с ним, так что Ран, если ей вздумается, заберёт его без помех. А Торгрим мне доверял!
День стоял солнечный, и синие тени сосен пересекали мой путь. А впереди ярко розовели горы. Но я не останавливался посмотреть.
Я бежал быстро и скоро достиг обрывов, нависавших над устьем реки. Здесь я перевёл дух и посмотрел с высоты на фиорд.
Глубоко внизу, отбрасывая длинную тень, шёл на лыжах человек… Впереди бежала большая собака, запряжённая в берестяные салазки. На салазках кучей лежала замёрзшая рыба.
Торгрим далеко обходил опасное место, и у меня отлегло от сердца. С ним ничего не случится, я зря беспокоился и бежал, когда мог бы сидеть дома и что-нибудь делать…
Тут я увидел, как Серый насторожился и поставил уши торчком. А его хозяин воткнул копьё в снег и поднял голову, прикрывая глаза рукавицей. Потом помахал рукой и, свернув, направился прямо ко мне. Как раз туда, где терпеливо ждал тонкий лёд, ненадёжно прихвативший быстрину.
Серого предостерегло собачье чутьё. Сперва он сел и залаял, потом, волоча санки, забежал вперёд. Торгрим не обратил внимания на его беспокойство.
– Торгрим! – крикнул я во всю силу лёгких, и морозный воздух обжёг моё горло. – Стой!..
Но эхо разбило мой голос о каменные лбы скал. Тор-грим вновь посмотрел на меня – и продолжал идти. Тогда я пододвинулся к краю обрыва и как следует оттолкнулся копьём.
Я неплохо знал, какой стороной привязывают лыжи к ногам… Мы часто забавлялись, спускаясь с крутых заснеженных гор, и не меня называли самым неловким, когда приходилось петлять между деревьями и валунами!
Я летел вниз, и ветер гудел в ушах. Я ни разу ещё здесь не спускался. Камни вырастали впереди один за другим, я прыгал и поворачивал, и за спиной плащом висела снежная пыль. Самый проворный лыжник не сумел бы съехать с этой крутизны, не расплескав в руке чашу с водой… Лёд фиорда был уже близок, когда я понял, что вот сейчас упаду. Я успел отбросить копьё и свернуться в клубок, чтобы сберечь ноги. И покатился кувырком. Пухлый снег принял меня и остановил.
Река и Торгрим остались справа, по ту сторону большой скалы. Я поднялся и глянул наверх, и теперь высота показалась мне жутковатой. Надо будет рассказать дома, как я съезжал, и сделать это при Асгерд. Но только так, чтобы она не поняла, для кого я говорю.
Это я обдумывал уже на бегу. По счастью, я не сломал лыж и спешил добраться до Торгрима прежде, чем до него доберётся Ран с её сетью. Но потом услышал визг Серого, сменившийся отчаянным воем, и понял, что опоздал.
На белом снегу дымилась чёрная полынья… Торгрим окунулся в неё с головой. Когда я выскочил из-за скалы, он как раз вынырнул и, отплёвываясь, схватился за край льда. Я сразу увидел, что он не выберется сам.
Он сказал мне:
– Не подходи сюда, конунгов сын.
Течение неумолимо затягивало его под лёд. Соскользнут окоченевшие пальцы, и Торгриму конец. Он повторил:
– Незачем тебе сюда подходить.
Серый бегал вокруг, подвывая и скуля. Я видел, как гнулась под ним тонкая корочка льда. Прозрачная вода выплёскивалась на край и немедленно застывала. Я полоснул ножом по ремням лыж, распластался на снегу и пополз.
Лёд неплохо выдерживал ползущего, и я добрался до Торгрима без большого труда. Дотянулся до его рук и обмотал ему запястье концом ремня. Потом затянул петлю у себя на поясе и стал пятиться назад.
Серый всё вертелся рядом и визжал. Салазки перевернулись, мёрзлая рыба вывалилась на снег. Когда салазки наехали мне на руку, я поймал постромки. Пусть помогает.
Понятливый пёс упёрся лапами в снег. Я даже испугался, не лопнул бы ремень. Нет, пожалуй, скорее лопну я сам. Как струна на арфе у неумелого скальда. Я продолжал отползать. Я выдержал усилие, выдержал и ремень. Торгрим навалился грудью на край.
Полынья отпускала его неохотно… Тонкий лёд скрипел и прогибался под нами, вода догнала меня и стала впитываться в одежду. Если лёд затрещит, нам обоим придётся одинаково худо. Торгрим тоже понял это и усмехнулся сведёнными губами:
– Обрежь ремень, конунгов сын, Ран уже схватила меня за пятку. Мало проку тебе держать меня так крепко, как ты это делаешь.
Я не ответил. Я лежал лицом в воде, и кровь сочилась из-под ногтей. Серый хрипел в постромках. Потом Торгрим выбрался из полыньи весь и растянулся на льду. Ноги и нижняя половина тела едва ему повиновались. Но мне стало легче тащить, и я больше не останавливался, пока не оставил полынью далеко позади.
Тогда я выпустил Серого, уткнулся лицом в снег и долго лежал неподвижно. Я всхлипывал и никак не мог отдышаться. Я больше не думал ни об Асгерд, ни о том, что у меня у самого остались сухими лишь волосы на голове и мороз жадно схватывал одежду, добираясь до тела…
Я знал только, что мы оба остались живы, Торгрим и я.
Я плохо помню, как мы возвращались домой. Позже мне рассказали, что первым, путаясь в перегрызенных постромках, во двор прибежал Серый. Он принёс в зубах рукавицу Торгрима. Тогда Хёгни ярл понял, что дело неладно, и послал по его следу людей. И когда те люди миновали ворота, им показалось, будто по берегу плелись в обнимку два и́неистых великана из сказки.
Мой воспитатель очень боялся, как бы я не заболел. Но с нами ничего не случилось, ни с Торгримом, ни со мной. Мы оба сразу свалились спать и проспали до вечера следующего дня. Я проснулся голодным и запросил есть, и Хёгни стал спрашивать меня, как было дело. И я рассказал всё по порядку, промолчав только об Асгерд и её словах у очага. И лишь потом вспомнил, что совсем позабыл о крутом обрыве и о своём спуске с него. Но я не стал возвращаться к началу и путать рассказ. Ведь это была безделица, не стоившая похвальбы.
4
После этого до самой весны всё было тихо. Не случилось ничего, о чём следовало бы вспомнить. И я по-прежнему сидел за столом рядом с Асгерд и угощал её из своего рога. Иначе стали бы много говорить про неё, про Торгрима и про меня. А когда распустились подснежники и фиорд очистился ото льда, мы спустили на воду мой новый корабль.
Он давно уже стоял в сарае совсем готовый. И чёрные смолёные бока отсвечивали подобно железным, когда я приходил его навестить. Я разговаривал с кораблём и гладил его дубовое тело. Он слушал меня и молча запоминал мои речи. Или глухо гудел, если я хлопал его ладонью. Когда вокруг будет реветь бездонное море, придёт его черёд показать, любит он меня или нет…
Мы осторожно вынули боковые подпорки и повели корабль из сарая, перекладывая катки. Тут стало ясно, что наш Кари не зря хвастался ремеслом. Корабль шёл легко, не заваливаясь ни вправо, ни влево. Нас было не более тридцати человек, но мы без особой натуги притащили его на берег. Последнее усилие, и под дружный крик всех смотревших изогнутый форштевень впервые соприкоснулся с водой… Корабль вошёл в неё так, что любой мог понять: берег служил ему лишь временным пристанищем, а теперь он попал домой. Раскачиваясь, он кланялся морю и приветствовал его. И дух захватывало от его красоты. И я сказал:
- Чайку игр валькирий
- дочки Вана-Ньёрда,
- ласковые, нянчат
- на синих ладонях.
- Если есть удача,
- не боятся бури
- спешащие к рати
- на Слейпнире моря…
Ибо я назвал его Слейпнир, что значит – быстро скользящий. Слейпниром зовут люди серого коня о восьми чудесных ногах, на котором одноглазый Один торопится к полям битв…
Я не очень думал, что говорил, песнь складывалась сама. Может быть, кто-то пожелает запомнить её, а нет, так и не надо, я сложу другую, получше. Мне казалось, я вправду попробовал мёда и скоро стану могучим скальдом вроде Браги Старого, которого Боги угощают за своим столом…
И не удивился бы таким речам и думам тот, кто смотрел на мой корабль вместе со мной!
Хёгни ярл, мой приёмный отец, часто гостил в этом фиорде, у Гуннара бонда сына Сиггейра. Гуннару это нравилось, потому что Хёгни был щедр. И никакой враг не отважился бы напасть на двор, где вставали на якоря его корабли. Вот и в эту весну, едва мы начали собираться в море, Гуннар начал просить нас приехать опять. Однако теперь он усердно ходил не только за Хёгни, но и за мной.
Ярл благодарил хозяина и обещал не забывать, но мне что-то подсказывало: больше он сюда не вернётся. Должно быть, он сильно состарился. Ведь и я уже не был тем малышом, которого мой отец когда-то посадил ему на колени. Я сделался викингом и мужчиной, и скоро меня назовут конунгом Островов…
Наверное, Хёгни решил бросить походы и осесть в Хьялтланде, на берегу. Иногда мне приходило на ум: а ведь тогда его воины навряд ли будут нужны ему, как теперь. Кари-Поединщик и все эти люди, среди которых я вырос… Захотят ли они тоже назвать меня конунгом? Или выберут кого-нибудь между собой и уйдут? Пожалуй, они поступят так, как им посоветует ярл. У меня чесался язык спросить его, но я молчал. Это было бы недостойно.
В тот раз Хёгни надумал забрать у Гуннара свою внучку и взять её с собой. Надеялся, верно, её образумить. Ведь Торгрим не был его человеком и неизвестно, сядет ли он с нами на вёсла. Может быть, он останется по эту сторону моря, и, глядишь, будет всё-таки выпито пиво на моей свадьбе с дочерью Хальвдана сына Хёгни…
Торгрим подошёл ко мне и спросил, не найдётся ли для него местечка на моём корабле.
Я знал, что раздосадованный Хёгни выбранит меня за глупость, ведь я брал человека, на которого заглядывалась моя Асгерд, и это вместо того, чтобы вызвать его на хольмганг… Я сказал:
– Ты будешь грести тем же веслом, что и я.
Ибо Вига-Торгрим стоил десяти девчонок, и каждая вдвое краше ярловой внучки!
Но я не мог перестать думать о ней, я ведь любил её. В последний вечер я долго бродил по берегу один. На деревьях готовы были лопаться почки, я прикасался ладонью к шершавым влажным стволам и слышал движение и шум глубоко под корой. Пахло так, как никогда не пахнет ни осенью, ни зимой, – талой водой и прошлогодними листьями… и ещё чем-то, от чего ныло в груди.
Ноги принесли меня к месту, которое мы с Асгерд ещё недавно называли своим. Там росла кривая сосна, на корявом стволе хватало места как раз для двоих. Оттуда был далеко виден фиорд. Почти до самого моря. В прежние годы Асгерд всегда приходила сюда помахать мне рукой. И я долго видел её светлое платье среди зелени и тёмных береговых скал. Теперь, пожалуй, незачем было бы смотреть, даже если бы Асгерд осталась.
Сумерки уже сгущались, но я разглядел сидевшего на сосне человека, и сердце подпрыгнуло. Человек пошевелился и кашлянул. Это был Торгрим.
Я прирос к камням, на которых стоял… Торгрим смотрел на тропинку с Гуннарова двора, и было ясно, что не меня он здесь поджидал.
Он никогда не пришёл бы сюда, если бы знал. Наверняка это Асгерд показала ему нашу сосну. И конечно, не стала рассказывать, как сидела здесь со мной.
Сердце билось толчками, глухо и тяжело. Торгрим был хорошим охотником. Но я обошёл его так, что он не услышал. И зашагал домой напрямик.
Я до сих пор не знаю, что, собственно, я собирался сделать или сказать… Я как раз застал мою Асгерд, когда она расчесала волосы костяным гребнем и прилаживала на лоб повязку, затканную серебром. Эту повязку я привёз ей из Валланда.
Я встал против неё и стал на неё смотреть, и гребень замер у неё в руке. А рабыни, хлопотавшие у очага, переглянулись и выскочили за дверь. Я сказал:
– Сядь-ка со мной, Асгерд. Я хочу, чтобы ты села со мной, как ты это делала раньше.
Она села. Было похоже, она наконец-то меня испугалась. Я взял её руку и сказал:
– Когда Торгрим поступает как я, ему навряд ли кажется, будто он взял в руки лягушку.
Асгерд выдернула руку и отскочила прочь:
– Тебе-то что до этого, Эйрик сын Эгиля!
Я ответил:
– А то, что я тебя чаще вижу с ним, чем одну, и мне это мало нравится. Я ведь и сейчас знаю, куда ты собралась.
Асгерд не раздумывала долго:
– Торгрим скорее срубил бы мне голову, но не стал бегать за мной, как это делаешь ты.
Тогда я поднялся и пошёл прочь, потому что мне больше нечего было сказать моей Асгерд дочери Хальвдана сына Хёгни. Я не ощущал даже боли, только пустоту, как после голода зимой. Моя Сигюн не пожелала держать надо мной чашу, и я не видел особенной разницы, куда идти.
Я пошёл к кораблю… Если есть на свете что-то надёжное, так это корабль. Его прочная палуба не подведёт, не выскочит предательски из-под ног. Я взошёл по еловым мосткам, и тяжёлая лодья чуть вздрогнула, узнав мои шаги.
– Это я, – сказал я кораблю.
Я сел на своё место и стал смотреть на звёзды за бортом. Добрые жёны перевелись. Такие, какой моя мать была для отца. Недаром он не смотрел на других. И потому был всегда так удачлив в походах, ведь она любила его и ждала!
А злую жену и брать незачем… Ведь не только от невесты можно дождаться, чтобы ей приглянулся другой.
Потом я подумал о завтрашнем дне и порадовался ему. Завтра будут поставлены паруса, и мы с Торгримом пойдём на одном корабле, Асгерд же – на другом. И так будет каждый день до вечера, а когда мы минуем шхеры и начнётся открытое море – подряд несколько дней.
А потом я приеду в Хьялтланд и обниму свою мать. И она обнимет меня так же крепко, как я её, потому что у матери есть только те сыновья, которых она сама родила. И ей нету нужды смотреть в дверь, ожидая, не шагнёт ли к очагу ещё кто-нибудь, как Торгрим, из ниоткуда, из ночной мглы.
Ветер почти всегда дует над океаном…
Можно поставить парус, когда он тянет в борт или в корму. И если нет бури, сидеть почти без дела, пока кормщик не повернёт правило. Но если ветер стихает или становится встречным – тут уж не заскучаешь. Тут уж приходится грести и грести, сменяя друг друга на вёслах! Оттого у нас даже зимой не сходили с ладоней мозоли, твёрдые, точно край дубовой доски. И тяжелы на мечах были руки, привыкшие к тяжести вёсел.
В том походе Эгир нас баловал. Ветер послушно натягивал парус, пока не минула середина дороги. А потом, что редко бывает весной, в море пал штиль. И лишь мёртвая зыбь катилась да катилась из-за горизонта, баюкая корабли…
Мы опустили мачты и уложили вдоль палуб, и вёсла заворочались в гребных люках, размеренно падая и поднимаясь, как крылья морских птиц, неутомимых в полёте…
Ледяная вода ещё дышала из-за борта мертвенным холодом, и бродячие льдины показывались над круглыми спинами волн, но когда Торгрим сменял меня на весле и я ложился на палубу – палуба была тёплой от солнечных лучей.
Мой корабль нёс меня по морю…
Мы принадлежали друг другу, я и корабль. Я видел рождение моего корабля, а он, возможно, увидит мою смерть. Я принял его, как принимают ребёнка, а он понесёт меня к Одину в Вальхаллу, когда настанет мой срок и я свалюсь на его палубу, сражённый ударом копья…
Я лежал на тёплых досках, закинув за голову усталые руки, и смотрел на Торгрима, державшего весло. За краткое время похода он переменился едва ли не больше, чем за целую зиму. В нём поселилась какая-то тайная радость, и мне трудно было её объяснить. Сперва я решил, что он просто соскучился по морской работе и кораблю. Но нет. Он скорей походил на воина, который долго и трудно шёл к месту сражения – и наконец обогнул последний мыс и увидел врага прямо перед собой…
Может, именно потому он перестал прятать свои рубцы. Он сидел на скамье голый по пояс. Тысячелетняя песня помогала гребцам наклоняться над вёслами и снова откидываться назад. Я смотрел на Торгрима и видел, что железо тут начиналось прямо под кожей. Асгерд была всё-таки права, выбрав из нас двоих его, а не меня. Белые змеи плясали на широкой спине. Седеющая грива спадала из-под повязки, и моя молодость не была большим достоинством сама по себе.
Ничего. Через двадцать зим я буду очень похож на него. Я это знал. А до тех пор я вполне проживу и без жены. И когда Торгрим отыщет своего недруга, я сумею встать с ним плечом к плечу.
Скоро мы должны были прийти в Хьялтланд, на Острова, где был курган отца и рядом мой дом, а на берегу ждала меня мать. Мы устроили привал на острове Медвежьем, последний привал на нашем пути. Этот остров был назван так из-за белых медведей, которых, что ни год, приносили с севера плавучие льды. Вот и нынче на западном берегу прятался в скалах чудовищный зверь. Но на обширном острове хватало пищи для всех, страшный пришелец пока ни разу не потревожил ни людей, ни скотину, жители видели только следы его лап.
А ещё Медвежий был знаменит тем, что именно здесь мой отец однажды сразился с оркнейским викингом, Сигвальди ярлом, и опрокинул его в жестоком бою. Как рассказывали, Сигвальди тоже любил здесь останавливаться и нещадно обирал рыбаков, так что эти люди с тех пор всегда были приветливы и с моим отцом, и со мной.
На острове стоял всего один двор. Назывался он Котаруд – Двор Бедняка, потому что жили тут и впрямь небогато. Хозяин принял нас и собрал угощение, хотя после зимы лишних припасов у него не осталось. В маленьком доме не хватило лавок, чтобы уложить всех гостей, и мы легли спать как обычно в походе – на кораблях. Хозяин сокрушался об этом, но я не был обижен. Тот, кого называют морским конунгом, редко спит под закопчённой крышей и коротает вечер у очага!
Я проснулся, когда утреннее солнце только запрягало коней… Торгрим, лежавший рядом со мной, ворочался во сне и стонал. Я приподнялся на локте и внезапно ясно расслышал имя той, которую он звал к себе почти каждую ночь.
– Со́львейг, – шептал Торгрим. – Сольвейг…
Навряд ли женщина по имени Сольвейг желала ему беды. Но в остальном это был нехороший, тягостный сон. Надо непременно помочь человеку, которому снится дурное. А то как бы не налетела злая волшебница-мара да не затоптала спящего насмерть.
Я тронул его за плечо:
– Торгрим, проснись…
Он вздрогнул и повернулся ко мне, открывая глаза, и мне показалось, что в первое мгновение он принял меня за кого-то. Но потом он вздохнул, нахмурился и провёл рукой по лицу.
Спать больше не хотелось, и мы принялись одеваться. Я сказал ему:
– Сегодня вечером будем дома.
Торгрим помолчал, потом отозвался:
– Я хочу кое-что показать тебе, конунгов сын. Сходим на берег.
И добавил:
– Лучше будет, если ты возьмёшь свой топор.
Я вспомнил о медведе и подумал, что это был хороший совет.
Я шёл за ним и гадал, чем же это он собирался меня удивить. Я бывал здесь и знал остров вдоль и поперёк. А Торгрим вдобавок уверенно шагал к месту битвы отца, которое я знал лучше всего. Не думал же он в самом деле, что я был мало наслышан о подвигах отца и о том, как засыпали камнями погибшего Сигвальди ярла!
Торгрим остановился перед памятным камнем, поставленным над могилой ушедших в Вальхаллу в тот далёкий день. На камне багровели выбитые и окрашенные руны. Эту надпись я сумел бы прочесть и в ночной темноте, и даже не глядя. На камне было много имён. Они не побежали, когда Эгиль конунг сошёлся здесь с Сигвальди ярлом. Эгиль конунг велел поставить по ним этот камень, а Хёгни сын Хедина высек руны…
Торгрим долго разглядывал вырезанное на камне. Потом обернулся ко мне и сказал:
– Здесь многих недостаёт, Эйрик сын Эгиля.
Сперва я удивился, я же знал, что отец и молодой тогда Хёгни не могли забыть никого из своих. Потом я начал кое-что понимать. Я сказал:
– Каждую ночь ты зовёшь женщину по имени Сольвейг.
Торгрим кивнул:
– Я любил женщину по имени Сольвейг. Но она меня не любила. Она выбрала того, кто был достойней, – Сигвальди ярла.
Я стал ждать, что он скажет ещё, и он продолжал:
– Видишь тот валун, обросший лишайником? Я лежал возле него, когда мне собирались выпрямить рёбра, и это хотели сделать люди твоего отца. Но хуже было то, что в плен попала и Сольвейг. Я слышал, конунг сделал её своей рабыней и она недолго у него прожила. Так что ты не зря принёс сюда свой топор, Эйрик сын Эгиля сына Хаки. Ибо я поклялся отомстить твоему роду, и велика моя удача, что я сделаю это именно здесь.
Я выслушал его и сказал:
– Не торопился же ты с местью, Торгрим Боец.
Он огрызнулся:
– Где я был столько зим, судить не тебе. Но не моя вина, что твой отец умер дома и от болезни, а не от моей руки в поединке. Ты же, его сын, боишься меня, как боялся всё это время, пока я целовал Асгерд чуть не у тебя на глазах…
Сказав так, он вытащил топор, он как будто ждал чего-то, и я вдруг понял: он не столько оскорблял меня, сколько вызывал своё боевое безумие… которое превратило бы его в зверя, как тогда, в корабельном сарае… помогло бы ему сражаться со мной и не вспоминать ни о чём.
Но бешенство берсерка, столько раз просыпавшееся без спросу, в этот единственный раз никак не желало явиться на его зов…
Он сам почувствовал это и угрюмо проговорил:
– Я не забыл, как ты спас меня из полыньи, конунгов сын. Я тогда загадал: вытащишь, значит вытащишь и свою смерть. А если нет, значит Один тебя бережёт для других дел и моя месть ему не нужна. И ты знай: если бы это я стоял там на льду, а тонул ты, я не дал бы тебе руки.
Я сказал:
– До сих пор ты говорил правду, Торгрим Боец. А теперь ты лжёшь.
* * *
Что толку рассказывать, как мы сошлись и я бился с ним над костями людей, павших здесь, когда я ещё не был зачат…
Секира бьёт наподобие молнии Тора: второй удар редко бывает нужен. Мы с ним долго не могли коснуться один другого и только кружились, тяжело дыша. Железо со свистом рассекало воздух, но всякий раз натыкалось на другое железо и, лязгая, отскакивало прочь.
И мы молчали, потому что всё было уже сказано.
Это тянулось долго, но потом я поскользнулся на камне и едва не упал. И тотчас разжал пальцы, выронив топор, потому что Торгрим ударил меня в плечо.
– Так! – усмехнулся он, когда я подхватил секиру левой рукой. – У меня тоже была сломана правая рука. Но я выжил, а ты умрёшь здесь, конунгов сын.
Вот для чего он называл меня конунговым сыном. Я заткнул бесполезную руку за ремень и ответил:
– Может, так оно и случится, хотя и сдаётся мне, рано ты торжествуешь, Торгрим Боец. И вот что я ещё тебе скажу, чтобы ты радовался поменьше. Мою мать тоже зовут Сольвейг, и я родился сыном пленницы, но отец женился на ней и ввёл меня в род. И я помню, как она ждала его из походов! Ты потому и узнал меня тогда, я ведь похож на неё, а не на отца. И когда я ей расскажу, как расправился с тобой здесь, она, я думаю, не сразу припомнит, кто ты такой… и кто такой твой Сигвальди ярл!
Я сказал это и прыгнул вперёд, ибо сил у меня оставалось как раз на один удар и следовало его нанести. И я достал его топором, потому что мои слова оглушили его и он промедлил оборониться. Но я не смог разглядеть, сильно ли мне повезло. Торгрим вдруг крикнул мне:
– Сзади!.. Берегись!..
Я хотел оглянуться, но не успел. Камни у меня за спиной хрустнули под тяжестью зверя. Я ощутил смрадное дыхание на своей щеке. И одновременно – страшный удар в спину, швырнувший меня на камни, лицом вниз.
Я ещё слышал над собой рёв медведя, рычание и шум отчаянной схватки… но смутно, и мне было всё равно, чем у них кончится. Потом оба умолкли, и кто-то застонал, не то зверь, не то человек. Что-то прикоснулось ко мне, я не понял, лапа или рука… А когда меня понесли – или потащили куда-то, – я окончательно провалился во мрак, потому что было очень уж больно.
5
Я открыл глаза и увидел над собой тёмные стропила Котаруда. И морщинистое, осунувшееся от забот лицо старого Хёгни. Мой воспитатель смотрел на меня, подперев бороду кулаком. У меня хватило силы заговорить, и я спросил его:
– Где Торгрим?
Хёгни наклонился ко мне и положил руку на мою грудь, чтобы я не вздумал пошевелиться. Он ответил:
– Торгрим принёс тебя сюда на руках. Он рассказал обо всём, что у вас случилось, и я видел медведя, которого он зарубил.
Я повторил:
– Что с ним, Хёгни?
Ярл вздохнул:
– Он просил передать тебе, что из тебя будет славный боец. Ведь ты тяжело ранил его. Правда, я не знаю, кто из вас постарался больше, ты или медведь. Воины хотели казнить его за тебя, но я им не позволил, и Кари помог его отстоять. А сам он говорит, что умрёт всё равно и не будет особенной разницы, если его и казнят.
Я закрыл глаза и лежал так некоторое время. Потом спросил:
– Где он сейчас?
– В козьем хлеву, – сказал Хёгни. – Я велел устроить его там, потому что там чисто и тепло.
И дверь крепкая, добавил я про себя. Я сказал:
– Я пойду туда к нему.
Хёгни покачал головой:
– Незачем тебе туда ходить. Ты весь в повязках, а я хочу, чтобы Сольвейг увидела тебя живым.
Я пошевелился и понял, что спина моя будет разукрашена не хуже, чем у Торгрима. Я сказал:
– Ты не пускаешь меня потому, что там у него сидит наша Асгерд. Ведь так?
Хёгни отвёл глаза и промолчал. Я спросил его:
– О чём они разговаривают?
Хёгни ответил:
– Торгрим каждый день складывает для неё новую песнь. Это очень хорошие песни…
Тогда я здоровой рукой обнял его за шею, и мой воспитатель потом утверждал, будто на моём лице ему причудилась какая-то сырость. Но я больше склонен думать, что ему показалось. Я сказал:
– Помоги мне встать, отец.
…Как же далеко от жилого дома выстроили козий хлев в этом Дворе Бедняка! До него было целых пятьдесят семь шагов, я сосчитал. Я прошёл все их, один за другим. Когда Хёгни довёл меня до двери, я увидел там Хольмганга-Кари. Наш Поединщик сидел на земле возле двери, а рядом стояло его копьё и лежал привязанный Серый. Кари поднялся передо мной.
– Не казни Торгрима, конунг, – сказал он тихо.
– Я ещё не конунг, – сказал я ему и схватился за дверь, чтобы не упасть. – Я сын конунга…
Я снял руку с шеи Хёгни, потому что мне следовало войти туда одному.
Торгрим лежал на широкой лавке возле стены… И наверное, было ему хорошо. По крайней мере, что бы он там ни говорил, а на умирающего он был похож не больше, чем я. И Асгерд действительно сидела подле него. И при виде меня вздрогнула и наклонилась вперёд, словно думая его защищать.
Я сказал:
– Выйди, Асгерд.
Она как не услышала. Торгрим повернул голову и поднял на неё глаза:
– Выйди, Асгерд…
Она встала, поправила на нём одеяло и исчезла за дверью. Моя Асгерд даже не взглянула мне в лицо и обошла, как обходят лужу. Струившиеся волосы и те не коснулись моего плеча… Я повернулся к Торгриму. Он смотрел на меня спокойно и весело. Он спас мне жизнь и на руках принёс меня в Котаруд. Он убил своего медведя и снова мог складывать песни… Чего ещё?
Тут я почувствовал, что ноги подо мной подгибаются от боли и слабости, и испугался, как бы не упасть. Но всё-таки я не упал и прошёл те последние два шага, что нас ещё разделяли. Я сел рядом с ним и долго молчал, прежде чем заговорить.
Хромой кузнец
Повесть
1
Добрая весть пришла в дом Ни́дуда, конунга ньяров! А принёс её воин из тех, что много дней назад ушли с конунгом в далёкий поход. Начинало светать, когда Нидудов посланник осадил коня перед воротами и стукнул в них черенком копья:
– Радуйся, Трюд хозяйка! Конунг возвращается!
И не просто возвращается, рассказал он погодя. Но и везёт бесценную добычу, которая погнала его на север, в лесной край, куда нельзя было добраться на корабле. Великую удачу послал Нидуду воинственный О́дин, покровитель сражающихся героев. Конунг взял в плен мастера, не знающего себе равных в Северных Странах, – Во́люнда-кузнеца…
Вот и не стало нынче праздных рук в высоком и длинном доме славного повелителя ньяров. Шипело, жарясь, мясо для пира, пенилась в котлах ячменная брага, напиток героев. Из глубоких сундуков появлялись на свет драгоценные льняные одежды. Много будет спето нынче песен, выпито доброго пива, подарено блещущих золотом колец!..
Жена конунга, Трюд по прозвищу Многомудрая, готовила мужу достойную встречу. Статная, гордая, проходила Трюд по длинному дому, по широкому двору. Сама приказывала рабам и служанкам, сама проверяла, всё ли делалось согласно её слову. Скоро приедет конунг и с ним два её старших сына, Хлёд и Э́скхере. Надо, чтобы им всё понравилось в доме, где они не были много ночей!
Дочь конунга, юная Бёдвильд, вместе со всеми сновала из дома во двор и со двора в дом. Ей едва минуло семнадцать зим; и иначе как Бёдвильд Лебяжье-белой её не называли. В доме Нидуда её любили все: воины – за то, что она была красива и разумна, жёны воинов и рабыни – за то, что она была добра. Правда, мать её никогда не была конунгу законной женою; невесть откуда привёз он пригожую пленницу, и вскоре та умерла, оставив ему маленькую дочь. Зато Трюд, мачеха Бёдвильд, подарила мужу троих сыновей – Хлёда, Эскхере и Сакси. И по праву ими гордилась: двое старших, близнецы, во всём похожие на отца, были теперь с ним в походе.
Скоро она увидит их и прижмёт к сердцу…
Трюд стояла посередине двора, сложив на груди руки – красивые, начинавшие понемногу отвыкать от мозолей. На левом запястье поблёскивал серебряный браслет. Бёдвильд пронесла мимо неё деревянное ведёрко с водой. Тонкий стан её изогнулся, пушистые волосы рассыпались по плечам.
* * *
Меньшой сынишка Нидуда конунга, Сакси, услыхав рано утром о возвращении отца, залез на высокое дерево – и упорно на нём оставался, хотя день и подбирался уже к полуденной черте. Сын конунга обещал достойно продолжить собой отца: он вступал в свою одиннадцатую весну, но уже теперь редко расставался с мечом, вырезанным из мягкой сосны. И мечтал об одном: поскорей вырасти и стать столь же славным бойцом, как сам Нидуд и все его люди. Сакси по праву верховодил сверстниками во дворе, дарил им кольца, сплетённые из травы, и кубки, вылепленные из глины. И всегда один на один побеждал злого дракона – старый, набитый сеном мешок.
…Солнце пронизывало колючие ветви сосны, и растаявшая смола липла к рукам и рубашонке. Ветер покачивал высоко вознесённую вершину, и Сакси казалось, будто он был не на дереве, а на носу отцовской лодьи. Он стоял и зорко выглядывал врага среди голубых холмов морского пространства. В руках у него был меч, нет, не этот деревянный, а настоящий, из остро кусающей стали! А на голове – шлем. В точности такой, как у самого конунга. А вовсе не свёрнутый лист лопуха.
Он отыщет в море коварного недруга, везущего богатую добычу на своём корабле. Он возьмёт её в жестоком бою, и не одну песню сложат про тот бой бородатые отважные скальды! Этой добычей он поровну оделит своих верных людей…
Но тут среди синего моря внезапно заклубилось серое облачко пыли, и море перестало быть морем и снова превратилось в зелёный лес. В лесу, еле видимая за вершинами, извивалась дорога: на ней-то поднимали пыль весело скакавшие всадники.
Сакси едва не свалился с ветки, на которой сидел! Живо перегнулся с развилины, и звонкий голос полетел над двором, скрытым высоким бревенчатым забором:
– Конунг возвращается! Конунг едет, встречайте!..
И воин на сторожевой вышке, улыбаясь в густые усы, с намеренным запозданием повторил слова малыша:
– Конунг возвращается, встречайте…
Заскрипев, разъехались в стороны тяжёлые створки ворот. Челядь и воины, остававшиеся дома, высыпали наружу. Многомудрая Трюд вышла вперёд: сейчас она увидит мужа и сыновей. И пленника, за которым конунг ездил так далеко. Бёдвильд робко остановилась позади неё, в нескольких шагах… А Сакси, маленький и ловкий, словно бельчонок, проворно слез со своей сосны и во весь дух припустил по дороге в лес – встречать отца. Кому, как не сыну конунга, увидеть его первым!
* * *
Мерно шагал серый, в лоснящихся яблоках конь Нидуда: конунг въезжал в ворота. На седле перед ним сидел Сакси. Глаза мальчика сияли – отец позволил ему надеть свой боевой шлем. Следом за Нидудом ехали два его сына, близнецы Хлёд и Эскхере, красивые стройные юноши, на год моложе Бёдвильд. Хлёд, родившийся на мгновение раньше брата, во всём был заводилой; вот и теперь его конь бежал на полшага впереди.
Блестели серебром ножны мечей, наконечники копий и наплечные пряжки – сорок воинов следовало за конунгом ньяров! У каждого висел за спиной круглый щит, обитый звериным мехом, чтобы лучше соскальзывал вражеский меч, и фигурными железными пластинками – для крепости и красоты. Добрая была дружина!
* * *
Нидуд, вождь ньяров, спустил на землю сынишку и спешился сам. И Трюд обняла его, прижалась лицом к его широкой груди. Он поцеловал жену и ласково отстранил на длину вытянутых рук:
– Заждалась меня, Трюд милая?
Бёдвильд низко поклонилась ему:
– Здравствуй, отец мой конунг…
– Здравствуй, Бёдвильд! – отвечал Нидуд с довольной улыбкой. Красавица-дочь близка была его сердцу. – А я подарок тебе привёз. Держи!
Он пошарил за пазухой, и золотая искорка опустилась ей на ладонь. Она ахнула и зажмурилась. Крепко стиснула кулачок и медленно раскрыла его, словно боясь – вдруг улетит. Ни один конунг не сумел бы сделать своей дочери подарка дороже! На ладони Бёдвильд лежало колечко, узорно свитое из тонких сияющих нитей. Немало было у Нидуда всяких богатств, но подобной красоты в его доме ещё не видали…
– Теперь у нас много будет таких колец! – крикнул Сакси. Глубокий отцовский шлем сползал ему на глаза.
– Да! – всплеснула руками Трюд. – Что же ты, конунг, не похвастаешься добычей? Покажи нам пленника.
Нидуд почесал в бороде:
– А что показывать… Вон его везут, смотри сама.
* * *
Волюнд ехал между двумя всадниками, задом наперёд посаженный на рыжую лошадь. Житель далёкого северного края, он был одет в грубые шерстяные штаны и безрукавку из пёстрой шкуры оленя. А руки его были прочно скованы за спиной. Он молча смотрел на дорогу, уплывавшую назад. И нельзя было сказать по его лицу, слышал ли он, что происходило вокруг.
Воины хвастались:
– Мы подступили к нему, когда он спал, устав на охоте. Он проснулся и голыми руками уложил троих наших, но Один помог нам, и мы его связали. Славный кузнец будет у конунга!
И те, что оставались дома, восхищённо раскрывали рты. Наконец кто-то спросил:
– А где же сокровища? Неужели у него в кузнице нашлось одно-единственное кольцо?
– Мы перерыли весь дом, – отвечали воины. – Но всё зря. И он ничего не открыл конунгу, хотя конунг долго его спрашивал. Однако теперь-то он сделает для Нидуда семь раз по семь сотен звонких колец. А Нидуд нас ими одарит!
Волюнда стащили с лошади, разомкнув цепь, проходившую под её брюхом, от его левой ноги к правой. И когда он выпрямился, то оказалось, что он был на голову выше всех, кто его окружал.
Бёдвильд смотрела на пленника, положив руки на плечи единокровного братца Сакси. У Волюнда были крепкие ноги зверолова и могучие руки кузнеца. Ржавые цепи скрещивались на груди, железные звенья тёрлись друг о друга и скрипели. Тёплый ветерок шевелил его волосы цвета соснового корня. Лицо рассекала глубокая запёкшаяся рана. Глаза, тёмной синевы, от боли и сдерживаемой ярости казались почти чёрными.
– Смотри! – покачав головой, обратилась к мужу повелительница Трюд. – Смотри, как горят у него глаза. Как у дракона! Из лесу ты его привёз, и в лес он будет всё время смотреть, сколько бы мы его ни кормили. Наверняка он уже обдумывает, как отомстить!
– Я и сам это знаю, – нахмурился Нидуд. – Скажи лучше, что ты предлагаешь?
Трюд сложила руки на груди – льняное платье на ней было вышито красными и синими нитками. Она сказала:
– Сделай так, чтобы он не годился для мести. Вели подрезать ему сухожилия под коленями: это не помешает ему размахивать молотом, но сражаться он никогда больше не сможет.
Нидуд в восторге хлопнул себя по бедру:
– Воистину умную жену взял я когда-то!.. Так нам и следует поступить!
* * *
Хлёд и Эскхере побежали в дом и вернулись с глиняным горшком, полным горячих углей. Волюнда повалили на землю, и два десятка дюжих рук втиснули его в пыль, не давая пошевелиться. Сыновья конунга наклонились над ним вдвоём.
Робкая Бёдвильд задрожала всем телом и отвернулась. Трюд заметила это и недовольно сказала:
– Что ты дрожишь так, Лебяжье-белая? Ты жалеешь лесного бродягу, утаившего золото? Или, может быть, ты считаешь, что твой отец плохо поступил, послушав меня?
Нидуд, наблюдавший за сыновьями, не оглянулся, но видно было – разговор привлёк его внимание. Бёдвильд смутилась ещё больше и что-то невнятно пролепетала – конунг снисходительно улыбнулся…
Волюнд между тем не издал ни звука. Лишь руки, заломленные за спину, страшно напряглись, растягивая железную цепь…
– Готово! – сказал Хлёд. Выпрямился, вытер нож и убрал его в кожаные ножны на поясе.
– Готово! – повторил за ним его брат.
– Теперь поставьте-ка его на ноги, – приказал воинам конунг.
Пленника подняли… Бёдвильд не посмела встретиться с ним глазами и видела только, что он насквозь прокусил себе нижнюю губу – кровь бежала по подбородку.
Трижды его поднимали, и трижды он падал – молча и страшно, лицом вниз.
Впрочем, страшно было одной только Бёдвильд. Да еще, может быть, Сакси. Остальные смеялись – пленник их забавлял.
– Добро! – сказал Нидуд с удовлетворением. – Теперь снимите цепь и оттащите его в конюшню. А нам время садиться за стол. Веди в дом, жена!
Взял за руку Трюд и направился с нею через двор. Воины, весело переговариваясь, толпой повалили вслед.
* * *
Пир продолжался далеко за полночь…
Всё, чем богат был дом Нидуда конунга в эту щедрую летнюю пору, стояло на низком дубовом столе. Нидуд сидел на почётном месте хозяина, и хмельное пиво не убывало перед ним в кубке, выкованном из жаркого золота. А на стене за спиной вождя висели красные и белые щиты, и оттого стена казалась похожей на полосатый парус боевого корабля.
Один из воинов, которому Бра́ги, покровитель поэтов, хорошо подвесил язык, держал в руках арфу. Складно, сильным молодым голосом пел он про то, как знаменит Нидуд конунг, какие храбрые у него люди, какие славные сыновья, какая разумная жена и достойная дочь… Ясень мечей, куст шлемов – вот как называл он Нидуда. А после повёл речь о походе конунга далеко на север и о богатой и редкостной добыче, которую выпало там взять…
Бёдвильд слушала всё это, и кусок застревал в горле. Ибо Волюнд лежал где-то в конюшне, в тёмном углу, в колючей соломе. Искалеченный, униженный, избитый…
Улучив время, Бёдвильд поднялась с лавки и вышла во двор.
* * *
Там мягко светилось бледное полуночное небо: солнце незримо плыло чуть ниже северных гор… А во дворе шумно возились мальчишки, и, как всегда, первым заводилой был Сакси.
Согласно обычаю предков, детей Нидуда воспитывал не отец, а старый седой ярл по имени Хи́льдинг. При нём-то росли и Хлёд, и Эскхере, и сама Бёдвильд – покуда не вошли в лета. Он же, Хильдинг, далеко слывший премудрым, обучал воинскому искусству юного Сакси. И ещё Го́тторма, младшего сына Атли конунга, жившего в соседней долине, за горным хребтом.
И надобно сказать, что этот Готторм был на одну зиму старше Сакси, однако признавал его над собою. Потому что во всех забавах, когда им случалось поспорить, Сакси брал верх. Хотя и хвастался Готторм, что будто бы вот-вот должны были вырасти у него усы…
Любой мог сказать, глядя на Сакси: поистине рано кричат молодые орлы! Пива он пил пока что самую капельку, да и ел, понятное дело, тоже отнюдь не как взрослые мужи, давно носящие меч. Поэтому ему было неинтересно за столом, хотя там сидели воины во главе с отцом, а речи велись о походах. Куда больше, чем слушать о подвигах чужих, нравилось Сакси совершать свои собственные. Пусть пока только в игре, где не лязгала сталь и кровь, напиток жадного ворона, не орошала земли!
* * *
Вот и нынче мальчишки играли в конунга и его воинов, вернувшихся из похода. И Бёдвильд застыла от изумления, поняв, кем был в этой игре её младший братишка! Не победителем, а беспомощным пленником стоял он посередине двора. И за неимением цепи просто прятал руки за спиной. Вот его положили на землю, и Готторм провёл ладонью по его ногам… Потом Сакси приподнялся и пополз на четвереньках, нарочно неуклюже переставляя руки и ноги.
– Вот так, – сказал он весело, – будет ползать и Волюнд, когда заживут его раны!
Тут Готторм подобрался к нему сзади и стукнул пониже спины ногой в кожаном сапожке:
– А вот так конунг станет бить его, если он будет плохо ковать!
Сакси ткнулся лицом в пыль, оцарапав себе щёку и нос. Правила игры были мгновенно забыты: одним прыжком вскочил он на ноги и бросился к обидчику, сжимая перепачканные кулаки. Короткая схватка, и Готторм, прижатый к земле острой коленкой победителя, запросил пощады.
И Бёдвильд почудилось во всём этом недоброе предостережение судьбы… Почти со страхом она ждала, чтобы Сакси воскликнул: а вот так Волюнд рано или поздно отомстит за все свои обиды!
Но Сакси промолчал.
Завидев сестру, он выпустил сопящего, поверженного противника и побежал было к ней. Но вовремя вспомнил о своём достоинстве вождя, умерил прыть и приблизился чинно.
Он сказал:
– Ты видела, как я его? Я был Волюндом!
Она ответила, как подобало:
– Приветствую тебя, о доброхрабрый герой. Дай-ка я оботру следы жаркого сражения с твоего чела…
Сакси гордо подставил ей украшенное ссадинами лицо – Бёдвильд вытерла его своим платком. Не часто бывал он так послушен: говорила же повелительница Трюд, будто не многие умели ладить с ним лучше сестры. Разве отец да ещё Хильдинг ярл…
А у него уже созрел новый замысел, и он ухватил её за обе руки:
– Сестра! Почему бы нам с тобой не взглянуть на кузнеца?
У Бёдвильд заколотилось сердце, она ответила неуверенно:
– Да можно ли, братец?..
Сакси тряхнул волосами, выгоревшими на солнце.
– Я видел, там сидит Хедин и сторожит. У него горит факел. Он прогнал Хлёда и Эскхере, они хотели войти…
Очень страшно было идти в конюшню, но отказывать ему не хотелось. Бёдвильд пошла за Сакси через двор, мечтая про себя, чтобы бдительный Хедин прогнал и её. Но, как видно, молодой страж решил, что Сакси и тем более Бёдвильд навряд ли задумали что-то против кузнеца. Не дожидаясь просьбы, он посветил факелом внутрь – в глазах коней, неторопливо хрустевших овсом, заиграли красноватые блики… И Бёдвильд немедленно пожалела, что дала Сакси привести себя сюда.
Волюнд лежал на полу между двумя столбами, подпиравшими крышу, – он был привязан к ним за кисти рук. Он не мог не слышать речей, раздававшихся в двух шагах от него. Но не пошевелился, не повернул бессильно запрокинутой головы… Оленья безрукавка на его груди была распахнута, и Бёдвильд увидела великое множество ожогов, мелких и побольше, причинённых, должно быть, искрами, слетавшими с наковальни. Иные из них показались ей совсем свежими…
Тут Сакси внезапно шагнул вперёд – ни Бёдвильд, ни Хедин не успели поймать его за руку – и мигом оказался около пленника. Старшие замерли, но Волюнд по-прежнему не шевелился, и сын конунга деловито обошёл его кругом, а потом спросил, обращаясь к Хедину:
– Он теперь совсем не будет ходить? Только ползать?
– Не знаю, – пожал плечами молодой воин, с облегчением убедившись, что опасность сорванцу не грозила. – Может, и будет, но только недалеко и небыстро. Девять шагов пройдёт, а на десятом споткнётся!
Он прислонил к стене копьё и показал, как, по его мнению, должен был ковылять изувеченный кузнец. Наверное, он хотел рассмешить притихших Бёдвильд и Сакси… Но ни брату, ни сестре смешно почему-то не стало.
– Идём, – сказала Бёдвильд, протягивая руку. – Посмотрели, как тебе хотелось, и будет…
Тут Волюнд наконец повернул голову. И опять, как давеча утром, Бёдвильд будто вытянули плетью! И колечко на руке зашевелилось под его взглядом, стиснуло палец… Бёдвильд стало не по себе.
– Пойдём! – повторила она брату.
Сакси молча последовал за нею во двор…
Вечер и ночь прошли в томительной духоте; под утро же налетела гроза.
Всё в доме конунга примолкло и насторожилось. Все знали – это Тор, Бог грома, Бог-молотобоец, ездит за тучами в своей повозке, запряжённой двумя свирепыми козлами. Гремят окованные железом колёса, и люди слышат катящийся по небу гром. В гневе размахивает рыжебородый Бог своим молотом – горячие искры высекает волшебный каменный Мьйо́льнир, и они бьют в твёрдую землю, поражая ужасом самые отважные сердца…
Когда весь дом содрогнулся от близко грянувшего удара – совсем рядом, должно быть, промчалась небесная колесница! – Нидуд конунг поднялся со своего места, разгоняя шумевший в голове хмель.
– Я думаю, – сказал он, – это Тор сердится на меня, ибо я похитил лучшего из кузнецов.
Он без колебаний брал общую вину на себя: деяние, достойное вождя. Он сказал:
– Если Тор гневается, его гнев никак не назовёшь несправедливым.
Будто в подтверждение его слов, земля вздрогнула от нового громового раската. Длинный дом так и озарился всполохами мертвенного света, проникшими сквозь дымовое отверстие крыши. Нидуд сказал:
– Я принесу в жертву вепря. И вот эту драгоценную чашу.
К рассвету гроза ушла в горы, не причинив его двору никакого вреда.
* * *
В ту ночь – так, по крайней мере, рассказывали впоследствии – многомудрая Трюд посоветовала мужу отвезти пленника на остров Се́варстёд, лежавший в море недалеко от устья фиорда, и поселить там в каменной хижине, давным-давно выстроенной собирателями птичьих яиц. И этому второму совету жены конунг также последовал, ибо он был, как и первый, разумен.
Когда настало утро, над берегом всё ещё висела туча и моросил дождь. Над морем же ярко светило солнце, и никто не мог понять, хорошая стояла погода или плохая.
Люди, позёвывая, друг за другом выходили из дома. Освежали под дождиком головы, изрядно затуманившиеся на вчерашнем пиру.
Нидуд конунг посмотрел на спокойные морские волны и велел снаряжать вёсельную лодку. Нечего, сказал он, зря мочить льняной парус, купленный за серебро! Лодку на катках вывели из сарая, и рабы понесли в неё меховые одеяла, оружие, съестные припасы: конунг собирался провести на острове несколько дней.
– Где же наш кузнец? – спросил он, когда всё было готово. – Не забыть бы его здесь!
Воины засмеялись.
Пленника потащили в лодку. Он не сопротивлялся – то ли совсем ослаб, то ли понимал, что это было бессмысленно…
Нидуд ещё зашёл в дом, туда, где у него стояли крепко запертые сундуки, – Трюд, хозяйка двора, ключи от них всегда носила на поясе. Подняв тяжёлую крышку, Нидуд наугад выбрал несколько колец; толстыми и грубыми были те кольца – кузнец, выковавший их, привык, видно, делать одни топоры…
Нидуд вновь вышел во двор и сказал:
– Вернусь, подарки привезу.
* * *
Лодка быстро бежала вперёд, увлекаемая пятью парами вёсел. Поместившись на носу, Нидуд смотрел то вперёд, на приближавшийся остров, то вниз, в зелёную морскую пучину. Но не камни и не цепкие водоросли высматривал он в колебавшейся воде. О пленнике, попавшем ему в руки, наверняка уже прослышали все окрестные тролли. Не захотят ли они отбить чудо-мастера и заставить его ковать для себя? Что же, меч у Нидуда был всегда наготове…
Старый Хильдинг держал рулевое весло, твёрдой рукой направляя судёнышко к цели. Ярл с юности привык водить корабли, и его не могли перехитрить ни коварные мели, ни камни, великаньими зубами торчавшие из пучины. А уж все воды на несколько дней пути близ Нидудова двора Хильдинг ярл знал не хуже, чем свою постель в длинном доме у конунга. А её, эту постель, он всегда безошибочно отыскивал и трезвым, и пьяным, и даже с закрытыми глазами…
Волюнд лежал на дне лодки, под ногами у гребцов. И смотрел в небо.
* * *
Одиноко торчала из бездонных морских глубин голая скала – остров Севарстёд… Ни травинки, ни кустика не росло на чёрных гранитных откосах, лишь местами тронутых пятнами мха… Только чайки, промышляющие рыбой, гнездились здесь на узких уступах, да ещё собиратели птичьих яиц не в добрый час поднялись на эти скалы, выстроили жилище…
Домик, куда решили водворить пленного мастера, стоял на плече исполинского утёса, прислонившись к нему, словно воин, опившийся браги. Стены были сложены из камней. А чтобы не задувал внутрь холодный северный ветер, чья-то рука проконопатила щели мхом.
Когда все полезли по тропинке наверх, Нидуду случилось неожиданно оступиться. Будто живой, выскользнул из-под сапога предательский камень, и конунг упал на руки, больно ушибив локоть. Лишь чудо спасло его от полёта вниз, в стылую воду, плескавшуюся у подножия скал.
Нидуду привиделся в этом нехороший знак. Он сказал, помрачнев:
– Я упал. Видно, удачи мне здесь не будет.
Хильдинг, шедший сзади, возразил:
– Ты не упал, конунг. Ты просто коснулся этого острова, подтверждая, что он твой.