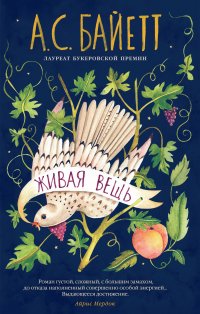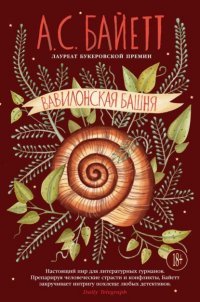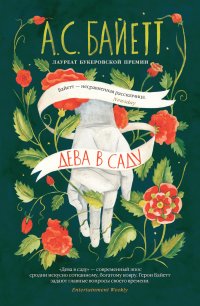
Читать онлайн Дева в саду бесплатно
- Все книги автора: Антония Сьюзен Байетт
A. S. Byatt
THE VIRGIN IN THE GARDEN
Copyright © 1978 by A. S. Byatt
All rights reserved
Серия «Большой роман»
Перевод с английского Ольги Исаевой
Оформление обложки Виктории Манацковой
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© О. Н. Исаева, перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Роман густой, сложный, с большим замахом, до отказа наполненный совершенно особой энергией… Выдающееся достижение.
Айрис Мердок
Антония Байетт – английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файв о’клок.
TimeOut
Байетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» – богатейшее полотно, где каждый найдет что пожелает: подлинный драматизм, пестрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову… Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.
The Times
В ее историях дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия.
Marie Claire
Амбициозный роман умного автора. Интеллект и кругозор Байетт поражают.
Times Literary Supplement
Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.
Scotsman
Герои Байетт останутся с вами еще долго после того, как вы перевернете последнюю страницу.
New York Times
Непростая книга. Ее нельзя походя похвалить, от нее нельзя отмахнуться. Она явно, неопровержимо хороша – и требует самого глубокого внимания.
Financial Times
Антония Байетт – один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум, и душу.
Daily Telegraph
Байетт принадлежит к редким сегодня авторам, для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих… Байетт населяет свои книги думающими людьми.
The New York Times Book Review
В лучших книгах Байетт груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.
The Baltimore Sun
Перед вами – портрет Англии второй половины XX века. Причем один из самых точных. Немногим из ныне живущих удается так щедро наполнить роман жизнью.
The Boston Globe
Байетт – Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в ее волшебном саквояже! Пестрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.
Elle
Байетт как никто умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя все богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.
Denver Post
«Дева в саду» – современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.
Entertainment Weekly
Байетт – несравненная рассказчица. Она сама знает, о чем и как говорить, а нам остается лишь, затаив дыхание, следить за хитросплетениями судеб в ее романе.
Newsday
Литература для Байетт – удовольствие чувственное. Ее бунтари, чудаки и монстры абсолютно достоверны.
Town & Country
От богатства повествования подчас захватывает дух. Байетт – это безупречный интеллект, беспощадная наблюдательность, четкие и правдивые портреты героев.
Orlando Sentinel
Мало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.
Hartford Courant
Чтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь ее в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя ее не читать – она открывает иные горизонты… Я пишу ради языка и еще – ради сюжета.
А. С. Байетт
Посвящаю эту книгу моему сыну, Чарльзу Байетту
(19 июля 1961 г. – 22 июля 1972 г.)
Я выражаю благодарность газете «Таймс» за разрешение привести во второй части книги статью «На заре года», а также издательству «Рутледж и Киган Пол» и Издательству Принстонского университета за разрешение процитировать в главе 34 отрывок из работы К. Г. Юнга «Психология и алхимия».
Пролог
Национальная портретная галерея, 1968 г.
То ли под влиянием минуты, то ли из запоздалого желания ранить, она пригласила Александра в Национальную портретную галерею послушать, как Флора Робсон читает стихи Елизаветы I. Он хотел отказаться, но вместо этого согласился и теперь стоял перед галереей, разглядывая закопченные буквы на фасаде. Дело было на вечеринке с нелепым набором гостей, и она, заодно уж, позвала остальных. Все отказались, кроме него и Дэниела. Некий юный художник даже изрек: его отвращают сами слова «национальный» и «портрет», так что он – пас. Это не моя тема, добавил непреклонный юноша. Это тема Александра, твердо сказала Фредерика, и тот было заспорил, хотя галерею любил. Так или иначе, вот он здесь.
Он задумался о двух словах, некогда весомых, а ныне заштатных: «национальный» и «портрет». Оба подразумевают единственность, неслиянность с другими культуры или человека как объекта живоподобного изображения. Оба немало значат для него или, по крайней мере, значили. Он стал смотреть по сторонам и незаметно увлекся: с точки зрения эстетики это было довольно забавно. С растяжек, рядком привязанных к полукруглой черной решетке, глядели малокровные копии портрета Елизаветы Тюдор, некогда принадлежавшего Дарнли: бледный коралл и золото, белила и сторожкая надменность. Все вместе возвещало: «Люди. Прошлое. Будущее».
По пути сюда лорд Китченер[1] не раз уставил на него укоризненный перст с вербовочных плакатов Первой мировой. Попался магазинчик под странной вывеской «Я был камердинером лорда Китченера»: поддельный брик-а-брак имперских времен, а вместо призывных горнов – вездесущий стон и дребезг электрогитары. На Шефтсбери-авеню другой плакат: монструозный тыл дюжего рабочего, по пояс голого, а ниже затянутого в красно-бело-синие бриджи. Поперек бугристых от натуги плеч было выведено: «Подставим плечо Британии!»
Александр стоял у подножия лестницы, а наверху перетекал бродячий галерейный люд, незаметно обзаведшийся новыми, то ли библейскими, то ли буддийскими, лицами. Тут были и сандалии «под Христа», и вышитые хламиды, и звон украшений, и внезапные порывы пения, нарушавшие порой просветленное затишье.
Он вошел внутрь. Ее внутри не оказалось, чего, конечно, следовало ожидать. А галерея изменилась. Впрочем, он и сам давно уже здесь не бывал. Викторианскую солидность красного дерева и добротной кожи потеснила на время мишурная пышность театральных подмостков. По сторонам парадной лестницы темно и густо засияли альковы с портретами гигантов тюдоровской поры. Что ж, неплохо. Он пошел наверх взглянуть на портрет, принадлежавший Дарнли, но его унесли по случаю представления. Александр остался на банкетке созерцать другую Глориану[2], окормляющую английские графства и в солнце, и в бурю, – она вся была из плотных мазков, из охры и кремзерских белил, отягченная стеганым шелком, увенчанная париком из конского волоса, крашенного хной, подпертая и удушаемая китовым усом.
Между ним и картинами протекала толпа. Казалось, это были те, кому не хватило места на лестнице, – то же многообразие оболочек и однообразие типов. Снизу грязные ноги в сандалиях, наверху бороды: шелковисто-гладкие, пышно-растрепанные, свалявшиеся. Сари и шафранные одеяния восточных монахов. Мундиры Вьетнамской и Крымской войн: цыплячий пушок на скулах, цыплячьи шеи торчат над золочеными воротниками и потертыми эполетами. Девицы с резиново-тугими телами, в серебряных колготках и сапожках, в серебряных юбочках, пляшущих вместе с крепкими задками. Вялые девы в черном бархате: бессильно повисшие сумочки из металлических чешуек, бумажные цветы в завитках и завесах париков. По несколько экземпляров Жорж Санд и мадемуазель Сакрипант: неизбежные мужские брюки, кружевные манишки и бархатные береты. Вот шелестят мимо бесполые люди в хламидах из индийских покрывал с криво напечатанным рисунком – сколько этой экзотики пылилось на приморских чердаках его детства! В руках новые миски для подаяний, штампуемые где-нибудь в Варанаси, на шеях стадно позвякивают бубенчики – тоже новенькие. Он видел такие на уличных лотках, и всякий раз с табличкой, сообщавшей, что бубенчик символизирует отрешенность от всего внешнего.
Облаченные в английские макинтоши, английский твид и английский же кашемир, американцы истово пролагали дорогу в толпе, электризуемые бормотанием карманного гида, поступающим по проводкам в пластиковые наушники. Гид, без сомнения, нашептывал им, что образы английского Ренессанса сочетают в себе иконописность и реализм. Лет на двести отстав от невесомо-незыблемых восторгов Высокого Возрождения, этот стиль кажется грубым и варварским, но он уже начинает осознавать себя – светский стиль, новое начало после иконоборческих излишеств молодого Эдуарда VI, у которого на площадях полыхали и потрескивали ангелы, Богоматери и Младенцы, сжигаемые во имя логического Абсолюта – Бога, не любящего образов.
Глядя на портрет Кромвеля и на юношей в чужих мундирах, Александр задумался о сути современной пародии. Ему, не понимавшему и не любившему ее, она казалась бесцельной и беспредметной. Остроумцы имитируют все подряд, движимые нехитрой смесью эстетского любопытства, ностальгии и глумливой тяги к разрушению, – быть чем угодно, но не собой, не здесь и не сейчас. Эти псевдосолдатики – отрицали они войну или втайне желали ее? Или они сами не знали? А может, это был продуманный «художественный манифест» на тему прикрытого и неприкрытого человека?[3] Или продолжение детской игры в наряжалки, только уже с истерическим оттенком? Александр очень неплохо знал историю моды, определенный шов или крой мог соотнести с традицией или прихотью таланта не хуже, чем стихотворный размер или авторский вокабуляр. На собственную одежду и поэзию он смотрел через ту же призму тонких модуляций и неявных нововведений. Но уже с тревогой думал подчас, что настоящей жизни нет ни в том ни в другом.
И все же в свои пятьдесят, в хорошо сшитом костюме из оливкового габардина, кремовой шелковой рубашке и золотистом галстуке с хризантемами, Александр был красив.
Вопреки здравому смыслу он решил снова поискать Фредерику снаружи, но приостановился на галерее над лестницей. Внизу висел портрет покойного короля Георга VI, его королевы и двух принцесс с подкрашенными карминовыми губами, в скучноватых платьях и туфлях с ремешком. Все четверо совершенно терялись на огромном холсте, занятом в основном бледно-зеленой – «в хорошем вкусе» – стеной да блеском золотых канделябров и серебряных чайников в одной из гостиных Виндзорского дворца. Прямо перед картиной Фредерика, уклоняясь и петляя, исполняла с неизвестным мужчиной нечто вроде танца вокруг треугольной стеганой банкетки. Мужчина, крупный и укороченный перспективой, состоял из блестящего черного винилового плаща, топорщившегося на выпуклых местах, и массы светлых прямых волос с легким отливом, как на охлажденном сливочном масле.
Вот незнакомец поймал Фредерику за запястье. Она поднялась на цыпочки, что-то шепнула ему, чмокнула возле уха и выскользнула. Он на прощанье широкой ладонью провел по ее спине и ласково задержался чуть ниже – жест явной и полной близости. Потом, не оборачиваясь, стал проталкиваться к выходу. Фредерика засмеялась и двинулась наверх. Александр отступил.
– Ах, вот ты где! Дэниела не видел? Удивительно, как это он согласился прийти.
Александр промолчал, потому что Дэниел как раз шел к ним – толстый, в черных вельветовых брюках и черной водолазке. Приблизился тяжелым шагом, приветственно кивнул.
– Ну вот и дивно, все собрались, – сказала Фредерика. – Вас на входе одарили?
В правой ее ладони лежал зеленоватый зеркальный квадратик, возможно крохотная плитка для ванной, а в левой – смятый розовый бумажный номерок: на одной стороне цифра «69», на другой лиловыми чернилами напечатано: «Люби!»
– А меня одарили, и, можно сказать, насильно, блондинистая Покахонтас и ковбой с зеленым козырьком для глаз. Что это, шутка или некий манифест?
– То и другое, – сказал Александр. – Наши манифесты обряжены, как шутки, зато к шуткам своим мы относимся исключительно серьезно. Помещаем их в рамы и развешиваем в галереях. Великий английский юмор вперемешку с американскими комплексами, западным абсурдизмом и заносчивостью Востока, где прояснение ума достигается ударом по уху. Ваши глубокие манифесты утверждают собственную абсурдность, проистекающую, впрочем, от некой еще большей глубины мысли. И так по кругу без конца.
– Ты мне напомнил! – перебила Фредерика. – Ты знаешь, что тебя включили в список чтения для обычной средней школы? Они должны в таком случае спрашивать у тебя разрешения?
– Перестань, – поморщился Александр.
Фредерика повертела в руке зеркальный квадратик:
– Что же мне с ним сделать?
– Можешь носить с собой, как символ гордыни, – предложил Александр. – Или самопознания.
Фредерика поднесла стеклышко к глазу:
– В него мало что видно.
– Убери в карман, – сказал Дэниел. – Раз уж взяла.
– Я взяла из вежливости. Из нашей знаменитой английской вежливости.
– Вежливость велит без фокусов убрать его в карман.
– Будь по-твоему.
Стулья для зрителей были расставлены на одной из длинных галерей. Тут были совсем другие люди. Александр забавлялся, считая влиятельных женщин: великая актриса и кавалерственная дама Сибил Торндайк милостиво опустилась в кресло-трон, придвинутое Роем Стронгом, тогдашним директором Галереи, знатоком иконографии Елизаветы Тюдор, а может, и поклонником Королевы-девственницы в самом языческом смысле. Чуть откинув голову, с выражением суровым, но благосклонным восседала кавалерственная дама Хелен Гарднер, профессор Оксфордского университета, специалист по ренессансной литературе. Была тут и леди Лонгфорд, биограф королевы Виктории. Александру показалось даже, что позади нее он разглядел крупный силуэт погруженной в раздумья Фрэнсис Йейтс, чья работа о Деве Астрее[4], как он понимал теперь, изменила ход всей его жизни. А вот и знаменитая историческая писательница Антония Фрейзер в сопровождении коренастой дамы в плаще. На леди Фрейзер была юбка от Ива Сен-Лорана, высокие сапоги мягкой замши, а к ним жилет и шляпа – результат многоступенчатой модной эволюции кожаных одеяний ковбоев, индейцев и звероловов.
Над установленной внизу сценой висел портрет, принадлежавший Дарнли. Леди Фрейзер рассматривала его критически, сохраняя, впрочем, на лице безукоризненно корректное выражение. Ее симпатии, видимо, лежали в иной сфере, хоть Александр капризом воображения и превратил ее в современную Бельфебею: золотистые волосы, кожаная одежда, память небывших охот. А коли так, Фредерика в чем-то вроде вязаной кирасы из блестящей серой шерсти и в сапожках с металлическим отливом вполне могла сойти за Бритомарту[5]. Даже волосы ее походили на бронзовый шлем, впрочем, не ренессансных линий, а скорей в стиле космической эры. Александр отвернулся и стал смотреть на Елизавету: то был его любимый портрет королевы.
Перед ним был образ ясный и сильный. В легком платье тугого молочного шелка, расшитом золотыми ветвями, украшенном по корсету шарлаховыми кисточками и небрежно приколотой двойной нитью жемчуга, королева глядела с затаенным пылом юной девушки. Небрежно застывшие руки являли все свое изящество. Королева то ли слегка покачивала, то ли сжимала – наверняка не понять – круглый веер из рыжих, коричневых, черных перьев. Этот крепко закрученный маленький темный вихрь намекал на страсть, на ураган движения, смирённый ради портрета. Постепенно пристальному взгляду открывались двойные знаки, выходящие за пределы очевидной двойственности женщины-монарха. Ярко набеленное лицо было молодо и надменно. Но стоило взглянуть иначе, и оно вдруг делалось костистым, белесым, бесцветным. На этом лице без возраста черные глаза под тяжкими веками смотрели мудро и холодно.
С портретами Елизаветы Тюдор обращались как с иконами или колдовскими куклами. Мужчины гибли за то, что покушались на них: резали, жгли, протыкали кабаньей щетиной, погружали в яд…
Елизавете, конечно, было страшно, но головы она не теряла.
«Несомненно, – думал Александр, – за этим портретом – подлинная личность. Но Елизавета подобна Шекспиру: столь явный избыток силы вызывает странную смесь чувств. Идолопоклонство и иконоборчество, любовь и страх, а с ними – потребность смягчить, приуменьшить не только инаковость, но и простую человеческую суть монархини и поэта. Тут-то идут в дело исторические анекдоты и бессмысленные теории. Шекспира не было. Под его именем писал Марлоу, Бэкон, де Вир или сама Елизавета. Елизавета не была Королевой-девственницей. Она была Блудницей Вавилонской или Лондонской, матерью втайне прижитого ребенка, мужчиной, Шекспиром, наконец. Александр однажды с большим удовольствием прочел книжицу с хвалебным предисловием Гарднера, в которой было «доказано», что шекспировские пьесы – тайный плод брака меж королевой и Англией, а также двойной клятвы: целомудрия (принесена в 15 лет) и верности литературе (принесена в 45). В основе теории лежало следующее положение: королева была достаточно образованна, чтобы располагать, во-первых, необходимым обширнейшим вокабуляром (по разным оценкам, от 15 до 21 тысячи слов), а во-вторых – отрицательной способностью[6]. Примером последней, по мнению автора, служило умение королевы вечно поддерживать вопросы войны, казны и возможного замужества в состоянии напряженной неразрешенности. Елизавета, конечно, скрывала свое авторство, дабы снискать непредвзятую критику и избежать обвинений в небрежении монаршим долгом.
Александр тайком улыбнулся. Если Шекспира, как и Гомера, непременно нужно было обрядить женщиной, то Елизавету энтузиасты, включая многих его современников, вечно стремились сделать мужчиной. В мальчишеские годы эта мысль волновала его невыразимо, куда больше слухов о бастарде, прижитом от Лестера и спешно сбытом с рук: под фижмами мощно играли жилы и сухожилия, в шелестящем шелку скрывались мужские мышцы и прочее мужское. Повзрослев, он стал этот тайно манящий образ ассоциировать с образом Природы у Спенсера, что «съединивши два начала», «без пары не грустит нимало». Весьма удовлетворительное состояние, особенно в сфере фантазий.
Актеры выходили и уходили. Зрители хлопали. Флора Робсон, простоватая, в простом черном платье, прочла стихи самой королевы:
- Как тень моя, всегда любовь со мной.
- Играет в прятки, в руки не идет…[7]
Потом читала воспоминания о пышной коронации Елизаветы, о ее необычайной щедрости к простому народу. Читала ее речь, обращенную к солдатам в Тилбери…[8]
В тихой глубине души Александр был тронут. Фредерика – отнюдь. Подача Робсон была чересчур мягкой и женственной. Жесткие контрасты в духе Петрарки она облекала в текучий голос с викторианской тоскливой ноткой. И этот голос, богатый, молящий, правдивый, дрогнул на самой известной и яростной фразе: «Пускай тело мое – тело слабой женщины, но сердцем и нутром я – король». Она тут целиком женщина, раздраженно подумала Фредерика, самая заурядная женщина в кухонной перспективе. Домохозяйка в парче. Такую королеву без регалий не отличить от актрисы. Тут великая проза, страстный, яростный ритм – а Робсон изображает «человеческую интонацию» и «естественное течение речи». «Я не так привязана к жизни, чтоб жаждать ее продолжения, и не вижу в смерти достаточной беды, чтоб ее страшиться, но как знать: если Смерть занесет надо мною руку, может, кровь и плоть моя воспротивятся и пожелают ее избегнуть…» Фредерика задумалась: как произносились все эти речи? С той же совершенной звучностью, что представляется ей? Или с волнением, с паузами, с запинками? Может, потом, на бумаге, их дополняли и шлифовали для потомков, в числе которых и сама Фредерика?
Какие-то актер и актриса дуэтом прочли неизвестное Фредерике стихотворение: «Песнь Ее Величества Королевы и Веселого Английского края»:
- Приди ко мне, милая Бесси,
- Спеши ко мне через ручей!
- Я тебя обниму и женой назову,
- Драгоценной супругой своей…
И еще потом:
- Наследница моя,
- Тобой пленился я —
- Английский край веселый…
Память словно дернула ее за рукав: «Спеши ко мне, милая Бесси, спеши ко мне через ручей»… Фредерика мгновенно оживилась. Когда актеры дочитали, она, в свою очередь, дернула за рукав Александра:
– Это же «Лир»! Лир судит отсутствующую дочь за предательство, и Эдгар говорит: «Плыви ко мне, Бесси, через ручей»[9]. А Шут отвечает:
- Но есть в лодчонке течь.
- Завесть об этом речь
- Нет смелости у ней[10].
Я в сносках всегда читала, что это про сифилис. Это ведь было опасно – вписать «ручей» в стихи о королеве?! Кощунство или вроде того?
– Вещь написана под конец ее правления. Все боялись, что страну разорвут на части – как Лир разделил свою. Упадок монаршей мощи и Веселой Англии.
– Она архивариусу Тауэра сказала: «Я сама – Ричард Второй». Свергнутый Ричард, понимаешь?
– Понимаю.
– Естественно, это же есть в твоей пьесе. Я, наверно, оттуда и знаю эту фразу.
– Наверное, – сказал Александр, охваченный невыносимой грустью. Лучше бы он никогда не писал этой пьесы. Сейчас пред лицом королевы на полотне он был как мужчина, неудачно посягнувший на женщину: никакие иные отношения с ней были для него невозможны.
– Если бы я мог написать ее заново, то сделал бы все совсем по-другому.
– Так напиши, кто тебе мешает?
– Ну нет.
Время для Александра было исключительно линейно. Счастливые случаи не повторялись, они возникали и исчезали навсегда. Он думал порой, что приемами более современными, более опосредованными можно было бы дать Деву, сад, сегодняшний день и Англию, избежав как лишних сантиментов, так и резкой иронии. Но пробовать не собирался.
– А тогда пьеса была хороша. В начале. Мы все пели, танцевали… Забавно: сейчас пятидесятые считают пустым временем, ненастоящим. А мы тогда жили, и время было довольно славное: пьеса, коронация и все прочее…
– Обманувшая заря, – сказал Александр.
– Другой у нас не было. У меня, во всяком случае. Было то, что было.
– Мне пора, – вдруг заторопился Дэниел.
Фредерика и Александр расстроенно повернулись к нему:
– Ты мог бы предупредить.
– Тебе хотя бы понравилось? Что скажешь?
– Ничего, потому что, признаться, почти ничего не слышал. Так забегался, что как сел, так и задремал. Извините. Мне сейчас бежать надо, с одной женщиной повидаться.
У женщины, к которой спешил Дэниел, сын попал в автокатастрофу. Он был красивый мальчик, а стал ходячей оболочкой красивого мальчика, восковой куклой, попеременно одержимой то вопящим демоном, примитивным духом, способным есть, спать и иметь эрекцию. Отец не выдержал и ушел из семьи. А мать – у матери раньше была школа, где ее ценили как учителя, хорошие подруги, миловидная внешность. Все это ушло – только страх остался, злость, чудовищная усталость. Она ни на минуту не оставляла своего мальчика (или то, что теперь было им). Она подала в суд за понесенный ущерб и теперь хотела, чтобы Дэниел пошел с ней, потому что, если кто-то над ее мальчиком посмеется, она может убить. Дэниел согласился: действительно, му́ка ведь в судебном коридоре бесконечно ждать своей очереди. И в Галерею-то он пришел, чтобы послушать кого-то другого, прежде чем мать режущим голосом снова заведет о своей беде, прерываемая лошадиным фырканьем сына. Послушать не удалось. Он помотал головой и повторил, что ему пора.
Вышли вместе в дружеском молчании. Дэниел, повернувшись к Александру, с трудом выжал из себя:
– А мне твоя пьеса больше нравится.
– О чем ты? Не надо, – отвечал Александр, тоскуя о неповторимости времени и искусства.
Коротким путем дошли до площади Пиккадилли, где Купидон, замерев на одной ножке, метил стрелой поверх наркоманов, сидящих у его постамента или бредущих невесть куда сутуло и криво. Дэниел вдруг объявил, что ему в метро.
– А ты не уходи, – сказала Фредерика Александру. – Выпьем где-нибудь чаю.
Дэниел стал медленно спускаться в теплую и пахучую темноту.
– Пойдем в «Фортнум и Мейсон»?[11] – предложила Фредерика. – Это будет забавно.
Он хотел отказаться, но согласился.
Часть I
Робкая добродетель[12]
1. В Дальнем поле
В 1952 году мир Александра Уэддерберна сотрясали события прошлых веков. Собственно, когда Георг VI умер, пьеса была уже в основном закончена. Впоследствии Александру нередко приходилось прочерчивать в сознании окружающих эту хронологию: выбор темы и кончина монарха. Пьесу часто принимали за сценарий любительского спектакля, заказанный для Празднества искусств по случаю передачи Лонг-Ройстон-Холла тогда еще недовоплощенному Северо-Йоркширскому университету. Само Празднество, конечно, должно было влиться в череду самодеятельных увеселений в парках и садах по случаю коронации Елизаветы II. Воистину, если бы пьесы не было, ее бы стоило изобрести. Но пьеса, по счастью, была.
Все началось с его безобидной одержимости модернизацией языка и стихотворной драмы в частности. Тогда это носилось в воздухе. Был Элиот[13], был Фрай[14]. На последнем курсе Оксфорда Александр решил, что всему виной Шекспир. Он был так несоразмерно велик, что после него почти невозможно стало писать хорошие пьесы. Драматург либо принципиально модернизирует текст и весь уходит в принцип, либо помимо воли производит водянистые, шекспирообразные вирши. Александра осенило пойти на Шекспира в лоб: написать историческую драму, как у него, но современным стихом и таким образом дать без уловок и время, и место, и самого Шекспира. Позже, по причинам как личным, так и эстетическим, он оставил Шекспира и занялся королевой Елизаветой Тюдор. Ему хотелось живого, пульсирующего реализма, и он немало помучился в тех местах, где пьеса естественным образом сворачивала к стилистическим фокусам и пародии. Он работал приступами и провел несколько лет в любовных литературных раскопках и формальных экспериментах, в наитиях и уныниях. Он был тогда младшим учителем английского в средней школе Блесфорд-Райд, что в Северном райдинге Йоркшира. И вот однажды, почти ненароком, надзирая за мальчишками на экзамене по биологии и одновременно подправляя что-то в пьесе, он вдруг понял, что она окончена, что она – подошла к концу. Больше он ничего в ней сделать не мог. И не знал, как быть дальше без надежды, без одержимости, без прозрачных стен, где среди певучих ритмов и живых абрисов жил и двигался он сам. Он запер пьесу в стол, дал отлежаться месяц – тот самый, когда умер король, – и отнес ее Мэтью Кроу.
Смерть короля отозвалась в нем тягостно – отчасти из-за окончания пьесы. Тут было и чувство потери, и собственная неприкаянность. Он свозил мальчиков из срединных классов в городок Калверли послушать, как глашатай прокричит с соборных ступеней о восшествии на престол Елизаветы II. «Король умер, да здравствует королева!» Труба пропела тонко и чисто. Мальчики с торжественными лицами толклись на месте, ожидая прилива каких-то чувств. Эта смерть ставила точку под первой главой их жизни, коротенькой главой, которая должна была казаться им вечностью: продуктовые карточки, конец войны, скупая целесообразность послевоенного быта. Александр вспоминал короля. Вот кинохроника, где Георг VI осматривает разбомбленные кварталы, трогает обломки. Вот его бестелесный голос по радио: мы объявляем войну – взволнованный, пасторский голос. Александр думал, что целая нация силится сейчас представить человека, которого знали все, мертвым и одиноким на ложе смерти. Силится и не может. Но в конце концов, для того и нужны короли. Личная скорбь Александра была нелепа и неподдельна.
Мэтью Кроу в буквальном смысле утвердил пьесу на местной почве, овеществил ее хрупкие контуры, возвел в ранг творческого явления и своего подопечного начинания. Ему принадлежал особняк Лонг-Ройстон, архитектурный родственник Хардвик-Холла, что дальше к северу, только без гигантских окон и грузных башен. Лонг-Ройстон был равно призван служить обиталищем династии Кроу и поражать воображение ближнего, но ударение ставилось все же на обитании. Александр и без того уже был в долгу перед Кроу, прирожденным импресарио и меценатом. Благодаря связям Кроу его первая пьеса «Бродячие актеры» некоторое время шла на подмостках лондонского Театра искусств. Впрочем, с недавних пор Александр несколько стеснялся своего первенца: обратясь на путь радикального реализма, он укрепился в мысли, что пьесы о пьесах и актерах – знак увядания театрального искусства. Кроме того, за пределами школы Кроу единственный обеспечивал ему некое подобие интеллектуальной и светской жизни. Кроу истово верил во все местное: культуру, патриотизм, таланты. В молодости он пробовал себя как режиссер в Вест-Энде, но вскоре вернулся восвояси и занялся устройством фестивалей и любительских постановок в церквях, частных концертных и пустых амбарах. Он говорил, что предпочитает быть первым в деревне, и был таковым. Он был очень богат и редко наезжал в Лондон.
Прочитав пьесу, он пригласил Александра отобедать и выказал бурный энтузиазм по поводу его творения. Позже, когда они перешли в кабинет и устроились у камина, Кроу за кофе и бренди поведал ему несколько тайн местной дипломатии и вообще слегка разоткровенничался. Кроу обожал дипломатию, тайны и откровения. Подавшись к огню из объятий высокого сафьянового кресла, он с восторгом раскрыл перед Александром внутренние пружины влиятельных организаций, трудившихся над созданием Нового университета. Во-первых, было сильнейшее Движение за образование для взрослых – от него исходила основная идея. Были два колледжа: богословский Святого Чеда и женский педагогический Святой Хильды, которым предстояло слиться в университет. Был, наконец, Кембридж, заложивший основы удаленного обучения для взрослых. Интимно понизив голос, Кроу говорил о епископе, о министре, о некоем человеке из министерства финансов, об ультиматумах и компромиссах, но Александр, не одаренный чутьем политика, часто не мог по достоинству оценить тот или иной гроссмейстерский маневр, умную уступку, гениально высчитанный момент. Кроу описывал долгий процесс составления учебной программы, попытки придать всему сугубо местный колорит и направленность на взрослую аудиторию. Предполагалось, что, подобно Кильскому университету, основанному недавно и пока единственному в своем роде, Новый университет будет специальные курсы предварять курсами общей тематики, дабы формировать, по образцам Возрождения, всесторонне развитого человека. Говорил Кроу и о собственной тонко разыгранной роли: выждав минуту, когда стороны зашли в тупик, он объявил, что Лонг-Ройстон – и дом, и землю – передает университету на том условии, что и впредь будет жить там в своем углу.
Время было выбрано как нельзя удачно: прошение на высочайшее имя, объявление о щедром даре Кроу, и в ответ – королевская грамота об учреждении университета… Все это сойдется в зените в год коронации и будет отмечено постановкой пьесы Александра, которая тоже пришлась исключительно кстати. Представьте: летний вечер и Елизавета Тюдор на Большой террасе в парке Лонг-Ройстона… Пьеса весь Йоркшир призовет к оружию… в том смысле, что даст людям работу и откроет путь к творчеству. Понадобится ведь целая армия, тысячи человек: актеры, музыканты, рабочие сцены, художники по костюмам, костюмерши – всё, естественно, местные дарования.
– Моя пьеса не сценарий для самодеятельности, – сказал Александр.
Разумеется, нет. Пьеса – произведение искусства и, при некоторой доле удачи, получит достойное воплощение. Кроу как местный деятель будет тут в своей среде, и Александр в этом вполне убедится.
Бурный характер местной деятельности поначалу ошеломил Александра. В самом скором времени он был снова призван в Лонг-Ройстон и представлен организационному комитету Празднества. Комитет составляли: епископский капеллан, человек из министерства финансов, мисс Мотт с курсов удаленного обучения, мистер Баркер из городского совета Калверли, сам Кроу, разумеется, и Бенджамин Лодж, лондонский режиссер. Пьеса за это время успела еще оплотниться и размножиться: каждый из присутствующих имел собственную копию. Каждый поздравил его с талантливой и своевременной вещью. Надо всем благожелательно царил Кроу. Комитет обсуждал даты, затраты, рекламу, сопутствующие мероприятия, распределение ролей, вопросы санитарии. Александр так и не уловил, кто и на каком этапе решил, что пьеса будет поставлена. К тому же его смутно тревожило присутствие Лоджа, пару раз обронившего слово «самодеятельность» и сказавшего, что текст придется сократить. Кроу, почуявший напряжение, задержал обоих, налил им виски и под сурдинку выцедил из Лоджа несколько комплиментов пьесе и ее языку, а из Александра – похвалу беспощадно минималистской постановке Вейкфилдских мистерий[15], которые Александр видел и действительно высоко оценил. Лодж был дороден и молчалив. У него был чудовищный, горчичного цвета свитер и черные волосы, чье оскудение, как часто бывает, восполняла огромная пышная борода. Кроу же в свои шестьдесят имел пунцовое херувимское личико с налетом мальчишеской недовершенности, большие бледно-голубые глаза, чувственный изгибистый ротик, а на голове легкий серебряный пух вокруг пролысинки. Годы слегка округлили его, но не до тучности. Пока Лодж и Александр еще лучились довольством, происходившим как от дивного виски, так и от сознания собственной небесполезности, Кроу подхватил Александра и умчал, обещая доставить домой в Блесфорд-Райд.
Кроу довольно резво гнал свой старинный «бентли»: мелькали домики, ограды сухой кладки, кочковатые поля, край пустоши. Вниз, в Блесфордский дол, вверх к школе по длинной подъездной дороге, обсаженной липами. У красной готической арки Кроу затормозил:
– Что ж, вы можете быть довольны и сегодняшним днем, и собой вообще.
– Да-да, конечно. Я надеюсь только, что и вы довольны. Не знаю, как вас благ…
– Вы, я вижу, тревожитесь из-за Бена. Не стоит. До самодеятельности он не опустится. Во-первых, я не позволю, а во-вторых, он далеко не дурак. Просто любит внести нечто свое. Поворошить немного текст, чтобы чувствовалась его рука. Вы это, конечно, заметили. Но я присмотрю, чтобы он не расходился. В этом не сомневайтесь. Да и сами посматривайте. Отпустят вас на время с этих галер? – Кроу кивнул в сторону нелепо угрюмой арки. – Злосчастный каприз моего предка… Долго вы планируете тут оставаться?
– Пока не знаю. Я люблю преподавание. Но соблазнительно, конечно, писать не урывками, а постоянно…
– Так найдите себе первоклассную школу. С первоклассным руководителем направления. Тогда будет время писать. Билл человек выдающийся, но совершенно невозможный.
– О, я хорошо лажу с людьми. К тому же Билл – в своем роде тоже первоклассный человек. У нас отличные отношения.
– Вы меня изумляете. И что же он, по-вашему, скажет на эту затею с пьесой?
– Боюсь помыслить. Стихотворную драму он не жалует.
– Как и меня, – подхватил Кроу, – как и меня, уверяю вас. Как, говорят, и университет, по крайней мере, в нынешнем замысле.
– Я с ним поговорю.
– Вы отчаянный человек.
– Но ведь нужно же сказать?
– Я бы не стал. Я бы просто уволился. Впрочем, вы другой. Ну что ж, удачи.
«Бентли» круто развернулся, брызнув гравием. Александр, до сих пор в легком тумане от событий стремительного дня, побрел к школе.
Школа стояла покоем, с трех сторон обжимая лужайку грузными краснокирпичными галереями. Даже стрельчатым аркам придана тут была несвойственная приземистость. В арках обитал неоготический каменный народец, с похвальным беспристрастием завербованный из некоего универсального пантеона: Аполлон, Дионис и Афина Паллада, Изида с Озирисом, Бальдр с Тором, рогатый Моисей, король Артур, святой Кутберт, Амита Будда и Уильям Шекспир.
Блесфорд-Райд была школа частная, прогрессивная и чуждая дискриминации. Ее основал в 1880 году Мэтью Кроу, прапрадед Кроу нынешнего, разбогатевший на сермяге и приобретший значительную для дилетанта репутацию знатока мифологии. Школа нужна была преимущественно для того, чтобы его шестеро сыновей обучались вне дома, но и вне соприкосновения с христианством в его расхожем виде. В основу школьного устава был положен агностицизм. Отдельной статьей запрещено было устройство «часовен, молелен, комнат для уединения и других религиозных помещений». Галереи и пантеон не считались, они были – Искусство. При жизни Кроу-основателя школа ненадолго полыхнула огнем беспримесной причуды. Возможно, именно поэтому двое его сыновей стали священниками, а один – начальником тюрьмы. Из оставшихся трех первый унаследовал сермяжное дело, второй сперва был учителем классических языков в той же школе, а потом архивариусом, председателем Блесфордского историко-топографического общества. Третий умер рано. Мэтью Кроу, обучавшийся в Итоне и Оксфорде, происходил от архивариуса, чей брат-промышленник не оставил потомства.
Блесфорд-Райд никогда не была особенно популярна. Она стояла несколько на отшибе, среди вересковых пустошей Йоркшира. Поблизости ничего не было, кроме соборного городка Калверли, – не столь отполированный, как Йорк, и не столь картинно самобытный, как Дарем, он проигрывал обоим. В исторической перспективе школе, если можно так выразиться, не хватало чутья: изрядно почудив в пору всеобщего англиканского конформизма, она – ввиду оскудения бюджета и смягчения направляющей руки – взялась осторожничать, именно когда чудачества могли бы придать ей определенный шарм. Теперь ее советовали тем, кто не хотел отдавать сыновей в военное училище; кому претило, что в частных школах младшие по обычаю получают тычки от старших; на кого в робком детстве повеяло жженой плотью со страниц «Тома Брауна»[16]; кто с легкой насмешкой отзывался о Флаге и Империи или, наконец, попросту жил неподалеку. Ее же выбирали те, кого отвращала неопрятность быта, сандалии на босу ногу, сигареты, выпивка, половая распущенность и навязчивое половое просвещение, принцип вседозволенности и интеллигентская заумь. По этой причине школу в основном наполняли мальчики среднего сословия, чьи бережливые и благоразумные родители понадеялись, что чада одолеют вступительные испытания, и потому не отдали их на растерзание вопиящим ордам государственной средней школы.
В школе были стипендии для нехристианских меньшинств: евреев, эпилептиков, сирот, способных мальчиков из рабочих и многодетных семей. Теоретически ею управлял парламент из учеников и учителей, который избирался по сложному принципу пропорционального представительства, выведенному одним из последних директоров. Учителя делились на три категории. Первую составляли блестящие юноши, которые приходили в чаянии академической и нравственной свободы, но вскоре направляли стопы в журналистику или школы более либеральные и престижные. Вторую – блестящие юноши, которые приходили, невесть почему оставались и начинали неприметно стареть. Третью составлял Билл Поттер, прослуживший в Блесфорд-Райд без малого двадцать лет. В целом это была обычная либеральная школа, ставшая всем для всех[17] без крайностей и потуг на большее.
Билл Поттер заведовал направлением английского языка и был непосредственным начальником Александра. По общему мнению, это был первосортный учитель, дьявольски увлеченный, несгибаемый и свирепый. Билла уважали отборочные комиссии вузов и боялся собственный директор. Ему предлагали квартиру в одном из нарядных школьных корпусов, но это значило бы присматривать за живущими там мальчиками, а Билл согласен был только учить. Поэтому он до сих пор жил в краснокирпичном домике, куда некогда привел молодую жену. Целая череда таких домиков, поделенных вертикально на два жилища, была построена для семейных педагогов и стояла одиноко на краю самого удаленного поля для регби, справедливо звавшегося Дальним полем. Само же поселение получило имя Учительской улочки.
Александр не без опасений решил отправиться к Биллу.
Билл во многих отношениях воплощал в себе исходный бунтовской дух Блесфорд-Райд. Он громогласно придерживался увесистых принципов агностической морали Генри Сиджвика[18], Джордж Элиот[19] и первого Кроу. Он одержимо творил вокруг себя жизнь по Рёскину и Моррису[20]. С суровым уважением относился к настоящим рабочим, их жизни и интересам, что сближало его скорее с Тоуни[21] времен его учительства в гончарном Сток-он-Тренте. Его энергия во многом питала скромную культурную жизнь округи, какой она была в 1953 году. Билл читал лекции для взрослых заочников, которые съезжались к нему издалека, в любую погоду, в фургонах и междугородних автобусах, из деревушек, разбросанных по пустошам, из курортных местечек, из городков ткацких и сталелитейных. Билл не дал расточиться Литературно-философскому обществу Калверли, сиречь Литфилу. Под его влиянием люди создавали что-то свое, настоящее и долговечное. Члены Литфила инсценировали и сыграли серию лоуренсовских сказок[22], и во всем чувствовалась рука Билла, его сумрачная одержимость совершенством, род мании. За годы лекторства Билл составил собрание работ своих заочников, посвященное местной культуре и литературе. Один учитель пения, например, написал исследование по играм-рифмушкам. Самодеятельная художница, в климаксе пережившая нервный срыв и ненадолго попавшая в психиатрическую клинику Маунт-Плезант, изучила рисунки тамошних больных. Были вполне академичные эссе, например, об источниках, на которые опиралась Э. Гаскелл[23] при работе над «Поклонниками Сильвии». Были любительские, но далеко не дилетантские исследования местных речевых моделей, были продуманные интервью с писателями, жившими и работавшими на севере Англии, – и за всем этим стояли здешние лавочники, учителя, домохозяйки. Билл умел отдельные работы, робкие и ученические, возвысить до Работы с большой буквы, умел придать собственное лицо им и сообществу, их создавшему. Он был непреклонный деспот и умный слушатель. По его намекам косноязычная рассказчица понимала, как повернуть свои топорные фразы, чтобы сквозь них проглянул притягательно-самобытный стиль. Все это – не забывая о блесфордских мальчишках, которых он гнал от экзамена к экзамену, тираня, язвя, вытягивая в полную меру роста.
Когда в Блесфорд приехал Александр, Билл попытался, без особого, впрочем, жара, втянуть его в свою местную работу. Но Александр, неплохо справлявшийся с мальчишками, гораздо хуже находил общий язык со взрослыми. Кроме того, он уже тогда ощущал себя зародышем большого столичного писателя и, мешая спесь со скромностью, полагал, что ничем не сможет помочь этим совместным, провинциальным, любительским потугам. Стоит заметить, что, даже имей он такое желание, ему пришлось бы нелегко, поскольку его понятия о литературе сильно отличались от понятий Билла. Билл же на удивление спокойно воспринял его безучастие: он не умел делиться ни властью, ни работой, а Александр – в первую очередь поэт – не жаждал ни того ни другого. Билл вызывал фанатическую преданность у большинства хороших учеников и у пары-тройки плохих вдобавок. Александр, несмотря на редкую красоту и любовь к предмету, ничего подобного не удостаивался. Он был неподдельно скромен и прост, и, возможно, именно поэтому Билл его в конечном итоге принял.
И все же, шагая сейчас к нему с вестью о пьесе и Празднестве, Александр не питал надежд на теплый прием. Главным пунктом тут был Кроу, его участие. Признавая созидательную энергию Билла, Кроу с его врожденным обаянием периодически пытался ввести его в свой круг и однажды – весьма неожиданно – преуспел. В 1951 году они поставили с Литфилом «Трехгрошовую оперу» Брехта, причем оба поняли, что их таланты друг друга дополняют: к классовой ярости Билла, к его бережности с исходным текстом и умению работать с людьми Кроу добавил интеллектуального блеска, ритма, колорита, да еще обеспечил первосортное музыкальное сопровождение. И все же, как показалось тогда Александру, Билл, наверное, предпочел бы представление более непосредственное и неуклюже-домашнее, более подходящее к стенам зала собраний при блесфордской церкви. Билл был пурист в хорошем и в плохом значении этого слова и к тому же испытывал к Кроу глубинное, почти животное неприятие. Александр далеко не сразу осознал: все, что притягивало его к Кроу, – воспитание, деньги, виски, сафьяновый кабинет – автоматически и навсегда отталкивало Билла Поттера, как иных отталкивает черная кожа или грубый акцент. Ясно было, что Билл не придет в восторг от культурных прожектов местного мецената.
И все же, когда в сумерках Александр шел мимо школы, его захватила одинокая, с утра еще ждавшая радость. За садами, разбитыми перед зданием, за длинными теплицами, что со временем наполнятся вкусными и необременительными для бюджета помидорами, была тяжелая, в заклепках, дверь. За дверью начинался длинный и мшистый ход меж двух высоких стен. Ход упирался в пеший мост над железной дорогой, а дальше было Дальнее поле. За левой стеной, блестевшей поверху вделанными в цемент осколками: водянисто-прозрачными, льдяно-голубыми, бутылочно-зелеными, – лежал Учительский сад. Внутри этот запретный сад был квадратен, опрятен и скучен. В нем рос довольно скромный кедр, а в дальнем конце обложенный камнем бугор украшался солнечными часами. Все вместе напоминало военные мемориалы, куда массово вывозят стариков погреться на солнышке. Прошлым летом Александр сыграл здесь героя-любовника в учительской постановке «Она не должна быть сожжена» – умеренный декаданс по местным меркам. Теперь казалось, что это было очень давно.
Он ступил на чугун моста. Из-под него выбегала железная дорога, окаймляя поле и заодно щедрым изгибом проводя линию горизонта. Вдоль насыпи тянулась изгородь из толстой стальной рабицы. Поезда, пролетая на юг и на север, обдавали пышным паром Дальнее поле, поделенное на игровые поля, и немногие рододендроны насыпи. На мальчишек, копошившихся у прыжковых ям, оседали тучи мелкой, жаркой, кусачей сажи, жирно мазавшей листву и лица.
Александр остановился, положив руки на перила. Он был просто и беспримесно счастлив. Он был довершен. Мелькнула странная мысль: его разум развит вполне, хватит на все, что ждет впереди. Это было как-то связано с тем, что пьеса получила отдельное от него существование, и он, хоть и разлученный с ней, был свободен. В этих огражденных полях и учебных зданиях он привык видеть лишь подробности своего заточения. Поначалу в письмах к оксфордским друзьям он высмеивал школу: убожество вида и обихода, северную узость и бескрылость умов. Потом испугался и перестал. Показалось, что писать о школе – значит уже признавать ее замыкающее влияние. Порой он говорил кому-нибудь в Блесфорд-Райд, что пишет пьесу, слышал в ответ «как интересно…» или «о чем?» и чувствовал, что все это блажь, умозрение, головная горячка. Но теперь его пьесу держали в руках, размножали, читали. Пьеса отделилась от него, а он отделился от школы. И в новом качестве мог позволить себе – со стороны – благожелательный интерес. На поле, припорошенное сажей, смотрел с горделивым удовольствием: вот поле, оно таково, и я его вижу.
Меркнущий вечер сгустил тени и контуры, погасил остатки цвета в грязной траве. Мост задрожал, загудел, возвещая приближение поезда. Александр с тем же блаженным любопытством уставился ему навстречу. Вот он, темный и извивистый, сперва мчит в лоб, потом подныривает под мост, колотит колесами, мелькает поршнями, плюет в Александра искрами, кутает едким паром и, наконец, гремя улетает туда, где отныне угадывается вполне достоверная даль.
Потом Александр сошел вниз. Под ногами еще подрагивало: казалось, поезд, словно корабль, оставляет в земле бурлящий след. Длинные полосы пара расползались прорехами, таяли по краям, исчезая в серости, которая вскоре станет темнотой. Возле Уродского прудика виднелась какая-то фигура.
Природоведческий пруд с самого начала прозвали Уродоведческим или, короче, Уродским прудиком. Вырытый еще в дни основания школы, он пребывал в забросе и медленно загнивал. Круглый, в обводе из камней, он плоско лежал под насыпью, являя миру пару кувшинок, ряску и шаткую каменную плиту, на которой лягушата отдыхали от финальной пермутации. Сверху у него была шелковистая черная гладь, а глубину узнать было трудно, потому что дно покрывал жидкий аспидный ил. Раньше мальчики разводили тут разную водяную живность, но теперь для этого существовала хорошо оборудованная полевая станция дальше к северу, на вересковых пустошах. Ходили неподтвержденные слухи, что в Уродском прудике полно пиявок, обильно плодившихся в нем искони. Никто не согласился бы опустить в него ногу из страха, что полумифические твари присосутся к лодыжке.
Темная фигура у прудика, неловко согнувшись, мешала в нем длинной палкой. Подойдя ближе, Александр узнал Маркуса Поттера.
Маркус был младшим ребенком Билла и единственным его сыном. Он учился в школе бесплатно и через два года должен был держать экзамен на аттестат А[24]. Маркуса толком не знал никто. Учителя старались относиться к нему «нормально». На практике это означало, что его никогда не выделяли из прочих и по возможности предоставляли самому себе. Обращаясь к Маркусу, Александр порой ловил себя на какой-то неестественно бесцветной интонации и знал, что он такой не один. Впрочем, это могло быть и потому, что, в противоположность отцу, Маркус был неестественно бесцветным существом.
Билл явно считал, что его сын исключительно одарен. Зримых доказательств тому было немного. По трем своим профильным предметам, географии, истории и экономике, Маркус имел оценку «удовлетворительно». Отмечали, что он учится без охоты. «Удовлетворительно» – категория, простирающаяся от успехов почти хороших до почти отсутствующих. У Александра, например, младший Поттер регулярно бросал фразы на середине и очень удивлялся, когда ему на это указывали. В классе он был напряжен и молчалив. Александр думал, что он, возможно, из тех учеников, кто, стремясь сохранить внимание, от усилий впадает в столбняк и уже ничего не слышит.
И все же в детстве Маркус имел дар: он мог с жутковатой легкостью складывать, вычитать, перемножать в уме любые числа. Тогда же выяснилось, что он обладает абсолютным слухом. В четырнадцать лет математический дар необъяснимо иссяк. Слух остался, но музыка мало привлекала Маркуса. Он, правда, пел в хоре и играл на альте – безошибочно и безжизненно. Коллеги знали, что немузыкальный Билл трогательно гордится талантами сына, упорно провидя в них нечто, что в свою пору даст плоды еще богаче тех, к каким более торным путем пришли две его старшие дочери.
В свое время Александр пережил краткий период острого интереса к Маркусу. Год назад он ставил школьного «Гамлета», в котором Маркус был Офелией – пронзительно, почти пугающе настоящей. В его игре было что-то от его же математики и музыки: он не изображал сущность девушки, а излучал ее, транслировал откуда-то извне, словно медиум. Его Офелия была кроткой и отрешенной, с грацией почти механической. Когда же она обезумела, ее речи и песенки казались робкой, искалеченной пародией этих свойств. Он не смог сделать ее по-девичьи притягательной, зато сделал ранимой и достоверной телесно. Странной смеси нежного кокетства и откровенных намеков в ее устах он придал глуповатую оторопь неуверенности, незнания, как вести речь в такие минуты. Так, по мнению Александра, и следовало играть эту роль. По крайней мере, то был один из возможных путей. Эти чувства, эти повадки Маркус извлек из малейших намеков Александра. Впрочем, он всегда ждал какого-то направляющего влияния и ничего своего не добавил к роли, кроме тончайшего слуха на ритм языка, на взаимное движение строк. Александр знал: мальчики, еще не скованные пубертатом, отлично слышат режиссера и могут придать неосознанную глубину строкам, им непонятным. Но Маркус – Маркус достиг чего-то небывалого. Александр был глубоко тронут и, говоря по чести, испуган. Впрочем, в этом он был, кажется, одинок. До Маркуса никто не смог так просто и ясно показать: события пьесы сломили, уничтожили невинное сознание девушки.
На всех трех представлениях в зале сидел сияющий Билл, гордый сыном и очередной победой. Теперь Александр надеялся, что тот разрешит задействовать Маркуса в грядущем спектакле – у него были кое-какие задумки. Дальше, если сложится удачно, маячила перспектива уловить в сети пьесы и самого Билла.
Тем временем в Дальнем поле Маркус упал на четвереньки и прильнул лицом к каменной рамке пруда. Александр взял в сторону, прокашлялся, зашелестел травой, обозначая свое присутствие. Мальчик вскочил, как на пружине, и замер, дрожа. На лице у него была грязь.
Маркус поправил дешевые круглые очки, съехавшие набок от его непонятного маневра. Он был мал не по возрасту, щуплый, с длинным бледным лицом, окруженным множеством тонких, мягких, золотисто-бесцветных волос. На нем были брюки из шерстяной фланели и линяло-синий твидовый тесный пиджачок.
– У тебя все хорошо? – спросил Александр.
Маркус молча глядел на него.
– А я иду к твоему отцу. Ты тоже домой?.. Маркус, у тебя все хорошо?
– Нет.
Что спросить дальше, Александр не знал.
– Все тряслось. Земля тряслась.
– Это поезд. Так всегда бывает.
– Нет, не так. Не важно. Теперь все нормально.
В Маркусе было все же что-то неприятное. Александр знал, что нужно бы расспросить его как следует, но не мог себя заставить.
– Теперь все нормально, – повторил мальчик, выбрав одну из своих самых почтительных и механических интонаций.
Александру вполне хватало проницательности, чтобы понять: эта фраза призвана его спровадить. Но ответил лишь: «Пойдем вместе?»
Маркус кивнул, и они в молчании двинулись к скромной череде огоньков на краю поля.
Маркус Поттер вырос на игровых полях. В каникулы он часто бывал их единственным обитателем. В младшем, еще не ходячем, детстве поля лежали окрест него. Потом он лежал в полях: в травянистых кочках и на голой земле, превращая их в Ипр и Пашендаль, воображая Сомму, траншеи, блиндажи, ничейную полосу[25].
Он играл тогда в одну игру. Это называлось «рассеиваться». Начиналось с того, что он последовательно расширял свое поле зрения. Потом – некий трюк восприятия, и оказывалось, что он смотрит разом из четырех углов поля, с высоких стоек ворот, с ограды, увенчанной колючей проволокой. Он не охватывал взором предметы, не вмещал их в окоем. Он просто наблюдал их изо всех точек пространства – а может, ни из одной. С беззаконной одновременностью возникали перед ним барбарис (berberis stenophylla) слева внизу, пролысевшая глина в середине поля и Уродский прудик подальше справа.
Еще маленьким он достиг больших успехов в этой игре и еще маленьким потерял над ней власть. Бывали неизмеримые промежутки времени, когда Маркус не знал, где он и где исток его рассеянного сознания. Ему пришлось научиться находить свое тело: зацепляться сознанием за предметы, сужать внимание до какой-то одной ощутимой вещи. Вот полумесяц белой краски, засохнув, склеил бледную траву. Вот неярко выступил светлый прямоугольник крикетной площадки. Вот мягкий мрак прудика. Из этих точек можно было, как из далекого далека, высмотреть холодное скорченное тело и, если повезет, дотянуться до него сознанием.
Он рано понял, что геометрия – союзник. Она протягивала ему линии, открывала проходы там, где не могли помочь дернистые кочки и комья глины. Ломаные белые границы: это разметка зимних игр легла поверх летнего мела. Круги, параллели, недвижимые точки – ими измерена и сдержана бугрящаяся, текучая, неверная глина. Линии, по которым можно доползти до себя, спасительная картография.
Потом было несколько лет, когда он не играл и об игре не думал. А теперь снова вернулся к ней с какой-то новой жадностью, хоть никакого удовольствия не получал. Это было как онанизм: накатывало внезапно и особенно сильно, именно когда он твердо решал бросить, успокаивался и терял бдительность. Ну хорошо, один раз. Один раз, и быстро. И сразу жизнь заново.
Сегодня он надеялся пройти полем без происшествий. По линиям, по линиям до самого дома. Но внезапно пролетевший поезд выбил его из себя, и он не успел проделать зрительные и телесные маневры, необходимые для равновесия, а может, и выживания.
Теперь ему было мучительно холодно. Он почти ничего не помнил. После этого ему всегда бывало холодно.
Маркус шел, волоча ноги по траве, все еще пытаясь держаться белых линий.
Они прошли под белой планкой высоких ворот для регби – совсем маленьким он думал, что это прыжковые стойки для каких-то высших существ. Потом наконец открыли калитку и двинулись по садовой дорожке.
2. Во львином рву
Александр не раз слышал, что он желанный гость в доме Поттеров. Ну а уж если придется не ко времени или не ко двору, пусть будет уверен – ему по-свойски укажут на дверь. На дверь ему пока не указали, но и желанным гостем он не почувствовал себя ни разу. Ему все время казалось, что он прерывает некий семейственный ритуал неотложного и нутряного свойства. Он робел перед семействами и их обиталищами и потому бывал обостренно обходителен. Его собственная семья держала маленькую гостиницу в Веймуте. С детства он уходил и приходил когда вздумается, но зато никто не упрекал его, что он дом превратил в гостиницу. Гостиница и была домом.
Задняя дверь вела в кухню, а в кухне у раковины стояла Уинифред. Она раскрыла объятия Маркусу, который уклонился, и пригласила Александра поужинать: они как раз садятся, вполне хватит еще на одного человека. Наши в гостиной.
Под слоями фильдеперсовых чулок, серой шерстяной юбки, просторно обвисшего, в цветочках кухонного халата Уинифред устремлялась вверх без изгибов и выпуклостей и увенчана была тяжелой короной седеющей пшеничной косы. Облик несколько смягчался ореолом секущихся волосков, светло и туманно реявшим вокруг головы. Уинифред походила на изможденную скандинавскую богиню кисти какого-нибудь викторианца, у нее был прямой датский нос и близко посаженные глаза, какие часто встречаются у жителей северного Йоркшира. В лице ее, как у многих местных, проглядывало критическое выражение, но голос всегда звучал примирительно – так, по крайней мере, помнилось Александру. А говорила она очень мало, с явственным йоркширским акцентом. Лишь спустя год после знакомства Александр узнал, что Уинифред закончила Лидский университет по специальности «английская филология».
Билл и его дочери сидели в молчании. Гостиная была как у большинства англичан – так думал Александр, хотя подобные видал крайне редко. Она была мала и заставлена не по размеру: диван и два кресла в ржаво-рыжем плюше, большая радиола модной обтекаемой формы, камин со скругленными углами, обложенный красно-бурой плиткой, ореховое бюро на хищных когтистых лапах (весьма разбавленный стиль Директории), два пуфа, два торшера, две группки мелких столиков, убирающихся один под другой. В окна до полу виден был садик в обрамлении льняных штор с яковианскими индийскими кущами в оттенках яшмы, ржавчины и крови. Ковер, местами протертый, являл восточное древо, в кудрявых ветвях которого гнездились призрачные от старости птицы.
На радиоле в серебряных рамках стояли фотографии детей в возрасте примерно лет пяти. Девочки в бархатных платьицах с кружевным воротом хмуро держались за руки. Маркус одиноко парил в пространстве вне всякой связи с непомерным плюшевым медведем с глазами-бусинами.
– Александр! Вот сюрприз. Садитесь в кресло, – сказал Билл.
– Садитесь на полдивана, – вставила Фредерика, на диване полулежавшая. На ней была измятая бело-бордовая форма блесфордской средней школы для девочек, пальцы – в чернилах, гольфы не первой свежести.
Александр сел в кресло.
Билл повернулся к сыну:
– Как контрольная по истории?
– Пятьдесят два.
– Какое место занял?
– Не знаю. Восьмое или девятое.
– Ну это, конечно, не основной твой предмет.
– Нет.
– Покажи ему котят, – резко сказала Фредерика сестре.
Стефани, округло угнездившаяся у маленького столика с кипой тетрадок, выпрямилась и потянулась. Она была светла и мягка, с полной грудью, изящными ногами и шапочкой золотистых волос, пожалуй слишком туго завитых. Получив в Кембридже диплом с отличием по двум дисциплинам, она вернулась домой и теперь преподавала в своей бывшей школе – той же Блесфордской средней.
– Моя дочь Стефани, – произнес Билл, – страдает самаритянской манией. И все мы страдаем вместе с ней. Она любит спасать живое. И полуживое тоже, и желательно вопреки разуму. В данном случае как-то особенно вопреки. Стефани, они там умерли наконец?
– Нет. Если продержатся ночь, возможно, выживут.
– И ты намерена всю ночь над ними просидеть?
– Да.
– Можно я посмотрю? – очень вежливо спросил Александр, хотя предпочел бы, разумеется, не смотреть. Стефани чуть придвинула к нему большую коробку, стоявшую у ее кресла. Он быстро нагнулся, и волосы их соприкоснулись. Ее – пахли живым и чистым. Стефани была, казалось, всегда одна и та же: ровно-приветливая, бережливая на слова и движения, наводящая умственную и физическую ленцу, порой успокоительную, а порой раздражающую.
В коробке было трое недоношенных котят. Их раздутые головки качались на тонких шеях, нюхали, терлись, слабо стукались одна о другую. Глаза были запечатаны темно-жёлтой коркой. Порой один из них разевал розовый ротик, где виднелись тонкие, как рыбьи косточки, зубы. У них были ящеричьи тельца, влажные, с влажным лоском и крошечными, бессильными, безволосыми лапками.
Стефани взяла одного, и он зародышем свернулся у нее в ладони.
– Я их глажу фланелькой для тепла, – сказала она своим мягким голосом, – и кормлю из пипетки, очень часто.
Она взяла пипетку из блюдечка на камине, мизинцем разжала беспомощные челюсти – жест был почти жестокий – и выдавила в ротик немного молока:
– Но они могут захлебнуться так, вот в чем беда.
Крошечное существо брызнуло молоком, тихонько срыгнуло и погрузилось в полусон.
– Ну вот, проглотил.
– Где вы их нашли?
– У викария умерла кошка. Это было ужасно, честно говоря, – так же мягко продолжала она. – Мы пили чай с мисс Уэллс, и тут курат загрохотал в дверь: в кухне дочка уборщицы кричит и плачет, истерика. Я пошла в кухню, а там кошка, и уже ничем не поможешь… задыхается, корчится… и умерла.
– Эти подробности совершенно необходимы? – осведомился Билл.
Маркус, забравшийся возможно дальше от коробки с котятами, спрятал руки между колен и принялся что-то сложное вычислять на костяшках пальцев.
– Еще трое мертвые родились. Девочка так плакала. Я думаю, это она: взяла кошку, нечаянно прижала поперек живота, и вот… Ужасно плакала, бедная. Ну, я сказала, что попробую их выходить. Всю ночь вставать к ним, конечно, не радость.
Существо в ее ладони издало тонкий сип, слишком слабый, чтобы подняться до писка.
Резко вступила Фредерика:
– Не знала, что кошки умирают родами. Я думала, у них это просто, а умирают только героини в романах.
– У нее внутри что-то перекрутилось.
– Бедняга. И что ты с ними будешь делать?
– Если выживут, найду каждому дом.
– Дом, – саркастически отозвалась Фредерика. – Если выживут.
– Если выживут, – спокойно повторила Стефани.
Александра слегка мутило от мрачных разговоров и родильных запахов. Он поднялся и открыл было рот, чтобы сообщить о цели своего прихода. Билл, давно собиравшийся вмешаться, заговорил с ним одновременно. Это была его обычная манера, но Александр, как всегда, ощутил смутное раздражение. Он закрыл рот и принялся созерцать Билла.
У маленького, щуплого Билла лицо, ладони и ступни были длинные, словно он был задуман крупным. Он был одет в шерстяные брюки, сине-белую клетчатую рубашку с расстегнутым воротом и рыжеватый пиджак шотландского твида с кожаными нашивками на локтях. Его редеющие волосы раньше были, вероятно, того же каштанового блеска, что и у Фредерики, но теперь поблекли, подернулись сединой, как гаснущий костер пеплом. Несколько длинных прядей, зачесанных поперек лысой макушки, не хотели лежать ровно и все приподымались мостиком. Нос у Билла был вострый, а глаза – предельно размытой синевы. В детстве Фредерика и Стефани воображали разгневанного Крысолова с отцовским лицом: «И вдруг его зажегся взор, как будто соль попала в пламя»[26]. Билл вообще наводил на мысли об огне, но огне подспудном, вроде тления в глубине соломенного омета или зловещего потрескиванья внизу костра: вот-вот вспыхнет, вспыхнет – и рухнет, рассыплется искрами.
– Можете вы сказать мне, – Билл решительно переехал вступление Александра и коротко мотнул головой в сторону сына, – как его оценивают в школе?
– Хорошо оценивают, – отвечал оторопевший от такой бестактности Александр, – насколько мне известно. Вы же сами знаете: Маркус работает очень упорно.
– Я знаю. Я все знаю. Верней, не знаю ничего, потому что мне ничего не говорят. Никто и ничего. И меньше всех – он сам.
Александр тайком взглянул на Маркуса. Тот, казалось, ничего не слышал. Это было до крайности странно, но с Маркусом, подумал Александр, – более чем возможно.
– Когда я спрашиваю, а я как-никак его отец… Когда я спрашиваю, все поголовно уклоняются. Ни один не сказал, что все отлично, и ни один не сказал, что́ именно не так. Можно подумать, что его нет. Что он невидимый.
– Я веду у него только дополнительные занятия, но я вполне удовлетворен… – Едва начав говорить, Александр задумался, что, собственно, может в таком контексте значить «вполне удовлетворен». Ужас заключался в том, что мальчик отчасти и был невидим, причем, вне всякого сомнения, намеренно.
– Удовлетворены и даже вполне. Гм. Теперь скажите мне, прошу вас, как педагог и специалист по английскому языку: как именно я должен понимать это «вполне удовлетворен»?
– Ужин, – возвестила Уинифред, словно по сигналу возникнув всем во спасение. Сестры поднялись. Маркус выскользнул из гостиной.
Столовая была крошечная, причем с потугами на фамильный замок, битком набитая резным дубом и кожей: раздвижной стол на гнутых, шишковатых, подагрических ногах, кожаные стулья в латунных заклепках, обои под штукатурку. Над местом главы семьи висела очень маленькая репродукция «Ночной охоты» Уччелло. Именно из-за того, что она была так мала, Фредерика долго, лет до сорока, была убеждена, что оригинал непомерен, во всю стену. Его настоящий скромный размер произвел на нее действие одновременно раздражающее и гипнотическое.
Стол был покрыт клеенкой, до жути правдоподобно изображавшей на одной стороне белое дамасское полотно с малиновой искрой, а на другой – розовый клетчатый лен. Уинифред принадлежала к военному поколению хозяек: для нее любой пластик был чудом, сберегающим время, а цвет, любой цвет – освобождением и радостью. Сегодня скатерть предстала своей дамасской стороной. Стол украшало тяжелое, в завитушках, свадебное серебро Поттеров, салфетки под приборы (поддельная плетенка) и просто салфетки из жатки с условно-шотландской клеткой, слишком чахлые для широких серебряных колец. Все это были реликвии жизни прочной и сдобной, со свадьбами, крестинами и другим прилагающимся. Оставив позади значительную ее часть, Поттеры так и не обзавелись более стройным укладом. Посреди стола высились типично английские баночки и бутылочки: пикули, острый паточный соус, маринованные огурцы с горчицей, чатни[27], кетчуп.
Фредерика и Стефани, обе влюбленные в Александра, с беспокойством думали о том, какое впечатление он составил об их доме. Александр одевался с небрежным изяществом: диагоналевые брюки, спортивный пиджак, замшевые ботинки и золотистая сорочка из шерстяной фланели. И красоту свою он нес как бы небрежно. Длинные каштановые пряди мягко ложились на задумчивый лоб, и все в нем было удлиненно, тонко, отчетливо – ухоженно, но без наивного усердия или щегольства. Сестрам казалось, что Александр должен находить пошловатым их вещественный мирок. Им хотелось бы предстать перед ним иначе. Неловкость осложнялась глубоким убеждением, что судить о них по внешним обстоятельствам тоже пошло. И тем более пошло и недостойно – им беспокоиться о мнениях Александра. Главное – внутренняя жизнь и твердость убеждений. Не сознавать этого и есть квинтэссенция пошлости. Так, весьма противоречиво, думали сестры, и это противоречие лежало в основе поттеровского характера, в одной точке объединяя всех.
Билл, без пиджака, с закатанными рукавами, обнажившими бледную синеву вен, резал холодную баранину, раскладывал по тарелкам горячую цветную капусту и вареный картофель. Попутно он экзаменовал Александра, терзал вопросами об интеллектуальных повадках сына. Одержимое упорство тоже было семейной чертой. По словам Билла, Маркус ничего не читал, кроме книжонок о приключениях отважного пилота Бигглза. Билл желал знать, до какой степени это ненормально. Сам Билл в его годы читал всех: Киплинга, Диккенса, Вальтера Скотта, Морриса, Маколея, Карлейля. Ему было ровно столько же, сколько Маркусу, когда приходской священник изъял у него «Джуда Незаметного»[28] и созвал его родных и друзей полюбоваться огненной жертвой.
– В часовне, в печи отопительного котла. Открыл дверцу, маленькую такую, круглую, и бедного «Джуда» затолкал туда щипцами. Самолично прикоснуться не пожелал. Зато прочел проповедь о греховных мыслях и гордыне нахватавшихся по верхам. То есть обо мне.
– И что вы сделали?
– Око за око. Холокост. Все их миссионерские брошюрки собрал и уничтожил. «Джонни подал пенни страждущим язычникам», «Прокаженные благодарят пастора» – всю эту гниль. Там люди гниют в прямом смысле слова – на кой им черт штаны, единобрачие и «блаженны нищие духом», если они не благословенны! Прочесть проповедь смелости не хватило, но я ее написал, уж как смог, и приколол к доске объявлений. Написал, что аутодафе – значит «акт веры», и мне, «нахватавшемуся по верхам», это известно. Что вот оно – мое аутодафе, а они все прокляты за ложную логику, подложные ценности и убожество слога. И за то, что сожгли «Джуда», которого я даже дочитать не успел.
– Удивляюсь, как родители от вас не отреклись, – с неловкой усмешкой сказал Александр.
– Отреклись. Еще как отреклись. На другой же день ушел я из дома с черным жестяным чемоданчиком. Книги и немного тряпья. С тех пор я их не видел. Винни свозила девочек познакомиться, но мне, черной овце, путь туда заказан, даже захоти я вернуться, а я не захочу… Нет, я стал коммивояжером. Послеоперационное и ортопедическое белье для мужчин. В Кембридж пришел из вечерней школы, с рабочего факультета. «Джуда» дочитал, урок усвоил. Ценишь то, за что пришлось поголодать и побороться.
История Билла впечатлила Александра, о чем он как раз хотел сказать, когда встряла Фредерика:
– И после этого ты жжешь наши книги?
– Я книги не жгу.
– Жжешь, если они тебе не нравятся. Ты дома цензуру завел.
Билл издал какое-то нутряное ворчание.
– Цензуру? А кто написал этой старой деве, этой сушеной пикше, когда тебя угораздило попасться в школе с «Любовником леди Чаттерли»? Да еще добавил, что преступление – не иметь в школьной библиотеке «Радуги» и «Влюбленных женщин».
– Я тебя не просила. И вообще, лучше бы ты ей не писал.
– Эта кретинка ответила, если я правильно помню, что закупила для библиотеки шесть экземпляров шедевра под названием: «Прекрасный миг, или Как рождается дитя». Видимо, для нее это некое доказательство свободомыслия.
– Она ничего плохого не хотела, – сказала Стефани. – Просто она такая: робкая, несуразная немного…
Фредерика, возгорясь, озиралась и, видимо, не знала, куда направить огонь: на Билла или на «Прекрасный миг».
– Книжка дурацкая, конечно. Эти схемы есть в любой инструкции от тампонов. И всякая чушь про высшее счастье, высшее доверие, про главное сокровище ушки… дурацкая метафора: там же внутри ничего нет! А она еще и проповеди нам читает – вот уж спасибо, не надо к моей биологии примешивать свой религиозный экстаз. И вообще, она же ничего об этом не знает!
– Но ты недовольна, что я смею ей возражать, когда она лишает вас настоящих книг и настоящего опыта жизни?
Фредерика перекинулась на Билла:
– Ты сперва сдал нас в эту жуткую школу, а теперь мешаешь нам самим решать свои проблемы. Пишешь письма мисс Уэллс про секс, про свободу, про литературу… Если хочешь знать, мне из-за тебя жить невозможно. Если хочешь знать, «Влюбленные женщины» так же растлительны для наших юных душ, как «Прекрасный миг». Да если бы я думала, что мне предстоит жизнь, которую воспевает Лоуренс, я бы прямо сейчас утопилась в Уродском прудике! Не нужен мне «довременный восторг осязания мистической инакости»! Можете оставить себе. Если вы его испытываете. Очень надеюсь, что Лоуренс все наврал, хотя знать, конечно, не могу… Что не мешает тебе навязывать мне его писания. А книги ты жжешь!
– Не жгу.
– Еще как жжешь. Все мои «Девичьи кристаллы»[29] и всю Джорджетт Хейер[30] сжег, а они были даже не мои. У меня один раз была почти-подруга, это я у нее одолжила.
– Ах да, припоминаю. – В глазах у Билла остро сверкнуло тогдашнее удовольствие. – Сжег. Но то были не книги.
– В них ничего такого не было. Они мне нравились.
– Растленные фантазии, пошлость и ложь.
– Кажется, уж я-то способна распознать фантазии. И что, собственно, плохого в фантазиях? Так мне хоть было о чем говорить с девочками.
Билл принялся говорить о правде в литературе. Александр посматривал на часы. Уинифред не в первый раз задавалась вопросом, что так неодолимо толкает Билла ссориться, зло и примитивно спорить с единственным ребенком, перенявшим его сплошную жажду печатного слова, его упоенный аналитизм.
Историю с «Кристаллами» она помнила. Почему Билл взялся шпионить, осталось невыясненным, но он нашел комиксы в коробке под кроватью Фредерики, упиваясь гневом, вынес их во двор и сжег в том же сетчатом железном баке, где сжигал садовый мусор. Одни за другими «Кристаллы» темнели и распадались. В летнее небо, танцуя, устремлялись черные хлопья и бледные огненные языки. Билл жречески помешивал в баке длинным железным прутом. Фредерика, потрясая руками, скакала вокруг огня и вопила от ярости – впрочем, весьма красноречиво.
Из всех детей Уинифред тревожила Фредерика. В ней жил какой-то демон. Учителя писали в характеристиках, что даже почерк у нее агрессивный. Уинифред не имела оснований в этом сомневаться. Стефани, более добрая и ленивая, считалась и более умной. Маркус, как верилось Уинифред, был миролюбив и самодостаточен. Эти двое умели, как и она, на гнев отвечать стоическим терпением. Фредерика не выходила из состояния войны.
За кофе Александру удалось наконец заговорить о пьесе. Он начал издали, с Кроу и его планов насчет университета. Билл немедленно взвился и сообщил, что отлично знает, как там обстоят дела. Он и сам в этом участвовал – поначалу, когда была еще надежда на что-то новое, действительно выросшее из курсов и вечерних школ. Но всякому терпению есть предел. Проректоры уродовали его программу, пока не подогнали под общий бесцветный стандарт, Кроу всюду совал свой нос, епископ добавил допотопных рюшек и богословских колледжей. И что в итоге? А в итоге они получат смесь Оксфорда и Кембриджа, только еще более прилизанную. Придумают церемонии «под старину». Исторические дома в округе выкрасят в жуткий «фестивальный» голубой, снабдят дверными молотками и населят профессорами-выскочками. Нет уж, спасибо. Он будет работать, как работал, без этой шумихи. Не привыкать. А Кроу – старый паук, сидит в своем замке, раскинул сеть и ловит околокультурную мошкару. О, он еще будет проректором – Билл за это ручается! Готовить нужно не титанов Возрождения, а людей, умеющих читать, считать и ясно выражать свои мысли, людей, имеющих непосредственный опыт жизни. Этого более чем достаточно.
Тут Александр успел ввернуть, что грядет Празднество и что сам он как раз написал пьесу и хотел бы узнать о ней мнение Билла. Ему повезло: пьесу поставят в рамках Празднества. Дальше сказал, что Кроу намерен оживить культурную жизнь края, и без убеждения добавил, что участие Билла, несомненно, будет необходимо. И что он надеется в летний семестр урвать сколько-то времени для участия в постановке пьесы, с согласия Билла, разумеется. Он уже не был безудержно счастлив и свободен, как недавно с Кроу и на мосту. Он говорил сдержанно, чуть ли не извиняясь. Билл выслушал его, не отвлекаясь от домодельной сигареты, которую сворачивал железно-резиновой машинкой, перекладывая смолистые и темные табачные шелушинки, аккуратно облизывая губы и тонкий краешек папиросного листка.
– Что это? Самодеятельность?
– Отнюдь.
– Потуги на новый Ренессанс?
– Нет, просто пьеса. Историческая. Драма в стихах. О Елизавете. – Он слегка запнулся. – Я сперва хотел назвать ее, вслед за Рэли[31], «Застигнутая временем врасплох». Помните портрет? Потом решил, что будет «Астрея» – так легче выговаривается. Я в смысле структуры многое подсмотрел у Фрэнсис Йейтс в ее статье о Деве Астрее.
Александр говорил и видел, что Билл все это считает претенциозной заумью.
– Ну что ж. Сперва нужно, чтобы я ее прочел. Есть у вас распечатка?
Александр извлек на свет одну из размноженных Кроу копий. Он только сейчас с легкой оторопью осознал: Биллу и в голову не приходило, что он может написать хорошую пьесу. Билл говорил тоном учителя, поощряющего усердие, но не дающего надежды там, где ее быть не может.
– А мы будем участвовать? – спросила Фредерика. – Мы считаемся культурной жизнью края? Я лично собираюсь стать актрисой.
– Конечно, – ответил Александр. – Будут прослушивания, и много. Для всех желающих. И в школах тоже. Я хотел бы, если Маркус не против, рекомендовать его на одну роль. Мне нужно знать, что он… и вы… об этом думаете.
– Я считаю, что в «Гамлете» он выказал настоящий талант, – сказал Билл.
– Я тоже, – закивал Александр. – Я тоже. И у меня для него есть отличная роль.
– Эдуарда Четвертого, конечно, – встряла неугомонная Фредерика. – А что, он смог бы. Везет же некоторым!
– Спасибо, мне не хочется, – сказал Маркус.
– Думаю, даже при твоей нагрузке, ты смог бы… – начал Билл.
– Я не хочу.
– Объясни хотя бы почему.
– Я на сцене без очков упаду.
– Не упал же, когда играл Офелию.
– Я не умею играть. Я не буду, не хочу играть. Я не могу.
– Мы еще вернемся к этому разговору, – сказал Александр, разумея: без Билла.
– Нет, – отвечал Маркус твердо, но уже забирая голосом вверх.
Раздался звонок, Фредерика поскакала открывать. Вернувшись, объявила со зловещим торжеством:
– А к нам курат с визитом. Желает говорить со Стефани.
Этим нафталиновым оборотом ужалены были все – от Шарлотты Бронте до Элизабет Гаскелл. Кураты не наносили визитов Поттерам. Если уж на то пошло, визитов им не наносил никто.
– Ты его что, в прихожей оставила? – всполошилась Уинифред. – Немедленно веди сюда.
В дверях появился курат. Он был высокий, крупный, толстый, весь заросший черным пружинным волосом, с густыми бровями и тяжкой челюстью, со щеками, синими от энергически прущей щетины. Его черное священническое одеяние свободно лежало на мощных плечах, жесткий стоячий воротничок – «ошейник» – охватывал крупную мускулистую шею.
Неспокойным голосом Стефани представила его: Дэниел Ортон, курат мистера Элленби из блесфордской церкви Святого Варфоломея. Дэниел оглядел компанию, после чего округло и полнозвучно попросил разрешения присесть, – возможно, то была умиротворительная уловка ремесла. Говор у него был невытравимо йоркширский, но южный, рабочий, без напевных северных интонаций Уинифред.
– Если это пасторский визит, то сообщаю вам: вы ошиблись домом, – заявил Билл. – Здесь паствы не обретете.
Курат словно бы не услышал его и сказал просто, что пришел на минутку поговорить со Стефани… с мисс Поттер. Если можно. Он обещал той девочке, Джули, что проведает котят. Дэниел уселся на свободной половине Фредерикина дивана, словно инстинктом почувствовав, где стоит коробка. Заглянул внутрь.
– Пока держатся, но говорить рано, – сказала Стефани.
– Джули во всем винит себя. Хорошо бы вам удалось их выходить.
– Только, пожалуйста, ничего ей не обещайте. И пожалуйста, не надейтесь слишком уж на меня: котята недоношенные, без матери. По сути, ведь это безумная затея.
– Нет-нет, нужно только правду, всегда… Я пришел… я не успел тогда сказать – именно сам сказать вам… Вы ее так хорошо утешили. Я это хотел сказать.
В ровном, без подъемов и спадов, йоркширском голосе курьезно проступали медово-пасторские нотки. Тут снова резко и повелительно вмешался Билл:
– Спасибо, мы уже достаточно наслышаны о происшествии с кошкой.
Дэниел чуть повернул к нему большую темную голову, видимо оценивая помеху. Потом опять взглянул на Стефани:
– Я подумал, может быть, вы захотите немного помочь мне с моей работой. Вы вот давеча спросили, как я работаю. Приходится быть настойчивым, назойливым даже, иначе ничего не добьешься. Мне кажется, с одним делом вы могли бы меня выручить… У меня просто такое чувство, может быть, я не прав. Мне подумалось…
– Лучше не сейчас, – еле слышно произнесла Стефани, залившись краской, уперев взгляд в колени.
– Может быть, я не ко времени, помешал? Тогда прошу меня извинить.
Александр поглядел на часы, на Поттеров, на курата:
– У вас в церкви, мистер Ортон, есть несколько превосходных росписей. Я нигде в Англии ничего подобного не встречал. Адская пасть[32] в нефе особенно хороша, и такой чисто английский Страховидный червь![33] Краски выцвели, а все равно – настоящее пылающее пекло. Просто прекрасно. Жаль, что в церковной брошюрке так мало сведений и такой нелепо-пышный язык. Ее, как я понимаю, написала жена прошлого викария?
– Не знаю. Я не читал брошюрку. И в прекрасном не особенно разбираюсь. Но раз вы говорите, значит так и есть.
– Повторюсь: вы пришли не по адресу и в этом доме никого не завербуете, – произнес Билл. – Ваша организация плодит ложь и ложные ценности. Лично я не подойду к ней на пушечный выстрел.
– Это я уже понял.
– Я принужден жить в обществе, чьи законы и моральные принципы построены на недоказуемом мифе и рацеях этого ханжи, этого изувера апостола Павла. Но мы молчим. Мы уважаем церковь. Мы не задаемся вопросом, какие истины нам откроются, если ее попросту взять и уничтожить.
Глаза Билла метали молнии. Эту речь он произносил уже не раз и не два, но так редко выпадала возможность произнести ее в лицо священнику…
– Я не зову вас в церковь. Я прошу мисс Поттер помочь мне с одним делом.
– Напрасно не зовете. Какой же вы после этого священник? Где ваша вера? О, церковь не только мертва, она гниет!
– Вера у меня есть, – сказал Дэниел, тяжелыми руками сжимая большие колени.
– Ну да, разумеется! Единый Бог, Творец и так далее вплоть до причастия святых, прощения грехов, воскрешения мертвых и жизни вечной. Вы правда верите? И в ад, и в рай? Это, замечу вам, важно – во что мы верим.
– Верю и в ад, и в рай.
– В золотые города, в херувимов и серафимов, в жемчужные реки, в геенну огненную, в крылья и когти, в путь, усыпанный цветами, ведущий к свету немеркнущему? Или во что? Во что-то похитрей да посовременней? В то, что ад – наши собственные пороки? Меня, право, очень интересуют современные церковники…
– Видимо, больше, чем меня, – отвечал Дэниел. – Что вам в них?
– То, что мы как общество живем во лжи, мы отравлены, хоть многие этого не осознают. Отравлены вашими больными, порочными сказками. Труп на двух досках! Огнь! Древо! Соглашусь, впечатляет. Но это все ложь.
– Зачем вы на меня нападаете?
– В «Короле Лире» больше правды, чем во всех Евангелиях, вместе взятых. Я хочу, мистер Ортон, чтобы люди жили, жили полно и щедро. А вы стоите на пути.
– Ясно. Я не читал «Короля Лира». В мое время он для аттестата не требовался. Я закрою этот пробел. А теперь, если не возражаете, пойду домой. Я не из тех церковников, кто любит дебаты, и в сан проповедника пока не рукоположен. К тому же вы меня немного разозлили.
– Ты не прав, отец, – внезапно сказала Стефани. – Ты говоришь, а он делает. Я видела, как он работает, – в больницах и в других местах, куда ты ни за что не пойдешь, хоть и твердишь о жизненном опыте. И он знает «Лира», даже если не читал его.
– Уверен тем не менее, что Писание я знаю лучше.
– Я тоже уверена. А в чью пользу это говорит, пусть решит он. Простите нас, пожалуйста, мистер Ортон.
– Мы поговорим в более удачное время. – Как и Поттеры, Дэниел был упорен до одержимости.
– Я ничего не обещаю.
– Но мы поговорим.
– Вы делаете очень нужное дело, мистер Ортон, – через силу проговорила Стефани.
– Хорошо. Теперь я пойду.
Александр в сотый раз взглянул на часы и сказал, что ему тоже пора. Они вместе вышли на пустую улицу и несколько секунд стояли в относительно дружественном молчании.
– Он сумасшедший, – сказал Дэниел. – С чего он завелся?
– Ирония в том, что мистер Поттер – в своем роде верующий и даже народный проповедник. Просто он сформирован другой эпохой. Это у него бунт против собственных корней.
– Именно. Я тоже верующий, но в другом роде. И должен бы ему сочувствовать, но не могу. Впрочем, это не важно. Проповедник из меня плохой. Слова, слова…
– Слова – его профессия.
– Вот и пусть занимается профессией. Он нестройный человек. – По тону невозможно было понять, относится это к вере, эстетике или чему-то совсем иному.
Дэниел протянул Александру большую ладонь и крупно, развалисто, нестройно зашагал в сторону городка. Александр поспешно двинулся в противоположную сторону. Как все, кто боится прийти слишком рано, он не рассчитал и теперь опаздывал. Он побежал.
3. На Замковом холме
На окраине Блесфорда, где сборные послевоенные домики и патлатые огороды вырывались в настоящие поля, был Замковый холм. К нему все еще бегом приблизился Александр. Замок, ненадолго вместивший низложенного Ричарда II[34], превратился в каменную скорлупу, внутри которой стриженые бугры и пригорки выпирали с двусмысленной натугой могильных курганов. Железные таблички указывали: пересохший колодец, призрачные укрепления, фундамент королевской опочивальни.
Позади аккуратно-безличного замка был заброшенный учебный лагерь для офицеров запаса. Полумесяцем стояли видавшие виды ниссеновские казармы[35] на треснутом термакадаме, а в длинные трещины несмело и слабо просовывались кипрей и желтуха. Не было флагштока в бетонном углублении, не было машин на стоянке. Лагерь имел такой вид, словно недавно подвергся удачной осаде. Из непритворенных дверей несло застарелой мочой. В одном бараке длинный ряд раковин и писсуаров был перебит и загажен. Обычные обитатели – шершавые грязные мальчишки, кружком над спичечным светом в щитках ладоней, – подняли головы навстречу Александру. На пороге одного из бараков хищная стайка девочек, свив руки, толкалась, шепталась, повизгивала. Самая взрослая, лет тринадцати, тощенькая и дерзкая, смотрела в упор. На ней болталось платьишко из поддельного шелка, а волосы покрывала невыносимо алая сетка. В уголке резного рта мерцала сигарета. Александр торопливо и нелепо махнул рукой в знак приветствия. Эти-то знают, подумал он, зачем я… зачем все сюда ходят.
Поверх проволочной изгороди он увидел Дженни, как она быстро идет через поле, полное репьев и коровьих лепешек. Руки сунуты глубоко в карманы, под жестким конусом синего макинтоша лодыжки и ступни такие крошечные. Голова, изящно повязанная красным платком, опущена. Все это было до мучения трогательно. Александр поспешил за ней. Под кронами маленького леса, у перелаза невесть зачем возникшей изгороди, догнал и поцеловал.
– Любовь моя…
– Послушай, я не могу, Томас дома спит, я его одного оставила, я не могу так рисковать, мне нужно домой…
– Милая, я опоздал. Я боюсь прийти раньше и сдрейфить и от этого опаздываю.
– Хорошо хоть кто-то из нас не боится.
Все же она взяла его за руку. Обоих знобило. К Александру вернулся давешний восторг.
– Как ты? – натянуто спросила она.
– Превосходно! Дженни, слушай, Дженни…
Он принялся рассказывать о пьесе. Она молчала, и он слышал, как слабеет его голос.
– Дженни…
– Я очень рада. Я очень за тебя рада.
Она пыталась потихоньку выпростать ладонь. Этот мелкий отпор чаровал его до оцепенения. Беда – или нега – была в том, что вся Дженни составляла для него некую цепенящую, повелительную чару. Когда она раздражалась, что бывало нередко, зачаточные, оборванные движения ее гнева доставляли ему острое наслаждение. Если в гневе она отворачивалась, он впивался взглядом в ее ухо, в напряженный мускул шеи. Его чувства были до сумасшествия просты и упорны. Александр однажды попытался объяснить их Дженни, и тут уж она рассердилась по-настоящему.
Нужно было что-то сделать. Он потянул Дженни за запястье (ее ладонь успела снова нырнуть в карман):
– Ты сердишься. Прости, что я опоздал.
– Ах, это не важно! Я и не ждала, что ты придешь вовремя. Наверное, я эгоистка: если пьеса состоится (а она состоится), ты начнешь пропадать. Если будет большой успех – и вовсе уедешь. Я бы на твоем месте уехала, я…
– Не глупи. Может, благодаря пьесе будут деньги. А с деньгами я куплю машину.
– Как будто машина все изменит.
– Не все, но что-то.
– Ничего практически.
– Мы могли бы уезжать…
– Куда? На сколько? Мечты!
Этот разговор о машине повторялся из раза в раз.
– Дженни, ты могла бы играть в моей пьесе. – Он чуть запнулся на слове «моей». – Мы бы виделись каждый день. Было бы все, как вначале.
– Сомневаюсь.
И все же она остановилась, приникла к нему. У Александра закружилась голова.
– У нас с тобой – вечное начало. Не пора ли закончить?
– Но мы же любим друг друга. И мы договорились: брать хотя бы то малое, что…
Они всегда упирались в эту фразу.
Однажды Джеффри Перри, учитель немецкого, стесняясь, попросил Александра дать его жене какую-нибудь роль в постановке «Она не должна быть сожжена». Дженни после родов затосковала, может быть, театр ее исцелит. Александр как-то смутно помнил миссис Перри: топала по школьным газонам округлая дамочка, похожая на луковку, неуклюжая, как все низкорослые.
Он был, однако, галантен, пригласил ее к себе прочесть что-нибудь на пробу за стаканчиком шерри. Дженни, слишком туго заряженная жизнью для этих тесноватых стен, оказалась грозовой Клеопатрой и напевной, лирической Дженнет. И разумеется, он утвердил ее на роль Дженнет: Блесфорд талантами не блистал. Муж-германист приходил благодарить.
На репетициях он очень скоро ее невзлюбил. За первые два дня она наизусть выучила свою роль, расписание репетиций и все остальные роли. Предлагала тут урезать, тут поменять мизансцену, тут под открытие занавеса пустить такую-то музыку. Она суфлировала, где не просили, давала советы. Александр нервничал, актеры путались и смущались. Как-то раз, когда они вдвоем репетировали в трюме[36], в тесном и душном закутке его, где хранились музыкальные инструменты, Дженни единым духом попрекнула Александра просторечным словцом, усомнилась в выборе его актеров и в правильности приведенной цитаты. Он миролюбиво возразил, что, мол, не стоит из каждой мелочи делать вопрос жизни и смерти.
Она попятилась, покачнулась и вдруг бросилась на него, целя рукой в лицо. Он отступил, запнулся о позолоченный пюпитр и, падая, задел головой пианино. Потекла кровь из ссадины на затылке, из разодранной ногтями щеки. Дженни от столь яростного броска не устояла на ногах и свалилась на Александра, лепеча в трюмной пыли, что это вопрос – ее жизни и ее смерти, потому что с ребенком скучно и от него пахнет, а мальчишки еще скучней и пахнут невыносимо, и все в этой скучной дыре помешаны на мерзких мальчишках. Она с трудом поднялась на колени меж его раскинутых ног и сердито отбрасывала назад длинные черные пряди.
– Жизнь! Это не жизнь, а распад мозга. Здесь же нет человеческих разговоров. Так, что-то вроде – и то когда играем. Играем в студентов, которые играют в актеров, которые играют в средневековых ведьм и солдат. Метафорические радости! И вот я всеми командую, я невыносима, и вы с ваших высот мне на это деликатно указываете.
Она снова занесла руку, но он лишь с улыбкой прикрыл лицо.
– В университете мечтала по глупости: получу диплом, и мне откроется весь мир. Как бы не так! Я заперта. Ни мыслей, ни разговоров, ни надежды. Хотя что это я? Вам не понять.
Александр неизбежно успел сделаться исповедником для молодых замужних женщин, полных энергии, скучающих без настоящей работы, одиноких в тесном мужском мирке. Он подумал, что отлично все понимает, но ей говорить не стал. Вместо этого притянул к себе и поцеловал.
Учительские спектакли ставились не чаще чем раз в два-три года. Обществу требовалось время, чтобы оправиться от потрясений, непременно вызываемых редкой здесь смесью алкоголя, драмы и разных степеней неглиже. Александр, ранее выступавший лишь позабавленным наблюдателем, поначалу был слегка оскорблен трафаретным развитием событий, визитами в дамскую гримерную с витавшим в ней робким душком водевильного адюльтера. Он не любил разочаровывать и потому застегивал крючки своей приме, поправлял декольте, прикасался, в отсутствие явных соглядатаев, щекой, а то и губами к маленьким круглым грудкам. Но его конфузливый холодок должен был отступить перед ее блистательным, блаженным безрассудством. Александр отозвался ей, как хороший актер отзывается на бескорыстную гениальность партнера. В день премьеры, стоя в кулисах за миг до выхода, он сказал: «А ведь я люблю тебя» – и видел, как смущение, жар, надежда преображают ее игру (этого он, впрочем, ожидал). Он собирался, он твердо намерен был после спектакля лечь с ней в одну постель.
С тех пор минул почти что год. Год свиданий урывками, звонков по сговору, побегов, пряток, писем и лжи. Письма двигались потоком, попутным пьесе, фразы из писем в пьесу перетекали. С ироничной нежностью, с нетерпеливой страстью, с тонкими цитатами, с уличными словечками, с подробностями все более определенными – описывался в них миг, когда им наконец подвернется пресловутая постель. Он думал порой, что письма их уплотнились почти до правды и слияние, так много раз воображенное, – при полной их невинности – произошло.
Замковый лес у подножия холма тревожили и теснили новые постройки, но влюбленные вскоре освоились в нем. Их тайные прибежища почти всегда носили недавние следы чужого пребывания. И все же бывали дни, когда изначальное сумасбродство, смеясь, брало верх, когда любовь примятую траву и салфетки в помадных мазках освещала чем-то новым. Однажды Дженни обнаружила там полупустую жестянку печеных бобов, а в ней – использованный чехольчик. «Суррогат супружеского счастия», – торжественно объявила она, а Александр, запустив находку в ближайшие кусты, заметил: «Скорей уж обряд бесплодия: печеные бобы и семя, уловленное в резину». Они много смеялись этому.
Александр отшвырнул рваную газету и уложил Дженни в ложбинку, спиной к дереву. Левая рука обнимала ее, а правая расстегивала пуговки. Дженни положила ладонь ему на бедро.
– Я все жду, что из кустов высунутся мальчишки. Знаешь, рядами, как в кино, и с этими их гадкими улыбочками. Мне кажется, лес ими кишит. Снуют, вынюхивают…
– Ты на них помешалась.
– Знаю. Это ужасно. Никогда не думала, что их возненавижу. И Томас, бедный, вырастет и станет таким же мальчишкой. Только уж в Блесфорд я его не отдам: изгоем он не будет, как младший Поттер…
– Он изгой?
Александр уже расстегнул ее дождевик и вязаный кардиган. Раскрыл их и принялся за юбку.
– Конечно изгой. Всегда один. Знаешь, в нем есть что-то ненормальное. Недавно видела его в Дальнем поле: носился один туда-сюда, как заяц, а потом лег на землю.
Александр открыл ей шею и грудь, драгоценной оправой расположил вокруг складки одежды. Дженни сидела тихо, как статуя. Он вздохнул и прижался лицом к ее лицу. По ней пробежала дрожь.
– Александр… ты любишь мальчиков?
– Тш-ш-ш.
– Нет, правда.
– Ты думаешь, я уранит? Учительские жены подозревают всех неженатых.
Он блаженно водил лицом по ее открытой коже.
– Нет, Дженни, я просто люблю их учить. Никогда мне не хотелось кого-то из них обнять, прикоснуться или что-то в этом роде.
Он подумал, покойно устроив голову у нее на груди, что никогда, собственно, не знал этой неодолимой жажды: прикоснуться к другому. Каждый раз он мог бы так же легко уклониться. Его жажду, подлинную жажду высказать было нельзя. Вместо этого он спросил:
– Почему я так счастлив? Наше положение должно бы приводить меня в бешенство…
– Должно. Но не приводит.
– Будь у нас хоть какое-то место… постель – неужели ты думаешь?..
– Не знаю. И навряд ли узнаю.
Неутоленность и эти быстрые недобрые вспышки тоже были частью сценария. Она сидела совсем неподвижно. Александр занялся ее бедрами. Тронул прохладно-упругую плоть на границе туго натянутых скользких чулок и пояса с цепкими подвязками. Чутко пробежал по пряжкам и рубчикам. Поднырнул под край трусиков, туда, где теплые складки и колкие волоски, где мягкое. Она вздохнула, откинулась, передвинула руку у него на бедре. «Не шевелись, застынь», – мысленно умолял он, а беззвучные пальцы его трепетали особым стаккато. Тело под одеждой, тело в одежде, наложение покровов гладких, суровых, тягучих, текучих, бесконечное разнообразие их – все это было упоительно… Должно быть, способов любви столько же, сколько людей на земле. Он любил медлительное нарастание, когда медлительность почти уже переходит в недвижность. Разумеется, никакого труда не составило бы ему взять ее тут же, в лесу. Под пальто или пледом они рисковали быть замеченными не более, чем сейчас. Тут, думал он, замешалась эстетика. Осилить ее среди смятой, перекрученной одежды, среди обломанных веток, клейких буковых семян, среди разных влаг. «Осилил грубо». Странное дело: он предчувствовал, что отпора не встретит, и все же неотвязно мыслил образами насилия. Была, безусловно, в нем самом некая странность. Что ж, с этим нужно жить. Он длил свое трепещущее стаккато, чтобы она оставалась недвижной и раскрытой, и думал, как часто бывало в эти минуты, о Т. С. Элиоте: «непобедимый голос». Филомела и Тирей. «Ее осилил грубо». «Но плакала она, но по сегодня мир соловьями плачет…» – времена! Вплотную время прошедшее и настоящее[37]. Да, борения с Шекспиром – вещь почтенная, но другой голос подбирался ближе и жалил коварней. Налетела молниеносная паника. У него никогда не будет своего голоса. Была строка – он думал, его. Может, с призвуком Овидия, но его, умно повернутая в духе нового Ренессанса… Поменять, не забыть поменять – этот проклятый ритм определенно от Элиота. В его размышления Дженни всыпала бусинки слов:
– Александр, милый, мне нужно бежать, нужно к Томасу, и у меня внизу все онемело, и…
Тут он заметил, что и сам почти до бесчувствия отлежал бедро, что давно и сильно болит от упора левое запястье. Взглянул на Дженни. В глазах ее стояли крупные слезы. Он молча достал платок и бережно отер их.
– Что с тобой, милая?
– Ничего. Все сразу. Я тебя люблю.
– И я тебя.
Он привел в порядок ее одежду, снова укрыл белизну груди, методически застегнул пуговки на блузке, кардигане, дождевике, поправил сбившийся шов чулка, отряхнул подол.
Они вынули ежедневники, назначили новую встречу, пообещали писать. Потом она, как всегда, ушла не оглядываясь, очень быстро, почти бегом. Он, как всегда, остался: полагалось выждать установленные пятнадцать минут.
Откинувшись на кучу сухих листьев, он принялся сочинять будущее письмо, в котором уязвимость их онемевших, неловко друг к другу притиснутых тел как-то свяжется с этим его ощущением блаженно-золотого, бескрайнего времени и пространства. Дженни оставила после себя такое тепло. Он был целиком захвачен ею. Он улыбался.
В Веймуте, в его мальчишеских, одиноких песках была у него подружка, морская девочка, бело-золотая, чистая, сияющая, как Элли из «Детей вод»[38]. Или он сам был ею – слишком уж явственно было ее пенистое бытие. Какой-то отсвет морской девочки был и в его Елизавете. Возможно, временами он хотел быть женщиной. Мысль будто не о себе, а о ком-то другом. Но если так, его желание должно было сообщить пьесе некую особенную силу или энергию. Нужно хорошенько заняться этой псевдоовидиевой, псевдоэлиотовой строкой.
Выждав достаточно, он решительно зашагал к Замковому холму. Разнополые банды успели перемешаться и вместе пекли что-то в жестянках на тощем костерке. Девочка с алыми волосами раскинулась, разбросав ноги, на коленях у самого крупного и корявого мальчишки. Платье ее было вздернуто до бедер. Три девочки поменьше сидели тут же и смотрели не отрываясь: их напряженное внимание явно было существенной частью действа. Когда Александр вышел из темноты, они разом уставились на него. Тем же прирожденным движением, каким трехлетка, задрав подол, являет круглый живот и сползшие панталончики любой мужской особи, алая девочка изогнулась и, подрагивая, наставила на него развилку бедер. Лениво помахала рукой и издала громкий, непристойный звук. Кровь прихлынула Александру в лицо, защекотала у корней волос. Побитый в каком-то довременном состязании, он опустил глаза.
4. Влюбленные женщины
Сестры, уже в ночной одежде, сидели у электрического камина в комнате Стефани. Стефани капала молоком, вливала его в котят, изрядно замусоленных, но пока живых. На ней была полосатая мальчишеская пижама из «Маркс и Спенсер», в просторном чехле которой ладная, округлая Стефани теряла очертания и смутно виделась громоздкой. Фредерика была в длинной белой сорочке с пышными рукавами и большой ажурной кокеткой, продернутой по краю черной ленточкой. Ей нравилось представлять, что сорочка струится с ее плеч потоками тонкого батиста. Но то был не батист, а нейлон – кроме него да вульгарно-блескучего ацетатного шелка, ничего нельзя было добыть ни в Блесфорде, ни в Калверли. Нейлон никуда не струился, а облипал ее длинные, тонкие, суставчатые конечности и вдобавок неприятно скользил. В одежде Фредерику прельщал не сам предмет, а некий платоновский идеал его, посещавший, вероятно, и создателей тех дешевых подделок, что были ей по карману. Будь у нее деньги, приложилось бы к ним и хваткое йоркширское чутье на добротную ткань. Но денег не было, а быть практичной в вопросе вторых сортов она отказывалась.
Говорили об Александре, о себе, о жизни. В любви к нему сестры были не соперницами, а скорей сообщницами – возможно, потому, что каждая на свой лад считала это дело безнадежным. Во Фредерикином случае безнадежность мнилась исключительно временной: Александр просто пока не разглядел ее интеллектуальных и телесных великолепий под гнусной кожурой формы и обычаев Блесфордской средней школы для девочек.
У Стефани безнадежность была другая, трудная. На глазах у Александра она за пять лет из подростка превратилась в женщину, а он ни разу толком не вгляделся в нее. Никаких не было оснований надеяться, что внезапно он прозреет. Ей нравилось думать о нем далеком, чистом, неприкосновенном. Эту часть его образа сестры лелеяли вместе, уточняли и достраивали в беседах – вот и еще причина их странному согласию. В Александре сошлось все то, чего они не имели, чего желали и боялись никогда в жизни не отведать: творчество – вместо критики его, мужская свобода странствий – вместо женской провинциальной оседлости, небрежное искусство жить, обещание столичного блеска. На долгие праздники Александр уезжал за границу. Имел друзей среди актеров, лондонских и оксфордских профессоров. В отличие от прочих учителей, безвылазно сидевших в школе, в конце каждого семестра он устремлялся в более цивилизованные края. Известное дело, что женитьба для учителей неблагоприятна, а для жен их и вовсе пагубна. Любя Александра, сестры боялись, что, полюбив их – или полюбив вообще, – он будет несчастен. Сегодняшний их разговор лишь с большей страстью повторял разговоры прошлые.
– Он сегодня был такой красивый.
– И с таким достоинством вытерпел все эти вопли. Он всегда держится достойно.
– Недолго ему терпеть. Он уедет. Ох, Стеф, он уедет, а мы останемся в этом кошмаре.
– Вероятней всего. Он, наверно, только и ждал, чтобы спокойно закончить пьесу.
– Вот с тобой он говорит: как пишет, как нужно писать. А со мной нет. Я его раздражаю. И не хочу, а все равно раздражаю…
– Что, если он действительно написал большую вещь?
– Быть способным на большое – и знать это. Можешь себе представить?
– Нет. Нет, не могу. Это страшное что-то.
– А Шекспир, Стеф… Шекспир не мог не знать, что он другой, чем все…
– Александр – не Шекспир.
– Это пока неизвестно.
– Просто я так думаю. И Шекспир мог не знать.
– Должен был.
В глубине души Фредерика думала, что это ужасно тяжело – жить, ежеминутно ощущая в себе силу и диапазон Фредерики Поттер, особенно если не решила пока, куда их применить. Преимущество Александра бесспорно, но все ли там дело в силе? С другой стороны…
– Твой курат, Стеф, прямо неистовый муж какой-то.
– Да, до ужаса. И он вовсе не мой… Ты бы видела, как он работает!
– Не понимаю, почему большинство просто сидит в своем болоте, и все. Я ни за что не стану.
– Ты – нет.
– А ты почему не уедешь отсюда, Стеф? Ты-то могла бы.
– Уеду, наверное. Мне просто нужно немного собраться с мыслями.
Она склонилась к котятам, не желая пока вдумываться в вопрос сестры.
– Иди спать, Фредерика. Мне всю ночь еще сидеть, я пока капельку вздремну. Иди спать.
5. Дэниел
Когда Дэниел своим ключом открыл дверь, снаружи уже стемнело, а в доме викария не горело ни одно окно. Было не так уж поздно, но миссис Элленби была скуповата на свет и тепло. В пролете викторианской лестницы прохладной колонной высился сумрак. Дэниел, давно привыкший, тихими шагами проложил путь меж опасных выступов стоячей вешалки и черного дубового сундука, избежал неверных под ногой истрепанных турецких дорожек и направился к кабинету хозяина.
Вот они, призраки роскошеств. Тяжеленный стол с доской, обтянутой кожей, пара чернильниц граненого стекла с серебряными крышечками, вольтеровское, темной кожи кресло, и за стеклами шкафа – стена книг в кожаных переплетах. В афганском ковре протоптано несколько дорожек: черно-золотой с искрами узор истерся до безымянной мешковины. Комната убиралась с чем-то похожим на страсть, но в ее стерильных пределах широко расплывалось дыхание нарцисса, пышно и нежно веяла фрезия. В неглубоком круглом китайском блюде с серебристым бликом по черному лаку бледно виднелась композиция из цветочных головок. Пунцовые и лиловые чашечки анемонов, подснежники с зеленым кантом, пергаментные нарциссы, бледно-золотые фрезии лежали на воде, и тени их красок отражались в ней.
То было ежедневное приношение мисс Уэллс, старшей коллеги Стефани, давно и преданно снимавшей комнату у викария. Потревожив цветы, Дэниел включил настольную лампу. Его мать говорила, что опасно оставлять цветы на ночь в комнате. Когда отец умер и лежал мертвый, она каждый вечер переносила все вазы в судомойный чуланчик и тесно составляла в сколотой глиняной раковине кровяного цвета. Цветы выдыхают какой-то ядовитый газ – так ей сказали сестры в больнице. Дэниел воспоминание отогнал, взял библиотечную лесенку и стал изучать книги в шкафу.
Полный Шекспир, черно-золотой, обнаружился на верхней полке. Стеклянная дверца была заперта. Дэниел посмотрел, не торчит ли ключ в какой другой дверце. Ключа не было. Он грузно спустился с лесенки, в слабом кружке света осмотрел поверхность стола, открыл серебряную шкатулку, пахнущую табаком, потом деревянную, набитую скрепками и наклейками на конверты[39]. Потом, как тать в нощи, принялся рыться в ящиках, обнаруживая маленькие клады монеток, резинок, старых самодельных крестиков для Вербного воскресенья. Наконец, приведенное в движение тайной пружинкой в одном ящичке, выехало в другом скрытое отделение, и Дэниел обрел, что искал: позолоченное кольцо с ключами от всевозможных хозяйственных таинств, начиная с несгораемого шкафа и кончая коробом швейной машинки. Снова забрался на лесенку, тяжело дыша, отпахнул дверцу и, разобрав наконец в полумраке надпись, спустил с полки том с «Королем Лиром». В длинном страничном желобке густо скопилась пыль. Он дунул, проследил, как опало и рассеялось облачко, потом еще протер книгу платком, замарав его черным. Мягко закрыл шкаф, тайное отделение, ящик стола, дверь кабинета и отправился наверх.
Его комната была на втором этаже – огромная, вроде пещеры. Высокий лепной потолок пучился потемневшими от пыли розами, яблоками, некогда белыми, а теперь цвета луковой шкурки от наползающей сырости. Два высоких окна до сих пор были украшены светомаскировочными занавесками: плотная, черная с желтой искрой смесь хлопка и ацетата, крупный узор из золотых звеньев. Эта комната, где искони обитали кураты мистера Элленби, называлась «спальня-гостиная с удобствами». В углу ее стоял мелкий жесткий диванчик, а в нише за занавеской помещались умывальник и крохотная плитка, на которой Дэниел должен был, по замыслу хозяев, кипятить воду для растворимого кофе и готовить себе ужин. Завтрак и обед он разделял с четой Элленби. Комната была одновременно перегружена мебелью и как-то пустовата, безлична, будто склад. Собственно, складом она и была – не в силах расстаться с ненужными предметами, миссис Элленби ссылала их в «спальню-гостиную». Поэтому Дэниела окружали: два гардероба, три комода, оттоманка, стоячий рукомойник, два журнальных столика, три кресла, рабочий стол, бюро со шторкой, три торшера, книжный шкаф со стеклянными дверцами, пуфик и троица мелких этажерок. Поодаль высился штабель общественных стульев из трубчатой стали и поддельной кожи. Тут был и дуб, и орех, и красный махагон, и белый ясень. Обивка была либо цвета темной крови, либо какой-то невыразительной мышастой масти. По стенам висели Дюреровы «Руки молящегося», «Подсолнухи» Ван Гога и большое фото, с которого глядели два юных служки в церковных кружевах и медная ваза с лилиями – все в удивительно длинном луче света. На сером крапчатом линолеуме тут и там были разбросаны ковровые островки: маленький пунцовый (яковианская псевдоиндия), домодельный тряпичный с белым корабликом в ультрамариновых волнах, вильтоновский[40], недорогой и цветистый, с размашистой импрессионистской россыпью маргариток и кукурузных початков.
Дэниел сунул шиллинг в прорезь газового счетчика и включил старый обогреватель, который тревожно взревел и зафыркал: две секции плохо работали. Просунулся за занавеску, хмурясь, быстро обмылся до пояса. Сложил свое черное одеяние, надел пижаму, рябенький растянутый свитер и залез под одеяло.
У прикроватной лампы абажур был сплетен из полосок багрового пластика, лампочка горела скаредно – общий эффект выходил мрачный и лихорадочный. Дэниел склонился набок, чтобы багровый свет упал на станицы, и, ощущая неловкость в теле и где-то глубже, начал читать «Короля Лира».
Он читал медленно и кропотливо. Комната не нравилась ему, но он не тратил усилий на улучшения, не пытался развеять ее уныние. На это нужна была энергия, а он становился все бережливей, все дальновидней, когда дело шло о приложении энергии, своей и чужой. Имей он зрение похуже, не имей способности забывать о физических неудобствах, он заменил бы лампу или переставил. Но, решив машинально, что она внимания не стоит, он никогда больше о ней не задумывался.
Книгочеем Дэниел не был. Эти вещи всегда шли у него туго. В детстве, толстенький и бледный, он чувствовал, что жир облегает его, налегает, сдавливает. Перед самым обращением, в пятнадцать лет, он прочел где-то, что жир – топливо, дающее энергию. Эта мысль затронула его глубоко, изменила отношение между Дэниелом внутренним и Дэниелом внешним. Должно быть, впервые за всю жизнь он осознал, что эти двое крепко сопряжены. Теперь, говоря с прихожанами, он нередко подшучивал над собой: мол, жир – его топливо. Быть толстяком в каком-то смысле значило держаться по-толстяковски. И в детстве, и сейчас важна была повадка: лучше всего нести себя с благодушной, размеренной развальцей. Другое дело, что порой навязывали ему роль Билли Бантера[41], толстого шута, что для священника – профессиональная опасность.
Отец-то его всегда знал, что под жиром спрятана сила. Он был машинистом на железной дороге. Дэниел вырос в Шеффилде[42], в черном от сажи домишке в ряду других таких же, с двориком, с нужником под шиферной крышей. Машинистов уважали, это были аристократы среди других рабочих. У Ортонов занавесочки были свежее, каменный скобленый порог – белее, латунь на двери – ярче, чем у других. Тед Ортон был человек непомерный и шумный. Приходя домой, он приносил с собой жар и гром машины, напор поршней. Он спотыкался о мебель, сдвигал комодные финтифлюшки, громко ел, чем бесил чопорную хлопотунью-жену. Он любил грубые шутки: выхватить вдруг ложку из чая и прижечь Дэниелу руку, за пудингом изобразить длинную и тошную сцену со сломанным зубом, а потом извлечь из набитого рта полукрону или флорин и вручить сыну. Дома он внезапно, вспышками, орал и жег глазами Дэниела: не спи! шевелись! займись делом! В пику ему Дэниел держался с какой-то неестественной, даже сановной размеренностью. Он думал, что боится отца, он опускал глаза, и пухлое лицо его становилось брюзглым и непроницаемым. Но в глубине и налетавшие грозы, и постоянная требовательность радостно волновали его.
Вне дома неуклюжее полнокровие Теда претворялось в силу более стройную: локомотив покинул станцию, он уже не пыхтит, не давится паром, а летит и жадно глотает длинные гладкие рельсы. Отец любил показывать ему депо, брал в кабину, даже катал иногда. Он дотошно проверял его домашнюю работу, порой выстреливал в него длинной арифметической задачей или цепочкой слов: ну-ка, как пишется? Обещал альбом для марок и поездку к морю, если Дэниел сдаст экзамены в среднюю школу[43].
Дэниел сдал, хоть и не блестяще. И альбом хранил до сих пор. А вот поездки к морю не было. Неделю спустя Теда сбила на уклоне оторвавшаяся череда вагонеток с сырой рудой. Потом еще неделю Тед, огромный и сломанный, лежал в больнице. Потом он умер. Дэниел его так и не видел. Сперва сказали: проведаешь, когда придет в сознание. Потом – всё, отца нет. Дэниел был тогда зол на него – за смерть неопрятную и словно исподтишка, за то, что впервые отец что-то пообещал и не сделал. Теперь-то он видел, как это было нелепо. На похороны его тоже не взяли, оставили «играть» на улице с каким-то мальчиком. И мать никогда не говорила с ним о случившемся.
Позже он на вопросы отвечал, что смерть отца не помнит. Это была полуправда. Он замыкал свое тяжелое лицо, держался «как все» и в итоге выжил. Порой, когда сон уже брал свое или Дэниел замирал ненадолго в кресле, что-то включалось, и он снова слышал тот первый телефонный звонок: беда. Он был словно заперт в одном мгновении, время могло лишь возвращать его в одну-единственную точку. Дэниел чувствовал: от него требуется неким неведомым путем узнать, как все было, – авария, смерть, прочее. Узнать он не может, и потому вечно будет даваться ему эта мучительная, ни к чему не ведущая попытка. Об этом он ни с кем не говорил.
А в альбоме пустые страницы были покрыты рядами гнездышек, в полупрозрачных нераспечатанных конвертиках ждали зажимы с резиной на лапках. Дэниел альбом не выбросил, но больше на него не взглянул.
После беды Дэниел ждал, что они с матерью станут ближе, рисовал себя в трогательной роли маленького хозяина дома, сироты, ждущего утешения и утешение дарящего. Но мать была теперь постоянно чем-то недовольна и все жаловалась через забор соседке на убогую пенсию, на мизерную экономию, на ломоту в костях. Дэниел слышал, как его называли обузой. Раньше миссис Ортон была миниатюрная, хрупкая, остро-точеная. Теперь ее затянуло жирком: плечи, бока, бедра, щеки. Среди всего этого нос, подбородок, тонкие пальцы и небольшие глаза слабо прочерчивали прежний тонкий абрис. Единственным глубоким наслаждением в ее жизни был флирт, порой расцвета – короткая пора перед замужеством, когда она кружила головы, когда все было гадательно, когда у нее была власть. С Тедом она присмирела, обставилась утешительными мелочами: какими-то кексиками, скатерками, вышитыми салфетками для предохранения кресельных спинок, блестящими ложками, латунными колокольчиками. Все это она перекладывала, переставляла, поправляла, полировала, слушая его речи, скромно отводя глаза. Когда она овдовела, многие вещицы куда-то пропали, и, хотя занавески оставались безупречны, Дэниел привычно и равнодушно думал, что дом стал грязный, запущенный. Теперь вместо флирта миссис Ортон предалась сплетням: как раньше с подружками она хихикала над незадачливыми ухажерами и соперницами, так теперь деятельно вплетала нити в бесконечную сеть предположений, осуждений, соглядатайств за жизнью соседей. Она раз навсегда сменила туфли на шлепанцы и кормила сына консервами из жестянок.
Дэниел был одинок – настолько, что даже думать об этом не решался. В школе сделался тих и неприметен. Он корпел над учебниками, но всё вслепую – не видел глубинной, рациональной системы математики или языка. И поскольку он худо-бедно сдавал все, что положено, никто не интересовался: понимает ли он, что делает? Но Дэниел и не надеялся понимать. Успевай он чуть лучше, кто-то из учителей попытался бы, может, его расшевелить. Чуть хуже – и на него, вероятно, оглянулись бы, занялись им. А так – он жил как есть. Он худо-бедно успевал достаточно, чтобы его не замечали.
Пятнадцатилетний, плотно обвитый удавьими кольцами жира, он в числе сводной группки учеников был направлен на Шеффилдскую неделю знаний. То был фестиваль нескончаемых речей и экспозиций: каменные напластования и паровая стерилизация молочных бутылок, плавление стали и запись о замке Вальтеофа[44] в «Книге Страшного суда», внутренние процессы ПТФК[45] и Мистерия меховщиков[46] в ритмизованной постановке «Лицедеек Изиды»[47].
Среди докладчиков по неясной причине был монах из местного англиканского сообщества Архангела Михаила и Всех Сил Небесных. Сообщество было строгое, крепко держалось обетов бедности, целомудрия и послушания, пробовало посылать своих в мир: на фабрики, в общежития для недавно освобожденных. Если верить программке, монах должен был рассказать о «жизненных возможностях для деятельных натур».
Ему выпало говорить тусклым вечером перед огромной, отяжелевшей, смутно раздраженной толпой, запертой среди колонн в скважистом полусумраке шеффилдской ратуши. Он возник сразу, четко, словно из-под земли, прямой и худой – столп черной сутаны, обставленный с боков сцены сфинксами с бронзовым фашистским уклоном.
Когда он заговорил, Дэниел в первый и последний раз познал совместный восторг.
Тот монах был оратор. Без явных фокусов, без цветистых оборотов он умел сообщить слушателям живую и властную страсть. Секунду он стоял тихо, измеряя безразличие ерзающей публики, а потом словами сухими и режущими разогнал все серое и косное. Для начала рассказал только о работе – о своей работе в миру. Деловито и сухо явил мальчишкам скаредность душ, узость лбов, страдание, смятение разума, ужас. Где другие взывали и вопияли, он был лишь сдержан и точен. Он ни в кого не впивался взором, не ждал никакой реакции и все же управлял их вниманием столь же безусловно, как игрой собственных нервов. Он был один, говорил словно бы сам с собой, своим обычным голосом, не делая скидок на пресловутый юный возраст, на хрупкость душ, на недомыслие. Он был один, и он был всеми. С каждой новой мыслью его облик менялся, а сухой голос все продолжал. Вот губа отвисла в параличе, а потом застыла от страха, вот руки свела на секунду боль, вот что-то бессмысленное робко глянуло из глазниц в бесформенный мир. Лишь голос, беспощадный, не дрогнул ни разу.
Странно, говорил он: вот ведь вещи ясные, признанные всеми, – и так редко люди откликаются на зов. Христос завещал им, как нужно жить, а большинство и не пробует следовать завету. Тускло, с каким-то голым, без выражения, лицом он сказал: человеческая жизнь должна приносить пользу. Лишь немногие знают, на что способны. Остальные боятся знать, боятся, что обстоятельства заставят узнать себя. Так не лучше ли – он вскинул ладонь, белым вспыхнули распяленные, напряженные пальцы, – не лучше ли осмелиться? Узнать себя и послужить добру. Тяжело жить с мыслью, что жизнь одна, что сделать успеешь лишь толику. Но в этом знании, как и в любом другом, скрыта сила. Видеть свой предел и все же действовать – вот она, подлинная сила, умножающая сама себя. Человек обязан думать о том, как употребить свою жизнь.
Зал был заряжен крепко, раскинутые руки монаха кончиками пальцев вбирали напряженное безмолвие. Жестом фокусника и волхва он повернул ладони вверх, затем вниз и сказал, что здесь, в зале, есть люди, которые на меньшее не согласятся и будут работать для Господа, рука об руку с Ним. Этих людей от силы двое или трое. Ему не нужны медяки пожертвований – нужны жизни. Христос пришел, чтобы человек жил полнее. Не счастливее, нет. Полнее.
К тому времени монах был уже красноречив, уже окутывал зал месмерическим заклятием здравого смысла и чистого разума. Но дело тут было не совсем в словах. Он был полон несомненной и подлинной жизни – и не только Дэниел, но и остальные отзывались ему, жаждали знания, предлагаемого на кончиках этих распростертых пальцев. Монах глянул в сумрак поверх голов на бледные ламповые шары, и весь зал, как одно существо, проследил глазами его глаза и пойман был его ясным взглядом. Если бы он сейчас сошел со сцены, к нему протянулись бы руки, люди теснились бы, желая коснуться его.
У вас есть лишь ваша жизнь, сказал он. Немного, но зато взаправду. Возьмите же ее и употребите как должно. Есть один Путь, одна Истина, одна Жизнь. Остальное – сон.
Он вспомнил Йейтса[48]:
- Робеют лучшие, а худшие полны
- И ярости, и силы.
Он сказал: мы можем это изменить. Все мы, любой из нас может это изменить.
Дэниел не разбирался в риторике. Многое он потом не мог вспомнить, а то, что осталось в памяти, утратило тепло и силу, казалось вычурным и даже банальным. Но он запомнил навеки, как монах, завершая последний жест, – грозный, обнимающий, колдовской? – отвел глаголющие ладони, в которых вихрем вилась энергия. Запомнил, как по залу ураганом прошел восторг, запомнил, что можно сказать невысказанное, освободить силу. Мальчики, сбившись кучками, горячо говорили. Было смутное ликование: речь тронула всех, а значит, это новое и странное внутри не нужно скрывать, можно о нем говорить, можно длить его. Дэниел, освобожденный, тоже стоял с ними и тоже говорил – кончилось одиночество, навязанное ему жиром и молчанием. На другой день он сходил к местному викарию и к директору школы узнать, какой нужен аттестат, чтобы принять духовный сан. Он был даже рад, узнав, что придется просидеть за партой лишний год, добирая латынь. Отпор только обострял в нем новое ощущение силы. У него была цель, в глазах появился свет.
Богословский колледж разъяснил ему многое из того, что случилось тем тусклым вечером. Он был цепко предан идее, воспринятой еще тогда, но со временем контуры ее выступили четче. Он понял, что в мире нужен практик – человек, полностью посвятивший себя практическим решениям. Смысл, в котором Дэниел употреблял это слово, возможно, существовал лишь для него одного. По мере того, как становилось ясно, что он не мыслитель и не книжник, что ему безразличны ранние ереси и чин литургии, собственные побуждения и чужие, – он повторял себе: нужен практик. Быть практиком значило для него бороться напрямую с болью, нищетой, страхом. Вернуть, волоком втащить в область людских отношений тех, кого силы зла вытеснили из сферы понимания, взаимодействия, телесной нормы. Для этого нужно было иметь аттестаты. Все остальное – преодолимо.
Ему хватило практической сметки скрывать от наставников свое равнодушие к молитвенным собраниям и совместному самокопанию. Он считал, что следовало бы меньше внимания уделять духовной жизни его и его товарищей и больше – предстоящей работе. Впрочем, заявлять об этом вслух нужды не видел. Он был коварен и невинен под своей толстой респектабельной оболочкой. Она же обеспечила ему репутацию человека старательного, но туговатого. Когда ему вышло куратское место в Блесфорде, он не возражал: начинающему практику все равно было, где начинать. Поскольку он искал дела не с большой, а с малой буквы, никому и в голову не пришло, что это фанатик. И если мистер Элленби начинал уже кое о чем догадываться, то сам Дэниел до сих пор пребывал в неведении. Он думал о том, в чем состоит его работа и как ее лучше делать. Одинокие вечера проводил в основном за письменным столом: что сделано, что сделать предстоит, к кому из прихожан зайти. Тянулись черные колонки квадратным почерком в разноцветных папочках. Он верил в записи: так ничего не забудешь и не упустишь. Верил в сетку взаимопомощи: чтобы одинокие навещали не выходящих из дому, скорбящие – тяжелобольных. И люди, как ни удивительно, проникались его подходом – так сильна была в нем вера, что это им посильно, что это их долг. Нужно было только хорошенько соображать, кого кому поручить. Пару раз он ошибался. Миссис Оакшот вызвалась посидеть с аутичным сыном миссис Хэйдок. Убежала от него в ужасе и пожаловалась мистеру Элленби на «духовный шантаж». Дэниела попросили извиниться. Он извинился. Теперь же ему пришло в голову, что Стефани Поттер вполне может поладить с Малькольмом Хэйдоком. Когда умерла кошка, Стефани была исключительно сдержанна, практична, ровна и разумна. Может, веры у нее и нет, зато есть сочувствие и ответственность. Он может лишь просить ее о помощи, и он попросит.
Он повернулся в своей узкой и жесткой кровати и занялся «Королем Лиром». Почему-то казалось важным прочесть его. Он сам толком не понимал, в чем тут дело. Был и гнев, и смутное желание занять достойную позицию с Поттерами, особенно со Стефани. Не зная, ради чего читает, Дэниел стал читать ради сюжета. Хотелось узнать, чем кончится у Эдгара и Корделии, которых он принял за главных героев. Восхищенно, но без благоговения он следил, как Шекспир рисует старика: самого настоящего, невыносимого, надломленного, неизбежно переломанного. Он не видел того, что Билл, по натуре теолог и философ, видел автоматически, – черного, яростного богоборчества пьесы. Не потому, что ему почудилась тема искупления. Потому, что знал без доли сомнения, что мир именно таков, как тут показано, что Лир – правда. Он выписал кое-что для проповедей. «Дочь, дорогая, сознаюсь, я стар и бесполезен», «Кривлянья неуместны. К сестре вернитесь»[49]. Шекспир доходил проще и действовал сильней, чем в школе, когда Дэниел зарабатывал аттестат. Вот и ему достичь бы такой простоты. В том, что он говорил, была церковничья витиеватость, лишний призвук, нехорошо выделявший его. Дэниел его слышал, но не знал, как избавиться.
6. Дворец кино
По выходным Маркус впадал в безмыслие. Было у него одно место, куда никто не приходил, – неприкосновенное место, кафе при блесфордском Дворце кино. Школа запрещала кино, Билл порицал, за исключением особых, им лично отобранных, случаев. «Белоснежка», к примеру, прошла отбор как опыт сопереживания творчеству. Этот опыт вверг маленького Маркуса в ужас бесконечный и многоликий, сродни видениям, что одолевают отлетевшую душу в тибетской Книге мертвых. Чудища, вздуваясь, разевали пасти. Распахивались романтические бездны, падали белые водопады, вращались режущие лучи. Ревели камни, крошились скалы, и когтили мир существа кроваво-красные, слизисто-зеленые, черные. «Потрясно», – выдохнула Фредерика. Маркус был потрясен до степени нестерпимой. Уже тогда он попытался изничтожить иллюзию, он изогнул шею и стал смотреть на чистый конус света, волнисто струившегося из высокого проектора. Но Маркус был мал, мошенническое верещание экрана захлестывало его, и разум не помогал. Когда он, засыпая, сомкнул глаза, фантасмагория вломилась в череп.
«Бэмби» и «Слоненка Дамбо» Билл запретил, сочтя сентиментальными.
Но Маркуса влекли не запретные удовольствия. В фойе он поспешно миновал зазывные плакаты в хромированных рамах. Безупречные кинолюбовники обнимались под невозможными углами. Героический бледный мальчик, бережно тронутый тут и там кровяной краской, плыл в пиратской лодчонке по бурно застывшим волнам с резной, слоновой кости пеной. Подозрительно холеные собаки и олени радостно выступали под небывало зелеными купами навстречу розовому закату. Маркус никогда не смотрел кино. Его притягивал самый центр этой цитадели со слепыми, безликими снаружи стенами и дверьми, плотно запиравшимися изнутри.
Лестница, темноватая даже в полдень, уводила по кругу и вглубь. Шаги не отзывались звуком, не оставляли следов на нешироких ступенях, покрытых плотным пунцовым ковром. Сбоку вился поручень из золоченых плющовых веточек, увенчанный пухлым валиком малинового плюша. Цветки телесно-матового стекла лили мягкий румяный свет, теплой жизнью наполняя глянцевые лица на стенах. Темные обольстительницы в черном кружеве, с багряными ногтями и длинными драгоценными мундштуками. Бледно-жемчужные дивы: пышная грудь в мягкой оправе лебяжьего пуха, губки капризно надуты, серебристые волосы уложены ровными волнами. Девочки в тугих золотых кудряшках, украшенных венками.
Первая площадка – пунцовая гладь с тихо плещущим фонтаном посредине. Вода течет из золотого сосуда в руке прозрачной нимфы в стиле ар-деко. Зеленоватое стекло, схематичное лицо, идеальные складки расширяющейся книзу туники, напряженные пальцы, маленькая высокая грудь с торчащими сосками. Внизу – неглубокая чаша фонтана, выложенная зеркальным стеклом, бронзовые кувшинки, подсвеченные снизу бериллом и турмалином.
Мимо и выше, глубже в тишину. Вторая площадка. За бронзовой дверью со стеклом, плотно завешенным изнутри портьерой, – кафе. Маркус толкнул дверь и оказался в мире подземном и смутном. Кое-где сквозь тяжелые, сборчатые кремовые портьеры пробивался слабый естественный свет. Навстречу ему сумрачно-розово сияли гроздья продолговатых бутонов на гнутых медных стеблях, растущих из зеркально-бронзовых колонн. На ковре тесно сплетались розы, румяные и кремовые, размером с капустный кочан. Миниатюрные стульчики были позолочены. Меж колонн высилась стойка с газированной водой: тихо шипящие нарядные сосуды и вереницы бокалов двоились в бронзоватом зеркальном заднике. За стойкой две девушки в белых передниках и крошечных белых шапочках сидели на высоких табуретах, уперев локти в прилавок, и негромко беседовали. Посетители появлялись наплывами, и нередко Маркус часами бывал тут один.
Маркус брал молочные коктейли: темно-розовые, коралловые, шоколадные, канареечно-желтые с шапками медленно лопающихся пузырьков. Если тянуть понемножку, то хватает надолго, а пока тянешь или делаешь вид, никто к тебе не пристает, можно сидеть в тишине и безопасности. Из невидимых глубин наплывами проникали звуки: слабая музыка, взрывы стрельбы, удаленная сумятица. На оркестровых кульминациях все кафе мягко вибрировало, а потом снова откатывало в густую тишину. Маркус сидел неподвижно и старался избегать мыслей.
На это имелось у него несколько способов. Во-первых, можно было мычать про себя вариации из строго ограниченного числа нот средней октавы. Во-вторых (аналогичный способ) – составлять ритмические последовательности, постукивая по собственным костяшкам и зажимая вторые фаланги больших пальцев. А еще – рисовать математическую карту кафе. Для начала прикинуть высоту колонн и расстояние между ними. Сосчитать розовые лампы и кремовые розы на ковре. Вывести радиусы бликов, рассеянных меж столиков там, где свет преломился в зеркале и позолоте. Следить, как кафе с его мелочами медленно обобщается в куб, перевитый нитями, лентами мягкого света и цвета: бронза, крем, темно- и бледно-розовый. Тут было что-то от изгибистых причуд арабского изразца. Этот способ утолял его лучше всего, но он же был и самым ненадежным: кропотливо сплетенный кокон рвался, стоило вдруг шевельнуться одной из официанток, обычно представленных на карте в виде черных яйцевидных пустот.
Понятно поэтому, что Маркус, тихо тянувший свой розовый коктейль, был крайне недоволен, когда откуда-то сверху раздался голос:
– Вы будете не очень против, если я тут присяду?
Маркус дернулся и сглотнул, а тот уже широким движением выдвигал себе стул:
– Я вижу, нас посетила одна и та же мысль. Мы оба искали тишины и покоя. Совпадение. Я люблю совпадения. Полагаю, вы тоже?
Маркус неопределенно мотнул головой. Он сумел определить непрошеного гостя: Лукас Симмонс, младший преподаватель естествознания в Блесфорд-Райд. Симмонсу было, наверное, к тридцати, хотя выглядел он моложе: чисто вымытый, свежий, розовый, с каштановыми кудрями и большими карими глазами. У него был квадратик плеч под сиренево-серым твидовым пиджаком и зад, тяжеловатый для такого аккуратного верха. Идеальной чистоты рубашка и почти столь же безукоризненные брюки. Симмонс улыбался простецки-дружеской улыбкой. Маркус отвел глаза.
В программу аттестата А с правом поступления в университет был включен, для гармоничного развития юношей, общий курс естествознания. Этот курс и вел у Маркуса Симмонс – путано, постоянно отвлекаясь на вопросы с душком, что подкидывали мальчишки пошустрей. «Заболтать» Симмонса было нетрудно: он, казалось, умом не блистал и сам был рад при первой возможности уклониться от темы. При этом он был как-то странно неуязвим для насмешек: тут же бросал урок, радостно и невпопад принимался отвечать на любую галиматью. Способные мальчики считали, что сажают его в калошу. Очень способные – что он глуп и ничего не замечает. Маркус полагал, что правда слишком проста и нелестна, а потому недоступна их пониманию: Симмонсу они безразличны. Симмонс – отрешен. Люди в большинстве не умеют распознать отрешенность, а жаль, думал Маркус. Сам он с уважением относился к этому свойству. Пока класс бесновался, Маркус рисовал. На миллиметровой бумаге выводил спирали, уходящие внутрь концентрических ромбов. Задача была не задеть, но при этом отметить и прочувствовать точку, где все линии сойдутся в бесконечности. Для этого можно было, например, рисовать очень тонко, почти невидимо: готовая сетка бумаги поддерживала тающие линии, не давала растаять совсем. Однажды Симмонс подошел сзади и долго смотрел на рисунок, улыбаясь и кивая. Маркус это запомнил. Он не любил, когда за ним наблюдали.
– Я вам точно не помешал? Что вы мне посоветуете? У вас, я вижу, молочный коктейль. Я тоже к ним неравнодушен… Мисс, будьте добры молочный коктейль – такой же, как у моего друга, розовый. И пончик с глазурью. Два пончика… Вы не хотите? Тогда один. И пожалуй, два коктейля. Благодарю вас.
Теперь перед Маркусом стояло два стакана с розовой пеной, один початый и один полный. Выпить все это залпом и сбежать не представлялось возможным.
– Странно, что мы встретились. Я зашел по наитию, никогда раньше здесь не был. Но при этом немного думал о вас и потому уверен: совпадение из предначертанных. Вы верите в такие совпадения? Впрочем, не важно. Я о вас думал, потому что о вас говорят на собраниях. Боятся, что вы несчастливы в учебе. Несчастливы вообще. Они не знают, как к вам подойти. Уэддерберн сказал, вы не хотите играть в его пьесе. О, не пугайтесь! Никто и не считает, что вы должны.
Маркус издал какой-то придушенный звук.
– Не делайте такое растерянное лицо. Впрочем, я, кажется, лезу, куда не просят. Но я всего лишь хочу помочь.
– Спасибо.
– Пока не за что.
– У меня все в порядке, правда. Я просто не умею играть. Если они об этом.
– Как это не умеете? Я, между прочим, видел вас в «Гамлете».
– Я не хочу. Я этого не люблю.
– Я понял, что не любите. Вы были так пронзительны и так несчастны. О, я все понял.
Симмонс длинно потянул коктейль, ненароком фукнув в воздух несколько малиновых пузырьков. Брезгливый Маркус стер пузырек с левой руки и вспомнил Офелию: вечера, когда сдирал с неподходящего своего тела истрепанные гирлянды и мятое белое платье. Он был тогда в жесточайшей беде. Его руки не его. Вместо слов – ее леденящие жалобы. Его волосы не его, – как от встречи с призраком, шевелятся и колют под плотной толщей длинного светлого парика, что он снимает каждый вечер. В какой-то забытой, потерянной им области отзывается ее горестная песенка: просится то ли наружу, то ли обратно внутрь. Чего ей нужно? Это было как рассеивание, только без разреженного воздуха и растянутого пространства. Рассеяться, выйти из себя – и быть запертым в удушающей шкуре грима, резиновых грудей, ее савана, обвившего и стянувшего его члены. Он слышал песни и крики и не знал потом: он это был – или кто-то другой.
– Опасная штука – актерство, – сказал Симмонс. – Для современного человека искусство оправдывает все. Древние были мудрее. Те пуритане много лет назад – они отлично знали: в тебя может что-то войти. Вторгнуться в сому, в твое физико-химическое тело. Тут, знаешь, дьявол неподалеку. Игры с сознанием для профана губительны. Есть люди с замкнутым сознанием, им, конечно, ничего не делается. Есть те, кто упивается властью над ближним: мелкие наполеоны, магнетизеры и прочие. Ты – другой.
Маркус не очень-то понял бо́льшую часть сказанного, но идея вторжения странно отвечала тому, что он пережил с Офелией и чего намерен был никогда больше не повторять.
– Твоя игра потрясла меня. Ты не актер, ты скорее медиум. Проводник для иного сознания. Я, к слову сказать, исследую сознание – как ученый, разумеется. Мы слишком боимся рисковать. Речь, как ты понимаешь, не о салонном спиритизме, не о сеансах, не о хрустальных шарах и прочей дребедени, оставшейся от древних ритуалов. Но и не о лаборатории. Там, завязав глаза, считают фишки, играют в карты, обходят на полшага закон средних чисел и тем довольствуются. Нет, мы должны начать с изучения людей, явно имеющих дар, возможности сознания, превышающие человеческую меру. Именно поэтому ты так меня заинтересовал.
– Я ничего… – пробормотал Маркус. – Офелию кто угодно может сыграть.
– Знаю. Но у тебя ведь есть и другие дары? У тебя идеальный слух. Ты решаешь сложные задачи, не прибегая к логическим вывихам.
Маркус немо глядел на него. Он никогда и ни с кем об этом не говорил.
– Я поспешил? Ты прав. С такими дарами нужна осмотрительность. Попади они в неумелые или недобрые руки, была бы катастрофа. Например, это твое умение отдавать тело во власть иных сил… Есть силы добра, а есть силы зла. Думаю, пора объяснить тебе мою позицию.
Одной из неприятных странностей этой беседы, изрядно перекошенной в сторону Симмонса, было то, что она оказывала двойственное воздействие на него самого. С одной стороны, он сиял, улыбался, по-мальчишечьи свойски подмигивал. С другой – был явно и чрезмерно возбужден: потел и все промокал смятой салфеточкой лоб, розовый, как коктейль. Маркус не просил его «объяснять позицию» и не мешал ему это делать. Ни то ни другое не было ему посильно. Поэтому Симмонс продолжал:
– Я человек религиозный, но, так сказать, в научном плане. Меня занимают законы организации Вселенной. Вот гигантские организмы вроде планет и галактик. Вот малые: Лукас Симмонс, Маркус Поттер, мыши и микробы. Да, мы больше, чем тела. С первых дней человек имел способы выходить за пределы физико-химической сомы. Разные способы, хорошие и плохие. Молитва, пляска, наука, секс… Их использовали по-разному, умело и неумело. Одним это дается легче, чем другим. Теперь слушай: в начале Бог расчленил инертную материю и облек свои творения формой. Это важное слово – «форма». В родстве с латинским «informo» – «просвещать», «наполнять светом», «наполнять духом». Бог создает форму и наполняет ее собой. Если ты не исполнен Богом, в твою форму войдет нечто меньшее или худшее. Часто – то и другое вместе.
– Я не понимаю.
– Вижу и потому объясняю.
– Я не верю в Бога.
– Знаю. Но это не важно, старина. Верил бы только Гоб в тебя. Я давно за тобой наблюдал и пришел к выводу, что – верит. Ты вместилище для некой силы.
– Нет.
– Расскажи мне, как ты решаешь задачи.
– Я больше не могу ничего решать.
– С каких пор?
– С тех, как рассказал… одним людям.
– Ага! Ты предал свое откровение. Древних пророков Он за это карал.
– Да послушайте! Это было не откровение. Религия ни при чем. Это было как фокус.
– Положим, о религии и ее проявлениях ты не имеешь понятия. Ну да ладно. Так почему ты больше не можешь решать задачи?
– Я не хочу про это рассказывать.
– Ты вообще ничего не хочешь. Я следил за тобой, я знаю. А ты не думал, что, может, дело именно в этом? В том, что ты отвернулся от своего дара, своей силы?
Маркус об этом не думал. Он, как было сказано выше, усердно старался не думать ни о чем. Но чувство, что ему нет места в мире, не на что надеяться, не на что опереться, возобновившиеся причуды мозгового строя – то же рассеивание, – возможно, все это действительно началось, когда он утратил способность к решению задач. Симмонс в его глазах приобретал двойное значение настырного маньяка и мага, читающего мысли.
– Пожалуйста – для эксперимента, – попытайся вспомнить.
– Это было страшно. Очень. Я, наоборот, пытаюсь забыть.
– Я тебе ничего не сделаю, не наврежу. Мне просто нужно знать.
Отец привел профессора математики. Под руководством отца Маркус показал все свои фокусы. Отец и профессор были в восторге.
Маркус заговорил:
– Я думал, что все так могут. Что все так видят. То есть что все так видят задачи. Не знаю, как можно влезть человеку в голову. И зачем только они лезут…
– Не волнуйся. Рассказывай. Пусть я даже не все пойму, это не важно.
– Хорошо, попробую. Вдруг поможет.
Маркусу постепенно передавалась идея, что ему нужна помощь.
– Я видел… я представлял себе что-то вроде сада. В этом саду были формы – математические формы. Я выпускал задачу в сад, она там бродила среди форм, и за ней был светящийся след. А потом я видел ответ.
– Можешь описать сад?
– Нет.
В этом месте он тогда сломался. Под их взглядами, жадными и гордыми. Тут была точка схождения, тут все исчезло, а потом сверху опустился черный конус или треугольник и навстречу ему поднялся такой же. Два разнонаправленных тела – или плоскости – сошлись в его мозгу и сдавили нестерпимо. Маркус упал лицом на стол в глубоком обмороке. Он опозорил отца. Его уложили в постель, ему велели не расстраиваться. После этого сада уже не было. Маркус знал без доли сомнения, что сада больше быть не может.
– Я уже пытался и упал в обморок. Когда очнулся, то ничего… то ничего уже не мог.
– Ну конечно. Так и бывает с дарами, подобными твоему. Расскажи. Хуже уже не будет.
– В общем, главное – смотреть по косой, как бы краем глаза – того глаза, что в голове. Видеть, что у тебя там и где. Но не в упор. Нарочно отводить взгляд и ждать, пока оно примет форму. И когда оно проступит, можно записать ответ и даже сказать слова, какие полагаются. Но его нельзя удерживать. И обязательно нужно ждать… А они – кому я показывал, – они торопили. Я не мог… я поторопился. Я попытался удер… удер… удержать. И все исчезло.
– Понимаю, хоть и не все. А формы можешь описать?
– Ну, это формы, – сказал Маркус, словно ответ был самоочевиден. – Они меняются. Не твердые и не жидкие. Это как планиметрия, и плоскости движутся, и вроде бы деревья, цветы, но не совсем, как здесь. Или идешь полем и проходишь сквозь разные плоскости, но сопротивления не чувствуешь. Плоскостей много, и в разных измерениях, и они все время меняются. Это не по-настоящему такое место, а в голове. Но оно там по-другому, чем, например, Рамсгит или Робин-Гудова бухта[50]. Частями – да, обычный лес, поле, а частями – совсем другое… Нет, не могу.
Симмонс озадаченно нахмурился. Неожиданно властно протянул руки к запястьям Маркуса, но тут же отдернул.
– Поразительно. Поразительно… – пробормотал он.
Маркус вспомнил теперь утраченные сияющие поля, о которых не горевал лишь потому, что боялся вообразить их в достаточной полноте. Вспомнил – не словами, а каким-то бессловесным наплывом, – как упоительно было там, как чисто и ясно, солнечно, воздушно, вольно.
– Я думаю, – говорил тем временем Симмонс, – что не ошибся, хоть и шел, что называется, наугад. Ты и впрямь имеешь доступ к мысленным формам, к схемам, что нас формируют и подчиняют. Теперь тебе нужна некая духовная дисциплина, чтобы твой дар рос и не был для тебя же опасен. Я могу тебе ее дать, для того совпадение и привело меня сюда. В последнее время мир так увлекся сомой, что забыл о Психее. Контроль физический, телесный над собой и вселенной мы приобрели безусловно. Чего у нас только нет: микроскоп, телескоп, циклотрон, синхротрон. Тон, частота, цвет, свет – все нам подвластно. Человек создает думающие машины, с которыми уже не может тягаться. Ну хорошо, а сами-то мы? Мы же все растеряли – все немногие способы общения с тем Сознанием, что нас наполняет. Ты необычайно одарен. Ты мог бы – при поддержке, при разумном экспериментальном подходе – открыть новые способы. Что скажешь?
Маркус не выносил громкие звуки и яркий свет. Ему никто еще не сказал, что астматики могут улавливать более высокие частоты, чем обычные люди. Со временем скажут, и он поверит. Сейчас же голова его подвешена на проволочках. Тонкие-тонкие спицы вошли в отверстия черепа, трутся там друг о друга с жестокой и мучительной музыкой, длятся, уходят в бесконечность. Он потряс головой, чтобы согнать наваждение, и спицы задвигались, остро врезаясь в податливую мякоть, в пустоты его сознания.
Зачем тут Симмонс? Симмонс не вернет ему светлые поля.
– Ты, конечно, понимаешь, что трудно не сбиться на шарлатанский язык с астральными телами, аурами, эктоплазмой. Но я не о них говорю. Тут главное – твои способы восприятия вселенной.
– Сэр, я не могу больше. Я хочу побыть один.
– Но ты же сейчас рассказал мне все и в обморок не упал.
– Я не могу.
– Тебе стало лучше…
– Да нет же, нет!
– Думаю, что со временем ты поймешь. Совпадение еще сведет нас. Пока же я все сказал. Сиди, я заплачу́. – Симмонс поднялся, сияя. – Запомни: в Божьей вселенной случайных совпадений не бывает.
– Я в Бога не верю. Это все какая-то бессмыслица.
У Симмонса лицо повело от боли, но он снова, как резиновый, округлился ничего не выражающей улыбкой.
– Когда что-то случится и ты разглядишь смысл в моих словах – а именно так и будет, я уверен, уверен!.. Когда разглядишь – приходи ко мне. Только об этом прошу. Помни всегда: я рядом. Остальное сделается само.
7. Просперо
В марте, черном и ветреном, Мэтью Кроу принялся информировать и оживлять местное общество. Празднество долженствовало стать его Magnum opus. Кроу желал вызвать к жизни музыку и цветы, полуночный гомон и ликование, танцы чинные и под хмельком, словно бы снова Елизавета катит по своей летней, веселой Англии[51]. Тут и там гусиная ярмарка[52] с балаганами и каруселями, какой-нибудь псевдорыцарский турнир, и, конечно, Александрова «Астрея». С энергией невероятной Кроу перемещался по всему Северному Йоркширу. Возникал то в ближнем соборе, то в рыбацкой деревеньке, выступал в офицерских столовых и горняцких клубах, бурно извергался идеями, обещаниями и деньгами. Александр, когда позволяла школа, сопровождал его, все больше поражаясь его организаторскому гению. Александр молчаливым красавцем стоял на всевозможных возвышениях, покуда Кроу оплетал красноречием материнские общества, городские женские союзы, швейные и садоводческие кружки. В его манере было что-то неотразимое – так лорд Бивербрук призывал хозяек швырять цинковые ванночки, железные калитки и разный алюминий в груды металла, что пойдет на патроны. Так Савонарола звал флорентийских красавиц покаяться, спасти душу и подбросить в его костры париков и бесценных камней. Кроу разжигал свою йоркширскую паству на великие труды. Снова понадобилась неотступная энергия, о которой уже скучали женщины, не так давно вязавшие для фронта шарфы и разбивавшие «огороды победы»[53]. Как и Савонарола, Кроу потребовал шелков и драгоценностей – каждая стекляшка пойдет в дело, каждый клочок яркой ткани преобразится и заново воплотится в пышных робах королев и придворных дам. Он потребовал тонких ремесел, настоящего шитья на фижмах и камзолах, что в свой срок сами станут музейными экспонатами. Он повелел прочесать округу в поисках исконно английских рецептов: печеная кабанья голова, зеленый верджу́с – сок из кислых яблок, фру́менти – молочная каша, заправленная пряностями, сэлмага́нди – томленое мясо с перепелиными яйцами, разной овощью и ароматным уксусом. Он хотел, чтобы край вспомнил былую блаженную красу, чтобы земля, измученная людской любовью, расцвела цветами старинными, сладко-пахучими: лавандой, желтушником, божьим деревом, луговой и садовой гвоздикой.
Он обвораживал и мужчин: под его увещания гарнизонные офицеры, фермеры, плотники, пекари, бойскауты доставали лошадей, сколачивали телеги и прилавки для сластей, вытачивали паланкины, возводили павильоны. Он помогал омоложению церковных статуй, обновлению позолоты на мертвых елизаветинских младенцах в соборе, приобретению сверхпрочных витрин для выставки древних потиров, хранимых под спудом. Он наезжал в прибрежные городки, где январь и февраль бурями и наводнениями выжили людей из дому. Сочувственно тыкал тростью в осклизлые ковры, гнилые обои – и доставал бумажник. В ту пору среди старых стен, аспидных, серых и белых, стали невпопад проблескивать юбилейные цвета: домики, гаражные двери, толстые бревенчатые изгороди «под ранчо» окрасились в пастельную лазурь, в едкую цыплячью желтизну, в резко-лиловый гелиотроп. Кроу сообщил Александру, что намеревается псевдотюдоровские дома в пригороде Калверли и Блесфорда снабдить псевдотюдоровскими цветущими изгородями и целыми кущами псевдотюдоровских роз.
– Свет, цвет, музыка, благорастворение воздухов – и пусть всего будет много, черт побери! Край истосковался по жизни. А я уйду в огнях фейерверков, в легкой пене наслаждения, оставив по себе кое-что на память. Труды не только моих рук, но в каждом – моя лепта. Университет, ваша дивная пьеса, друг мой, сколько-то похорошевших садов и площадей. А потом сломаю жезл, но книги топить подожду[54]. Запрусь в своей башне и буду отдыхать от трудов, глядя, как новенькие студенты в новеньких черных мантиях живописно бродят меж моих тисовых изгородей. С мантиями вышла некоторая заминка – их сочли слишком démodé[55] для такого нового и демократичного заведения. Но думаю, благородство возобладает и мой последний каприз почтят… Краю нужен титанический подъем. Взять как можно шире, захватить все и вся – надолго. Я в равной мере взываю к высоким идеалам и низким страстям. Не нужно снобизма, у нас все сплетется гармонично: вышивка и стразы, ячменный сахар и сладкая вата, старые слова, новые… И состязательность, мальчик мой, самая вульгарная состязательность! Затеем конкурс на лучший деревенский праздник, лучшее елизаветинское угощенье, лучший елизаветинский сад – отдельно будем смотреть старинные и новопосаженные. Длиннейшие, подробнейшие пробы во все музыкальные и танцевальные действа, и особенно – в вашу пьесу. Мы, как самые хищные киномагнаты, весь край перевернем в поисках талантов, каждой девчонке заглянем в вырез форменной блузочки, каждого мальчишку заставим хвастать, что он за сорок минут опояшет землю[56]. А кто постарше – тем дадим Калибана…[57] Мы всех привлечем и вовлечем…
Кроу сидел маленький, херувимски-округлый, розовый и сияющий. Серебряный пух легко парил над заостренными ушками, пухлые ручки описывали круги, изображая привлечение всех и вся. Он подлил скотча Александру, в последние дни пившему, пожалуй, многовато, и предложил тост.
– За Золотой Век! Redeunt Saturnia Regina![58] Дело кипит. Я преисполнен надежды и веры.
В городках и деревушках были учреждены местные праздничные комитеты. Александр немало потратил обаяния, убеждая Билла возглавить блесфордский комитет, куда входили Фелисити Уэллс из школы для девочек и викарий Элленби. Презрение к этим двоим и гневливый страх, что Кроу переманит его суровых последователей позлащенными пирожками и пивом[59], тянули Билла в противоположные стороны. Наконец он согласился, лелея троцкистский план атаковать мишурную философию Кроу на его же деньги, изнутри его же организации. Он-то уж позаботится, чтобы веселящиеся узнали о полицейском тюдоровском государстве, о кромешном произволе судей, о голодающей, зачумленной армии. Он устроит в Блесфорд-Райд выставку орудий пытки и серьезную лекцию историка-политолога. Первая вызовет жгучий интерес, вторая не вызовет, но послушать придут. Публику притянут сам Кроу с его неуемной рекламой и жажда ужасов, свойственная мальчишкам.
Комитеты ездили по школам и колледжам, всюду встречая деятельную поддержку. В одну из таких поездок Александр, вслед за мистером Элленби, вступил на сцену зала собраний в блесфордской школе для девочек. Поэт и викарий составляли звенья странно подобранной вереницы, включавшей также сияющего Кроу, чрезмерно благожелательную директрису, мисс Уэллс, болезненно сознающую близость Билла Поттера, и самого Билла, хищно ждущего проявлений буржуазной морали.
Фелисити Уэллс предстояло говорить. У нее возникла заминка с ножкой собственного стула и с гортензией в высоком горшке. Она сделала ошибку, предварив рассказ о Новом Ренессансе долгим и сложным анализом Старого, поскольку тот оставил особый отпечаток на Калверли. Затем некий бес толкнул ее пространно уклониться в сторону бесчинств Кромвелевой армии: солдаты, расквартированные в нефе Калверлейского собора, ради тепла сожгли уникальную алтарную преграду. Мисс Уэллс была миниатюрная женщина с жидкими серо-седыми волосами, стянутыми в тощенький пучок поверх шиньона из конского волоса. Длинные булавки торчали из пучка, словно крокетные воротца. На фоне седины ее смуглая кожа напоминала полированное дерево, над крупным носом и толстыми губами посажены были черные, удивленные глаза. У нее были крошечные ладошки, которые она в одушевлении часто вскидывала вровень с ушами, становясь похожей на обезьянку или заводную куклу викторианской тонкой работы.
Мисс Уэллс знала, что в шаге от нее играет мышцами Билл Поттер. Лицевые растягивает в злорадную усмешку, а телесные, вполне возможно, напрягает, чтобы налететь на кафедру с внезапной речью. Обе его дочери были тут же и речи боялись до столбняка. Стефани, сидевшая в торжественно-подтянутом ряду младших педагогов, – по прихоти судьбы, прямо за Александром, так что коленями почти упиралась в его ягодицы, – понимала, что Фелисити затягивает, и ревниво тревожилась за нее. Мисс Уэллс была добрая душа. Она ни на кого не сердилась, никогда не теряла ровной благожелательности и, конечно, заслуживала ответного снисхождения. Мисс Уэллс тем временем бесстрашно усугубила допущенную бестактность. Это к лучшему, сказала она, что ничего не вышло из затеи Кромвеля основать в Калверли университет. Она лично разделяет взгляды Т. С. Элиота, роялиста, англиканина и консерватора. Она рада, что основы университета закладываются в новой атмосфере возрождения исконных истин и форм, под эгидой… Билл громко фыркнул. Кроу улыбался бесконечно, заглаживая неловкость, забавляясь возмущением Билла, упиваясь властью. Стефани смотрела на Александра, а тот, мучимый неловкостью, глядел в зал.
На полу против сцены, ноги калачиком, сидели в несколько рядов девочки маленькие, средние и почти большие. Позади, под балюстрадой галереи, разместились девушки из двух последних классов и поверх голов рассматривали компанию на сцене. Так и сяк скрещивались ряды разнообразных ног в фильдеперсовых чулках, смущенно или кокетливо складывались руки под острыми грудками и щедрыми грудями, вздувающими бантовку форменных платьев. Вся эта масса вызывала у Александра оттолкновение. Войдя в зал, он услышал, как шиканье и шелест одежды глухой завесой упали поверх резкого писка и щебета женских существ. Топочущий, ухающий гул мальчишек действовал на него успокоительно, а эти звуки тревожили. Он так и сяк скрещивал ноги, чувствуя, как мелкие, женские уже, глазки змейками скользят по его коленям и открытой коже на щиколотке. Увидев Фредерику, прямую как шест в тени колонны, он вспыхнул от слабости: Артегэль в доме Редегунды[60], Геркулес под жадными взорами Омфалы.
За спиной у него Стефани, сложив руки на чинных коленях, старалась подавить бессмысленную тревогу за Фелисити, закусившую удила, и не чувствовать дуновений оттуда, где вихри ярости стояли над головами отца и сестры. Она стала думать об Александре, попыталась увидеть зал его глазами. Ничего такого: обычный школьный зал. Окна слишком высоко, ничего в них не видно, пыльные, с защелками и свисающими с них длинными петлями шнуров. Угрожающе кособокая галерея. Доски с короткими, в золотой кайме, списками стипендиатов разных университетов. В списке Кембриджа есть и ее имя, последнее, самое новое. Посреди зала – Венера Милосская.
Многое связано с ней. Пока ты маленькая, то сидишь впереди всех, и жуткие, слепые глаза Венерины глядят у тебя из-за спины. Более-менее достигнув девичьих лет, сидишь у подножия или сбоку, и, если закинешь голову, видна ее плотная талия, непомерные спеленатые бедра и культи рук. Потом добираешься до последних классов, богиня спиной к тебе грузно вперяется в пространство, а ты видишь эту спину и мощный зад. Гипс у нее ноздреватый, изжелта-бледный, как старый сыр, а сверху толстый слой лака. Давно уж утрачено всякое подобие мрамора, и если взглянуть критически, то матово-лоснистое, разбухшее тело богини отдает трупом. С одиннадцати до восемнадцати лет смутные утренние чувства Стефани стягивались к этой незрячей глыбе. Стефани выросла, смотрела теперь сверху, но богиня так и стояла, тяжкая, посреди всего.
Глядя на волосы Александра, пройденные гребнем и такие живые, Стефани неотчетливо думала, что, наверное, вернулась после Кембриджа ради него. Она любила его смущенную, таящуюся душу, – казалось, однажды он взглянет пристальней, и станет возможна слитная жизнь, скрытая от досужих взоров, тихая, ясная, немногословная. Она не знала, чего он хочет, иногда думала, что он уранит. Но про таких всегда знаешь, кожей догадываешься. Думает он о ней хоть немножко? Другие мужчины думают – почему же он нет? Или правда она для него невидима? Может, она и любила-то его оттого, что не знала ответа.
Александр задавался тем же вопросом: ему почему-то никак не думалось о Стефани. Если выпадало обменяться парой слов, как в последнее время о пьесе, обещал себе поговорить основательно и все не находил случая. У нее был золотистый отсвет и быстрый ум, она согревала и понимала. Это, наверное, и страшило его, ведь дальше маячило то, чего он боялся несомненно. Но подлинная угроза исходила от Фредерики, внезапно возникшей в поле зрения, хмуро, нелепо и одержимо впивавшейся в него всем существом. Жаль, что ее не пороли в детстве как следует… Билл поднялся, чтобы говорить, не то по регламенту, не то по велению души, и Александру подумалось, что вполне возможно – пороли. Он не выдержал ее напора и опустил глаза.
Билл тем временем с кафедры посрамлял противников. Представляется возможность поведать подлинную историю Калверли и его окрестностей, с насильной вербовкой, поджогами, луддитами[61], голодными походами. Кстати, он вынужден мимоходом заметить, что солдаты Кромвеля вели себя достаточно пристойно. Настоящий ущерб собору нанесли иконокласты, последователи мирской Девы[62] и ее святейшего братца. Стефани старалась не слушать. Вслушаешься – пожалеешь, с Биллом иначе не бывает. Но под скрипучее его красноречие ей подумалось, что мечта о безмолвной слиянности с Александром идет от Билла, как и возвращение в убогую школу. И врата садов кембриджских она захлопнула за собой, только чтобы у Билла подольше громыхало в ушах.
То, что она здесь, – крайняя форма пассивного сопротивления. Билл не желал, чтобы она «бессмысленно тратила себя» на школу. Поэтому – школа. Поэтому она до сих пор живет в его доме, утверждая независимость отказом выехать, поселиться в призрачном здании его честолюбия: эта тюрьма будет похуже дома. Билл был хорошим учителем, и она благодаря природе и учению имела все дары, каких он для нее желал. Но то было его честолюбие, не ее – поэтому к дарам она не прикоснулась. Зато последовала его рацеям и личному примеру: избрала честный труд там, где честный труд награждают скупо.
Стефани доводила Билла до бешенства. Он-то видел ее членом совета Сомервильского колледжа[63], литредактором достойного еженедельника, провинциальным профессором… Возможно, так бы оно и было, не желай этого Билл. Теперь не будет. Ей было жаль Фредерику, равно одержимую амбицией и моралью, гонимую в разные стороны то горячим ветром, то холодным. Еще жальче стало, когда мисс Уэллс перешла к списку девочек, отобранных для проб на «Астрею» в Блесфорд-Райд. Ярость в лице Фредерики сменилась гримасой отчаянного волнения. Ничего в жизни она не желала так, как оказаться в том списке.
Списки – форма власти. Власть остро занимала Фредерику: кто и зачем решает, как нужно ходить по школьному коридору, сколько девочек будет в первой шеренге, какие должны быть носки, панталончики, чулки, какого размера и цвета клетка на форменной ткани. Принятые, изгнанные, выдающиеся и отстающие – все попадают в списки. Списком идут обладательницы призов за осанку, отличницы по поведению, теннисистки из школьной команды, спорщицы из клуба дебатов. По убыванию баллов выстроены взыскующие аттестата, и каждый класс выстроен: по отдельным предметам и по их сумме. Фредерика ненавидела списки с неистовой энергией – и в каждом рвалась быть первой, кроме случаев, когда за первенство даже и не боролась. Она знала, что учителя ее не любят. Но справедливость требовала, чтобы Фредерика Поттер возглавляла каждый список, а составители их обязаны были являть собой образцовое беспристрастие.
Ее имя должно было, разумеется, венчать и программки школьных постановок. Фредерика понимала, что тут беспристрастие решает не все, но ей было невдомек, какая это пытка – терпеть ее на занятии драмкружка или просто слушать, как она читает вслух. Распределяя роли, педагоги ежились от ее напряжения: глаза, рот, пальцы на руках и ногах – все горит отчаянным азартом. Получив роль, она читала неистово, чем коробила остальных, полагавших, что в классе приличен тон поглуше. Не получив – уходила в себя, в подлобье, вперялась оттуда злыми глазами. Тихо бурчала, склонившись к парте, явно проигрывая все то же, но гораздо лучше.
Странное дело: ее неприкрытая, упорная жадность не считала строк в ролях. Важен был пол. Фредерика Гонерилью предпочитала Лиру, а Миранду – Просперо. В женских ролях она тряслась листком и громыхала медью. У Шекспира мужчин больше, и они страстней, но в исполнении Фредерики они почему-то не столь угнетали ее подневольных зрителей.
Хуже всего было, когда на литературе читали «Святую Иоанну»[64]. Мисс Уэллс призналась Стефани, что с трудом пережила это время. Минутами ей всерьез казалось, что Фредерика кинется на нее с кулаками за то, что другой девочке досталась роль Иоанны в сцене суда или в эпилоге. Минутами, поручив ей что-то прочесть, мисс Уэллс хотела бежать из класса от мучительной неловкости за непомерный пыл, вложенный в каждое слово.
И вот мисс Уэллс поднялась, готовясь зачитать список из двадцати с чем-то имен. Фредерику скрутило винтом, она отчаянно вперилась в Александра, а тот, разумеется, сделал вид, что не заметил. Стефани с легким раздражением думала о Фелисити и сестре. Была ведь попытка Фредерику из списка выкинуть. Та же мисс Уэллс сказала, что девочку ждет научная стезя и ей не стоит распыляться. Фредерика слишком уж выставляется, добавила директриса, нужно и другим дать шанс показать себя. И если теперь Фредерика значится в списке, то лишь благодаря Стефани. Это она с неожиданной твердостью сказала, что несправедливо и недолжно ее вычеркивать. Говорила и знала: она просит такой малости и так много приносит пользы, что ей не откажут.
Когда прозвучало ее имя, Фредерика длинно втянула воздух, разжала добела сведенные кулаки, метнула в Александра горделивый и собственнический взор – и сразу потеряла интерес к остаткам действа, словно ее имя было в мире единственным. Стефани пережила мгновение чистой злости. Сразу вслед – раскаяние и беспокойство: сейчас маленькая победа, но что же дальше?
А Фредерика пылала надеждой заносчивой и глупой.
Девочек из списка привезли в Блесфорд-Райд на нанятом автобусе. На каждой был берет с золотыми вышитыми розами и герсой[65]. На каждой – полосатый галстучек. Все казались до удивления на одно лицо. Они тесно сбились на подъездной площадке, а автобусы высаживали все новые девичьи группки. У многих были беленькие носочки, но выше начиналось нечто увесистое и матроноподобное. Тут сказались, конечно, форменные платья и фартуки, но не целиком. И без формы в те года девушки тяготели к дородству – отчасти из-за идеала, предложенного им для подражания в журналах и фильмах. То была не девушка, а женщина в пышном полуденном расцвете, с дорогими шляпками и перчатками, полускрытая таинственной вуалью или подкрашенная рукой многоопытной. Опыта, краски и вуалей достать было негде. Оставалось дородство.
Сейчас все они стояли и подозрительно оглядывали друг дружку. Мимо с урока на урок пролетали мальчишки, кое-кто насвистывал. Мисс Уэллс судорожно протянула было лапку к одному-другому, но тут высунулась Фредерика: она знает, где Главный зал, а следовательно, и пробы. Она всех отведет. Фредерика решительно зашагала галереей, и все девочки, даже из других школ, послушно потрусили за ней. Она с громом распахнула двери и полководцем вступила в Зал. Ее армия шла нестройно, то замирая, то сбиваясь в кучки, но это было не важно.
В Зале самый воздух веял свободомыслием. Лодж, в непомерном и гнусно засаленном свитере, развалился в кресле, перекинув ногу через ручку. Он курил. Александр в классической позе прислонился к арке в авансцене. Этот изящный перекрест лодыжек Фредерика узнает потом у любовника Хиллиарда[66], церемонно застывшего за сквозной завесой бледных роз. Кроу являл собой какой-то саму́м энергии: рассаживал девочек по залу, кричал указания кому-то невидимому насчет прожекторов, и вот Александра и сцену медленно и тепло залило золотисто-розовым светом.
Все подготовились к пробам. В зале сидели Утраты, Имогены, Елены[67], герцогини Амальфи[68]. Фредерика часами репетировала перед зеркалом, колеблясь между Еленой и герцогиней. Услышав ее бешеную декламацию, Стефани осмелилась предложить себя в качестве зрителя, а позже дать жалобный совет: капельку поменьше экспрессии, пусть стихи говорят за себя. Фредерика разразилась бранью.
– Тебе-то откуда знать! – вопила она. – Ты вечно на вторых ролях, ты жить боишься!
Лодж разделил девочек на группки, а потом вдруг велел им плясать и бегать. Скинуть шляпки, бросить пальто, вихрем через зал на сцену, и там – хороводы, прыжки, скачки! Александр сел к роялю и заиграл старинную песенку. Девочки принялись бегать по сцене. «Быстрее!» – крикнул Лодж. Длинные косы заплясали, ударяясь в почетные значки старост, мягкие хвостики зачиркали по вспыхнувшим щекам. Лодж захохотал: «А теперь – выше!» Они с Кроу что-то быстро писали в блокнотах. «Выше прыгайте, тянитесь, каждую жилку освободите!»
Фредерика была лишена телесной грации. Дома перед зеркалом голос нырял и рыдал, а руки окостенело висели вдоль косного тела. Она попросту не знала, что с ними делать. Раз, в роли герцогини Амальфи взывая к робкому возлюбленному, она ткнула рукой куда-то вперед и сама себе напомнила заводного барабанщика, что был в детстве. Теперь она деревянно скакала, громыхая о деревянный настил, злобно тыркалась вверх несгибаемым телом, громоздкая в куще плещущих рук и проворных ступней. А рядом Александр волной пролетал по клавишам, и волнами играли его плечи, волосы, пальцы… У Фредерики в тщетной натуге и унижении потемнело лицо. Как только можно стало с достоинством выбраться из кутерьмы, она протопала вниз со сцены, насупившись уселась в сумраке зала.
Теперь, когда все поразмялись, объявил Лодж, послушаем, что вы подготовили. Он называл имена, и Патрисии, Фионы, Сюзанны, и впрямь освобожденные танцем от затверженного единообразия, выходили одна за одной и, мигая из розового света в темноту зала, начинали. Утраты рассуждали о цветах и о жизни, Елены признавались в любви к звезде особенной и яркой, Имогены ужасались над телом врага, переодетого возлюбленным, герцогини Амальфи предлагали слуге руку и сердце. Преобладали Утраты.
- Зачем, о Прозерпина,
- Не можешь ты мне подарить цветы,
- Которые в испуге обронила
- Ты с колесницы Дия? Где нарциссы,
- Предшественники ласточек, любимцы
- Холодных ветров марта? Где фиалки,
- Подобные мгновенной красотой
- Глазам Юноны, темным и глубоким,
- А запахом – дыханию Венеры?..[69]
Йоркширский распевный говорок, фарфоровые тоны питомиц дорогой монастырской школы, с запинкой, с придыханьем – заклинанье, повторяемое извечно и вечно сладостное.
Пришел черед Фредерики, Кроу поинтересовался, что она будет читать, и попросил Александра подать ей, как другим, реплики Антонио. Когда Фредерика называла себя, голос ее дрожал. Александр, стоявший напротив, ощутил к ней непривычную бережность.
– Спокойно, Фредерика. Не спеши. Это не конец света.
– Неужели? – бледно проблеснула-таки супротивная натура Фредерики.
– Ручаюсь, – улыбнулся Александр.
Первая настоящая улыбка его – ей, наставническая, союзническая. Эта мысль разозлила и восхитила ее.
Александр подал первую реплику робеющего Антонио:
- Я не настолько глуп, чтобы стремиться
- К тому, что обещает ваша милость.
- Безумец лишь замерзнувшие пальцы
- Сует в огонь, чтоб их согреть[70].
Фредерика ухнула головой в омут. Она хотела быть мило (но благородно!) несмелой, однако присутствие Александра и злость за деревянные прыжки подмешали сюда кое-что еще. По капельке раздраженного нетерпения и абсолютного желания: хочу – дай. Они питали ее, они привели ее сюда, и с ними Фредерика ничего не могла поделать. Она стояла столбом, но, поскольку Александр был Александром, ее побирала дрожь:
- Для женщины несчастье – знатной быть.
- Ухаживать за ней никто не смеет,
- И первая в любви своей она
- Должна открыться. Как ведет тиран
- Двусмысленные речи, так и мы
- Принуждены хитрить, играть, лукавить,
- Страсть выражать намеками, загадкой,
- Оставив правды путь прямой и ясный.
- Ну что ж, идите, хвастайтесь повсюду,
- Что у меня похитили вы сердце,
- Которое теперь у вас в груди.
- Пускай оно любовь удвоит вашу.
- Дрожите вы? Ужели в вашем сердце,
- Куске ничтожной плоти, страх осилит
- Любовь ко мне? Ну, будьте откровенны!
- Что вас страшит? Из плоти я и крови,
- Не мраморная статуя немая,
- Воздвигнутая на могиле мужа…
К концу Фредерика невольно сделала шаг навстречу Александру. Она понимала, что все делает не так, что слишком орет, и вот шагнула за поддержкой и смущенно запнулась.
– Благодарю вас, – без всякого выражения проговорил Кроу.
Фредерика как-то сошла в зал. Александр откинул волосы и промокнул лоб очень белым платком.
Настала пауза, трое мужчин выходили, возвращались, сравнивали заметки. Потом Кроу объявил, что теперь десять девочек просят прочесть стихотворение. Он огласил имена – без сомнения, предпоследний Список. Фредерики в нем не было. Она попросту не поверила. Ее имя, конечно, забыли вписать. Десять девушек, волнуясь и сияя, поднялись на сцену. Лодж, толстым змием обвивший кресло, поднялся и подошел к высокой, точеной Антее Уорбертон из монастырской школы. Позволено ему будет расплести ей косы? И остальные не могли бы тоже?.. Монашка-охранительница зашелестела, но не воспротивилась. Лоджевы искушенные пальцы зазмеились вверх по блестящей, бледного золота косе. Антея, скромно опустив глаза, быстро и просто расплела вторую. Лодж встряхнул, рассеял ей волосы вокруг лица и на лицо. Сквозь их светлое облако Антея взглянула на него прохладно-вопросительно, и Фредерика с болевым толчком поняла, что общего у всех избранных. Все они были хорошенькие. Очень, очень хорошенькие. Никогда раньше Фредерике не указывали так ясно на пределы ее возможностей, на то, что в мире ценится не только ум, но и великое множество других качеств. Значит, в Блесфорд-Райд будут песни и танцы под древесной сенью, будет смех и стихи. А ее туда не возьмут. Ну что ж, созерцать чужие успехи не собирается. Она просто встанет и выйдет.
Фредерика встала и отправилась домой. В Пантеоне ее поймал за локоть Кроу:
– Куда это ты собралась?
– Домой.
– Почему?
– Не вижу смысла оставаться.
– Не видишь?
– У вас тут явно, – Фредерику переполнял яд, – конкурс красоты.
На нее сошло внезапное утешительное видение зачаточных купальничков, острых каблуков, широких шелковых лент, перекинутых через угрожающе торчащие груди.
– Спектакль – это зрелище, – изрек Кроу.
– Я уже поняла.
– И мы сейчас в основном набираем нимф и граций. Это свита. Маскарад перед явлением королевы. Я тебя в этом качестве не вижу.
– Я тоже. – И, помолчав: – Но почему вы не сказали, что вам это нужно?
– Не только. Еще служанки. Вообще толпа.
– Понятно. Ну а теперь я пойду домой.
Фредерика попыталась его обойти. Они стояли меж Бальдром Прекрасным и Афиной Палладой. Один расслабил члены в гранитной смерти – вольная или невольная имитация «Умирающего раба» Микеланджело с дотошно готическим побегом омелы, торчащим из левого соска[71]. Другая, стиснутая в каменных складках хитона, сжимала чудовищную голову горгоны.
– Я бы не торопился. Когда ты читала, у меня возникла забавная мысль. Читала ты, кстати, весьма недурно. Как ты додумалась сделать ее такой агрессивной?
– Она и должна быть такой. Она сестра своего брата-злодея. Она отлично правит, ее называют государем[72]. Она жадная до всего. Как она вцепилась в абрикосы![73] И вообще привыкла, чтобы все было по ее. Честно говоря, я хотела ее сделать более… то есть менее… то есть более жалобной, молящей. Но я взбесилась из-за танцев. Я не могу танцевать. Мне было мерзко, и я пережала. Я могу сыграть лучше. Но вообще, когда я играла, то поняла, что можно и так – на грани перебора. В этом что-то есть.
– Ты права. Это очень тонко подмечено.
– Спасибо. – Фредерика впивала похвалу, как оживающее растение – воду.
Кроу облокотился на каменные корчи горгониных змей:
– Дай-ка я рассмотрю твою мордочку. – Он провел пальцем по ее острому носу. – Знаешь, на твоем месте я бы вернулся.
– Зачем?
– Ну, коли тут вопрос типажа… а типаж, разумеется, необходим… Думаю, мы тебя в первом акте протолкнем как минимум во второй состав. Шанс есть…
О, тут была власть куда похлеще списков. Тут был сказочный каприз фортуны, настоящая сказка в духе Ноэль Стритфилд[74], что дерзким девчонкам вроде Фредерики сперва сбивает спесь, а потом возносит на мечтанные высоты. Фредерика теребила рыжеватые волосы и онемело смотрела на крошечного импресарио. Кроу обожал режиссировать такие сказки. Там, где он обитал, в основе искусства лежала эта же режиссура. А как известно, и жизнь, и власть суть подражание искусству. Фредерика очнулась:
– Ой! Спасибо огромное… Я ничего так не хотела. Никогда. Если бы вы только… Я бы…
– Имей в виду, я пока ничего не обещаю. – Кроу выдержал паузу. – А с отцом насчет герцогини не советовалась?
– Целиком и полностью моя идея. Клянусь вам.
Кроу засмеялся:
– Ну, пойдем, пойдем назад.
Фредерика радостно устремилась за ним.
8. «Ода греческой урне»
В прохладной классной комнате с буроватыми стенами, припорошенными мелом, Стефани разбирала «Оду греческой урне»[75] с девочками, которые не поехали в Блесфорд-Райд. Хороший учитель – тайна, принимающая много форм. Стефани понимала свою задачу до скудости просто: погрузить класс в совместное постижение стиха, романа, любого человеческого творения. Не нужно ни самовыражения, ни самоанализа, ни того, что скоро получит название межличностной коммуникации. Собственно говоря, прочесть хорошенько «Оду» – отличный способ от этих занятий увильнуть. Стефани никогда не повышала голоса, но трудностей с дисциплиной у нее не было. Она умела создать телесный и душевный покой.
Девочки входили в класс, влетали, шумели, смеялись. Барбара, Джиллиан, Зельда, Валери, Сьюзен, Джулиет, Грейс. У Валери вскочил жуткий фурункул, Барбара мучится месячной болью. У Зельды умирает отец – остались недели, а то и дни. Джулиет до столбняка напугал какой-то парень: налетел сзади в переулке, руку крюком на горло, а второй полез под юбку. У Джиллиан высокий интеллект, ей от «Оды» нужна мнемоника, схема анализа, ключ для экзамена. Сьюзен влюблена в Стефани и старается угодить ей, изо всех сил напрягая внимание. Грейс, зажатая в тисках родительских амбиций, хочет одного: иметь цветочный магазин – и терпеливо избывает время до окончания школы.
Сейчас Стефани очистила голову от всего этого, и ученицы тоже должны были очистить. Оставаясь неестественно недвижимой, она и их удерживала в неподвижности. Как в книге из детства: укротитель замирает и ждет, покуда зверь откажется от собственной воли или утратит страх. Одно из двух или все вместе, она уже не помнила.
Еще нужно было убрать пестрые наносы мнемоники, которыми «Ода» в обычное время обозначалась где-то на краю сознания. В ее случае это были смутный абрис стиха на странице (сборный из нескольких изданий) и четкое, но переменчивое по силе ощущенье движения языкового ритма. Ощущенье не словесное и не зрительное – органическое. И все же его не вызовешь, не явив внутреннему слуху и оку целые вереницы слов. Отвлеченных: «форма»[76], «мысль», «вечность», «красота», «правда» – и самых конкретных: «неслышимые», «слаще», «зелень», «мрамор», «теплый», «холодный», «запустелый». Еще была россыпь грамматических и пунктуационных меток: в первой строфе застывшие взлеты вопросов без ответа, в третьей – нестройный на первый взгляд поток одинаковых эпитетов. Зрительные образы, одновременно доступные и ускользающие от взора. Белые формы, недвижные промельки движения под темной сенью торжественных ветвей. Загадка: какой увидеть «смятую траву»? Китс, на смертном одре велевший вынести из комнаты все книги, даже Шекспира. Сама она в Кембридже, смотрящая в огромные окна библиотеки на зеленые ветви. Запоминающая – что? Вопрошающая – о чем, зачем?
Она негромко прочла «Оду»: вот урна, на которой изображено жертвенное шествие в лесу. А где-то есть невидимый нам городок, опустелый, покинутый этими радостными людьми…
Как можно ровней, как можно бесцветней – рифмы без интонации. Прочла опять. Лучше всего подойти к стиху с сознанием, хоть на миг опустевшим и открытым, как будто впервые. Все слова должны прозвучать одинаково, без нажимов, разрывов, натяжек. Спросила холодновато: «Ну?» Растягивала неприятную паузу, когда все в классе могли лишь смотреть на нее, понимая, что речь трудна, а осознать и высказать свое отношение придется неизбежно.
Она глядела в пустоту внутри и ждала, когда оно возникнет и обретет форму. Пусто, пусто, и вдруг – запорхала пена мушками и хлопьями пышными над бьющимся серым морем. Белая и беловатая, в бурых и золотых пятнах, сгоняемая ветром в ком, кое-где схваченный тонкой и клейкой плевой. «Не то, – отозвался разум. – Черт! Это „пена губительных морей“!»[77] Оно потянуло за собой еще одну картинку. Стефани поморщилась. Венера Милосская. Анадиомена[78]. Рожденная из пены, из вспененного семени оскопленного Крона[79]. Неплохо, если нужен образ формы, восстающей из хаоса. Но Стефани вызывала из пустоты совсем другое.
– Ну, что вы видите?
Стали говорить о том, где Китс хотел, чтобы читатель видел урну, а где – изображенный на ней лес. Какие цвета он являет читателю, а какие оставляет на его усмотрение. Почему так трудно увидеть то, что нужно видеть изнутри самого языка: мраморных юношей и дев, телицу у алтаря, «лоб пылающий», «пересохший рот», «хладную пастораль».
«Мелодия, что слышим мы, сладка.
Неслышимая – слаще», – прочла Стефани.
Мозговитая Джиллиан сказала, что «опустелый городок» – сильные слова, на них почти можно поддаться. А слово «покинутый» так же действует в «Оде соловью». Потом говорили о концовке: «В прекрасном правда – в правде красота». Говорили, как и хотела Стефани, о том, что словесное творение может слагаться одновременно из слов чувственных и не чувственных вовсе: «красота» и «правда». Потом она спросила, как можно понять фразу, обращенную к урне: «подобно Вечности, отводишь нас от мысли».
– Это погребальная урна, – сказала Зельда.
– Слишком просто, – отрезала Сьюзен, глядя на Стефани.
И вот что-то задышало, задвигалось в классе, проницая и связывая восемь сознаний. Восемь сознаний и восемь урн и еще та, изначальная, всего счетом девять. Полувоплощенные белые фигуры, небывшие, чьи черты осязаешь внутри себя, но описать не можешь. Яркая белизна, мрак и слова, поодиночке, сцепками, стайками движущиеся в неведомых вместилищах общей и личной памяти – зрительной, звуковой, мыслительной…
И вот Стефани вывела, выговорила их наконец за пределы словаря, положенного по программе, и оставила вовсе без слов, в немоте. Джиллиан, получавшая от всего этого острое удовольствие, заметила: слова можно быстренько призвать назад, если понадобится. Стефани сказала, что это ее любимое стихотворение, и без выражения добавила: нельзя и не нужно пытаться сделать то, чего требует «Ода»: увидеть невидимое, сознать несуществующее, назвать небывшее. Но самой «Оде» это под силу, потому неслышимые мелодии и желаннее нам всех прочих. Еще маленькой, впервые узнав «Волшебницу Шалотт»[80], Стефани подумала, что люди могли бы и не наткнуться на эту мысль: дать несуществующему словесную форму. Так бы и жили, и грезили, и старались говорить правду. Она все спрашивала Билла, почему Теннисон написал «Волшебницу». Ответы были столь многочисленны, пространны и далеки от главной сути, что Стефани замыкалась от них, попутно сохраняя в памяти на будущее, как наверняка сейчас делает Джиллиан.
Прозвенел звонок. Девушки выходили в коридор, мигая, как совы от яркого света. Стефани, собирая книги, позволила себе задуматься: эта невпопад возникшая пена – от «Соловья» или от нее самой? Эдакая четкая фрейдистская ассоциация между мраморными девами, Венерой и подсознательной памятью о происхождении пены. Пена была не благостная, вовсе нехорошая пена.
После ей захотелось поскорее уйти, подумать на воле. Но сначала в учительскую. Можно сказать: «Я учитель» – и почувствовать запах чернил, волглой форменной саржи, полов, натертых полиролью. В учительской – целое стадо грязных казенных стульев диких цветов: сине-зеленых, желтых, красных. Застоявшийся чайный запах. Окна слишком высоко, никакого вида. А можно сказать: «Я учитель» – и слушать неслышимые мелодии, следить за белыми тенями, пробегающими под сенью темных ветвей.
Мисс Уэллс, вернувшаяся из Блесфорд-Райд, поднялась ей навстречу и протянула букетик первоцветов. Точно такой же был небрежно приколот к ее лиловому кардигану. Стефани нырнула носом в белизну и бледный мед. Потом приколола цветы к пальто, висящему на вешалке, и надела его церемонно-благодарным жестом – прелюдия ухода.
– Они чу́дные. Я уже бегу. Как пробы? – спросила она, хоть ей вовсе не хотелось выслушивать долгий ответ.
– Он всем распустил волосы и велел танцевать.
– Бедная Фредерика!
– Да, с танцами у нее не задалось. Им понравилась моя лапочка Мэри. Еще было несколько совершенно прелестных Утрат… Но, милая, Фредерика играла с таким напором, с такой злостью! А им, кажется, нужны только нимфы да феи. Но они ее взяли. Когда я уходила, она им читала Елизаветины собственные стихи. И они смеялись. И спорили. Мистер Кроу сказал: «Это львенок: мослы и мышцы». У нее был такой сердитый вид…
– О боже. – Стефани не могла больше слушать. – Мне пора. Я на велосипеде. Спасибо огромное за цветы. У вас всегда такие дивные букеты!
Сьюзен взволнованно мыкалась у шкафчиков с одеждой, ожидая, когда мисс Поттер пройдет к велосипедному сараю. Она припасла очень умный вопрос про «Оду», требовавший, по ее мнению, долгого и серьезного ответа. Когда мисс Поттер сядет на велосипед, Сьюзен подбежит к сараю и оседлает свой велик, что будет вполне естественно. Где-то около воронки Сьюзен ее нагонит, и целых десять, а то и пятнадцать минут они будут ехать рядом, вдвоем, и говорить, как никогда еще не говорили.
Воронка нагло расположилась вплотную к теннисным площадкам и школьной подъездной дорожке. Ее оставила единственная бомба, упавшая на Блесфорд. Частично взорвавшись, она взметнула землю, не причинив особого вреда. Разве что стекла повылетали кое-где да образовалась та самая воронка с рваными краями и жирной грязью на дне. Ее не засыпали, она проросла потихоньку травой и кипреем, да так и осталась. Со временем превратилась она даже и в некий памятник войны, а местные девчонки разыгрывали в ней, как на сцене, разные драмы.
Стефани знала, что Фелисити надеялась попить с ней чаю. Душа ее была поэтому неспокойна, но она решительно прошагала к сараю. Поверх ее гладких бледных волос был повязан травяного цвета шарф, первоцветы украшали весьма эффектное просторное пальто, тоже зеленое, с пышными рукавами, схваченными тугой манжетой, – немного в духе артистического балахона.
Сьюзен метнулась следом и принялась выкатывать велосипед из бетонного желобка.
Мимо, твердо крутя педали, быстро проехала мисс Поттер. Она вся словно струилась золотым и зеленым. Сьюзен прыгнула на велосипед, оттолкнулась, покачнулась, рванулась.
Стефани, то и дело тормозя и подпрыгивая, съезжала по ухабистой тропинке, проложенной через воронку.
С другой стороны в ту же воронку, громоздко маневрируя, съезжала грузная черная фигура на внушительном черном же велосипеде. Сьюзен, тоже притормозив, подумала, что этот некто возник так, словно бы ждал в засаде в припорошенных сажей лавровых кустах на том краю. Собственно, так оно и было. Вот он тяжело и быстро покатил на мисс Поттер и в канавке на нее наскочил. Велосипеды сцепились рогами. Неуклюжий, подумала Сьюзен, в чем была не совсем права.
Стефани проскакала несколько шагов в сцепленном виде, больно ударилась икрой о край педали и остановилась потереть ногу. Сьюзен увидела, что на гладком чулке чернеет длинная масляная полоса. Что же ей теперь делать? Проехать мимо, вернуться или пока подождать тут, что, конечно, будет очень заметно?
Дэниел, склонив голову, свирепо дергал сцепленные рули и тормозные фиксаторы. Он надеялся, что у него будет минут десять, – это если повезет. Значит, нужно уложиться. Все это он спланировал с обычной своей основательностью: рассчитал, где она примерно будет и в какое время. Лучше уж тут, чем в Блесфорде неумело разыгрывать случайную встречу. Рассчитать рассчитал, а теперь вот речи лишился, потому и скреб железом о железо.
Она глянула на него поверх собственной борьбы с зеленой тканью, маслом, цепью. Весь зарос черным волосом, черный дождевик, черные брюки, черные ботинки. Огромные плечи и живот. Пасторский «ошейник». Защепки на штанинах. Как его много. Она молчала.
Он рывком высвободил свой велосипед и сказал просто и в лоб:
– Я вас ждал.
– Вижу.
– Мне нужно с вами поговорить.
Она все потирала ушибленную ногу, но он не обращал внимания.
– Я сейчас немного спешу. Нельзя ли в другой раз?
– Это важно.
– Что-то случилось? – Ее милый, безбурный лоб наморщила тревога.
– Нет-нет, это просто я… Мне нужно с вами поговорить, – повторил он сердито, словно она сама должна была догадаться. – Это важно.
Он мог лишь повторять в точности то, что имел в виду. Он так малого хотел в своей жизни. И всего, чего хотел, добился. Только десять минут, и она поймет, начнет понимать, что это необходимо. Он уже знал каким-то чутьем, что ей трудно отказать, когда ее просят.
– Пару минут вы мне можете уделить, – бухнул он.
– Пару минут? – сказано было так, будто он просил о многих часах. – Пару минут – да, наверное… Может быть, выпьем кофе? Тут недалеко кафе открыли.
Это было не то, что предпочел бы он сам. Но ничего, можно уступить.
– Да. Спасибо. Извините, что поцарапал вам краску.
– Краска старая, мелочи. А вот кожух на цепи что-то здорово погнулся. Ничего, до кафе дотянем.
Востроглазое литературное дитя провожало их взглядом: двое неуверенно катили, подскакивая, меж темнеющих к вечеру кустов. Толстая черная спина и ноги-поршни заслоняли от нее умыкнутое золото и зелень. Ее как громом, до тьмы в глазах, поразило разочарование и злость. Брось, брось глупить. Это всего лишь школа, заскок на училке, воронка от бомбы. Впереди целая жизнь. Так говорила она себе, словно в некоем взрослом будущем другая трава и другие люди будут сбыточнее и надежнее. Как будто другие, невиданные цвета непременно затмят тающий уже зеленый и золотой.
Новое кафе было передовой северной разновидности и представляло собой переделанный на пробу подвал чайной «Прялка». Там был новый автомат для эспрессо и отдельные кабинки со сквозными перегородками. На столиках оплавленные свечи, воткнутые в бутылки, на стенах красоты Италии: Сицилия, Помпеи, Испанская лестница в Риме. Освещение было густо-синее, и от него пенка на капучино бледно светилась, как фосфорические чернила.
Темный Дэниел, ссутулясь, медленно и массивно сошел вниз. На секунду он напомнил Стефани Птолемея-черепаху из сказки Беатрикс Поттер[81]. Они уселись в угловой кабинке на подобие пеньков, обитых кожзаменителем, причем под Дэниелом что-то тревожно скрипнуло. Сидели лицом к лицу: синие губы, гиацинтовые зубы, виноградно-лиловые провалы ртов. Волосы Стефани и букетик на пальто вовсе не имели цвета, только какой-то металлический перелив. Тусклый свет тек у Дэниела по складкам одежды, оседал в волосах, в нависших бровях, в проступившей щетине на подбородке, и Дэниел теплел, не казался уж таким тугоподвижным и зловеще обстоятельным. Не зная об этом, он заметил, что свет тут безрадостный, и заказал кофе.
Он не знал – сказать ей просто: «Я хочу взять вас в жены»? Или скромней и точней: «Будьте моей женой»? Он не мог сосредоточиться (что бывало с ним крайне редко) из-за того, что она теперь стала другая, синевато-мерцающая. Не так уж хорошо это выходило сейчас – быть человеком, у которого что в уме, то и на языке. То, что в уме, было непомерно и неожиданно и могло прозвучать даже глупо. Он попробовал иначе:
– Я думаю, нам нужно поговорить.
– О чем?
– Много о чем. Но сейчас главное, чтобы мы с вами просто говорили, – понимаете? Это мне кажется важным.
Она вежливо молчала, словно ожидая фразы, на которую возможен ответ. Он, спотыкаясь, продолжал:
– Я хочу узнать вас получше. Я обычно по работе… А тут для себя.
– Не нужно.
– Что не нужно?
– Я не люблю, когда мне такое говорят.
– Почему?
– Бог мой! Да потому, что говорят – часто. Вы должны это понять.
Он не понимал, потому что раньше никогда вот так не заговаривал с девушкой. Но он думал, и думал быстро. И вдруг горестно понял: от Стефани многое требуют – и семья, и работа, и случайные знакомые, и, конечно, мужчины. То, что для него неповторимо и единственно, для нее эпизод. Пришла его очередь замолчать.
– Я ведь совсем вас не знаю, – сказала Стефани.
– Вот я и прошу: узнайте.
– Я поняла. Но когда вы так говорите, это кажется чем-то… огромным. И я чувствую… я чувствую, что ко мне это не имеет никакого отношения. Пожалуйста, постарайтесь понять.
Что-то было не то, какая-то была нервная снисходительность в ее мягком тоне, в ответе, уже заученном от частого повторения. И тут его охватил гнев, прохватил жаром всего. Она тревожно глянула на него и поняла:
– О боже.
– Ну, значит, всё. Не пора ли по домам?
– О боже…
– Именно, – зло сказал он и замахал официантке. Ему показалось, что кончился воздух.
– Не уходите. Я буду переживать. Я имела в виду…
Она не могла сказать, что имела в виду, а он не мог ответить, что ему безразличны ее переживания. Поэтому сидели молча. Наконец, с неловким усилием, она спросила его о работе. Фелисити Уэллс, жившая в доме викария, успела проникнуться к Дэниелу боязливым восхищением за бульдозерный подход к пасторству и умение использовать каждую минуту. Ей, впрочем, казалось порой, что он не слишком силен в богословии. Стефани слушала ее рассказы и что-то в ней отзывалось на его поступки и принципы – совершенно разумные, но к обычной жизни неприменимые.
– Работа была бы легче, – мрачно сказал Дэниел, – если бы люди друг друга не боялись. Запутались в условностях. Благотворительность унижает, первым не заговаривай, не будь обузой, не дай себе на шею сесть. У них нутро разъедает от одиночества, им жить нечем, а пойти такому же бедолаге руку протянуть – ни за что. Моя работа в основном ходить и просить: где можно – вежливо, где нельзя – с нажимом. Стараться, чтобы это выглядело официально, вроде комитета, тогда уж можно не просить, а поручать. Я придумываю новые условности: расскажи, каково тебе, узнай, каково ему.
– Условности бывают полезны. Они защищают человека от обид, от непосильных задач. Или помогают постепенно, не так болезненно вжиться… в жизнь. Нельзя толкать людей на крайности. Это не каждый выдержит.
– Однако крайности существуют! Вот мисс Фелпс. Тазовые кости вдребезги, ходить не будет никогда. День за днем лежит, боли у нее, конец свой предвидит, старается о нем не думать. А вот мисс Уитчер. Живет от мисс Фелпс через два дома, не знает ни ее, ни кого еще. Чаем меня потчует, чашечки с бутончиками. Такая утонченная, все подливает мне и жалуется: ах, мистер Ортон, жизнь ускользает без пользы, никому я не нужна… Я говорю: а вы пойдите мисс Фелпс проведайте. Ну и начинается…
Тут он изобразил мисс Уитчер с ее сложносочиненными отговорками: а вдруг решат, что она навязывается? Что играет в благотворительность? А если не найдется общих интересов? Если это окажется слишком тяжело психологически? Если она сделает только хуже, если скажет что-то не то? И конечно, ей будет мешать мысль, что до несчастья они подругами не были, что все это несколько искусственно…
Стефани поразило его перевоплощение. Он сидел перед ней в синем полумраке, злой и переменчивый, а она-то привыкла считать его человеком одной интонации, линией, устремленной в одну точку.
– Викарий… – Дэниел не привык жаловаться. – Викарий вот считает, что я слишком давлю. Сам-то он приходит и улыбается: мисс Фелпс, погода благодать! Мисс Фелпс, какие вам розы принесли! Не скажет ведь: обезножели вы, мисс Фелпс, как теперь справляться будете? И другое не скажет: в вас еще душа жива, мисс Фелпс, вы говорить можете, мы с вами живы и еще побарахтаемся. Ничего не скажет…
– Эти вещи нужно уметь говорить или же вовсе молчать. Вы не можете свою энергию передать всем.
– Другого пути не вижу, – мрачно усмехнулся он. – Викарий меня недолюбливает: нарушаю покой.
– А вам нравится нарушать… Вы правы, конечно, – сказала она и тут же невольно и неестественно вежливо добавила: – Я могу вам помочь чем-то?
– Вообще, у меня была одна мысль насчет вас. Я не одной беседы жаждал, – вдруг осмелев, пошутил он. – Есть такая миссис Хэйдок…
– Хэйдок?
– Да, живет в Брэнвик-эстейт, жилой комплекс «Бронте». Лет тридцать. Муж ушел, что случается. И двое детей: девочка запуганная и мальчик-аутист. Ей шесть, ему девять. Мальчик все крушит. Тихий-тихий, ни слова я от него не слышал, но вот систематически берет вещи и ломает, бьет, рвет, в пыль стирает. Людей не трогает, только вещи. Иногда какую-то музыку под нос мычит. Говорят, даже сложные мелодии может. Я-то в музыке не понимаю, только во время службы респонсорий спеть и прочее такое… Или замрет и смотрит, долго. Не тупой взгляд, не в пустоту и не на вас, а в какое-то другое измерение. Сдать его в интернат она отказывается: любит. Решение, надо сказать, непростое: девочка-то лоскутка своего не имеет, угла, чтобы одной побыть. Хотя какое тут решение: мать его любит, живет им.
– Вы не пытались ее уговорить насчет интерната?
– Думал об этом. Да, думал. Из-за девочки, из-за маленькой Пэтти. Но без него миссис Хэйдок может сломаться – теперь, когда жизнь ему посвятила. До чего разные жизни у людей… И не знаешь, когда случай загонит тебя в такую вот колею, простую и страшную, до конца дней. Каково это – иметь больного ребенка или родителей в маразме. Всё здесь: и любовь, и рука Божья. В общем, я решил…
– Что?
– Если бы у нее был один день в неделю – даже один вечер, – чтобы выйти куда-то с Пэтти… Побыть без него… Если бы кто-то надежный взялся сидеть с ним, но только твердо, чтобы она могла на это рассчитывать. У них бы у всех жизнь переменилась. Она сама никогда не попросит. Ее еще убеждать придется. Но если бы кто-то предложил… Вы можете представить себя на ее месте?
– Мне было бы страшно.
– А вы думаете, ей не страшно? И Пэтти?
– Это такая ответственность…
– Мы все должны что-то на себя брать.
– Дэниел – мистер Ортон, – почему вы просите меня?
– Просто мне всегда казалось, что вы это сможете. Облегчите ее немножко. Вы сможете. Если бы вы к ним как-нибудь зашли, вы бы сами поняли.
Ей вдруг стало страшно. Он жил и действовал в сферах, где люди обычно не живут, о которых люди обычно не думают. Там, куда каждый надеется не попасть. Он видел мир in extremis[82] и был прав. Стефани попыталась вообразить жизнь, которую он для себя выстроил, и не смогла. Почему она должна об этом думать? Он борется с тем, что, должно быть, испугало Китса. Китса, покинувшего медицину ради поэзии, но до последнего сознававшего, что поэзия болезней не исцеляет.
– Вы добьетесь и крови от камня, – сказала она. – Если сразу уговоримся, что я соглашаюсь на пару раз – чтобы понять, смогу или нет, – тогда я попробую. Большего пока не обещаю.
Стефани коротко улыбнулась. Дэниел никогда еще не видел ее такой живой. Она гордо добавила:
– Но если я соглашусь, вы сможете на меня положиться. Это я вам говорю точно.
– Могли бы не говорить. Я не все умею различить в человеке, но это – умею.
9. Мясо
Маркус несусветно долго просиживал в уборной. Уинифред казалось, что он каждую неделю прибавляет по полчаса, а то и больше. По временам он зачем-то резко спускал воду, потом воцарялась долгая тишина. Она видела порой, как Билл в носках крадется через лестничную площадку, чтобы застичь непорядок. Коричневые мыски, присогнутые колени, злой профиль. Сейчас будет вслушиваться, вперяться в непроницаемую дверь. Пару раз принимался молотить в нее кулаками, тщетно требуя, чтобы Маркус вышел, объяснил, отозвался. Уинифред старалась не реагировать. Ни на того ни на другого. Для Билла гнев – способ существования, любая реакция – повод к припадку. С Маркусом суеверие шептало: если отвести взгляд, заглушить тревогу, любовь, страх, то, может быть, ему повезет. Проскользнет, не замеченный Фатумом и отцом. Поэтому, когда Маркус, выждав одно из отцовских затиший, осторожно покидал уборную, она наблюдала за ним в зеркало над комодом и молчала. Мир и покой. Любой ценою мир и покой. Ради Маркуса.
Она ясно помнила не только его рождение, но, кажется, даже и миг зачатия. Он родился в дни Мюнхенской конференции, когда несбыточное затишье повисло перед чудовищной бурей. А зачат был, конечно, в этом доме, в этой постели, когда Билл вернулся вечером от своих заочников после лекции о Шекспире. Он был доволен собой и миром, под легким пивным хмельком, и ей тоже прочел лекцию о правдоподобных и неправдоподобных примирениях в поздних пьесах. «Зимнюю сказку» он не любил: в ней усматривают христианские мотивы, но главное – она совершенно неправдоподобна! Так говорил он, глухо топоча по спальне в носках, давая отдохнуть ногам, от которых пахло дневной натугой. Не может человек двадцать лет вдоветь, потом увидеть ожившую статую жены и бурно радоваться подлогу[83]. Слишком уж просто. Вот где коренится ошибка Шекспира – на примитивном уровне сюжетного правдоподобия.
– А как же Гермиона? – тихо спросила Уинифред. – Ее женские годы украдены, одно дитя умерло, другое пропало невесть где, а от нее требуют восторга и благодарности.
Слушатели, сказал Билл, пытались доказать ему, что статуя – символ боли, утоленной в Искусстве. А он ответил: не всякую боль можно утолить. Нет, с Просперо решение лучше, многослойнее. Не так легко дается примирение, выдумка последовательна и искусна.
– Наверное, к концу он полюбил-таки своих дочерей, – сказала Уинифред. – Столько схожих девичьих образов…
– Насчет дочерей не доказано, – ухмыльнулся Билл, успевший разоблачиться до подштанников.
Так все и вышло – не потому, что они мечтали о сыне, хотя имена дочерям, изящно производные от мужских, выбирал Билл. Просто эти самые дочери волшебным образом притихли, подмешалось пиво, и Билл говорил с ней по-настоящему, чего давно уж не делал, загнанный школой, счетами, заботами о потомстве, все чаще раздираемый гневом.
Уинифред вышла за Билла, потому что уважала его больше всех. За страсть к справедливости, за способность к страсти, за трудолюбие и остроту взора. Больше всего она боялась прожить, как жила ее мать: детей много, денег мало, вечное служение дому и мужу. Муж и дом – суровые нравственные императивы, неостановимый телесный износ. Уинифред, как старшую, мать посвящала во все, что касалось крови, полироли и застарелого негодования. Девочка знала в подробностях о родах и мужском «эгоизме» после, о крахмаленьи и скоблёжке, о черном графите для дверных петель, о порожном камне, что скребут добела, о синьке. Впрочем, мать постаралась помочь ее побегу: дала доучиться в школе. Там-то Уинифред узнала, что замуж можно и нужно выходить ради страсти, ради живой беседы. Не ради кровотечений девственных, месячных и родильных. Не ради графита и петель. Билл дал ей прочесть «Любовника леди Чаттерли», Билл проповедовал свободу: он бежал от догматов еще более тесных, чем те, что Уинифред намеревалась оставить в прошлом.
К 1938 году она убедилась: нельзя построить нечто, совершенно обратное тому, что знала всю жизнь, только лишь потому, что это обратное лучше. Люди жаждут вещей знакомых, пускай даже чудовищных. Неизвестное оттого и трудно, что оно нам неизвестно. Уинифред пришла к парадоксальной мысли: двое ближе друг к другу до того, как жили вместе, даже спали вместе, даже говорили как следует. В начале душа сказывается явственней, без уступок привычке, капризам темперамента, прошлым неудачам с людьми. В те первые дни они с Биллом говорили. Да, она рисовала его тогда по своему подобию, но зато была с ним честнее. А раз у нее было так, то, возможно, и у него. Теперь он был в постоянном раздражении из-за готовки, уборки, рева маленьких дочерей. Но Уинифред знала: на работе он другой, терпеливый, сдержанно-настойчивый. А в себе обнаружила фатальную и стойкую потребность в служении и в руке отталкивающей. Возможно, кроме гнева и терпения, ничего и не могло остаться у них с Биллом.
Поначалу она была в постели неистова: не требовательна, не настойчива, но бесстрашна. Готова пробовать на ощупь, на вкус, на запах, готова лизать, кусать, бороться. Но постепенно и незаметно привычка воссоздала им все положенные условности. Ей лень стало снять ночную сорочку. Переменить положение с горизонтального на вертикальное. Целовать его рот. К тому же ее раздражал этот запах от его ног. Однажды, открыв в темноте глаза, она осознала, что некто в ней потешается над Биллом, бесчувственным к ее боли и усталости, в одиночку торжествующим там, где год назад она разделяла с ним наслаждение. Возможно, все пары приходят к этому. У нее не было подруг, чтобы спросить. А с дочерьми она поклялась никогда не говорить так, как говорила с ней мать. Поэтому нужно было молчать. Молчание расползалось все шире, вытесняя надежду.
И вот неким вечером 1938 года, когда Билл, размаянный пивом, в кои-то веки поговорил с ней о Шекспире, а Фредерика в кои-то веки не проснулась с воплями, Уинифред, лепеча что-то о Гермионе, лежала на спине, устало-благодарная за людскую беседу, – не более. Билл навалился и деловито задвигался взад-вперед. Она же, как и всегда теперь, ощущала в лучшем случае легкую клаустрофобию и где-то по краю существа – смутную возможность наслаждения, не стоившую натяжения жил. Потом Билл вздохнул, задрожал, скатился на свою половину кровати – и тогда она ощутила себя внутри пещеристой и темной. Пробегал холодок, легонько плыла голова, а она прислушивалась к каким-то переменам на глубине, подобным движению электрических токов, что способно уловить тонкое восприятие. Потом она была убеждена, что почувствовала самоё зачатие. Так, без страсти и во многом случайно, началась жизнь ее сына Маркуса.
Она набухала ребенком, мир набухал войной. То и другое было неизбежно. Билл предрекал Армагеддон, гибель культуры, зло, гремящее сапогами по родным английским улочкам. Не ко времени возникшую жизнь он предпочел списать на некую неназванную неосторожность со стороны Уинифред. Учителя помоложе уходили добровольцами. Билл, раздражаемый непостоянством педсостава, бурлил и все больше времени проводил вне дома. Уинифред, тяжелая, испуганная, бродила с коляской по Блесфорду. Имбирно-рыжая Фредерика, налитая гневом, повелительно катила под своим балдахином. Стефани, свесив пухлые лапки под колясочной ручкой, слишком серьезно глядела из оборок летнего чепчика. Страх прилипчив. Стефани училась страху. Уинифред не имела ни сил, ни лицедейской жилки, чтобы излучать бодрящее полнокровие. Она смотрела поверх дочерних головок, собираясь с силами для всего, что предстояло: катанье коляски, Билл, такой, какой есть, рождение ребенка, бомбардировки, отравляющий газ, оккупация. Ей виделись маленькие тельца, насаженные на штыки, обвал кирпичей и под рокотом – обломки колыбельки вперемешку с плотью. Не следовало быть зачатым этому ребенку, но, коли он есть, нужно его сберечь. Если только возможно. Вот и всё.
Он родился быстро и абсолютно безбольно ясным июльским днем. Так быстро, что много дней все ей казалось понарошку – словно какое-то испытание еще ждало впереди.
– У вас мальчик, – сказали ей.
Уинифред вежливо ответила, что о мальчике и мечтала, хоть на самом деле не сомневалась, что будет девочка.
Она приподнялась с неизрасходованной силой и посмотрела на него. Он еще крепился к пуповине – пульсирующей, грозно-синей, серой, свинцовой. Невидящие черные глаза мигали встречь солнечным потокам. Крохотный, точеный, яростный – вылитый Билл в пароксизме гнева, – он потрясал бесполезными кулачонками над сморщенным голым теменем с налипшими поперек рыжими прядками. От нее – ничего, ни капли. То, что жило в ней, толкалось, поворачивалось, что она берегла, носила в себе, оказалось попросту Билловым гневом. Значит, мальчик. Она очень спокойно откинулась на подушку и стала ждать, когда его унесут.
Билл врывался в палату и снова убегал, нелепый от непредсказуемой радости. Заставил сестер развернуть младенца и продемонстрировать на белой пеленке пунцово-темные гениталии, гигантские относительно остального тела. Не раздумывая, дал ему имя. Оказалось, в детстве он жалел, что его зовут не Маркус. Уинифред смотрела, как он сует палец в холодноватую, цепкую ладошку сына, и чувствовала себя так, словно кого-то потеряла.
Три ночи спустя в темноте случилось пугающее. Ребенка принесли для кормления. В свете лампы под зеленым колпаком возник невесомый комочек, за которым тянулись влажные концы байкового одеяльца и туго крахмаленной больничной распашонки.
Она пристроила в сгиб локтя бессильно склонившуюся головку с личиком осунувшимся и разочарованным. И всё разом узнала. Узнала, что он хрупок и она его любит. Узнала тягу – прижать его ближе, туда прижать, где тяга скопилась в ней. И страх сломать, раздавить. Детская кожа горяча и влажна там, где натянута усилием, в остальных местах прохладна. Это дитя всегда было прохладно и тихо. Уинифред сидела на своей клеенке, схваченная мучительной любовью, страхом, что вот его принесли и скоро унесут. И как она знала миг его зарождения, так знала теперь, что ее судьба изменилась. Он был у нее лучший, первый и самый трудный. Она уже переставляла по-новому части своего мира. Младенец поел беззвучно и опрятно и канул в сон. Уинифред успела решить, что неистовство ее новых чувств для него опасно или по меньшей мере тягостно, – нужно приглушать их. Маркуса унесли. Она всю ночь ждала, оцепенев от тревоги и счастья, когда его принесут снова. И так оно началось.
Билл взъярился из кухни:
– Сию минуту освободи уборную! У других, знаешь ли, тоже бывают потребности!
Стены были тонкие, режущий голос врезался глубоко. Билл делал классические ошибки: каждую игрушку вручал Маркусу за полгода до того, как тот был готов с нею играть. Каждому учителю сообщал – тут еще на горе помогала эта математическая странность, – каждому учителю втолковывал, что мальчик гений. Главное же: он захотел участвовать в его детском чтении. Собственной рукой рассеял тут и там тонкую пыль библейских сказаний: Маркус должен познать воображаемые миры, куда войдет, конечно, вместе с Биллом. Что ты чувствуешь, когда это читаешь? Что тебе представляется? Что трогает твое сердце? Медлительный мальчик смотрел в пространство и складывал числа. Это было его собственное, ненаследное. Этого в филологической семье никто не мог ни разделить с ним, ни оценить.
Пред лицом Билловой взрывчатой любви Уинифред оставалось только стушевать себя. Энергию переводить в инерцию. Сводить к небытию. Возможно, не стоило так делать. Никакой радости ей от этого не было. Послышался осторожный щелчок двери. Уинифред прошла за Маркусом в его комнату – мальчишескую, с верстачком, с аккуратно выстроенными моделями военных и прочих машин. Маркус смотрел в окно. На отца он был разительно похож лишь в больнице, когда впервые глотнул воздуха. Теперь он больше походил на Уинифред, чем ее дочери. Апатичный, невозмутимый, невыразительный. Ей хотелось прикоснуться к нему, но она не стала.
– Маркус, ты занят сейчас?
Он покачал головой.
– Мне нужно в Блесфорд за продуктами. Поможешь нести?
– Да, только куртку возьму.
Она хотела сказать, но промолчала: может, когда вернемся, он уже поостынет. Если Маркус это уловил, то виду не подал. Когда они изредка говорили по-настоящему, то всегда без слов. Иногда ее подмывало крикнуть: Маркус, с тобой что-то неладно, совсем неладно! Маркус, поговори со мной! Но она молчала. Ему нужно было, чтобы она молчала. Или так ей казалось. Учительская улочка, спиной упираясь в Дальнее поле, спереди представляла собой одинокий рядок пригородных домиков вдоль сельской дороги, изгибисто бежавшей (по крайней мере, в 1953 году) среди полей с изгородями из боярышника и камня. Но и в те дни улочка имела собственную автобусную остановку: термакадамовую бухточку с оцинкованным навесом и кованой табличкой. К семидесятым годам дорогу благоустроили, расширили и спрямили, поставили рыжего света фонари вдоль ее гладкой крапчатой ленты. Раскорчевали боярышник, выровняли поля и густо засеяли мини-коттеджами с коротенькими подъездными дорожками и белыми оградками из лилипутского пластика. Тогда Учительская улочка приобрела вид затравленный и обнищалый. Но в 1953 году Поттеры еще могли с натяжкой считать себя деревенскими жителями. Они часто ходили гулять по проселку через луга, через поля овсяные и ячменные к станции водоочистки. Во время этих прогулок Уинифред называла детям луговые имена: вот колокольчик, звездчатка, золотушник, зверобой, мышиный горошек, смолёвка, трилистник. Девочки нараспев повторяли за ней. Маркус со своей сенной лихорадкой чихал и трясся. Глаза заплывали лоснистыми веками, в носовых пазухах сверлила боль, и ободранным казалось вспухшее нёбо. Станция была как замкнутый форт: за железной оградой бетонные кубы без окон, земляные горбы, покрытые искусственной травкой. И тишина здесь была человеческая: только и звуков что сдержанное гуденье проводов да ветряной шорох лап разгрузчика по брошенным бочкам с гравием. Девочки спешили свернуть и двинуться прочь, словно это место было заразное. Маркусу тут отчасти нравилось. Тут не было трав с щекотными султанами и царил порядок вроде кладбищенского: подстриженная опрятность, холмики, беззвучие. Стоило бы, кажется, остановиться и все рассмотреть, коли уж станция объявлена целью прогулки. Но они ни разу не остановились. Симмонс как-то сказал, что оборотная вода чище ключевой, практически стерильна. Маркус тогда подумал о тихой работе очистной станции.
Поездки в Блесфорд, как и походы к станции, сводились для него к определенному порядку следования сведений и боли. До Блесфорд-Райд он ходил в подготовительную школу при калверлейской соборной – это было в другую сторону и далеко. Блесфорд означал магазины и больницу. Уинифред пересказывала Маркусу его скудную историю так же, как на прогулке называла растения. В Средние века Блесфорд был рыночным городом, и кое-что от тех времен уцелело, зажатое слипшимися кубами стекла и каменной штукатурки. Замок еще стоял пустой скорлупой на мелком травистом пригорке, и к нему вела лестница с железными перилами. Была рыночная площадь с полосатыми палатками. А по средам у железной дороги бывал скотный рынок, и несколько часов мостовая пахла соломой, навозом, мочой и страхом, а потом все это смывали из шланга. Были старые имена: Скотинный двор, Укропная улица, Замарашный переулок, Помольные ворота. Автобус описывал круг по этим узким улочкам, минуя практичные краснокирпичные здания с асфальтовыми дворами: Главный почтамт, городская больница, автобусная станция.
Маркус долгие недели проводил в больнице с особенно тяжелыми приступами астмы или же подвергаясь малоэффективным исследованиям, чьей целью было установить ее причину. Некие обобщенные «врачи» полагали, что в Маркусе скрыт «инфекционный очаг» и астма – лишь вторичное проявление инфекции. Ему делали рентген, брали кожные пробы, его измеряли и взвешивали. Ему вы́резали в тщетной надежде миндалины и аденоиды. Он тем временем изучал разное, в основном – природу зрения.
Он слышал однажды, как Александр с отцом говорили о влиянии чахотки на творческий процесс. «Стремительность и лихорадочный блеск таланта», – сказал Александр. Много лет спустя Маркус задумается о связи дыхания и наития. А в тот день слова Александра достаточно затронули его, чтобы он про себя заметил: астма не такова. Астма не возбуждает. Она растягивает время и восприятие, так что все делается медленным, четким и ясным.
Вне приступа больница была обычным помещением: просторная, темно-красная, пропахшая карболкой и цветами. Сестры, снующие туда-сюда, крахмал, прокипяченное железо инструментов.
В приступе пространство и время проявлялись физически. Боль обводила контуры и отмечала координаты каждого ребра. Каждый глоток холодного воздуха, мучительно и шумно втянутый, мучительно и шумно вытолкнутый, отпечатывал в сознании свою продолжительность. Маркус приобрел характерную позу астматика: гнутая спина, сутулые плечи, ребра словно подвешены, вес тела переложен на негнущиеся руки с напряженными костяшками. Человекоподобная клетка для боли и борьбы. Из этой неподвижной клетки он яснее воспринимал строго определенные вещи: цвета, очертания, людей, больничные тележки и вазы, витой узор, что, свища и царапая, чертит в нем воздух меж остановок главного, непереносно чувствительного о́ргана. Все, что было внутри и снаружи, проступало ясным и черным контуром среди наползающей мути.
Бывали мгновения предельной боли, когда зрение достигало четкости математической. Возникала двухмерная серо-бело-черная карта, и становились на ней понятны линейные отношения вещей: занавесок, углов мебели, кровати, стула, пальцев, щиплющих одеяло, треугольных складок, остающихся после щипка. Эта карта сообщалась с картой внутренней, на которой сужались, закупоривались воздушные ходы. Дважды, теряя сознание, он видел в последний миг одно и то же. Раз, когда перед удалением миндалин бился под марлей с эфиром, и второй – когда жесточайший приступ оборвался обмороком. (Частые свои обмороки он ненавидел.)
Он видел кружащую геометрию. Вращался лист миллиметровой бумаги, клеточки уменьшались в согласии с неким почти уловимым геометрическим принципом и одновременно тоже вращались, и в центре всего (где-то на периферии зрения) была точка схождения, бесконечность.
Геометрия одновременно прилежала и противостояла страдающему животному. Она разрасталась, когда росла боль, но все же с усилием можно было переключить внимание с боли на геометрию. Геометрия была неизменна, точна и в родстве с абсолютом. Маркус не противопоставлял геометрию боли. Обеим им противопоставлялась «нормальная жизнь», в которой просто принимаешь вещи, как они есть. Все множество блестких, лоснистых, мягких, твердых, переменчивых, осязаемых вещей принимаешь легко, без нужды в карте и ранжировке…
Когда автобус обогнул больницу, Маркус быстро счел окна в первом и последнем этаже, заметил их пропорции и скрестил пальцы. Рядом, сжимая сумку, сидела Уинифред – у нее были свои воспоминания. Мать и сын молчали.
Мясная лавка была, против ожидания, вовсе не на Скотинном дворе, где расположились новый «Маркс и Спенсер», аптека, магазин белья и пара магазинчиков с местными тканями. Она была в соседней улочке: старинное, процветающее заведение со стенами в бело-зеленой плитке и полом, закапанным кровью и присыпанным опилками. Хозяин, мистер Элленбери, был, по обычаю мясников, бодр и багров. Он с должной ответственностью участвовал в местной политике, охотно и даже настойчиво обсуждал состояние страны и природу вселенной с домохозяйками, над которыми еще со времен продуктовых карточек сохранял некий добродушный деспотизм. Ему помогали три молодца в длинных белых, кровью измазанных фартуках. Все трое бурлили чрезмерной, а порой и непристойной живостью. Эта их живость связывалась для Маркуса с воскресным жарки́м. Ибо раньше по воскресеньям бывало у Поттеров жаркое из хорошего куска, предваряемое большими квадратами йоркширского пудинга, золотистого, исходящего паром, с хрустящей корочкой, присыпанной солью и политой горячей подливой. Билл и Уинифред часто упрашивали бледного Маркуса зачерпнуть себе красного сока от жаркого: в нем здоровье, говорили они.
Витрина мистера Элленбери была в своем роде произведением искусства. Мяснику недоступна та симметрия, те тончайшие переходы оттенков и форм, что рыботорговец создает на льду или мраморной доске, выкладывая из товара солнце или розу. Элленбери брал разнообразием, в приятной пропорции сочетая естественное, искусственное, абстрактное и антропоморфное. Тут были свои роскошества.
С блестящего стального прута на изящно изогнутых крюках свисали куры с пухлыми голыми грудками, с растянутыми и слегка опушенными шеями. Рядком красовались утки: золотые клювы, черные глазки, холодные перепончатые лапы чинно прижаты к бокам, белые шейные перья испачканы бордовым. Ниже прилавок был покрыт и окантован яркой поддельной травкой. На этом лужку резвились фольклорные фигуры и мифические существа. Улыбающийся картонный свин, застыв стоймя на одном копытце, возносил полное блюдо дымящихся сарделек. Он был – вероятно, пристойности ради – подвязан сине-белым полосатым передничком, а на голове у него лихо сидел объемный поварской колпак. Жовиальная бычья голова, исполненная кудрявой мощи и увесистой жизни, составляла глянцевый картонный триптих с пирамидой красных бульонных кубиков и сотейниками горячего и бурого «питьевого мяса „Оксо“»[84]. Черно-белый молочный теленок – прямиком из детского стишка – бодренько скакал по маргариткам, осененный голубыми солнечными небесами. На вершине горы из пирожков, завернутых в целлофан, цыпленок, теленок и поросенок вели веселый хоровод, знаменующий добросердое английское согласие меж телятиной, ветчиной и яйцом.
На ступень пониже – тот же белый мрамор под изумрудной травкой – стояли эмалевые посуды с частями более потаенными, разными на цвет и на ощупь. Кусок плотного воскового сала. Тарелка с белой, сдувшейся, ячеисто-оборчатой требухой. Органы. Почки, твердые и обмякшие, некоторые еще в жировом одеяльце: в прорехи глядит синеватая скользкая плоть. Переливчатая печень, монументальное бычье сердце с торчащими артериями, огромной раной и желтеющим жиром наверху. Половина свиной головы на плоской подставке, вареная, бледная, с тусклыми следами крови, с металлической биркой в ухе, с белой щетиной на морде и белыми, жесткими от соли ресницами.
Ниже – отрубы. Свиная щека, свернутая в конус и обсыпанная золотыми сухарями, поблескивает в своем целлофане – опрятный, отвлеченный предмет. Бараньи котлетки выложены в аккуратные линии. Повторяющийся узор: розовое мясо, белый жир, опаловая косточка. Параллельные линии, одинаково неровные формы – все вместе дает через повторение некую абстрактную закономерность. Свиное каре – ребра скручены в корону, и каждое торчащее ребро украшено папильоткой из папиросной бумаги. Огузок и бочок, подбрюшина и ковалочек. Говядина, свинина, ягнятина, телятина – опрятные куски, большие и малые, жирные и постные, так и сяк перетянутые бечевой, проткнутые палочками с биркой, словно насаженные на миниатюрные вертела и шампуры.
Если всякая плоть – трава[85], то в какой-то иной крайности всякая плоть – геометрия. Человек Поядающий с уникальным набором всеядных зубов – настоящий художник в деле истребления и преображения плоти. Он обзавелся целым арсеналом для ее пронизания, разъятия, очищения, изучения и аппетитной подачи. Он, этот художник, способен примирить под золотистым небом жизнерадостного свина и плотную цилиндрическую сардельку. Или создать из плачущего сала, взрезанной телячьей грудинки, рубленой петрушки, хлеба и взбитых яиц – тугую спираль, на срезе белую и розовую, зеленую и золотую.
С каждой стороны двери на пронзенной крюком, натянутой жиле висела половина бычьей туши. Маркус вместе с матерью вошел внутрь, словно бы прошел сквозь тварь, что еще утром лежала на пороге, раскинув копыта, свесив безголовую шею, медленно раздаваясь по хребту под ударами тесака. Он видел раньше, как это делают. Теперь же он видел выпуклую плоть с налипшей пятнистой марлей и проницавшую ее геометрию: цепь позвонков, веер ребер, тугой лоск пленок, облегающих и соединяющих кости. Дальше был ряд бледных свиных трупов и окоченело растянутых ягнят.
Спасительная геометрия была здесь зверски проста и наглядна. Чем меньше отруб, тем он геометрически точней, а значит, удобней для восприятия. Если человек видит предметы, или воображает их, или мыслит о них в терминах составляющих единиц – например, молекул, – то и бараньи котлетки могут считаться составляющими неких разнообразных и занятных систем. Половина свиной головы и тому подобное единицей считаться не может. С другой стороны, на земле и в воздухе полно молекул, составлявших некогда часть располовиненной свиной головы. Маркус не мог разделить принцип «все или ничего». Для него половина свиной головы была вполне осмысленной и терпимой единицей.
Из-за деревянной колоды, иссеченной, иззубренной, изъеденной косарем, секачом и пилой, с энергичным приветствием возник чернявый Улыбач. Так прозвали его Стефани с Фредерикой за выражение лица, менявшееся лишь от менее к более радостному. Как-то он предложил покатать Фредерику на мотоцикле, причем навалился на прилавок, вытирая руки влажно-кровавой тряпкой. Фредерика согласилась бы, но Билл запретил, сказав, что мотоцикл опасен наверняка, а Улыбач – с большой долей вероятности.
– Чего изволите?
Улыбач стоял, запустив руку в куриную тушку. Дернул – с хрустом и чавком потащил из растянутой утробы длинную череду мягких белых кишок, плотных, подернутых жиром потрошков, пузырчатых золотистых яичников в красной сетке сосудов. Тушка вздувалась и корячилась в нелепой пародии на жизнь.
– Фунт бараньей печенки и телячью лопатку, – отвечала Уинифред.
Улыбач кивнул и широким махом явил что-то вроде детского пляжного ведерка, откуда вытряхнул на прилавок лоснистую горку мороженой печенки, хрупкой и темной. Постукал по ней своим большим ножом:
– Как каменная. Нам, миссис Поттер, сейчас свеженькой подвезли с бойни. Я знаю, вы свежие потрошка уважаете. Погодите минутку, я сбегаю.
Мутнеющему взору Маркуса свежая печень предстала горячей и вздутой. Улыбач пришлепнул ее ладонью, чтобы стала плоская, и нарезал тончайшими ломтями. Затем принялся снимать с кости телятину, быстро и точно орудуя остатком большого ножа, сточенного до почти невидимой тонизны. Снимал, как брил: бережно и чисто. Мягкая плоть спадала с блестящего мосла, белого с жемчужным отливом, сине-лилового, розоватого, все больше выходящего за пределы реальности. Маркус смотрел. Разлагал на составляющие, менял составляющие местами. Озирался по сторонам. Мясо напирало. Он говорил себе: люди приходят сюда и уходят и никому ничего не делается.
– Ну вот, – сказала Уинифред. – Будет у нас отличный ужин. Держи. – Она протянула ему сверток, уже думая о стряпне, о претворении мяса в яство. А может, и о том, что Маркусу должно понравиться. Увидела его лицо. – Маркус!
– Мамочка…
Он уже давно ее так не называл.
Она, по чести, и не любила это слово. Оно наводило на мысли о недобром, о мертвецах, сохраняемых в пыльных просмоленных коконах[86]. Да и звук неприятный: мык и чмок. Она не запрещала его детям, не просила звать ее по имени – подобное было не в ее духе. Все они по очереди подхватывали его от других детей, других матерей, осторожно пробовали какое-то время и сами отвыкали. Если прямое обращение было неизбежно, называли ее «мама», а чаще не называли вовсе.
Она за руку вывела его на улицу:
– Маркус, что с тобой? Я знаю, с тобой что-то…
Ее перекрыл гудок, повелительный, резкий, неестественно долгий. Оба вздрогнули. К тротуару притерся невесть откуда возникший спортивный автомобиль – черный, блестящий, куцый «триумф» Лукаса Симмонса, которому тот расточал невиданные заботы на школьной стоянке. Симмонс опустил стекло и просиял невинно-розово:
– Миссис Поттер, Маркус! Вы, случайно, не домой сейчас? Я могу вас подвезти, если Маркус согласится съежиться на заднем сиденье. Автомобиль, по чести, рассчитан на двоих…
Маркус дернулся и отступил. Он выглядел очень плохо, почти больным, мог упасть в обморок, как не раз случалось. Уинифред с благодарностью согласилась, сказав: как вы вовремя. Симмонс ответил, что всегда рад служить, и смущенно усмехнулся, искупая возможную нелепость фразы. Машина была шумная, Симмонс вел очень резко, так что на поворотах Уинифред вся сжималась и не могла уловить ни положительных, ни враждебных эманаций от Маркуса, скорчившегося где-то сзади. Симмонс, в основном заглушаемый мотором, говорил что-то банальное об уличном движении в Блесфорде. Когда приехали, Маркус сказал, что его укачало, и пошел в постель.
10. Монолог в башне
Фредерика получила письмо:
Дорогая Фредерика, мы все еще не распределили роли в «Астрее». Комитет хотел бы снова тебя прослушать. Приходи ко мне в среду после уроков, как только сможешь.
Искренне твой,
Александр Уэддерберн
Фредерика составила исполненных благодарности, энтузиазма, ума ответов. Послала же следующее:
Дорогой Александр,
я буду очень рада.
Фредерика
Она надеялась (с изрядной долей сомнения), что он разглядит нюансы.
Александр жил в школьном здании, в красной западной башенке. Ход к нему был в готическую арку и вверх по винтовой лестнице до дубовой двери. Внутри была еще одна дверь, обитая, в подражание Оксбриджу[87], толстым зеленым сукном[88]. В комнате были смутно готические окна по двум стенам. Южное поверх лужаек и клумб смотрело на огороженные сады и Дальнее поле. Западное выходило на Замковый холм и его окрестности, включая очистную станцию. Над дверью снаружи было резное окошко со сдвижной ставенкой, сообщавшее, что Александр М. М. Уэддерберн, маг. искусств, англ. лит. «НА МЕСТЕ» либо «ВЫШЕЛ». Лестница была из красного камня и пахла хлором.
В среду Александр мрачно глянул в южное окно и узрел надвигающуюся Фредерику. Вместо школьницы – балерина в выходной: все черное и серое, натуго застегнутое. Волосы стянуты в пучок, острые каблуки дырявят запретный газон, острый нос торчит и принюхивается.
Фредерика явилась рано, хотя бы в том смысле, что раньше Кроу и Лоджа. Александр ощутил себя затравленным зверем. Когда обсуждали ее пробу, он понял, что определенно недолюбливает Фредерику Поттер. Не только потому, что в ее присутствии испытывал вчуже мучительную неловкость. И даже не потому, что она была в него, кажется, влюблена: такие вещи естественны, их принято добродушно не замечать. Но, увы, Фредерика понравилась Кроу, он прямо-таки настаивал, что у нее способности. Да еще этот ее зверский напор во время проб… Александр был теперь глубоко и нелогично убежден, что девчонка в лучшем случае обременительна, а в худшем – опасна. Попробуйте не обращать внимания на влюбленного в вас боа-констриктора! А именно так и обстоит дело или будет обстоять в скором времени.
Он услышал на лестнице ее быстрый цокот. Потом грянул стук в дверь. Проклиная Кроу, Александр пошел отворять.
– Там сказано: «вышел», – обвиняющим тоном заявила она.
– Да, я все время забываю передвигать эту штучку.
Он попытался взять у нее пальто, но она уже расхаживала по комнате, читала надписи на корешках, мерила шагами расстояния, оценивала вид из окон. Александр старался, насколько было возможно при его работе, никого к себе в комнату не пускать. Фредерика, конечно, тут и близко не бывала. Он взял себя в руки и твердо сказал:
– Сядь и дай мне пальто.
Фредерика послушалась. На ней оказалась необъятная серо-черная шерстяная юбка и свитер с рукавами «летучая мышь». На шее – он особенно не любил этот стиль – железные побрякушки на кожаном шнурке. Она скрестила ноги, как секретарша из голливудского фильма, и впилась в него взором инквизитора. Александр отступил за письменный стол.
– Остальные пока не пришли. Мы рановато.
– Это я рановато. Вы-то здесь живете… Александр, пожалуйста, объясните мне, что все это значит?
Он словно не заметил отчаянную дрожь в ее голосе:
– Наверное, и правда лучше объяснить. У нас возникли трудности с выбором актрисы на… на главную роль. Лодж хочет, и Мэтью тоже, пригласить Марину Йео. Собственно, – он постарался скрыть легкую досаду, – они уже ее пригласили. Она старая приятельница Мэтью и, говорят, загорелась этой идеей.
Фредерика молча смотрела на него.
– Но она стара. Для пьесы – для моей пьесы – она стара. Вот в чем дело.
– Я ее видела в Ньюкасле в «Гедде Габлер». И еще в роли Клеопатры. Клеопатру можно играть и старой. И этот жуткий фильм с ней видела – «Смертная луна»[89]. Она там в общем неплохо сыграла Елизавету.
– Тому фильму лет уже немало. А Йео – замечательная актриса. Так или иначе, Кроу осенило разделить роль: в первый акт, на молодую Елизавету, взять девушку. А начиная с коронации поведет Марина и будет красиво стариться по ходу действия. Я лично этого не хочу. На что имею право: я писал эту роль для одной актрисы.
– Будь это моя пьеса, я бы разозлилась не знаю как! Разделить роль! Это же совершенно не тот стиль…
– И к тому же это не любительский спектакль, – неосторожно сказал Александр.
– Вот именно.
– Ладно, оставим. Дело в том, что Кроу поразило твое сходство с… оригиналом. Он считает, что можно на первые сцены взять тебя.
– Я бы отказалась. Даже если бы они позвали. Если вы этого не хотите, то… Я… Мне важно ваше мнение. Это ведь ваша пьеса, вы ее написали.
– Теперь уже не вполне моя, – педантично поправил Александр. – Она в руках Лоджа. А Лоджу ты нравишься.
Лодж усмотрел во Фредерике некую «своеобычную сухую сексуальность». Эта фраза застряла у Александра в мозгу: ни одной минуты он не считал Фредерику сексуальной. Нелепость – а с ним Фредерика бывала как-то особенно нелепа – исключала для него сексуальную притягательность.
– Кроу сказал, я могу надеяться на второй состав. И я надеялась. Но все равно вы не должны им позволять, если вы против. Это ваша пьеса.
– Я вовсе не хочу, чтобы ты теряла надежду…
– Я очень хотела играть в пьесе. Такое бывает раз в жизни.
Ей вспомнились видения, то лелеемые, то гонимые: фанфары и фижмы, сладость и соль английского языка, кавалеры, кавалькады, беседы, и кто знает что еще… И Александр, Александр… Конечно же, Александр.
– Хотя рано говорить, что я бы отказалась. Я им, скорей всего, и не понравлюсь. Но я бы отказалась, правда.
Фредерика спросила себя, зачем она это говорит. Нет, она не лжет и действительно понимает положение Александра. На его месте она считала бы так же. Это его пьеса, его труд. Но сейчас важней всего – чтобы она, Фредерика Поттер, получила роль. И не какую-то, а именно эту. Так к чему разговоры? Не только же, чтобы Александр сказал вот сейчас:
– Нет-нет, ты прочти им как следует. Тут все решает Лодж…
Она знает его интересы, и они ей дороги. Но собственные дороже. Александр о них пока не думает, но он должен, должен все понять и соответствовать!
Фредерика оглядела комнату. Она давно уж намеревалась сюда проникнуть. Все оказалось не совсем так, как она представляла. Прохладно, просто, современно – насколько это возможно в царстве викторианской готики. По моде фестивального времени каждая стена была выкрашена в собственный пастельный цвет. Голубой с зеленцой цвет утиного яйца, размытый травяной, приглушенный лососевый, бледно-золотистый беж. Пара кресел светлого бука в оливково-зеленом репсе. На подоконнике в аспидных веджвудских[90] чашах с античными сценами на боках росли белые гиацинты и темные крокусы.
На голубой стене позади Александра висела большая копия «Семейства комедиантов» Пикассо в тонкой дубовой раме. Напротив, на лососево-розовой, – его же «Мальчик с трубкой», которого Фредерика не узнала. На зеленой, над камином, – очень большая глянцевая фотография: белая на черном, мраморная женщина лежала на боку спиной к зрителю. Ее Фредерика тоже видела впервые. На каминной полке возвышался миниатюрный курган из камешков. Один или два были полированные, в форме яйца: агат, алебастр, остальные – неровные, простые. Те, что не желали лежать курганом, были выложены рядком от большого к маленькому.
На золотистой стене, уже несколько поблекший, висел плакат: «„Бродячие актеры“, пьеса Александра Уэддерберна». Буквы названия были в виде зеленеющих веток, их поддерживали персонажи комедии дель арте, пляшущие или замершие в картинных позах. Коричнево-зеленые буквы и черно-белые фигуры в клетчатых трико.
Фредерика дважды прочла все, что там было написано: дни и часы, истекшие в Театре Искусств в 1950 году. Потом прочла названия книг в ближайшем шкафу. Фредерику гипнотизировали печатные буквы. Чтение доставляло ей чувственное удовольствие, не важно, была ли то инструкция к очистителю унитаза, правила поведения при пожаре, очередной список или, как сейчас, названия книг. «К определению понятия культуры»[91], «В поисках утраченного времени»[92], «Ж. Расин. Полное собрание пьес» – последние две на французском.
На двери висел пустой халат и твидовый пиджак.
Чего же не было в этой комнате и чего она от нее ожидала? Некой театральности, сумрачного богатства эффекта. Просторная воздушность ее была неожиданна, хоть приятна.
– Красивые камешки.
Он нервно поднялся и стал вертеть их в руках – холодные, шепчущие, звонкие.
– Я их привожу из Чизил-Бэнк. Я родом оттуда, из Дорсета.
Еще кое-что о нем! Фредерика, как белка, жадно припрятала это новое знание, но не нашлась ничего сказать ни о камешках, ни о Дорсете. Она была до странности не способна к простейшей болтовне. Молчание тянулось. Поэтому она почти обрадовалась, когда в комнату быстрым шагом вошли Кроу и Лодж.
Они заранее напустили на себя таинственный вид, чем изрядно смутили Александра и Фредерику, решивших, впрочем, не выдать бывшего между ними разговора. Кроу, значительно подмигивая, говорил, что, возможно, удастся его затея со вторым составом. Лодж изрек, что первая проба была неплоха и они подумывают дать Фредерике роль со словами. Не прочтет ли она им для начала монолог Утраты?
Фредерика ответила, что предпочла бы что-то другое. Как оказалось, юные создания у нее не получаются, мрачно пояснила она. Нельзя ли, например, Гонерилью? Лодж рассмеялся в голос: к великому сожалению, требуются не гонерильи, а юные создания. А потому весьма желательно посмотреть, насколько она может воплотить девический образ. В этой насмешливо-пышной учтивости Фредерика учуяла особое отношение. Она нравится, с ней хотят работать! И похоже, эти двое не против легкой словесной перестрелки. Фредерика просияла улыбкой: ну что ж, вы знаете, я отнюдь не нимфа. И послушно начала:
- Зачем, о Прозерпина,
- Не можешь ты мне подарить цветы,
- Которые в испуге обронила
- Ты с колесницы Дия?
Тут нет подлинного вдохновения, подумал Александр, но это и не вполне бездарно. Вдохи и паузы расставлены осмысленно, и, по крайней мере, ничто не мешает течению стиха. Он у нее почти летит, даже если сама она летать не способна.
– А теперь, – сказал Лодж, – попробуем что-нибудь из пьесы. Александр, у вас есть подходящий кусочек?
– Наверное, монолог в башне, – ответил Александр.
Когда он протянул ей текст, Фредерика попыталась расшифровать выражение его лица. В нем была долготерпеливая грусть.
Тауэр – башня-темница, куда Мария Тюдор[93] бросила молодую принцессу Елизавету. Этот момент в истории и литературе Фредерика, выросшая на кипучих страстях «Юной Бесс»[94], проживала не раз. Александр, вероятно, рос на чем-то другом, подумала она, хотя в этой сцене страстей достаточно.
Александр наблюдал за ней. Есть что-то раздражающее нервы в том, чтобы вот так смотреть, как другой сосредоточенно и быстро читает тобой написанное. Помимовольно он навис над нею и начал вставлять словечки: поясняющие, оправдательные, уводящие в сторону. Фредерика читала с лицом сердитым и замкнутым. Александр никогда бы не признался себе, но он побаивался ее суда.
– Насколько я понимаю, она не шутила: «Женою мужнею не буду». Я писал вслед за историками, которые считают, что она не собиралась выходить замуж…
– Понятно…
– Эта «она», о которой она все твердит, – Анна Болейн[95]. Хотя, конечно, нет свидетельств, что они встречались.
– Я знаю.
– Ну да, разумеется. И знаешь, монолог должен начаться почти с истерики, она говорит захлебываясь – как Болейн заперли в башне, и как она хохотала и плакала. А потом тон понемногу меняется…
– Да, да, – почти нетерпеливо. – Предложения очень длинные.
– Читать непросто, согласен.
– Дайте же бедной девочке сосредоточиться! – вмешался Кроу.
Александр отошел и стал смотреть в окно.
Стих был блестящий и нервный, со множеством эпитетов и метафор. Принцесса говорила о холодных, сырых камнях башни, о черной Темзе, об узеньком садике во дворе с несколькими несрезанными цветами. Потом выплела длинную, прихотливо витую речь о белых и алых розах, о розе Тюдоров, о крови, плоти и мраморе, о запертом саде, запечатанном колодце, ego flos campi[96], я не паду под мясницким ножом. Потом – изящное отступление, драгоценный каприз: сказочка о деве, что уронила в колодец золотой мячик и отвергла любовь скользкого лягушонка. Мрамор и золоченые статуи принцев.
Длинные периоды уступили место словам коротким и резким. Ни капли крови не отдаст Елизавета. Ни под ножом, ни на брачном ложе. Она камень, от которого крови не добиться, semper eadem[97], вечно одна. Добродетель – ее оплот.
Фредерика встала в оконной амбразуре, взглянула на сад внизу, уняла воображение и начала читать. Главную трудность, как она уже намекнула Александру, составляла усложненная грамматика. Но грамматику Фредерика знала хорошо. Александр не сказал ей, что уже смотрел нескольких возможных Елизавет, и всем им труден был его язык. Фредерика же, вопреки ожиданию, именно в недостатках своих оказалась хороша для роли. Она не калечила его предложений. Она пришла к чисто рациональному заключению, что язык пьесы настолько богат и даже пышен, что читать нужно просто и негромко: пусть он сам говорит за себя. Ее подход глубоко впечатлил Александра. Он побаивался этих брызжущих жизнью актрис, что самовыражаются в ущерб авторскому тексту, и думал, что в этом смысле Фредерика окажется хуже большинства. Но нет. Хотя для Лоджа жизни тут, пожалуй, и маловато… Остается надеяться, что он не сочтет ее манеру слишком сухой и монотонной.
А что думал Лодж, было не вполне ясно. Он попросил ее прочесть снова и на сей раз вложить в роль всю себя. Этим он добился от нее некой сдавленной, неуклюжей ярости, которой, кажется, остался удовлетворен. Он спросил, сможет ли Фредерика двигаться более естественно. Конечно, заверила та. Кроу сказал, что их небольшой план выглядит вполне многообещающе. Фредерика с трудом удержалась от того, чтобы спросить, какой именно план. Кроу предложил подвезти ее до дома. Подметив его любовь к намекам, обмолвкам и прочим играм, Фредерика не сомневалась, что в машине он скажет ей о своем решении и о том, что Александр против. Из трех мужчин она больше всего нравилась Кроу, он был явно на ее стороне. Он же был и самый скучный. Кроу имел лишь деньги и влияние, а Лодж и тем более Александр были художники – и спрашивать нечего, кто интересней. Фредерика наивно полагала, что ее эстетические принципы в данном случае совпадают с тем, что она более расплывчато – и в целом неверно – именовала своими политическими интересами. Из всех троих, решила она, нужно произвести впечатление на Александра. Пьеса его, значит он должен одобрить ее игру и их план. Она ошибочно думала, что остальные двое уже готовы сотворить из нее и Йео единую королеву и сегодняшнее чтение устроили лишь с целью обратить Александра. Поэтому Фредерика ответила Кроу, что она и так дома, достаточно пройти по аллейке и пересечь Дальнее поле. А потом, бесстыдно и явно проигнорировав открытую для нее дверь, осталась с Александром одна.
Александр великодушно сказал, что читала она замечательно. Фредерика ответила, что она, конечно, страшно волновалась, но это было волшебно – такой стих, такие дивные образы. Александр заметил, что монолог в башне – метафорический центр всей пьесы.
– Мне еще понравились цвета, красный и белый.
– Я с самого начала видел эту сцену в белом, сером и красном.
– А зеленый не помешает, если играть на открытом воздухе?
– Если вечером, то нет. А камни, наверное, можно сделать при помощи освещения. Не хочешь ли шерри после мук и испытаний?
Наливая шерри, он сказал, что цвета взяты им из коротенького стиха о Елизавете, который он тоже вписал в пьесу:
- Под деревом я деву увидал:
- Лоб и ланиты как поля герба,
- Где алой розы кровь и белой розы…
Геральдика и кровопролитие. Оттуда все и пошло: красное и белое, кровь и камень. Не присядет ли Фредерика на диван? Интересует ли ее иконография, связанная с обожествлением Елизаветы? Там немало занятного. Елизавета приобрела многие из традиционных атрибутов Богоматери. Роза мира, башня из слоновой кости.
– Ego flos campi, – вставила Фредерика, – и еще про запечатанный источник. У нас это вышито на школьном пиджаке: «Отныне знание не запечатанный источник». Откуда это?
Александр от неожиданности грубовато расхохотался.
Это, сообщил он ей, из «Принцессы» Теннисона, поэмы-сказки о феминистской академии. Поэт подсмеивается над выспренними устремлениями девственной принцессы Иды и окруживших ее синих чулков. А до того (задолго до!) о запечатанном источнике говорит Песнь песней, и тогда это была высшего порядка эротика. Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник. В таком случае, заявила умненькая Фредерика, потягивая уже вторую рюмочку шерри, Теннисон был либо непристоен, либо прогрессивен, намекая, что познание – не первородный грех, а благо. Боюсь, сказал Александр, что придворный поэт прошелся тут насчет девственных идеалисток, претендовавших на причастность к источникам. Недаром их дивные вирши противоречат их принципам: там всё про плотский соблазн и очарование младенцев.
- Вот белый дремлет лепесток,
- Вот алый… —
один из сладчайших и двусмысленнейших стихов в английском языке.
Фредерика сказала: здорово, что наши пиджаки не только безобразны, но и безнравственны, от этого школьный ужас делается как-то терпимей. Спасибо, что рассказали. Тут оба поняли, что сидят на диване рядом и говорят о сексе.
Они отодвинулись, но, впрочем, не очень-то. Александр опрометчиво подлил в рюмочки еще шерри. Он успел забыть – удивительно, что́ иногда забываешь, – как работал над метафорами Елизаветы, вплетая в ее речь образы ее культа: феникса, розу, горностая, Золотой Век, Королеву урожая, Вирго-Астрею – девственную покровительницу правосудия и плодородия. Работал и работал один в этой комнате, а с тех пор, как закончил, никто ни разу не заметил его находок. Кроу, Лодж и остальные говорили о расстановке акцентов, о соответствии моменту, о сокращениях во имя компактности, о темпе действия, о характерах. Ни один не вспомнил об образах, сотканных им так любовно, с невыразимой смесью прихоти и откровения. Эта девочка ухватила их за хвост там и сям, как блестящая кандидатка на блестящий диплом, каковой, естественно, и являлась. Но на то и он был учителем. Он объяснил ей, что девиз Елизаветы – «Semper eadem» – связался для него с однородностью камня и с неиссячным временем Золотого Века. Девиз Марии Шотландской «Eadem mutata resurgo»[98] – «Преобразясь, восстаю той же» – отдавал христианством и уступал каменной, языческой вере Елизаветы в неизменность своего естества. Жаль, не лукавя сказала Фредерика, что пьесе о душе столь цельной угрожает сдвоенная героиня. Александр неосторожно отвечал, что теперь эта перспектива уже не так его пугает. Хотя бы за половину текста можно быть спокойным. Фредерика вспыхнула надеждой. Это великолепный язык, сказала она, одухотворяющий! Зрители поймут…
- Язык волшебный, сахарный тростник,
- Мед розовый, куда стремит твой путь?[99]
В пятидесятых годах критики напишут статьи о символизме крови и камня в «Астрее» А. Уэддерберна.
В начале шестидесятых доходчивые перечни образов включат в пособия для середнячков, чающих получить солидный диплом.
В семидесятых пьесу отметут как окаменелость, последний капризный выверт индивидуалистического модернизма. Скажут: она заражена бесполезной и даже вредной культурной ностальгией, набита ненужными мелочами, до неприличия растянута. Творческий тупик, иными словами, сотая попытка возрождения стихотворной драмы, о чем, конечно, следовало бы догадаться сразу.
Но в тот день Фредерика, снискав и вымучив из Александра заслуженное полуодобрение, решила сменить тему. Она указала на фотографию мраморной женщины (довольно естественный переход) и спросила, кто это.
«Данаида» Родена, сказал Александр. Он подошел ближе и пристально взглянул туда, где рассеянный Фредерикин взгляд лишь скользнул по глянцу.
– Посмотри. Посмотри, какая линия.
Он провел указательным пальцем по линии позвонков под шелковой мраморной кожей от поникшей головы до округлых ягодиц, очертил полумесяц, тающий во мраке и во мрак исходящий светом. Двойственный жест: исключительно наставительный и невозможно чувственный. Фредерика проследила палец и увидела статую.
Ей хватило остроты сознать, сквозь волнение от близости Александра, что ее впервые заставили увидеть зримое произведение искусства. Это молчаливое чувственное постижение, столь явно привычное Александру, было ей совершенно ново. Никогда еще, подумала она, не доводилось ей смотреть на картину, скульптуру, даже вид из окна без словесного аккомпанемента, а то и перевода. Языковые законы вживлены были ей под кожу. Дело Билловых рук, разумеется. Это он описывал Фредерике первые произнесенные ей слова, пел их ей, гордо при ней повторял знакомым, невольно украшая и улучшая. А еще читал ей, читал, читал…
Искусство, рожденное не из языка, не занимало его. В том, что касалось цвета, света, несловесного звука, он превращался в обывателя-резонера из собственного приходского прошлого. Он не сказал бы этого прямо, но каждым жестом, каждой оценкой давал понять, что все это необязательная и легковесная роскошь, в лучшем случае – придаток цивилизации, основанной на иных началах.
Поэтому, с младых ногтей усвоив, что «Лир» правдивее и мудрее всего на свете, Фредерика ни разу не поразилась жизни настолько, чтобы спросить себя: зачем писать пьесу, вместо того чтобы прямо глянуть в глаза мрачным истинам старости, болезни, нечестивых дочерей, безумия, злобы, смерти? Зачем сочинять «О ветер западный…»[100], если можно лежать в объятиях возлюбленной или предаваться сладкой тоске разлуки?
Не зная иного, она считала, что стих и пьеса – значительней того, что призваны изобразить. Но вот Александр привычно явил ей Данаиду, и незнакомое чувство заставило ее задуматься: есть те, кто предпочтет изваять из камня женщину, и с ней мужчину или еще одну женщину, предпочтет стоять и смотреть на этот камень, чем заняться… чем угодно еще. Дома она вообразит другие сцены на этом диване и Александров палец, скользящий вдоль ее позвонков, но здесь ей хватило сметки: воображаемых нег покамест достаточно с лихвой. Она отодвинулась, прежде чем он успел пожалеть о каком-либо из своих жестов, – деликатность для нее редкая.
Александр раскаялся мгновенно. Он знал, каково это – что-то людям показывать, особенно то, что принадлежит тебе. Все равно что дарить. Дженни он показывал Данаиду, говорил с ней о загадках камней, пока они перебирали и разглядывали его курганчик. Она, в отличие от Фредерики, щедро всем восхищалась, быстро передружилась со всеми его вещами, различала камешек от камешка, находила эпитеты для белого отчаяния Данаиды. Дженни знала, что это отчаяние. Она приносила ему сюда разные вещички. Луковицы, цветшие в веджвудских чашах, принесла она, и плакала, освобождая их от бумаги: куплены на деньги Джеффри, ничего нет у нее своего, чтобы подарить Александру. Александр провел пальцем по мужам и девам на боку чаши и остановился перед «Мальчиком с трубкой». Тут была тайна – тайная его усмешка.
У Мальчика на голове корона из пыльных, рыжих, распутных роз. Он сидит, прислонясь к глиняной стене, расписанной бледными и пышными букетами. Лицо у него чисто и просто точенное, угластое, порочное, оценивающее. На нем тесная синяя куртка и штаны. Колени раздвинуты. Смятение пола: в паху глубокие складки и твердая выпуклость. Он может быть кем угодно, а вероятнее – всем сразу. Одну руку он свободно опустил между ног. Другой сжал короткую, ладную трубку и странным движением указывает себе в грудь. Никто из приходивших к Александру не замечал этих вполне очевидных вещей, не советовал убрать картину, как другим советовали спрятать подальше обнаженную Гогена или шлюху Лотрека. Может быть, потому, что Мальчик по смежности примыкал к группке Комедиантов, пестрых существ меж землей и небом, причастных тому и другому, переменчивых, бесплотных.
Александр знал, что он такое – этот Мальчик. И знал, что такое он сам, являющий Данаиду огненным девчонкам, но зрящий Мальчика как тайный знак. Мальчик не был ему желанен. То, что испытывал к нему Александр, ближе всего лежало к жгучей, нестерпимой зависти.
11. Действующие лица и оформители
Бесшумно – лоскутками и лентами, пестро́ – бусами, перьями, блестками пьеса оккупировала дом викария Элленби.
В прошлом году блесфордские дамы пти-пуаном[101] вышивали подушечки для преклонения колен, украсившие скамьи в церкви Святого Варфоломея. Кремовые, охряные лилии и рыбы на неброском фоне цвета хаки. Чтобы не видно было грязи.
Десять лет назад они собирали одежду для эвакуированных, карманные книги для солдат, вязаные шерстяные квадратики, что пойдут на одеяла для пострадавших от авианалетов.
В этом году они сооружали фижмы.
В Лондоне тем временем тысячи мелких жемчужин и хрустальных бусинок крепили на плотный белый атлас, и мерцание окутывало коронационное платье Елизаветы II. Цветными шелками вышивали по подолу эмблемы Содружества и Империи, розы и чертополохи, кленовые листья и желуди.
Фелисити Уэллс, заведуя костюмно-бутафорскими приготовлениями в Блесфорде, ощущала себя на пересечении бесконечных нитей старой и современной культуры, которые связывались по-новому, сплетались в новую ткань. В передней викария и на церковных ступенях стояли корзины для всего красивого и редкого, что могли уделить для постановки местные жители. На вышивальных курсах крохотные жемчужинки из пластика сажали расходящимися лучами на черный бархатный плащ сэра Уолтера Рэли. Серебряными лунами, золотыми птицами, алыми и белыми розами расшивали длинные платья, шлейфы, пышные расходящиеся мантии в пол. Скручивали ленточки в пионы и колоски для украшения вышитых подвязок.
– Мы все стосковались по ярким цветам! – воскликнула мисс Уэллс, высыпая на ковер содержимое сумки; новенькие катушки с вышивальной нитью, блестя, посверкивая, постукивая, раскатились россыпью тонов и оттенков. – Упоение! Признаюсь, Стефани: я всегда хотела целый ящик в комоде набить катушками, но до сих пор не было повода.
С самого начала Стефани решила держаться от пьесы как можно дальше. Ей с лихвой хватало Фредерикиных перипетий. К тому же именно оттого, что это была пьеса Александра, ей не хотелось выставляться, напоминать о себе (то ли скрытность, то ли род апатии). И если по вечерам в комнатке мисс Уэллс она сплетала позумент из золотых шнуров или на велосипеде катила через пустошь сообщить, что нужен китовый ус для фижм или линобатист для брыжей, то потому лишь, что не могла отказать Фелисити.
Как-то само собой повелось, что Дэниел свободные вечера проводил с ними. Женщины шили, а он, неспособный сидеть без дела, заваривал чай и мыл посуду.
С Дэниелом меж тем творилось неладное. Он оказался прав: Стефани, пару раз попробовав посидеть с Малькольмом, теперь приходила уже каждую неделю, чередуя субботу с воскресеньем. Мать, миссис Хэйдок, рыдала в комнате у Дэниела: от облегчения, от страха, что это закончится, от чувства вины перед Стефани и Малькольмом, которые нашли, похоже, способ переживать вместе эти невидимые для других часы.
– Это чудо, – твердила миссис Хэйдок. – Когда с ним мисс Поттер, в доме такая чистота. Просто стыд берет, как вспомню, что у нас-то с ним творится. Он ведь все крушит: как ни зайди, осколки, мука, грязь, а иногда и похуже. Конечно, мисс Поттер тоже убирать приходится: то он у нее чашки побьет, то бутылки от молока… Но у них всегда так тихо и опрятно, мистер Ортон… В дом приходишь, как в дом, нет этого шума вечного, не нужно сразу все по новой отмывать. И правда совестно: у мисс Поттер все так ладится, она так умеет себя поставить, а я…
– Вы его мать, – отвечал Дэниел. – Он вас знает, поэтому ведет себя по-другому. Мисс Поттер-то приходит раз в неделю. Но она, конечно, сокровище, и я очень рад, что у вас с ней ладится.
Несколько раз он заходил посмотреть, как Стефани управляется с Малькольмом. Это, собственно говоря, было даже его обязанностью. Обычно она и мальчик сидели, погруженные каждый в свою отдельную тишину. Стефани – в кресле, сложив руки на коленях, Малькольм, как всегда, когда не был судорожно активен, – в углу, на полу, ритмично и поочередно ударяя головой в сходящиеся стены. Тишина была такая, что Дэниел вдруг оробел и не осмелился ее нарушить. Однажды бодрым пасторским голосом он спросил Стефани, как ей удается удерживать мальчика в спокойном состоянии. Она ответила: нужно совсем-совсем замереть и, как взгляд, отвести внимание в сторону. Мальчик за тобой повторит, и вы, отрешившись, спокойно высидите положенное время. Наверно, нужно как-то с ним общаться, занимать его, но она этого не умеет, не знает, как приступиться. По крайней мере, так он не наносит вреда.
– Да, вреда никакого, – подтвердил Дэниел.
Глядя на нее с мальчиком, сидя по вечерам в комнатке мисс Уэллс, Дэниел пришел к мысли, что вольно или невольно Стефани обращается с ним как с Малькольмом: отрешается, замыкает внимание, замыкает его в молчании. Вот она здесь, но ни единое его слово к ней не проникнет. Глухую и гладкую преграду возводит она, что-то вроде зеркального стекла. Не знаю, говорил он себе, зачем я вообще сюда хожу.
Но он, разумеется, знал. Он был ею одержим и плохо подготовлен к столь нерациональному состоянию души. Уже долгие годы он не видел себя иначе как орудием к достижению цели. Теперь же он думал о ней непрестанно, а если неистовым усилием изгонял ее образ из своей церкви или своей спальни, то становился непереносимо чуток к движениям собственной души. Он пытался увидеть себя ее глазами и не мог. Одна за другой таяли незыблемые правды. Пересматривая свою жизнь, Дэниел задумывался: вполне ли он нормален, раз до сей поры не испытывал ничего подобного. «Нечистые мысли» прежде не мучили его. Онанизм давал облегчение, и Дэниел с редкой для его поколения мудростью считал себя вправе: это было быстрое и практичное удовлетворение биологических нужд. До Стефани его одинокие утоления почти никогда не сопровождались ничем зрительным. Теперь он порой слышал жалобный отзвук собственного голоса, обычно твердого, – просящего ее о какой-то милости. От этого отвращалась душа.
А потом ему стало трудно с Богом. Он никогда не имел и не желал личной связи с Ним. Молясь, никогда не говорил с Ним собственными словами. Церковные слова, как церковные камни, были всегда к его услугам. Молитва была способ знать, что есть нечто несметно больше и сильнее его, чувствовать, как бьют и стремят силы за пленкой его восприятия.
Его Христос знал, что за сила поддерживает в воздухе воробья, и прощал беспечность полевым лилиям[102]. Этот Христос проповедовал сокрушительный здравый смысл, говорил прямо, не спускал ханжам и суесловам, острыми речениями вскрывал машинерию души и божественной справедливости. Этого Христа он любил, но никогда Ему не молился, ибо, не зная наверняка, чувствовал все же, что Он мертв.
Но его личные чувства ничего не значили рядом с незыблемой силой и цельностью, что он ощущал в Боге. А теперь меж ним и Богом встала она, и Бог сделался труден, и вернулось детское чувство удавьего, обездвиживающего жира.
Он готов был избить ее. Сломать.
Он приходил, потому что в одной с ним комнате она хотя бы уменьшалась до человеческих размеров, вмещалась в это вот примелькавшееся кресло. То была, конечно, не единственная причина. Раз не миновать ему вожделеть к ней во плоти, пусть плоть будет рядом: не в его правилах спасаться бегством. И вот он сидел с ней рядом в своих черных жарких брюках и мучился.
Мисс Уэллс находила собственное удовольствие в обществе этих двоих. Она их и баловала, и поучала, и все глядела своим темным, печальным, размытым взглядом. Комната была ее, и помощником режиссера, если можно так выразиться, выступала она. Это устраивало всех троих.
Однажды Стефани вошла и увидела, что в последнем свете, проникшем в мансардное окно, ее подруга стоит на одной ноге на вершине кособокой лестницы, составленной из словаря, пуфа, журнального столика, кровати и стола повыше. На ней была неохватная юбка с подъюбницей из блестящей синевато-зеленой занавесочной ткани. Фелисити захватила подола сколько смогла (крохотные кулачки, толстые комки материи) и приподняла на вытянутых руках. Ее голову украшали округлый тюдоровский чепец с жемчугом по канту и вуаль грубой кисеи, призванная прикрывать волосы, но сейчас несколько перекошенная.
Мисс Уэллс предстояло сыграть даму в толпе прочих верных – сперва в сцене коронации Елизаветы, потом в сцене скорби по ней. Она улыбнулась Стефани со своего возвышения:
– Вот проверяю: смогу ли ступать изящно при полном параде…
За спиной у Стефани темно навис Дэниел. Мисс Уэллс взмахнула ручками, качнулась и рухнула на кровать. Девчоночьи смеясь, барахтаясь в волнах материи, наугад нащупывала слетевший шиньон. Дэниел громыхал хохотом.
– Вот негодник! Как напугал… Надеюсь, в меня нигде булавки не воткнулись. Знала я, что с этими фижмами на лестнице будет беда. Отдельно учиться придется. Стефани, детка, дай руку.
Стефани потянула, и довольная мисс Уэллс пряменько села среди моря юбок, усмиряя на голове проволоку, кисею, волосы собственные и накладные. Нагнулась к проволочному каркасу, прищелкнула языком с пародией на досаду:
– Коварное сооружение – фижмы!
Стефани с грустью смотрела на нее. Маленькая, плоскогрудая, запыхавшаяся… И эта истончавшая кожица в глубоком вырезе, нежнейший, чуть складчатый шифон – вот-вот пойдет морщинами. Дэниел, большой и медвежий, схватил Фелисити и легонько поставил на ноги. Оба они смеялись. Стефани подобрала ее длинный подол.
Комнатка у мисс Уэллс была крохотная, вся прихорошённая – эфемерное жилье, птичья ветка. Книжные шкафы викторианские, черные, с фрезерованным готическим кантом в виде бусин. Должно быть, такая примерно готика и расшатала столь основательно состояние молодого Теннисона[103]. На полках и выступах шкафов приютилось пестрое сборище вещиц.
Подсвечники резного стекла, чайная баночка, расписанная розами старинного пышного сорта «глуар дэ дижон», игольная подушечка японского шелка, медный раструб индийской вазы с двумя павлиньими перьями, три сухарницы (круглобокая стеклянная, фарфоровая в цветочек с плетеной ручкой, деревянная вроде бочонка с медными шишечками), шкатулка для рукоделья флорентийской кожи, ножницы-цапельки (концы – клюв, эмалевые кольца – шагающие ноги), миниатюрная бело-синяя чашечка дорогой марки «Споуд», шесть чашек попроще, из «Вулвортс», сахаристо-розовых, с серым отливом, горстка крестильных ложек с фигурками апостолов на ручке, полбуханки хлеба, полбаночки лимонного крема[104], стопка счетов, придавленная гипсовым слепком чьей-то руки, распятие черного дерева с серебром, вязаный берет, пакетик с фильдеперсовыми чулками, пузырек чернил, красные карандаши в банке из-под джема, вербочка и пасхальный крестик из Святой земли…
Все эти вещи Стефани выучила наизусть. У нее была неприхотливая, всеядная, поместительная память. В детстве она даже Фредерику побивала в игре, когда на подносе раскладывают предметы, накрывают чайным полотенцем, на секунду показывают тебе и снова прячут. И всегда она запоминала не только ложки, ножницы, будильники, шнурки, маргаритки и стеклянных зверьков, но даже и узор на подносе. Перед сном трудно бывало вычистить ненужное, накопившееся за день, – все то, что забивало ей ток мыслей, пестрыми призраками мреяло под веками. Иногда, чтобы уснуть, приходилось вызывать воспоминания одно за другим и стирать, превращая на краткий срок мысленный горизонт в tabula rasa. Но даже и тогда наутро бесконечной лентой плыли разрозненные образы, и каждый требовал быть вспомненным до последней точки.
Пока она не начала преподавать, то думала, что в этом нет ничего необычного, что всех осаждают рои полезных, но здесь и сейчас не применимых сведений и образов. В те дни обучение равнялось тренировке памяти, и непамятливым ученикам приходилось нелегко. Позже, когда мыслители, историки и обыватели решили обойтись без утомительной зубрежки, без понятия о преемственности, временной, языковой или эстетической, когда искусство и политика сосредоточились на современности и будущности, такие навыки, как у Стефани, уже не ценились, они высмеивались и даже порицались. Подобно портняжной моде, существует мода и на повадки мышления. Хранилища памяти вышли из моды вскоре после событий, описанных в этой книге и более или менее совпавших с коронацией Елизаветы II. Так театры памяти умерли вместе с Ренессансом. С исчезновением хранилищ памяти ушли произведения искусства, сами бывшие такими хранилищами, ушли традиции и индивидуальный талант, Библия, Пантеон, осознание, что на других языках люди думают по-другому. В антикварном гипермаркете или в блошиных рядах на подносах черного и светлого лака, медных и с инкрустацией вы, вероятно, видели горки намытых временем вещиц вроде тех, что наполняли комнатку Фелисити Уэллс. Но вы не смогли бы увидеть их так, запомнить их в согласии или хаосе так, как Стефани в 1953 году.
Обитель мисс Уэллс всегда была украшена тканями. На столе кружевная скатерть, с кровати свесилось камчатное покрывало, на лампы для таинственного уюта наброшены куски золотисто-красного шелка, обшитые по краям золотыми бусинами-грузиками. Сейчас же комнатка была устлана, выстлана, набита: ткани лежали грудами и отрезами, недошитые костюмы глядели ярко и блестко.
Стефани все это видела двояко: с прозорливой ясностью и пристальной дотошностью. Она умела различить замысел и не упустить мелочей воплощения. Ей ясен был масштаб великолепий, манивших того, кто гарнитур в стиле Людовика XVI втискивал в лилипутскую гостиную, где на стенах декоративная штукатурка как крем на торте. Ясен и современный лаконизм, ради которого, калеча исходные линии, на добротные фасады викторианских кухонь лепили хлипкую фанеру, а солидные латунные и фарфоровые ручки меняли на «геометричную» пластиковую мелочь «ярких и чистых цветов». Конечно, Стефани прозревала упоительную, мерцающую тайну и россыпи дивных вещиц, мечтавшиеся Фелисити. Прозревала и глубже: страстное желание воплотить здесь и сейчас цельность, жизнелюбие, чуткость к материалу, навек утраченные вместе с Золотым Веком. Видела, как журнальное фото настоятеля Вестминстерского собора в мантии с коронации Карла II, вынутой из-под спуда по случаю коронации Елизаветы II, и бутафорская мантия на вешалке-штанге, и колоратка-«ошейник» Дэниела рождают у Фелисити счастливое чувство совпадения и даже слияния великого прошлого и деятельного настоящего.
Видела, но разделить не могла. Потому что видела и другое: яхонты на бутафорской мантии – из цветных бутылочных крышечек, а Дэниел одинаково равнодушен к церемониям классическим, мистическим или одобренным Высокой Церковью[105]. Она видела трещинки на чашках и дырочки на чулках. Не ее дело было создавать из них новое целое. Она просто смотрела.
Дэниел отнес чайник к печке на лестничной площадке и вскипятил воду. Вернулся и, преклонив колена перед Стефани, бережно поставил чайник в камин. Мисс Уэллс, царственно восседавшая теперь в своих псевдошелковых робах, рассказывала Стефани о символике цвета в одежде елизаветинской поры. Тогда каждая вещь имела собственное значение, цвета можно было читать, как книгу. Желтый означал радость, но лимонный – ревность. Белый – смерть. Молочный – невинность. Черный значил траур, оранжевый – досаду, телесный – сладострастие. Красный был бунт, золотой – алчность, соломенный – изобилие. Зеленый – надежда, но морская волна – переменчивость. Фиолетовый – религия, вердигри[106] – отречение. Что до собственного платья мисс Уэллс, то оно, увы, намекало на непостоянство и уже успело проявить свою неблагонадежность.
Дэниел скептически отнесся ко всем этим таинствам.
– Как, – спросил он, – обычный человек отличал белый от молочного или тем паче соломенный от желтого, лимонного и золотого?
– И почему тогда Карлейль, – вставила Стефани, – говорил о неподкупности морской волны?[107]
– То были другие времена. Ценились простые цвета, без тонов и оттенков. Желтый, синий, алый, зеленый. Смешанные цвета почти всегда связывали с непостоянством и пороком. Мир поэтому был тогда ярче. Карлейль романтик, и море для него – сила природы. А елизаветинцы отводили природе второе место. На первом стоял человек с его правдой. Простой цвет был для них слишком труден.
– Поразительно: такая точность и тонкость, – восхитилась Стефани.
– Заумно как-то, – отвечал Дэниел.
Мисс Уэллс засмеялась, шаловливо глядя на него:
– А знаете, почему публичные женщины носили зеленое? Причина довольно забавная.
Забавная причина оказалась в том, что, если женщину валили на траву, на зеленом не видно было пятен. А еще зеленый – цвет женихов. Цвет повадливой, сладостной весны. Она легонько вздохнула, перевела взгляд с Дэниела на Стефани… И такие очаровательные слова нашел язык для зеленого: муравный, бисквитный, выдровый, цвет гусиного помета. В те дни даже крой платья был полон смысла. На заре Тюдоровской эпохи мужчины и женщины охотно отдавали дань полу. Могучие плечи и торсы. Пышные бедра для благодатных родов, щедро открытая грудь: смотри, оценивай. Но со временем возобладал гротеск. Появились необъятные дублеты с подбитыми брюшками и торчащими монструозными гульфиками. Фижмы и брыжи, за которыми не видно было человека и сам он видел с трудом. Одежда сделалась узилищем тела. А для женщины – еще и знаком принадлежности мужчине. Роскошью женщину обездвиживали, как стреноженную лошадь. Пол из очевидного сделался символическим. Символы подкрепляли проволокой и набивали конским волосом. И посреди всего – королева, старая, крашеная, подмазанная, с неназываемым сосудом под фижмами.
Мисс Уэллс порозовела, как и пристало ученой даме, педантично разбирающей приземленные материи. Дэниел поддержал тему, спросив про особые сиденья в парламенте для господ в панталонах, слишком уж пышно подбитых шерстью. Священники вечно пытаются доказать, что ничто животное им не чуждо, раздраженно подумала Стефани.
Ближе подбиралась темнота. Газовый камин ревел, сыпал искрами, раскалялся. Дэниел смотрел на Стефани: туда, где над самой грудью встречаются пуговка с петлей, где икра в блестящем нейлоне выглядывает из волн подшиваемого шелка. Дэниел горел. Мисс Уэллс смотрела, как он горит.
– Одежда, роскошь… – с недобрым подспудным жаром проговорил он. – Природа роскоши не требует, а только заботы о тепле – «Король Лир»[108].
– Жаль, Стефани, что ты не слышала в прошлое воскресенье, как Дэниел в проповеди цитировал «Лира», – сказала мисс Уэллс. – Он говорил о старости…
Стефани, не поднимая глаз, ответила:
– Насколько мне помнится, Дэниел «Лира» не читал.
– Мне указали на мой промах, и я его восполнил.
(Он хотел поговорить с ней о «Лире», но теперь, конечно, уже не мог. А проповедь вышла неплохая: сумел выговорить то, что хотел.)
– «Неприкрытый человек»…[109] – сказала мисс Уэллс, заполняя молчание. – Но вы как священник понимаете, что любая одежда имеет скрытый смысл.
– Часто костюм священника – как дурной запах или сыпь на коже. Бывает, я захожу в вагон, и люди потихоньку начинают выходить. Я его ношу, потому что, раз есть устав, нужно соблюдать. Но радости мне от этого нет.
Его слова привлекли женское внимание собеседниц к его телу, тут и там выпирающему из лоснящегося от старости костюма. Дэниел взмок. Из-под мышек бежали струйки. Ему казалось, что лоб у него сейчас блестит не хуже, чем затертое сиденье его брюк. Ему казалось, над ним смеются.