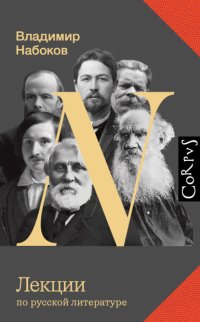Читать онлайн Взгляни на арлекинов! бесплатно
- Все книги автора: Владимир Набоков
Copyright © 1974, Dmitri Nabokov
All rights reserved
© А. Бабиков, перевод, статья, комментарии, перевод фрагментов писем, 2013, 2023
© Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023
© ООО «Издательство Аст», 2023
Издательство CORPUS ®
* * *
Посвящается моей жене
Часть первая
1
Первую из трех или четырех своих жен, сменявших одна другую, я встретил при довольно странных обстоятельствах, развитие которых напоминало неуклюжий тайный сговор, с никчемными подробностями и главным крамольником, не только не имевшим представления относительно его истинного предмета, но еще настаивавшим на совершении бессмысленных действий, исключавших, казалось бы, малейшую возможность успеха. И все же из самих этих промахов ему невольно удалось сплести паутину, в которую ряд моих ответных оплошностей заставил меня угодить и выполнить предназначение, составлявшее единственную цель заговора.
Как-то во время весеннего триместра моего последнего года в Кембридже (1922) я согласился, «будучи русским», разъяснить кое-какие тонкости в устройстве гоголевского «Ревизора». Его готовила к постановке, в английском переводе, театральная группа «Светлячок», руководимая Айвором Блэком, талантливым актером-любителем. У нас был общий наставник в Тринити-колледже, и он едва не свел меня с ума, без конца изображая жеманные ужимки старика, – спектакль, продолжавшийся почти все время нашего завтрака в «Питте». Короткая деловая часть разговора вышла еще менее приятной. Айвор Блэк намеревался облачить Городничего в утренний халат, поскольку «вся пьеса ведь просто дурной сон старого пройдохи, и разве ее русское название, “Ревизор”, не происходит от французского rêve – сон?». Я сказал, что, на мой взгляд, это кошмарная идея.
Если и были репетиции, они прошли без моего ведома. Собственно, как мне только что пришло в голову, я не уверен даже в том, что его постановка когда-либо предстала перед огнями рампы.
Вскоре после этого я встретился с Айвором Блэком во второй раз – на какой-то вечеринке, во время которой он пригласил меня и еще пятерых человек провести лето на Лазурном Берегу на вилле, только что унаследованной им, как он сказал, от престарелой тетки. Он тогда едва стоял на ногах, и неделю спустя, накануне своего отъезда, выглядел весьма озадаченным, когда я напомнил ему о его дивном приглашении, каковое, как оказалось, лишь я один и принял. «Мы с тобой – двое никому не нужных сирот, – заметил я, – и нам лучше держаться вместе».
Болезнь заставила меня провести в Англии весь следующий месяц, и только в начале июля я послал Айвору Блэку вежливую открытку с извещением, что я могу прибыть в Канн или Ниццу на следующей неделе. Я почти уверен, что упомянул субботу, вторую половину дня, как наиболее вероятное время приезда.
Попытки телефонировать со станции ни к чему не привели: линия оставалась занятой, а я не из тех, кто упорствует в борьбе с дефектными абстракциями пространства. Однако мой полдень был испорчен, притом что полуденное время у меня любимый пункт в повестке дня. В начале своего долгого путешествия я убедил себя, что мне уже много лучше; теперь мое состояние было ужасным. День выдался не по сезону пасмурным и унылым. Пальмы не раздражают только в миражах. По какой-то причине таксомоторов, как в дурном сне, было не сыскать. В конце концов я забрался в маленький провонявший автокар из синей жести. Поднимаясь по петлистой дороге, со столькими же поворотами, сколько было остановок «по требованию», штуковина на колесах дотащилась до моей цели за двадцать минут – и приблизительно за то же время я добрался бы туда пешком от взморья по легкому короткому пути, который я тем волшебным летом выучил наизусть: камень за камнем, ракитник за акатником. Оно казалось каким угодно, только не волшебным, во время той безрадостной поездки! Я согласился приехать главным образом в надежде утихомирить в «лощеных волнах» (Беннетт? Барбеллион?) нервное расстройство, окаймлявшее безумие. Левая сторона моей головы теперь превратилась в кегельбан боли. С другой стороны из-за спинки переднего кресла на меня поверх материнского плеча глазело тупое дитя. Я сидел рядом с покрытой бородавками женщиной во всем черном и сглатывал тошноту, качаясь между зеленым морем и серой скалой. К тому времени, как мы наконец доехали до деревни Карнаво (облезлые стволы платанов, живописные лачуги, почта, церковь), все мои мысли сосредоточились на одном золотистом образе: бутылке виски у меня в сумке, которую я вез в подарок Айвору Блэку и которую я поклялся откупорить до того, как она попадется ему на глаза. Шофер оставил без внимания мой вопрос, но похожий на черепаху маленький пастор с большущими ступнями, сходивший первым, указал, не глядя на меня, на боковую аллею. До виллы «Ирис», сказал он, идти три минуты.
Лишь только я взялся за две свои сумки, чтобы двинуться по этому проулку к треугольнику неожиданно выглянувшего солнца, как на противоположном тротуаре показался мой предполагаемый хозяин. Помню – и это полвека спустя! – что я вдруг усомнился: а подходящую ли одежду я взял с собой? На нем были брюки гольф и грубые башмаки, но несообразно с этим недоставало чулок, и обнаженные части голеней были отчаянно-красными. Он шел на почту или сделал вид, будто идет на почту, чтобы послать мне телеграмму с просьбой отложить свой приезд до августа, когда служба, которую он получил в Каннице, не будет более препятствовать нашим увеселениям. Он, сверх того, надеялся, что Себастьян – кем бы он ни был, – возможно, все еще приедет к сезону винограда или на бал лаванды. Бормоча все это себе под нос, он взял у меня из рук меньшую ношу – ту, в которой были туалетные принадлежности, медикаменты и почти завершенный венок сонетов (посланный в конце концов в один парижский эмигрантский журнал), а затем схватил и саквояж, который я поставил на панель, чтобы набить трубку. Полагаю, что такая повышенная внимательность к мелочам объясняется тем, что они случайно оказались в освещении передовых лучей грядущего великого события. Айвор нарушил молчание и, хмурясь, добавил, что он счастлив принимать меня в своем доме, но что он должен меня кое о чем предупредить – о чем следовало сказать еще в Кембридже. К концу недели или около того я могу взвыть от тоски из-за одного грустного обстоятельства. Его бывшая гувернантка, мисс Грант, бессердечная, но умная особа, любила повторять, что его младшая сестра никогда не нарушит правило, гласящее, что «детей не должно быть слышно», да, собственно, никогда это правило и не услышит. Грустное обстоятельство состояло в том, что его сестра… впрочем, он лучше отложит изложение ее случая до тех пор, пока мы с поклажей не доберемся до дома.
2
«Что за детство было у тебя, Макнаб?», как Айвору нравилось меня называть, поскольку, как ему казалось, я походил на одного осунувшегося, хотя и смазливого молодого актера, взявшего этот псевдоним в последние годы своей жизни, или, по крайней мере, славы.
Чудовищное, невыносимое. Должен существовать всепланетный, междупланетный закон против такого нечеловеческого зачина жизни. Если бы в возрасте девяти или десяти лет мои болезненные страхи не сменились более абстрактными и избитыми тревогами (проблемами бесконечности, вечности, идентичности и т. п.), я бы утратил рассудок задолго до того, как обрел свои рифмы. Речь не о темных комнатах, или однокрылых агонизирующих ангелах, или длинных коридорах, или кошмарных зеркалах, с отражениями, растекающимися грязными лужицами на полу, – нет, то была не такого рода опочивальня ужасов, но, проще и намного страшнее, мне не давала покоя некая коварная и прочная связь с иными состояньями бытия, не именно «предшествующими» или «грядущими», а вовсе вне границ и пределов, говоря языком смертных. Мне предстояло узнать больше, гораздо больше об этих ноющих сочленениях только несколько десятилетий спустя, так что «не будем опережать события», как сказал приговоренный к смертной казни, отвергая засаленную наглазную повязку.
Услады юности даровали мне временное облегчение. Я был избавлен от угрюмого периода самоублажения. Будь благословенна моя первая незабвенная любовь, дитя в вертограде, пытливые забавы – и пять ее расставленных пальцев, с которых капают жемчужины изумления. Гувернер позволил мне разделить с ним инженю из частного театра моего двоюродного деда. Две молодые развратные леди нарядили меня однажды в кружевную женскую сорочку и парик Лорелеи и, как в скабрезной новелле, уложили «маленькую стыдливую кузину» спать между собой, пока их мужья храпели в соседней комнате после кабаньей охоты. Усадьбы разных родичей, у которых я время от времени гащивал в своей ранней юности под палевыми летними небесами в той или иной губернии прежней России, предоставляли мне столько податливых горничных и светских кокеток, сколько могли бы предложить чуланы и будуары двумя столетиями раньше. Словом, если годы моего детства могли бы послужить предметом для диссертации, способной принести какому-нибудь педопсихологу пожизненную славу, моя юность, с другой стороны, могла бы преподнести, и, в общем, преподнесла, урожай немалого числа эротических пассажей, рассыпанных здесь и там, как подгнившие сливы и потемневшие груши, в книгах стареющего романиста. Собственно, ценность настоящих мемуаров в значительной мере обусловлена тем, что они являют собой catalogue raisonné[1] источников и начал и занятных родовых каналов многих образов моих русских и особенно английских книг.
С родителями я видался редко. Они разводились, вновь женились и разводились столь стремительно, что если бы хранители моего состояния были чуточку менее бдительны, меня бы в конце концов спустили с молотка чете каких-нибудь неизвестных родичей по шведской или шотландской линии – со скорбными мешочками под голодными глазками. Моя двоюродная бабка, баронесса Бредова, урожденная Толстая, женщина незаурядная, с лихвой заменила мне более близкую родню. Ребенком семи или восьми лет, уже таившим в себе зачатки закоренелого безумца, я даже ей, которая сама была далека от нормы, казался чересчур уж мрачным и апатичным; на деле я, разумеется, вовсю грезил наяву самым возмутительным образом.
«Будет тебе киснуть! – восклицала она, бывало. – Взгляни на арлекинов!»
«Каких арлекинов? Где?»
«Ах, повсюду. Вокруг тебя. Деревья – арлекины, слова – арлекины. А также числа и ситуации. Сложи вместе две вещи – курьезы, отраженья, – и ты получишь тройного арлекина. Давай же! Играй! Создавай мир! Твори реальность!»
И я творил. Клянусь Богом, я творил. В память о своих первых фантазиях я сотворил эту свою двоюродную бабку, и вот она сходит по мраморным ступеням парадного крыльца памяти, медленно приближаясь, бочком, бочком, бедная хромая дама, пробуя край каждой ступени резиновым наконечником своей черной трости.
(Когда она выкрикнула три этих слова – «Взгляни на арлекинов!», – они прозвучали стихотворной скороговоркой, слегка невнятно, и так, как если бы «зглянина», созвучная с «ангиной», нежно и вкрадчиво подготовляла появление этих задорных арлекинов, у которых ударная «ки», подчеркнутая ею в порыве вдохновенного убеждения, была как звонкая монетка среди конфетти безударных слогов.)
Мне было восемнадцать, когда грянула большевистская революция – глагол сильный и неуместный, согласен, примененный здесь исключительно ради ритма повествования. Рецидив моего детского нервического расстройства продержал меня в Императорской санатории в Царском большую часть зимы и весны. В июле 1918 года я оправлялся от болезни, уже находясь в замке своего дальнего родственника, польского землевладельца Мстислава Чарнецкого (1880–1919?). Как-то осенним вечером молодая возлюбленная бедного Мстислава показала мне сказочную тропу, вьющуюся через дремучий лес, в котором первый из Чарнецких пронзил последнего зубра при Яне III (Собеском). Я пустился в путь по этой тропе с рюкзаком за спиной и – почему не признаться? – с тревогой и муками раскаяния в юном сердце. Хорошо ли я поступил, бросив кузена в чернейший год черной русской истории? Знал ли я, как прожить одному в чужих краях? Был ли диплом, выданный мне особой комиссией (возглавляемой отцом Мстислава, почтенным и продажным математиком), спросившей меня по всем предметам того идеального лицея, который я во плоти ни разу не посетил, пригодным для поступления в Кембридж без всяких инфернальных вступительных экзаменов? Всю ночь я брел через лунный лабиринт, воображая шорохи вымерших зверей. Наконец лучи зари раскрасили киноварью мою древнюю карту. Когда я решил, что уже, должно быть, пересек границу, меня окликнул красноармеец с монгольским лицом и непокрытой головой, обиравший у тропы кусты черники. «Эх, яблочко, куда ты котишься? – спросил он, подхватывая с пенька фуражку. – Показывай-ка документики».
Я полез в карманы, выудил то, что требовалось, и застрелил его наповал, когда он ринулся ко мне; он упал навзничь, как сраженный солнечным ударом солдат на плацу – к ногам своего короля. Ни один ствол дерева в плотной шеренге не шелохнулся, и я бросился бежать, все еще сжимая в руке прелестный миниатюрный револьвер Дагмары. Только полчаса спустя, когда я наконец вышел на другую сторону леса в более или менее приемлемой республике, только тогда поджилки у меня перестали трястись.
После периода праздного шатания по не задержавшимся в памяти немецким и голландским городам я перебрался в Англию. Моим следующим адресом был маленький лондонский отель «Рембрандт». Несколько мелких бриллиантов, хранившихся у меня в замшевом мешочке, истаяли быстрее градин. В сером преддверии нищеты автор, в ту пору добровольно покинувший родину юноша (переписываю из старого дневника), нежданно-негаданно обрел покровителя в лице графа Старова, важного старосветского масона, который во времена обширных международных сношений украшал собой несколько великих посольств, а с 1913 года осел в Лондоне. Он говорил на родном языке с педантической точностью, не пренебрегая случаем ввернуть звучное простонародное словцо. Чувство юмора у него отсутствовало напрочь. Прислуживал ему молодой мальтиец (терпеть не могу чай, а спросить бренди я не решился). По слухам, Никифор Никодимович, если воспользоваться именем, данным ему при крещении, вкупе со столь же неблагозвучным отчеством, годами вздыхал по моей матушке, эксцентричной красавице, о которой я имею представление главным образом из шаблонных фраз в анонимных мемуарах. Grande passion[2] порой служит лишь удобной маскировкой; с другой стороны, одним только благородным почитанием ее памяти и можно объяснить, почему он взял на себя расходы по моей учебе в Англии и оставил мне после смерти в 1927 году небольшое пособие (большевицкий coup[3] разорил его, как и весь наш род). Должен признаться, однако, что мне бывало не по себе от быстрых пламенных взглядов его обычно мертвенных глаз, помещавшихся на широком, сыром, благообразном лице того типа, который русские писатели привыкли называть «тщательно выбритым», – несомненно, оттого, что призрачные патриархальные бороды все еще развевались в воображении читателей (теперь давно почивших). Я постарался свести эти вопросительные вспышки к поиску некоторых индивидуальных черт элегантной женщины, которой он как-то давным-давно помог подняться в calèche[4] и к которой, подождав, пока она устроится и раскроет парасоль, грузно присоединился в этой рессорной коляске; в то же время я не мог запретить себе гадать, избежал ли мой старый сановник извращения, столь распространенного некогда в так называемых высших дипломатических кругах? Н.Н. сидел в покойном кресле, как герой обширного романа, положив одну дородную длань на подлокотник в виде грифона, а другой рукой с перстнем теребя на турецком столике, стоявшем подле него, то, что можно было принять за серебряную табакерку, содержавшую на самом деле небольшой запас похожих на бусины разноцветных драже от кашля – сиреневых, зеленых и, насколько помню, коралловых. Стоит прибавить, что некоторые сведения, позже полученные мной, открыли мне, как гнусно я заблуждался, приписывая ему нечто выходящее за рамки его квазиотеческого внимания ко мне – а также к другому юноше, сыну одной печально известной петербургской кокотки, которая calèche предпочитала электрический «брогáм»; впрочем, довольно этого сахаристого бисера.
3
Вернемся в Карнаво, к моему багажу, к Айвору Блэку, с показной натугой несущему его и бормочущему комичную чепуху в какой-то зачаточной роли.
Когда мы вошли в сад, отделенный от дороги сложенной из камней стеной и рядом кипарисов, солнце уже полностью восстановило свои права. Эмблематические ирисы окружали зеленый прудок, над которым восседала бронзовая лягушка. Из-под курчавого каменного дуба тянулась посыпанная гравием дорожка, проходившая между двух апельсиновых деревьев. Стоявший на другом краю лужайки эвкалипт отбрасывал крапчатую тень на парусину шезлонга. Это не чванливость фотографической памяти, а попытка любовного воссоздания картины, основой для которой послужили пожелтевшие снимки из старой конфетной коробки с ирисом на крышке.
Не стоит подниматься по трем ступеням парадного крыльца, «волоча две тонны камней», сказал Айвор Блэк: запасной ключ он забыл, прислуги, чтобы откликаться на дверные звонки в субботу вечером, у него нет, а с его сестрой, как он уже объяснил, обычным манером снестись невозможно, хотя она должна быть где-то внутри, рыдает, наверное, у себя в спальне, как обычно, когда ожидаются гости, все равно какие, но особенно те любители «отдыха выходного дня», которые приезжают на уик-энд и околачиваются тут до самого вторника. Итак, мы обошли дом, огибая колючие кусты опунции, цеплявшейся за висевший у меня на руке макинтош. Вдруг раздался страшный, нечеловеческий крик, и я взглянул на Айвора, но нахал только ухмыльнулся.
То был крупный лимонногрудый, индигово-синий ара с полосатыми белыми щечками, время от времени пронзительно вскрикивавший на своем открытом насесте на заднем крыльце. Айвор прозвал его Матой Хари, отчасти из-за акцента, но главным образом из-за его политического прошлого. Покойная тетка Айвора, леди Уимберг, будучи уже немного гагой, году в четырнадцатом или пятнадцатом приютила эту трагическую старую птицу, которую, как рассказывали, бросил какой-то темный тип со шрамами на лице и моноклем. Она могла сказать «алло», «Отто» и «па-па» – бедноватый словарь, наводивший отчего-то на мысли о небольшой беспокойной семье в жаркой стране, далеко от дома. Порой, когда я засиживаюсь за работой до позднего часа и тайные агенты рассудка перестают транслировать сообщения, пущенное в ход неверное слово отзывается чем-то вроде сухого бисквита, зажатого в большой медленной лапе попугая.
Не могу припомнить, видел ли я Айрис до обеда (хотя, возможно, я краем глаза заметил ее, стоявшую у витражного окна на лестнице, спиной ко мне, когда я, покинув salle d’eau[5] с его запинающимся ватерклозетом, прошмыгнул обратно через лестничную площадку в свою аскетичную комнату). Айвор предусмотрительно уведомил меня, что его сестра глухонемая и к тому же такая стыдливая, что даже теперь, в двадцать один год, не в силах заставить себя научиться читать по мужским губам. Это показалось мне странным. Я всегда полагал, что физический недостаток, о котором шла речь, заключает пациента в абсолютно надежную оболочку, прозрачную и прочную, как небьющееся стекло, внутри которой никакой стыд или притворство существовать не могут. Брат и сестра общались на языке жестов, пользуясь азбукой, придуманной ими в детстве и с тех пор выдержавшей несколько новых исправленных версий. Нынешняя состояла из смехотворно-вычурных жестов того сорта барельефной пантомимы, которая скорее подражает вещам, чем отражает их. Я позволил себе встрять с какими-то собственными гротескными дополнениями, но Айвор сурово остерег меня валять дурака: ее легко было обидеть. И все это (включая угрюмую служанку, старую канницианку, гремевшую посудой где-то в глубине сцены) относилось к другой жизни, другой книге, к миру неопределенно-кровосмесительных забав, за создание которого я еще сознательно не принимался.
Оба были молодыми людьми среднего роста, но ладного сложения, и родственное их сходство было очевидным, хотя Айвор имел заурядную наружность, рыжеватый, веснушчатый, а она была смуглой красавицей с черными, коротко остриженными волосами и глазами как прозрачный мед. Не могу вспомнить, какое на ней было платье в нашу первую встречу, но уверен, что ее тонкие руки были обнажены и терзали мои чувства каждой пальце-пальмовой рощей или кишащим медузами островом, которые она рисовала в воздухе, пока Айвор переводил мне содержание ее узоров идиотскими ремарками «в сторону». Я получил свой реванш после обеда. Айвор ушел за моим виски. Мы с Айрис стояли на веранде в безгрешных лучах заката. Я раскуривал трубку, а она опиралась бедром о балюстраду и указывала плавательными жестами русалки, предположительно имитирующими волны, на мерцание береговых огней вдоль чернильных холмов. В эту минуту за нашей спиной, в гостиной, загремел телефон, и она резко повернулась, но с восхитительным самообладанием превратила свой порыв в непринужденный «танец с шалью». Тем временем Айвор уже скользил по паркету к аппарату, чтобы послушать, что понадобилось Нине Лесерф или кому-то еще из соседей. В закатное время нашей близости мы с Айрис любили вспоминать эту сцену разоблачения – как Айвор принес нам стаканы и предложил тост за ее чудесное исцеление, как она, несмотря на присутствие брата, положила свою легкую ладонь на костяшки моих пальцев: я стоял, схватившись за балюстраду в преувеличенном негодовании, и не был достаточно поворотлив, одураченный бедняга, чтобы поцеловать ей руку на континентальный манер, приняв тем самым ее извинения.
4
Привычный симптом моего недуга, не самый грозный, но наиболее стойкий, от которого труднее всего избавиться после каждого рецидива, относится к тому, что лондонский эксперт Муди первым назвал синдромом «числового ореола». Описание моего случая он недавно перепечатал в собрании своих трудов. В нем полным-полно смехотворных неточностей, и этот его «ореол» решительно ничего не значит. «Господин Н., русский аристократ» не выказывал никаких «признаков вырождения». Ему было не «32», а «22» года, когда он обратился к этой дутой знаменитости. Но глупее всего то, что Муди соединил меня с г-ном В.С., самозванцем, чей «случай» нельзя назвать даже постскриптумом к сокращенному описанию моего «ореола» и чьи ощущения мешаются с моими на всем протяжении этой ученой статьи. И хотя описать упомянутый синдром нелегко, полагаю, у меня выйдет получше, чем у профессора Муди или моего вульгарного и болтливого собрата по несчастью.
Итак, вот что со мной происходило в худшем случае. Спустя час или около того, как я засыпал (обычно порядком за полночь и не без кроткой поддержки стаканчика-другого доброй медовухи или шартрёза), я вдруг просыпался (или, вернее, «рассыпался»), охваченный внезапным умоисступлением. Одного лишь намека на слабую световую полоску в поле моего зрения было довольно, чтобы спустить курок чудовищной боли, разрывавшей мне мозг. При этом не имело значения, насколько усердно я смыкал после старательной прислуги шторы и створки – неизбежно оставалась какая-нибудь чортова щелка, какой-нибудь атом или сумрачный лучик искусственного уличного или естественного лунного света, грозившего мне неописуемой бедой, когда я, жадно хватая воздух, выныривал из толщи удушающего сновидения. Вдоль тусклой щели с гнетуще многозначительными интервалами перемещались более яркие точки. Они, возможно, соотносились с частым биеньем моего сердца или были оптически связаны с миганием моих влажных ресниц, однако дело вовсе не в поиске разумных объяснений; их жуткое назначение состояло в том, чтобы я посреди беспомощной паники осознал, что уже глупейшим образом проморгал наступление припадка, что он теперь неминуемо захлестнет меня и что я могу спастись, лишь разрешив загадку их пророческой игры, которую, без сомнения, можно было решить, возьмись я за нее чуточку заранее или не будь я таким сонным и тупоумным в эту критическую минуту. Сама же задача относилась к разряду вычислительных: следовало высчитать определенные соответствия между мерцающими точками – в моем положении, скорее, угадать их, поскольку оцепенение не позволяло мне правильно их сосчитать, не говоря уж о том, чтобы вспомнить, каким должно быть безопасное число. Ошибка подразумевала немедленное возмездие – отсечение головы великаном или что-то похлеще; правильный ответ, напротив, позволял бежать в зачарованный край, начинавшийся сразу за узкой брешью, через которую мне следовало протиснуться в тернистой загадке, – край, в своей идиллической отвлеченности напоминавший те крохотные пейзажи, что гравировались в виде многообещающих виньеток – берег, боскет – рядом с заглавными буквами устрашающей, звериной формы, вроде готической «Б», начинавшей главу в старинных книжках для пугливых детей. Как же я мог дознаться, оцепеневший, потерявший от страха голову, что в этом-то и состояло простое решение, что и берег, и бор, и близость безвременной Бездны, все они открываются начальной буквой Бытия?
Конечно, бывали ночи, когда сознание тут же возвращалось ко мне, и я, поплотнее задернув шторы, вскоре вновь засыпал. Но в иные, более суровые времена, когда я был еще далек от исцеления и в полной мере страдал от своего аристократического ореола, мне требовалось несколько часов, чтобы избыть оптический спазм, который даже дневные лучи не могли рассеять. Не припомню такого случая, чтобы первая ночь на новом месте не оказалась ужасной и за нею не следовал бы отвратительный день. Меня терзала невралгия, я был раздражен, прыщеват и небрит, – и отказался пойти вместе с Блэками на приморскую вечеринку, на которую, как мне сказали, я тоже был приглашен. Впрочем, мои впечатления о первых днях на вилле «Ирис» так основательно искажены в моем дневнике и так расплывчаты в памяти, что я не могу утверждать, что Айрис и Айвор не отсутствовали до середины недели. Вместе с тем я помню, что они были настолько любезны, что записали меня на прием к канницкому доктору. Я не мог упустить чудную возможность сопоставить некомпетентность лондонского корифея с невежеством местного светила.
Принимал меня профессор Юнкер, сдвоенная особа, состоящая из мужа и жены. Они практиковали вместе уже лет тридцать, и каждое воскресенье в уединенном и оттого довольно грязноватом уголке пляжа подвергали анализу друг друга. Среди их пациентов считалось, что по понедельникам они бывали особенно прозорливы, но я таковым отнюдь не был, когда, ужасно надравшись по дороге в одном или двух кабаках, добрался до невзрачного квартала, в котором, как я заметил, кроме Юнкеров обретались и другие доктора. Парадное крыльцо, украшенное цветами и фруктами с рынка, было хоть куда, но вам еще предстоит увидеть заднюю дверь. Меня приняла женская составляющая дуэта – приземистое пожилое существо в брюках, что в 1922 году было восхитительной смелостью. Эта тема немедленно нашла продолжение за окном клозета (где мне полагалось наполнить абсурдный флакон, вполне вместительный для врачебных целей, но не для моих) в представлении, которое морской бриз устроил на улице, достаточно узкой, чтобы три пары длинных кальсон на веревке пересекли ее за столько же шагов или скачков. Я позволил себе сделать несколько замечаний об этом и о витражном окне в кабинете для консультаций, изображавшем розово-лиловую даму – точь-в-точь как на лестнице виллы «Ирис». Миссис Юнкер спросила, кого я предпочитаю, мальчиков или девочек, и я, посмотрев по сторонам, осторожно ответил, что не знаю, кого она может мне предложить. Она не рассмеялась. Консультация прошла неудачно. Прежде чем заняться моей челюстной невралгией, ей требовалось, чтобы я посетил дантиста, когда протрезвею. Он принимает в доме напротив, сказала она. Я знаю, что она по телефону записала меня к нему на прием, но не помню, пошел ли я туда в тот же день или на следующий. Его фамилия была Мольнар, и эта буква «н» была как зернышко в дупле зуба; сорок лет спустя он пригодился мне для «Княжества у моря».
Девица, принятая мною за ассистентку зубного врача (для которой она, впрочем, была слишком нарядно одета), сидела, скрестив ноги, в прихожей и говорила по телефону. Она не церемонясь указала мне на дверь папиросой, которую держала в пальцах, ни на секунду не прекращая своего занятия. Я оказался в обычной и безмолвной комнате. Лучшие места были заняты. Больших размеров условное полотно над переполненной книжной полкой изображало масляными красками стремительный альпийский поток с упавшим поперек него деревом. Несколько журналов с полки в более ранние часы приема успели переместиться на овальный стол, на котором имелся собственный скромный набор предметов: пустая цветочная ваза и casse-tête[6] размером с часики. То был крошечный круговой лабиринт с пятью серебристыми горошинами внутри, которые надлежало терпеливо залучить, ловко вращая запястьем, в центр спирали. Для ожидающих детей.
Таковых не было. В угловом кресле покоился толстяк с букетиком гвоздик на коленях. Две пожилые дамы, друг с другом не знакомые, судя по светскому промежутку между ними, сидели на коричневой софе. Далекий от них интеллигентного вида молодой человек, вероятно писатель, сидел на мягком стуле с небольшим блокнотом в руках, занося в него карандашом отдельные записи, – вероятно, описания различных предметов, по которым блуждал его взгляд в перерывах между заметками: потолок, обои, картина на стене и гривастый затылок человека, который стоял у окна с сомкнутыми за спиной руками и беспечно глядел поверх плещущих на ветру подштанников, поверх лилово-розового створного окна ватерклозета Юнкеров, поверх крыш и предгорий на далекую горную цепь, где, как мне беспечно подумалось, эта засохшая сосна все еще могла лежать мостком над живописным потоком.
Но тут дверь в другом конце комнаты со смехом распахнулась, и вошел дантист, румяный, при бабочке, в плохо сидящем празднично-сером костюме и со скорее щегольской черной повязкой на рукаве. Последовали рукопожатия и поздравленья. Я принялся толковать ему, что записан на прием, но степенная пожилая женщина, в которой я узнал мадам Юнкер, перебила меня, сказав, что это была ее ошибка. Тем временем Миранда, дочь хозяина, которую я только что видел, втиснула длинные бледные стебли гвоздик, принесенные ее дядей, в узкое горло вазы на столе, который теперь волшебным образом облачился в скатерть. Под общие рукоплескания субретка поставила на него большой закатно-розовых тонов торт с цифрой 50 каллиграфическим кремом. «Какой очаровательный знак внимания!» – воскликнул вдовец. Подали чай, одни уселись, другие остались стоять, держа бокалы в руках. Айрис жарким шепотом предупредила меня, что это сдобренный пряностями яблочный сок, не спиртное, и я, вскинув руки, отпрянул от подноса, с которым к нам подошел жених Миранды, человек, пойманный мною на том, что, улучив момент, он проверял некоторые детали приданого. «Мы и не надеялись, что вы заглянете», сказала Айрис – и проболталась, поскольку это не могла быть та partie de plaisir[7], на которую я был приглашен («У них чудный дом на утесе»). Нет, я полагаю, что большая часть приведенных здесь путаных впечатлений, относящихся к докторам и дантистам, должна быть отнесена к разряду онирического опыта во время пьяной сиесты. К тому есть и письменные свидетельства. Просматривая свои самые старые дневниковые заметки в карманных записных книжках, в которых телефонные номера и фамилии пробираются между отчетами о событиях, действительных или в той или иной мере вымышленных, я обратил внимание, что сновидения и другие отступления от «реальности» изложены особым, влево клонящимся почерком – во всяком случае, в ранних записях, когда я еще не отбросил общепринятого разграничения. Многое, что относится к докембриджскому периоду, написано именно таким почерком (но солдат в самом деле пал на пути короля-беглеца).
5
Знаю, меня прозвали напыщенным сычом, но я действительно не терплю грубых шуток, и мне смертельно скучно («Только люди лишенные чувства юмора говорят так», по словам Айвора) от непрерывного потока уморительных подначек и вульгарных каламбуров. Впрочем, Айвор был славный малый, и вовсе не желанием передохнуть от наших с ним пикировок объясняется то, что меня радовало его отсутствие по будням. Он служил в агентстве путешествий под началом бывшего homme d’affaires[8] его покойной тетки Бетти, на свой лад чудаковатого человека, посулившего Айвору за усердие премию в виде фаэтона «Икар».
Очень скоро мой почерк и здоровье пошли на поправку, и я начал наслаждаться югом. Мы с Айрис (на ней – черный купальный костюм, на мне – фланелевые брюки и спортивный пиджак) часами прохлаждались в саду, который я в первое время предпочитал неизбежному соблазну морских купаний, плотскому искушению пляжа. Я переложил для нее на английский язык несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, перефразировав и подвзбив их ради пущего эффекта. Я поведал ей с драматическими подробностями о своем бегстве из России. Я упомянул имена великих изгнанников прошлого. Она внимала мне, как Дездемона.
«Я бы хотела выучить русский, – сказала она с вежливым вздохом сожаления, которым сопровождаются такие признания. – Моя тетя родилась фактически в Киеве и в свои семьдесят пять все еще помнила несколько русских и румынских слов, но я никудышный лингвист. Как по-русски “eucalypt”?»
«Эвкалипт».
«О, из этого может выйти славное имя для персонажа в рассказе. Ф. Клиптон. Уэллс придумал “господина Снукса”, производное от “Seven Oaks”[9]. Обожаю Уэллса, а вы?»
Я сказал, что он величайший выдумщик и волшебник нашего времени, но что я не выношу его социологических бредней.
Она тоже не выносит. А помню ли я, что сказал Стивен в «Страстных друзьях», когда вышел из комнаты – обезличенной комнаты, где ему было позволено в последний раз увидеть свою возлюбленную?
«Да, помню. Мебель была покрыта чехлами, и он сказал: “Это из-за мух”».
«Точно! Замечательно, правда? Бросить что-нибудь, все равно что, только бы не разрыдаться. Так старый мастер мог бы нарисовать комнатную муху на руке натурщика, чтобы показать, что человек тем временем умер».
Я сказал, что всегда предпочитаю прямое значение описания скрытому в нем символу. Не разделяя, по-видимому, этого убеждения, она задумчиво кивнула.
А кого из современных поэтов мы ставим выше всех? Может быть, Хаусмана?
Я видел его много раз издалека и однажды вблизи. Это было в библиотеке Тринити-колледжа. Он стоял с открытой книгой в руке, но смотрел в потолок, как бы что-то припоминая – возможно то, как другой автор перевел эту строку.
Она бы просто «обомлела», сказала Айрис, приблизив свое серьезное личико и часто качая им и своей глянцевитой челкой.
«Вы должны обомлеть сейчас! В конце концов, я здесь, стоит лето 1922 года, вот дом вашего брата –»
«Нет, не его, – сказала она, меняя тему (и на этом резком повороте ее речи я почувствовал внезапный перехлест в текстуре времени, как если бы все это уже было когда-то или повторится вновь). – Это мой дом. Тетя Бетти оставила его мне, а еще немного денег, но Айвор слишком глуп или горд, чтобы позволить мне заплатить по его вопиющим долгам».
Тень укора в моих словах была больше, чем тень. Я искренне верил уже тогда, в свои двадцать с небольшим, что к середине столетия стану прославленным и свободным писателем, живущим в свободной, всеми уважаемой России, на Английской набережной Невы или в одном из своих великолепных поместий, сочиняя в прозе и стихах на бесконечно послушном языке моих предков, среди которых я насчитал одну двоюродную бабку Толстого и двух собутыльников Пушкина. Предвкушение славы было столь же пьянящим, как старые вина ностальгии. Это было воспоминание вспять; величественный дуб на берегу озера так живописно отражался на кристально чистой глади, что его зеркальные ветви смотрелись приукрашенными корнями. Я ощущал эту будущую славу на подошвах своих ног, в кончиках пальцев, в волосах на голове, как иной чувствует озноб из-за наступающей грозы, из-за потухающей красы печального напева за миг до раската грома или от строчки в «Короле Лире». Отчего же слезы туманят стекла моих очков, когда я воскрешаю этого фантома славы, так искушавшего и терзавшего меня тогда, пять десятилетий тому назад? Его образ был чист, его образ был невинен, безупречен, и его отличие от того, что сталось на самом деле, разрывает мне сердце, как боль разлуки.
Ни тщеславие, ни почести не пятнали сказочной будущности. Президент Российской академии шел ко мне под звуки медленной музыки, неся венец на подушечке, – и, ворча, вынужденно ретировался, когда я покачал седеющей головой. Я видел себя правящим гранки своего нового романа, которому суждено было изменить направление всей русской словесности на мое направление (ни восторга, ни самодовольства, ни удивления я при этом не испытывал), и правки столь обильно усеивали поля – где вдохновение находит свой сладчайший клевер, – что все приходилось набирать заново. А когда книга с запозданием наконец выходила в свет, я, слегка постаревший, мог бы с удовольствием принять нескольких преданных и льстивых друзей в беседке своей любимой усадьбы в Марево (где я впервые «взглянул на арлекинов»), с ее аллеей фонтанов и переливчатым видом на часть нетронутой волжской степи. Так и должно было быть.
Лежа в хладной постели в Кембридже, я провидел целый период новой русской литературы. Я предвкушал освежительное внимание со стороны враждебно настроенных, но благовоспитанных критиков, бранящих меня со страниц санкт-петербургских литературных обозрений за патологическое равнодушие к политике, значительным идеям незначительных умов и таким животрепещущим проблемам, как перенаселенность современных городов. Не менее захватывающим занятием было воображать неизбежную свору плутов и дурней, поносящих улыбающийся мрамор – измученных завистью, взбешенных собственной заурядностью, спешащих суетливыми стайками к участи леммингов, но вскоре бегущих обратно с другой стороны сцены, проморгав не только суть моей книги, но и свою грызуновую Гадару.
Стихи, которые я начал сочинять после знакомства с Айрис, призваны были передать ее подлинные, лишь ей одной присущие черты – как собирался в складки ее лоб, когда она поднимала брови, ожидая, пока я оценю тонкость ее шутки, и совсем иной рисунок нежных морщин у нее на челе, когда она хмурилась над Таухницем в поисках места, которым хотела поделиться со мной. Мой инструмент, однако, был еще очень груб и неповоротлив и не мог отразить дивных черт – ее глаза, ее волосы оставались безнадежно обобщенными в моих в остальном недурно скроенных строфах. Ни одна из тех описательных и, будем откровенны, банальных пьес не была настолько хороша (особенно в своем английском неглиже – ни рифм, ни мятежа), чтобы предстать перед Айрис; к тому же диковинная робость, которой я прежде никогда не испытывал, добиваясь взаимности во времена бойких прелиминарий своей чувственной юности, удерживала меня от предъявления Айрис перечня ее чар. Но вот как-то ночью, 20 июля, я сочинил более окольные, более метафизические стихи, которые решился прочитать ей за завтраком в своем дословном переводе на английский, отнявшем у меня больше времени, чем сам оригинал. Стихотворение было опубликовано в парижской эмигрантской газете (8 октября 1922 года – после нескольких напоминаний с моей стороны и одного требования отослать обратно) под названием «Влюбленность» (с тем же заглавием оно печаталось и перепечатывалось в различных сборниках и антологиях все последующие пятьдесят лет) – тот случай, когда в английском языке требуется три слова для облечения их в ту же золотистую ореховую скорлупу.
- Мы забываем, что влюбленность
- Не просто поворот лица,
- А под купавами бездонность,
- Ночная паника пловца.
- Покуда снится, снись, влюбленность,
- Но пробуждением не мучь,
- И лучше недоговоренность,
- Чем эта щель и этот луч.
- Напоминаю, что влюбленность
- Не явь, что метины не те,
- Что, может быть, потусторонность
- Приотворилась в темноте.
«Очаровательно, – сказала Айрис. – Звучит как заклинание. О чем они?»
«Это вот здесь, на обороте. Итак. Мы забываем или, лучше сказать, склонны забывать, что влюбленность не зависит от поворота лица возлюбленного или возлюбленной, но она – бездонное место под кувшинками, ночная паника пловца (здесь удалось передать четырехстопный ямб оригинала). Следующая строфа. Покуда сон продолжается – в значении “пока все идет своим чередом”, – оставайся в наших снах, влюбленность, но не мучай нас пробуждением или сообщением слишком многого: недосказанность лучше этой щели и этого лунного луча. Теперь последняя строфа этого любовно-философского стихотворения».
«Какого?»
«Любовно-философского. Напоминаю тебе, что влюбленность – это не реальность наяву, что отметины другие (полосатый от луны потолок, к примеру, не того же разбора реальность, что потолок при свете дня) и что, возможно, потусторонний мир приоткрылся во мраке. Voilà[10]».
«Вашей девушке, – сказала Айрис, – должно быть страшно весело с вами. А вот и наш кормилец! Bonjour[11], Айвз. Боюсь, все гренки мы съели. Мы думали, ты давно ушел».
Она притронулась ладонью к бочку чайника, и это вошло в «Ардис», все это вошло в «Ардис», моя бедная мертвая любовь.
6
После пятидесяти летних сезонов или десяти тысяч часов солнечных ванн в разных странах, на пляжах, скамьях, крышах, скалах, палубах, уступах, лужайках, панелях и балконах я, возможно, не смог бы вспомнить искус того лета в чувственных подробностях, кабы не мои старые записки – сущая отрада для педантичного мемуариста, который так носится со своими хворями, женитьбами и литературной жизнью. Чудовищные порции Шейкерова кольдкрема втирались мне в спину воркующей, коленопреклоненной Айрис, пока я лежал ничком на шершавом полотенце под палящим солнцем пляжа. По исподу моих век, прижатых к предплечью, плыли фиолетовые фотоматические фигуры: «Сквозь прозу солнечных ожогов проникала поэзия ее прикосновений», как записано в моем дневнике, но я могу превзойти юношескую изысканность своего слога. Сквозь кожный зуд и фактически доведенные этим зудом до крайней остроты довольно постыдного наслаждения, прикосновения ее рук к моим лопаткам и вдоль позвоночника слишком уж походили на умышленные ласки, чтобы быть умышленной мимикрией, и я не мог сдержать тайного отклика на проворное скольжение этих пальчиков, когда они в заключительном порыве избыточного трепета сбегали до самого моего копчика, перед тем как исчезнуть.
«Готово», – сказала Айрис совершенно с той же интонацией, к какой прибегала, завершив более специальную процедуру, одна из моих кембриджских зазноб, Виолетта Мак-Ди, искушенная и сердобольная девственница.
У нее, у Айрис, в прошлом уже было несколько любовников, и когда я открыл глаза, и повернулся к ней, и увидел ее, и пляшущие бриллианты в сине-зеленой глубине каждой новой накатывающей, каждой падающей волны, и мокрую черную гальку лощеной кромки прибоя с мертвой пеной, ожидающей пену живую, – и ах, вот они близятся, волны с белым гребнем, вновь бегущие рысью, совсем как ряд белых цирковых лошадей, – я осознал, оглядывая ее на фоне этого задника, сколько льстивого обожания, сколько любовников потребовалось, чтобы сформировать и довести до совершенства мою Айрис, с ее безупречным цветом лица, с отсутствием какой-либо неопределенности в профиле ее высокой скулы, с этой изящной впадинкой под ней, с accroche-coeur[12] этой лощеной маленькой кокетки.
«Кстати, – сказала Айрис, переходя в полулежачее положение и поджав под себя ноги, – кстати, я еще не извинилась за свое неудачное замечание о том стихотворении. Я перечитала ваших “Valley Blondies”[13] раз сто – по-английски ради содержания и по-русски ради музыки, – и мне кажется, что это совершенно дивное произведение. Вы меня прощаете?»
Я потянулся губами поцеловать ее коричневое, переливчатое колено, бывшее так близко от меня, но она остановила мое приближение, положив мне ладонь на лоб, словно проверяя жар у ребенка.
«За нами следят, – сказала она. – Множество глаз, которые смотрят как будто куда угодно, только не в нашу сторону. Те две хорошенькие английские учительницы справа от меня, шагах в двадцати отсюда, уже успели заметить мне, что ваше сходство с фотографией Руперта Брука, той, где у него обнажена шея, просто a-houri-sang[14] – они немного знают французский. Если вы еще раз попытаетесь поцеловать меня или мою ногу, я попрошу вас уйти. Мне в жизни часто делали больно».
Последовала пауза. Переливчатость происходила из-за приставших крупинок кварца. Когда девушка начинает говорить фразами из бульварного романа, все, что вам требуется, – это немного терпения.
Отослал ли я уже стихотворение в ту эмигрантскую газету? Еще нет; сперва нужно послать венок сонетов. Те двое (я понизил голос), слева от меня, судя по кой-каким мелким признакам, – мои соотечественники-экспатрианты.
«Да, – согласилась Айрис, – они буквально навострили уши, когда вы процитировали строки Пушкина о волнах, которые с любовью ложатся к ее ногам. А какие еще признаки?»
«Он, глядя вдаль, очень медленно, сверху вниз, поглаживает свою бородку, а она курит папиросу».
Там же была девочка лет десяти, баюкавшая в голых руках большой желтый надувной мяч. На ней, казалось, ничего не было, кроме какой-то оборчатой сбруи и коротенькой плиссированной юбочки, не скрывавшей ее ладных ляжек. В более поздние времена знатоки назвали бы ее «нимфеткой». Поймав мой взгляд, она одарила меня из-под каштановой челки и поверх нашего солнечного шара сладкой похотливой улыбкой.
«Лет в одиннадцать-двенадцать, – сказала Айрис, – я была такой же прелестной девочкой, как эта французская сирота. Это ее бабушка, вся в черном, сидит на расстеленной “Cannice-Matin”[15] со своим вязанием. Я позволяла дурнопахнущим мужчинам гладить себя. Я играла с Айвором во всякие бесстыдные игры, о нет, ничего особенного, к тому же он теперь доннам предпочитает донов, так он говорит, во всяком случае».
Она немного рассказала о своих родителях, которые по удивительному совпадению умерли в один день, всего два года тому назад, – она в семь часов утра в Нью-Йорке, он в полдень в Лондоне. Они расстались вскоре после войны. Она была американка, противная. Не следует так говорить о своей матери, но она действительно была противной. Папа был вице-президентом цементной компании Сэмюэлей, когда умер. Он происходил из почтенной семьи и имел «хорошие связи». Я спросил, какие именно у Айвора претензии к «свету», и наоборот? Она неопределенно ответила, что он терпеть не может «своры охотников на лис» и «сборища яхтсменов». Я сказал, что это отвратительные клише, которые в ходу лишь у обывателей. В моей среде, в моем мире, в изобильной России моего детства мы стояли настолько выше любых классовых понятий, что только смеялись или зевали, читая о «японских баронах» или «новоанглийских патрициях». И все же, как ни странно, Айвор переставал паясничать и превращался в обычного серьезного человека, лишь когда оседлывал своего старого, пегого, плешивого конька, принимаясь высмеивать английские «высшие классы» – особенно их манеру изъясняться. А ведь эта речь, возражал я, превосходит по качеству наилучший парижский французский и даже петербургский русский: дивно модулированное негромкое ржанье, которому оба, Айвор и Айрис, довольно успешно, хотя, конечно, бессознательно, подражали в повседневном общении, когда не подшучивали над высокопарным или старомодным английским безобидного иностранца. Кстати, какую нацию представляет этот загорелый старик с седыми волосами на груди, выбирающийся вслед за своим мокрым взъерошенным псом из низкого прибоя, – мне его лицо как будто знакомо.
«Ах, это Каннер, – сказала она. – Великий пианист и знаток бабочек, его лицо и имя всюду на афишных тумбах. Она как раз пытается раздобыть билеты на два его концерта – по меньшей мере. А там, прямо на том месте, где отряхивается его собака, в июне, когда пляж почти пуст, нежилось на солнце семейство П. (она назвала знатный старинный род). Они проигнорировали Айвора, хотя он знавал молодого Л.П. по Тринити. Теперь они перебрались вон туда. Только для избранных. Видите ту оранжевую точку? Это их купальная кабина. У самой “Мирана-Палас”».
Я ничего не сказал на это, хотя тоже знавал молодого П. и недолюбливал его.
В тот же день. Столкнулся с ним в уборной «Мираны». Встречен с энтузиазмом. Желаю ли я познакомиться с его сестрой? Что у нас завтра? Суббота. Предложил прогулку к «Виктории» на другой день пополудни. Что-то вроде бухты среди скал справа от вас. Я там с друзьями. Вы, конечно, знаете Айвора Блэка. Молодой П. явился минута в минуту со своей очаровательной долголягой сестрой. Айвор – невозможно груб. «Идем, Айрис, ты забыла, что мы пьем чай с Рапалловичем и Чичерини». В таком духе. Дурацкие распри. Лидия П. помирала со смеху.
Дойдя до стадии вареного омара и оценив пользу чудодейственного крема, я перешел со своих консервативных caleçon de bain[16] на их более короткую разновидность (все еще бывшую в то время под запретом в парадизах построже). Запоздалое нововведение привело к причудливому наслоению загара. Помню, как прокрался в комнату Айрис, чтобы осмотреть себя в большом зеркале, единственном в доме; тем утром она отправилась в косметический салон, куда я не преминул телефонировать, дабы удостовериться, что она там, а не в объятиях любовника. Кроме мальчишки-провансальца, полировавшего перила, поблизости никого не было, и я решил предаться одному из своих давних и самых гадких удовольствий: бродить совершенно нагим по чужому дому.
Портрет в полный рост в целом не был удачен, вернее сказать, он содержал легкомысленную деталь, допустимую в зеркальных отражениях и средневековых рисунках диковинных тварей. Мое лицо было коричневым, тулово и руки – карамельными, карминовый экваториальный поясок, окаймлявший карамель, переходил в белый, более или менее треугольный участок, заостренный к югу и ограниченный с двух сторон преизбытком кармина, а ноги мои (поскольку я целыми днями разгуливал в шортах) были такими же коричневыми, как и лицо. В верховьях белизна живота подчеркивалась пугающим repoussé[17] с никем еще не описанным уродством: мужской портативный зоосад, симметричная масса звериного довеска, слоновый хобот, чета морских ежей, кроха-горилла, вцепившаяся мне в пах спиной к зрителям.
Предупредительный спазм пронзил мою нервную систему. Бесы неизлечимого недуга, «освежеванного сознания», гнали прочь моих арлекинов. Я бросился искать неотложной помощи среди отвлекающих безделушек в пахнущей лавандой спальне своей возлюбленной: лиловый плюшевый медведь, занятный французский роман («Du côté de chez Swann»[18]), который я купил ей в подарок, аккуратная стопка свежего белья в плетеной корзине, цветная фотокарточка двух девушек в изящной рамке с надписью наискось: «Леди Крессида и твоя милая Нелл, Кембридж, 1919»; первую я принял за Айрис в золотистом парике и розовом гриме, но, вглядевшись, распознал в ней Айвора в роли той весьма назойливой девицы, которая появляется и исчезает, к месту и не к месту, в неудачном фарсе Шекспира. Впрочем, хромодиаскоп Мнемозины в конце концов тоже может наскучить.
Когда я, уже с меньшим рвением, продолжил свои бесстыдные блуждания, мальчишка в музыкальной гостиной занимался какофонической протиркой клавиш «Бехштайна». Он задал мне вопрос, прозвучавший как «Hora?»[19], и я в ответ повертел туда-сюда кистью руки, на которой не было ничего, кроме бледного призрака часиков и браслета. Совершенно неверно истолковав мой жест, он отвернулся, качая своей тупой головой. То было утро ошибок и неудач.
Я направился в буфетную за бокалом-другим вина – лучший завтрак в пору невзгод. В коридоре я наступил на осколок посуды (накануне мы слышали, как что-то разбилось) и, кляня все и вся, заплясал на одной ноге, стараясь осмотреть воображаемый порез в середине моей белой стопы.
Литр rouge[20], рисовавшийся в моем воображении, был на месте, а вот штопора я не смог отыскать ни в одном из ящиков. Гремя ими, я в промежутках слышал, как уныло и грубо о чем-то кричит попугай. Пришел и ушел почтальон. Редактор «Новой зари» боялся (ужасные трусы эти редакторы), что его «скромное эмигрантское начинание» не в состоянии… и т. д. – это скомканное «и т. д.» последовало прямиком в мусорное ведро. Безвинный, рассерженный, с Айворовой «Таймс» под мышкой, я прошлепал по черной лестнице в свою душную комнату. В голове начался бунт.
Тогда-то, отчаянно рыдая в подушку, я решил предварить завтрашнее предложение руки и сердца признанием, которое могло бы сделать его неприемлемым для моей Айрис.
7
Если посмотреть из нашей садовой калитки в конец асфальтовой аллеи, ведущей сквозь леопардовую тень к деревне, находящейся на расстоянии двухсот шагов на восток, то увидишь розовый куб маленькой почтовой конторы, зеленую скамью у входа и флаг над ним; все это вписано с немой яркостью прозрачных красок между последней парой платанов, завершающей два ряда колонн, шествующих по обе стороны дороги.
На правой (южной) стороне аллеи, за придорожной канавой, заросшей куманикой, промежутки между пятнистых стволов открывают лавандовые или люцерновые прогалины, а еще дальше – низкую белую стену кладбища, которая тянется вдоль нашей улочки, как это обычно бывает. На левой (северной) стороне, через такие же сквознины можно бросить взгляд на ширь склона, виноградник, далекую ферму, сосняки и контур горной гряды. На предпоследнем стволе дерева в этом ряду кто-то наклеил, а кто-то другой частично ободрал бессвязное объявление.
Мы с Айрис проходили по этой аллее чуть ли не каждое утро, направляясь к деревенской площади, а от нее по приятному короткому пути – в Канницу и к морю. Иногда она предпочитала возвращаться домой пешком, будучи одной из тех небольшого роста, но крепких девушек, которые состязаются в беге с препятствиями, играют в хоккей, взбираются на скалы, а потом еще отплясывают шимми до «безумного бледного часа» (привожу строчку из моего первого стихотворения, адресованного ей). Обычно поверх узкого купального костюма она надевала свое «индийское» платье, разновидность полупрозрачного парео, и когда я близко шел позади нее и ощущал уединенность, безопасность, вседозволенность сновидения, я испытывал в этом приапическом состоянии некоторое неудобство при ходьбе. По счастью, меня удерживало не понимание того, что уединенность наша была не такой уж надежной, а решимость нравственного рода признаться ей в чем-то очень важном, прежде чем мы предадимся любви.
С тех крутых склонов море внизу виделось лежащим в величественных складках, а вследствие отдаленности и высоты возвратная линия пенного прибоя наступала скорее с комичностью замедленных съемок, поскольку мы знали, как и само море, о дюжинной силе его поступи, а тут – такая сдержанность, такая важность…
Вдруг откуда-то из окружавших нас дебрей донесся рев неземного блаженства.
«Боже мой! – воскликнула Айрис. – Очень надеюсь, что это не счастливый беглец из цирка Каннера». (Никакой связи с пианистом – во всяком случае, насколько можно судить.)
Мы продолжили путь, теперь бок о бок: наша тропа, после первого из полудюжины скрещений с главной петлистой дорогой, сделалась шире. В тот день, как обычно, я поспорил с Айрис об английских названиях нескольких растений, которые я мог определить, – ладанник и цветущую гризельду, агавы (которые она называла «столетниками»), ракитник и молочай, мирт и земляничник. Крапчатые бабочки появлялись и исчезали, как быстрые солнечные пятна в образованных листвой туннелях, а потом огромное оливково-зеленое создание, показав розовые разводы где-то понизу, на миг опустилось на головку чертополоха. Я в бабочках не смыслю ни аза и определенно не терплю еще более пушистых ночниц, и я бы не вынес прикосновения ни тех ни других: даже от самых красивых меня пронимает тошное содрогание, как от парящей липкой паутины или от той гадины, которая встречается в ванных комнатах на Ривьере, – серебристой чешуйницы.
В тот день, который у нас сейчас в фокусе (памятный из-за более значительного события, но влачащий за собой различные синхронные мелочи, приставшие к нему, как репейники, или въевшиеся в него, как морские паразиты), мы заметили среди заросших цветами скал мелькание сачка для ловли бабочек, и тут же возник сам старик Каннер: его панама болтается на тесемке, прихваченной к жилетной пуговице, его седые локоны развеваются над багровым челом – и весь он еще сияет от восторга, эхо которого, без сомнения, мы слышали только что.
Айрис немедленно описала ему эффектное зеленое существо, но Каннер отмахнулся от него как от «eine “Pandora”» (так, во всяком случае, у меня записано) – обычный южный Falter (бабочка). «Aber (впрочем), – взревел он, подняв указательный палец, – ежели вы хотите взглянуть на настоящую редкость, никогда ранее не встречавшуюся западнее Нижней Австрии, то я покажу, что я только что поймал».
Каннер прислонил сачок к скале (он тут же упал, и Айрис почтительно подняла его) и под аккомпанемент сходящих на нет выражений чрезмерной благодарности (Психее? Вельзевулу? Айрис?) вынул из отделения своей наплечной сумки почтовый конвертик, из которого очень осмотрительно вытряхнул себе на ладонь сложившую крылья бабочку.
Едва посмотрев на нее, Айрис сказала, что это просто маленькая, еще совсем юная капустница. (У нее была теория, что комнатные мухи, к примеру, растут.)
«Теперь смотрите внимательно, – сказал Каннер, игнорируя ее диковинное замечание и указывая сжатым пинцетом на треугольное насекомое. – То, что вы видите, – это внутренняя часть крыльев: у левого Vorderflügel (“переднего крыла”) – испод белый, а у левого Hinterflügel (“заднего крыла”) – испод желтый. Не стану расправлять ей крылья, но, надеюсь, вы поверите мне на слово: на внешней стороне крыльев, которой вы не видите, этот вид разделяет со своими ближайшими родственниками – белянкой репной и белянкой Манна, здесь широко распространенных, – типические пятнышки на переднем крыле, а именно черную точку у самцов и черный Doppelpunkt (“двоеточие”) у самок. У названных союзников пунктуация воспроизводится на нижней части крыла, и только у вида, сложенный образчик которого лежит на моей ладони, край крыла чист – типографический каприз природы! Ergo[21], это эргана».
У распростертой бабочки дрогнула одна из лапок.
«Ах, она живая!» – воскликнула Айрис.
«Нет, она не сможет улететь – одного сжатия довольно», успокаивающе возразил Каннер, возвращая насекомое в его прозрачный ад, после чего, победоносно подняв на прощание руку с сачком, он продолжил взбираться по склону.
«Чудовище!» – простонала Айрис. Ее поразила мысль о тысячах замученных им крохотных созданий, но несколько дней спустя, когда Айвор повел нас на его концерт (в высшей степени поэтичное исполнение сюиты Грюнберга «Les Châteaux»[22]), она была несколько утешена пренебрежительным замечанием брата, что «вся эта докука с бабочками всего лишь рекламная уловка». Увы, как собрату-безумцу, мне было виднее.
Когда мы достигли нашего отрезка пляжа, все, что мне нужно было сделать, чтобы впитать солнце, – это скинуть рубашку, шорты и теннисные туфли. Айрис сбросила с себя парео и – голорукая и голоногая – легла рядом со мной на полотенце. Я прокручивал в голове приготовленную для нее речь. Собака пианиста сегодня была в обществе миловидной пожилой дамы, его четвертой жены. Два молодых болвана закапывали нимфетку в горячий песок. Русская дама читала эмигрантскую газету. Ее муж созерцал горизонт. Двое англичанок плескались в сияющих волнах. Большое французское семейство слегка покрасневших от солнца альбиносов пыталось надуть резинового дельфина.
«Готова окунуться», сказала Айрис.
Она вытащила из пляжной сумки, которую оставляла у консьержки в «Виктории», свой желтый купальный чепец, и мы перенесли наши полотенца и вещи в сравнительно уединенное место на чем-то вроде заброшенной пристани, где она предпочитала высыхать после моря.
Уже дважды за мою молодую жизнь припадок всеохватной судороги – физический эквивалент молниеносного помешательства – едва не погубил меня посреди ужаса и мрака водяной бездны. Вижу себя пятнадцатилетним юношей, вместе со своим атлетичным кузеном переплывающим в сумерках узкую, но глубокую речку. Он начал было отрываться от меня, когда прилагаемые мной особенные усилия вызывали во мне чувство несказанного блаженства, которое сулило чудеса ускоренного скольжения, сказочные призы на воображаемых полках, но которое в момент дьявольской кульминации сменилось невыносимой судорогой, сковавшей сначала одну ногу, затем другую, а там – ребра и обе руки. После я не раз пробовал разъяснить начитанным и ироничным докторам то странное, жуткое, сегментарное свойство этой пульсирующей муки, превращающей меня в огромную гусеницу с членами, превращенными в последовательные кольца агонии. По какой-то совершенно немыслимой случайности сразу позади меня плыл еще один человек, незнакомец, и он-то помог вытащить меня из клубка уходящих в бездну купав.
Второй раз это произошло год спустя на западном побережье Кавказа. Был прием по случаю именин сына местного губернатора, на котором я пил за его здоровье в компании дюжины приятелей постарше. Около полуночи удалой молодой англичанин Аллан Андовертон (коему около 1939 года суждено было стать моим первым британским издателем!) предложил выкупаться при свете луны. Пока я держался вблизи берега, ощущения были весьма приятными. Вода была теплой; луна благосклонно освещала накрахмаленную рубашку моего первого смокинга, разложенного на пляжных голышах. Вокруг слышались веселые возгласы; Аллан, помнится, даже не подумал раздеться и плескался в пестрой зыби с бутылкой шампанского; и вдруг все накрыла туча – большая волна подняла и понесла меня, и тут все мои чувства оказались в таком беспорядке, что я не мог бы сказать, плыл ли я в сторону Ялты или Туапсе. Животный ужас мгновенно вызвал уже знакомый мне болезненный спазм, и я бы, конечно, тотчас сгинул, если бы следующий вал не подхватил и не вынес меня на берег, прямиком к моим штанам.
Тень этих грозных и скорее бесцветных воспоминаний (смертельная опасность бесцветна) всегда примешивалась к моим «заплывам» и «всплескам» (это все ее словечки) с Айрис. Она быстро свыклась с моей привычкой оставаться в удобной близости от покатого ложа мелководья, покуда она в отдалении изнуряла себя «кролем» (если в двадцатые годы эти взмахи и шлепки так назывались); однако в то утро я едва не совершил непростительную глупость.
Я преспокойно плавал взад-вперед вдоль берега, поминутно удостоверяясь, что достаю ступней до илистого дна, с его неприятной на ощупь, хотя в целом дружелюбной растительностью, когда заметил, что морской пейзаж переменился. На втором плане появилась коричневая моторная лодка, управляемая молодчиком, в котором я узнал Л.П. Описав пенистый полукруг, лодка остановилась рядом с Айрис. Она ухватилась за яркий кант, и он заговорил с ней, после чего сделал движение, будто собирается втащить ее в свою лодку, но Айрис вырвалась, и он со смехом умчался прочь.
Все это заняло, должно быть, минуту-другую, но стоило бы шельмецу с ястребиным профилем и белым свитером грубой вязки помедлить всего несколько секунд или будь моя девушка похищена средь рева и брызг новым воздыхателем, я бы пропал, ибо, пока длилась эта сцена, некий мужественный инстинкт, более сильный, чем инстинкт самосохранения, заставил меня проплыть в их сторону несколько неосознанных ярдов, и когда я после этого принял вертикальное положение, чтобы отдышаться, ничего, кроме воды, у меня под ногами не было! Я развернулся и поплыл к берегу, уже ощущая зловещее зарево, дикое, никем еще не описанное предчувствие полного онемения, вкрадчиво обнимающего меня и заключающего свой убийственный пакт с силой земного притяжения. Внезапно мое колено уперлось в благословенный песок, и я на четвереньках, преодолев слабый отлив, выполз на берег.
8
«Я должен сделать признание, Айрис, относительно моего душевного здоровья».
«Погодите минутку. Хочу стащить эту противную лямку как можно ниже – настолько низко, насколько позволяют приличия».
Мы лежали на пристани: я навзничь, она ничком. Она сорвала с себя резиновый чепчик и теперь сражалась с бридочками мокрого купальника, чтобы выставить на солнце спину целиком; вспомогательные действия развернулись с моей стороны, вблизи ее соболиной подмышки: безуспешные усилия не показать белизну маленькой груди в месте ее нежного слияния с ребрами. Лишь только она перестала извиваться, добившись приемлемого внешнего вида, она приподнялась, прижимая черный лиф к груди, и принялась другой рукой по-обезьяньи шустро рыться в сумке, совершая очаровательные мелкие движения, как обычно делают девицы, выуживая что-нибудь – в данном случае розово-лиловую пачку дешевых «Salammbôs» и дорогую зажигалку; затем она снова прижалась грудью к расстеленному полотенцу. Сквозь черные завитки эмансипированной «медузы», как этот вид стрижки назывался в начале двадцатых годов, алела мочка ее уха. Лепка ее коричневой спины с крохотной родинкой пониже левой лопатки и длинной поясничной ложбинкой, искупавшей все погрешности животной эволюции, отчаянно мешала мне выполнить намеченное и предварить предложение руки особым, чрезвычайно важным признанием. Несколько аквамариновых капель воды все еще блестели на внутренней стороне ее загорелых бедер и на крепких коричневых лодыжках, и несколько зерен мокрой гальки пристали к ее розово-коричневым щиколоткам. Если я столь часто описывал в своих американских романах («Княжество у моря», «Ардис») нестерпимое очарование девичьей спины, то это главным образом из-за моей любви к Айрис. Ее плотные маленькие ягодицы – мучительнейший, изобильнейший и сладчайший бутон ее юной красы – были как неразвернутые подарки под рождественской елкой.
Вернувшись после этих мелких хлопот в прежнее положение под ожидавшее солнце, Айрис выпятила полную нижнюю губу, выдыхая дым, и заметила: «По-моему, с душевным здоровьем у вас все в порядке. Вы бываете порой странным и хмурым, нередко глупым, но это в природе ce qu’on appelle[23] гения».
«А что, по-вашему, “гений”?»
«Ну, умение видеть вещи, которых другие не видят. Или, скорее, невидимые связи вещей».
«Раз так, то я говорю о состоянии жалком, болезненном, ничего общего с гениальностью не имеющем. Мы начнем с конкретного примера из реальной обстановки. Пожалуйста, закройте глаза на минуту. Теперь представьте себе аллею, идущую от почты к вашей вилле. Видите ли вы два ряда платанов, сходящихся в перспективе, и садовую калитку между последними двумя из них?»
«Нет, – ответила Айрис. – Вместо последнего дерева справа стоит фонарный столб. Этого не разглядеть с деревенской площади, но на самом деле это столб, заросший плющом».
«Пусть, не важно. Главное – представить, что мы глядим из деревни, отсюда, в сторону садовой калитки – туда. В этой задаче нам следует быть предельно внимательными с нашими здесь и там. Покамест “там” – это прямоугольный, солнечно-зеленый двор за полуоткрытыми воротами. Теперь мы начинаем идти по аллее к дому. На втором стволе справа мы замечаем следы какого-то местного объявления…»
«Это Айвор его повесил. Он там извещает, что обстоятельства изменились и протеже тети Бетти следует прекратить свои еженедельные звонки по телефону».
«Отлично. Продолжаем идти к садовым воротам. Между стволов платанов с одной и с другой стороны видны части пейзажа. Справа от вас – пожалуйста, закройте глаза, так вы будете лучше видеть, – виноградник, а слева – погост: вы можете разглядеть его долгую, низкую, очень низкую ограду…»
«У вас выходит довольно зловеще. И я хочу кое-что добавить. Однажды мы с Айвором среди кустов ежевики наткнулись на покосившийся старый могильный камень с надписью “Dors, Médor!”[24] и только год смерти – 1889; чья-то собака, никаких сомнений. Это как раз перед последним деревом в левом ряду».
«Итак, теперь мы подходим к воротам. Мы собираемся войти, но тут вы вдруг останавливаетесь: вы забыли купить те чудные новые марки для вашего альбома. Мы решаем вернуться на почту».
«Можно мне открыть глаза? Боюсь, я усну».
«Напротив, пришло время зажмуриться покрепче и сосредоточиться. Вы должны представить, что поворачиваетесь на каблуках, отчего “правое” мгновенно становится “левым”, и вы мгновенно видите “здесь” как “там”, с фонарным столбом, находящимся теперь от вас по левую сторону, и с мертвым Медором – по правую, и с платанами, сходящимися у почтовой конторы. Можете ли вы сделать это?»
«Сделано, – сказала Айрис. – Поворот кругом выполнила. Теперь я стою лицом к солнечной скважине с крохотным розовым домиком и кусочком голубого неба внутри. Можем двинуться обратно?»
«Вы можете, а я нет! В этом и состоит суть эксперимента. В реальной, вещественной жизни я могу сделать оборот так же легко и быстро, как любой человек. Но в воображении, когда глаза закрыты и тело неподвижно, я не способен сменить одно направление на другое. Какая-то шестеренка в моем мозгу заедает. Я могу, разумеется, смошенничать, отложив мысленный снимок одного вида аллеи и не спеша выбрав противоположный для моего возвратного пути к отправной точке. Но если я не жульничаю, какая-то отвратительная препона, которая может свести с ума, вздумай я упорствовать, мешает мне представить разворот, обращающий одно направление в другое, противоположное. Я раздавлен, я волоку целый мир на своих плечах, пытаясь вообразить поворот кругом и заставить себя увидеть в категории “правостороннего” то, что видел в категории “левостороннего”, и наоборот».
Я подумал, что она, должно быть, уснула, но прежде чем я успел утешить себя мыслью, что она не слышала, не взяла в толк ничего из того, что гложет меня, она шевельнулась, натянула на плечи бридочки и села.
«Во-первых, – сказала она, – давайте условимся впредь оставить все эти опыты. Во-вторых, давайте признаем: то, что мы пытались сейчас сделать, – это разрешить дурацкую философскую загадку вроде того, что “правое” и “левое” означают в наше отсутствие, когда никто не смотрит, в чистом пространстве, и что такое пространство вообще. Когда я была маленькой, я думала, что пространство – это то, что внутри нуля, любого нуля, нарисованного мелом на грифельной доске и, возможно, не очень ровного, но все же хорошего округлого нуля. Мне совсем не хочется, чтобы вы сошли с ума или свели с ума меня, поскольку эти недоумения заразительны, – так что лучше нам вовсе забыть всю эту историю с вращением аллеи. Я бы с удовольствием скрепила наш уговор поцелуем, но только погодя. Вот-вот объявится Айвор, чтобы прокатить нас на своем новом автомобиле, но вы, наверное, не захотите, и посему я предлагаю встретиться на минутку в саду, перед обедом, пока он будет принимать ванну».
Я спросил, что Боб (Л.П.) сказал ей в моем видении. «То было не видение, – ответила она. – Он только хотел знать, не звонила ли его сестра по поводу танцев, на которые они нас троих пригласили. Но если и звонила, дома никого не было».
Мы направились в бар «Виктории», чтобы закусить и выпить, и вскоре к нам присоединился Айвор.
«Вот еще, – сказал он. – На сцене я могу отлично танцевать и фехтовать, но в жизни я неуклюж, как медведь, и вовсе не хочу, чтобы мою добродетельную сестру лапали всякие rastaquouères[25] с Лазурного Берега. Кстати, – добавил он, – меня мало заботит то, что П. так озабочен ростовщиками. Он в Кембридже практически разорил лучшего из них, но все, что он умеет, – это вслед за другими злословить о них самым пошлым образом».
«Забавный человек мой брат, – сказала Айрис, поворачиваясь ко мне, как в пьесе. – Он скрывает наше происхождение, будто тайное сокровище, но готов учинить публичный скандал, если кто-то назовет другого Шейлоком».
Айвор все не унимался: «Старик Моррис (его работодатель) обедает сегодня у нас. Мясные закуски и macédoine au[26] кухонный ром. Кроме того, я куплю консервированной спаржи в английской лавке – куда лучше той, что выращивают здесь. Автомобиль не совсем “Ройс”, но у него тоже есть руль-с. Жаль, что Вивиана слишком быстро укачивает. Утром я встретил Мадж Титеридж, и она сказала, что французские репортеры произносят ее имя как “Si c’est riche”[27]. Никто не смеется сегодня».
9
Слишком взволнованный для того, чтобы предаться обычной сиесте, я потратил большую часть полудня, сочиняя любовное стихотворение (и это последняя запись в моем дневнике за 1922 год – ровно спустя месяц после моего приезда в Карнаво). В то время у меня, казалось, было две музы: настоящая, истеричная, искренняя, дразнившая меня ускользающими обрывками образов и ломавшая руки над моей неспособностью принять чародейство и безумие, даровавшиеся мне, и ее подмастерье, ее девочка с палитрой и эрзац, рассудительная малышка, заполнявшая рваные пустоты, оставленные ее госпожой, пояснительной или латающей ритм шпатлевкой, которой становилось тем больше, чем дальше я отходил от изначального, эфемерного, дикого совершенства. Коварная музыка русских ритмов приносила мне иллюзорное избавление, подобно тем демонам, которые нарушают черное безмолвие преисподней художника имитациями греческих поэтов и доисторических птиц. Другой и окончательный обман совершался в Чистовой Копии, в которой каллиграфия, веленевая бумага и чернила на короткое время приукрашивали мертвые вирши. И подумать только, ведь почти пять лет я вновь и вновь брался за перо и каждый раз попадался на этот трюк, пока не выгнал вон эту нарумяненную, брюхатую, покорную и жалкую подручную!
Я оделся и спустился вниз. Створчатое окно на террасу было отворено. Старик Моррис, Айрис и Айвор сидели, попивая мартини, в партере великолепного заката. Айвор изображал какого-то человека с диковинным выговором и нелепыми жестами. Этот великолепный закат остался у меня в памяти не только как задник того вечера, переменившего мою жизнь, – именно он, по-видимому, повлиял на предложение, которое я сделал много лет спустя своему британскому издателю: выпустить роскошный альбом фотографий восходов и закатов, в котором была бы передана, насколько это возможно, вся гамма оттенков, – коллекцию, которая имела бы и научную ценность, поскольку можно было бы нанять какого-нибудь сведущего селестиолога, чтобы он сопоставил образцы, полученные в разных странах, и разъяснил удивительные, никем прежде не отмеченные различия в цветовой палитре заходов и рассветов. Такой альбом все-таки был издан, дорогой и с недурными иллюстрациями; однако описания к нему были составлены какой-то бездарной дамой, жеманная проза и заёмная поэзия которой испортили книгу («Аллан и Овертон», Лондон, 1949).
Некоторое время я стоял неподвижно, вполуха слушая крикливое выступление Айвора и обозревая огромный закат. Его акварель была классического светло-оранжевого тона с косо пересекающей ее иссиня-черной акулой. Композиции придавала величие группа ярко тлеющих облачков, в изодранных плащах с капюшонами, плывущих над красным солнцем, принявшим форму пешки или лестничной балясины. «Взгляните на этот шабаш ведьм!» – едва не воскликнул я, но в ту же минуту Айрис встала со своего места и до меня донеслись ее слова:
«Довольно, Айвз. Моррис не знает этого человека, напрасно стараешься».
«Ничего не напрасно, – парировал ее брат. – Он сейчас познакомится с ним и сразу его опознает (этот глагол был солью реплики), в том-то и фокус!»
Айрис сошла с веранды в сад, и Айвор не стал продолжать своего фарса, который, когда я быстро прокрутил его назад, поразил меня тонкой пародией моей речи и манер. Меня посетило странное ощущение, будто от меня отняли часть и бросили за борт, будто я отделился от самого себя, будто я устремляюсь вперед и в то же время отклоняюсь в сторону. Второе действие возобладало, и я мгновение спустя присоединился к Айрис под сенью каменного дуба.
Трещали сверчки, сумерки наполняли бассейн, луч уличного фонаря мерцал на никеле двух припаркованных автомобилей. Я целовал ее в губы, в шею, в ожерелье, в шею, в губы. Ее ответные поцелуи рассеяли мою хандру, но прежде чем она убежала обратно на празднично освещенную веранду, я сказал ей, что думаю о ее дураке братце.
Айвор лично принес мне ужин (прямо на столик у кровати) – с ловко скрываемым огорчением артиста, чьи старания не имели успеха, с очаровательными извиненьями за причиненную мне обиду и с «у вас не осталось свежих пижам?», на что я ответил, что, напротив, чувствую себя скорее польщенным и, собственно, летом всегда сплю голышом, но предпочел не спускаться вниз из опасения, как бы легкая мигрень не помешала мне соответствовать столь блестящей пародии.
Спал я тревожно, и только после полуночи соскользнул в более глубокое оцепенение (иллюстрированное без всякой причины образом моей первой маленькой душеньки на садовой лужайке), от которого был грубо пробужден харкающими звуками мотора. Я накинул рубашку, высунулся в окно, спугнув стайку воробьев с жасмина, пышная поросль которого достигала второго этажа, и увидел, ощутив плотский позыв, как Айвор кладет сумку и удочку в свой автомобиль, который стоял, подрагивая, чуть не в самом саду. Было воскресенье, и я предполагал, что он пробудет в доме весь день, а он сел за руль и захлопнул дверцу. Садовник двумя руками указывал ему тактические направления; рядом с ним стоял его хорошенький мальчуган, держа метелку из желто-голубых перьев. А затем я услышал ее милую английскую речь: она желала брату приятно провести время. Я высунулся еще дальше, чтобы увидеть ее: она стояла на пятачке чистого прохладного дерна, босоногая, с голыми икрами, в пеньюаре с широкими рукавами, повторяющая слова своего веселого прощания, которых он уже слышать не мог.
Через лестничную площадку я бросился в уборную. Несколько мгновений спустя, покинув булькающее, жадно переглатывающее убежище, я увидел ее на другой стороне лестничной площадки. Она входила в мою комнату. Моя рубашка для игры в поло, очень короткая, цвета лососины, не могла скрыть моего явного нетерпения.
«Не люблю ошеломленного вида остановившихся часов», – сказала она, потянувшись тонкой смуглой рукой к полке, на которую я отправил в отставку старый кухонный хронометр, одолженный мне вместо обычного будильника. Едва ее широкий рукав соскользнул к плечу, я припал губами к темной надушенной впадинке, о чем мечтал с нашего первого дня на солнце.
Я знал, что дверной замок сломан, но все же сделал попытку и был вознагражден идиотским подобием поворотных щелчков, решительно ничего не заперших. Чьи шаги, чей надрывный кашель слышались с лестницы? Ах да, это Жако, сын садовника, который протирает поверхности и смахивает пыль по утрам. «Он может сунуться сюда, – сказал я, уже с трудом произнося слова, – чтобы натереть, к примеру, этот подсвечник». – «Ах, это все равно, – шептала она, – он всего лишь старательный мальчик, несчастный приживала, как и все наши собаки и попугаи. А живот у тебя все еще розовенький, как твоя рубашка. И пожалуйста, милый, не забудь улизнуть, пока не будет слишком поздно».
Как далеко, как ярко, как неизменно в вечности, как обезображено временем! В постели попадались хлебные крошки и даже кусок апельсиновой кожуры. Юношеский кашель смолк, но я отчетливо слышал скрипы, вкрадчивую поступь, гул в прижатом к двери ухе. Мне было, должно быть, лет одиннадцать или двенадцать, когда племянник моего двоюродного деда приехал в подмосковную усадьбу, где я проводил то жаркое и ужасное лето. Он привез с собой свою пылкую новобрачную – прямо со свадебного пира. На другой день, после полудня, раздраженный любопытством и своим воображением, я пробрался к потайному местечку под окном гостевой спальни, которая находилась на втором этаже, в жасминовые заросли, где давно и прочно стояла лестница садовника. Она достигала только до верхнего края закрытых ставень первого этажа, и хотя я нашел на декоративном выступе опору для ноги, я лишь смог уцепиться за подоконник приоткрытого окна второго этажа, из которого доносились неясные звуки. Я различил дребезжанье кроватных пружин и ритмичное звяканье фруктового ножа на тарелке, рядом с кроватью, одну из стоек которой я смог увидеть, изо всех сил вытянув шею; но больше всего заворожило меня другое – отважные стоны с невидимой части кровати. Нечеловеческое усилие позволило мне углядеть розовую рубашку на спинке стула. Он, восхищенное животное, обреченное сгинуть однажды, как и многие другие, теперь со все нарастающей потребностью повторял ее имя, и к той минуте, когда моя нога сорвалась, он уже кричал в полный голос, заглушая шум моего внезапного обрушения – прямо в ломкие ветви и метель лепестков.
10
Айвор еще не успел вернуться с рыбалки, как я уже перебрался в «Викторию», где она ежедневно меня навещала. Этого не было довольно; но осенью Айвор уехал на жительство в Лос-Анджелес, чтобы вместе со своим сводным братом управлять фильмовой компанией «Аменис» (для которой тридцать лет спустя, когда Айвор давно уже умер по ту сторону Дувра, я написал сценарий по своему самому известному в то время, но далеко не лучшему роману «Пешка берет королеву»), и мы с Айрис вернулись на нашу любимую виллу в действительно довольно хорошем синем «Икаре» – обдуманном подарке Айвора нам на свадьбу.
Как-то в октябре мой благодетель, достигший к тому времени последней стадии величественной дряхлости, приехал с ежегодным визитом в Ментону. Мы с Айрис без предупреждения зашли его навестить. Вилла графа была несравнимо роскошнее нашей. Он с трудом поднялся на ноги, взял в свои восково-бледные ладони ее ручку и вперил в Айрис туманно-голубой взор, рассматривая ее по меньшей мере секунд пять (небольшая вечность по светским правилам) в некоем подобии ритуального молчания, после чего он обнял и трижды расцеловал меня обстоятельным перекрестным поцелуем по ужасному русскому обычаю.
«Твоя нареченная, – сказал он по-английски (о котором Айрис позднее заметила, что он точь-в-точь как мой – в незабвенной интерпретации Айвора), используя это слово (bride), как я догадался, в значении fiancée[28], – столь же хороша, сколько должна быть и твоя супруга!»
Я поспешил сообщить ему – по-русски, – что после нарядной церемонии в мэрии Канницы мы с Айрис уже около месяца как муж и жена. Никифор Никодимович вновь уставился на Айрис и наконец прикоснулся к ее руке губами, которую она, как я с удовольствием отметил, подняла надлежащим образом (натасканная, разумеется, Айвором, не упускавшим случая потискать сестрицу).
«Я неверно истолковал слухи, – сказал граф, – но все же рад знакомству со столь очаровательной молодой леди. И где же, скажите на милость, в каком храме состоится освящение данного вами обета?»
«В том храме, сэр, который мы возведем сами», чуточку дерзко, пожалуй, ответила Айрис.
Граф Старов «пожевал губами», по обыкновению стариков в русских романах, и в эту минуту очень кстати вошла мисс Вроде-Вородина, его пожилая кузина, управлявшая хозяйством, и проводила Айрис на чашку чая в смежный с комнатой альков (озаренный замечательным портретом печально известной красавицы мадам де Благидзе, в кавказском костюме, написанным Серовым в 1896 году).
Граф хотел обсудить со мной деловые вопросы. Он располагал всего десятью минутами «до инъекции».
Какова девичья фамилия моей супруги?
Я сказал. Он обдумал ответ и покачал головой. А какова была фамилия ее матери?
Я сказал и это. Последовала та же реакция. Как обстоит дело с финансовой основой нашего брака?
Я сказал, что она владеет виллой, попугаем, автомобилем и еще получает небольшой доход – точной суммы я не знал.
Обдумав это с минуту, он спросил, не желаю ли я поступить на службу в «Белый Крест». Никакого отношения к Швейцарии. Это организация, которая оказывает помощь русским христианам по всему миру. Служба предполагала разъезды, интересные знакомства, продвижение на важные должности.
Я отказался столь решительно, что он выронил из рук серебряную коробочку с пилюлями, и россыпь ни в чем не повинных пастилок усеяла стол вокруг его локтя. Он смахнул их на ковер жестом сварливого отвержения.
Чему же я в таком случае намерен себя посвятить?
Я сказал, что, как и прежде, буду предаваться своим литературным мечтам и кошмарам. Большую часть года мы проведем в Париже. Париж становился центром эмигрантской культуры и нищеты.
И сколько же я надеюсь зарабатывать?
Что ж, как Н.Н. хорошо известно, валюты уже не такие «твердые» после водоворота инфляции, но Борис Морозов, известный писатель, прославленный еще до революции, поделился со мной некоторыми поучительными «примерами умеренности». Я недавно встретился с ним в Каннице, куда он приехал выступить с лекцией о Баратынском в местном литературном кружке. В его случае одним четверостишием можно оплатить bifstek pommes[29], а двумя критическими фельетонами в «Новостях эмиграции» месячную аренду дешевой chambre garnie[30]. Кроме того, по меньшей мере дважды в год он читает свои произведения перед публикой в больших залах и получает за каждое выступление сумму, равную, скажем, ста долларам.
Поразмыслив над этим, мой благодетель сказал, что, покуда он жив, я буду получать ежемесячно первого числа чек на половину названной суммы и что кое-какие деньги я получу по его завещанию. Он сказал, сколько именно. Ничтожность суммы поразила меня. То было предвестием тех разочаровывающих авансов, которые издатели предлагали мне после долгих пауз под многообещающее постукивание карандашом.
Мы сняли квартиру из двух комнат в шестнадцатом округе Парижа по улице Despréaux, 23. Соединявший комнаты коридор вел к ванной и кухоньке. Предпочитая из принципа и по склонности спать в одиночестве, я оставил широкую кровать в распоряжение Айрис, а сам спал на диванчике в гостиной. Убираться и готовить приходила дочь консьержки. Ее кулинарные способности были ограничены, и мы частенько нарушали рутину овощных супов и вареного мяса обедами в русском ресторанчике. В этой маленькой квартире нам предстояло провести семь зим.
Благодаря предусмотрительности моего дорогого опекуна и покровителя (1850?–1927), космополита старой складки со множеством полезных знакомств в лучших частях света, я еще до женитьбы стал подданным одного уютного иностранного государства, что избавило меня от унижения нансенским паспортом (вид на нищенство, по сути), равно как и от мещанской одержимости «документами», возбуждающей такое дьявольское веселье среди большевицких управителей, находящих скотское сходство между тишиной темниц и канцелярий, а также усматривающих немало общего в бедственной гражданской безысходности эмигрантов и политической закрепощенности советских рабов. Я же мог увезти свою жену в любой каникулярный парадиз на земле, не дожидаясь неделями визы и не страшась получить отказ, скажем, на въезд в ту самую случайную страну – а для нас ею стала Франция, – где мы жили постоянно, по причине какого-нибудь формального изъяна в наших драгоценных и презренных бумагах. Теперь (1970), когда на смену моему британскому паспорту пришел не менее действенный американский, я все еще храню тот, 1922 года, фотопортрет загадочного молодого человека, каким я был тогда, с таинственно улыбающимися глазами, полосатым галстуком и волнистыми волосами. Помню наши весенние путешествия на Мальту и в Андалусию, но каждое лето, к началу июня, мы на автомобиле приезжали в Карнаво и проводили там месяц-другой. Попугай умер в 1925 году, мальчик с метелкой исчез в 1927-м. Айвор дважды навещал нас в Париже, и еще она, полагаю, видалась с ним в Лондоне, куда ездила не реже одного раза в год, чтобы провести несколько дней с «друзьями», которых я не знал, но которые как будто не вызывали опасений – по крайней мере до определенного времени.
Мне полагалось быть более счастливым. Я и намеревался быть более счастливым. Поверхность моего здравия оставалась такой же пегой, со зловещими очертаниями, сквозящими в его самых хрупких гранях. Вера в мое писательское призвание никогда не покидала меня, но Айрис, несмотря на ее трогательные попытки разделить его, оставалась в стороне, и чем лучше я писал, тем более чуждыми мои сочинения делались для нее. Она не раз принималась за беспорядочные занятия русским, регулярно и надолго прерывала их и кончила дело привычным вялым отвращением к этому языку. Вскоре я заметил, что она уже больше не старается казаться увлеченной и понимающей, когда в ее присутствии начинала звучать русская, исключительно русская речь (предваряемая из вежливого снисхождения к ее беспомощности несколько примитивным французским вступлением в первые минуты вечеринки или приема).
Все это в лучшем случае вызывало досаду, в худшем – разрывало мне сердце; впрочем, кое-что другое действительно угрожало моему психическому благополучию.
Ревность, великан в маске, никогда прежде не становившийся у меня на пути во времена легкомысленных увлечений моей ранней юности, теперь, сложив на груди руки, подстерегал меня за каждым углом. Некоторые маленькие постельные ухищрения, к которым прибегала моя прелестная, уступчивая, чуткая Айрис, любовное разнообразие, нежность и прилежность ласк, та незаметная точность, с какой она сноровисто прилаживала свое гибкое тело ко всякому сооружению соития, предполагали, казалось, богатый опыт. Прежде чем заподозрить настоящее, я должен был насытиться муками ревности по части ее прошлого. Во время допросов, которым я подвергал ее в худшие из моих ночей, она отметала свои прошлые романы как совершенно никчемные, не сознавая, что эта недоговоренность оставляет моему воображению намного больше, чем самая чрезмерно преувеличенная правда.
Бывшие у нее в ранней юности трое любовников (число, которое я выпытал у нее с яростью безумного пушкинского игрока и с еще меньшим везением) остались безымянными и оттого призрачными; лишенные каких-либо индивидуальных черт, они казались одним и тем же размноженным человеком. Как самые никчемные танцовщики в кордебалете, они выполняли свои схематичные па где-то на периферии ее сольного выступления, демонстрируя скорее унылую гимнастику, чем танец, и было ясно, что никто из них никогда не станет звездою труппы. Она же, балерина, была как тусклый бриллиант, и каждая грань ее таланта была готова сверкнуть, но из-за окружавшего убожества ей приходилось до поры ограничивать свои движения и жесты рамками холодного кокетства и увертливого флирта – в ожидании огромного прыжка мраморнобедрого атлета в сверкающем трико, который должен был буквально извергнуться из-за кулис после подобающей увертюры. Мы полагали, что я был выбран на эту роль, но мы ошибались.
Только так, проецируя на экран воображения эти стилизованные образы, я мог усмирить боль любострастной ревности, сосредоточенной на призраках. И все же нередко я предпочитал поддаться ей. Двустворчатое, доходящее до пола окно моего кабинета на вилле «Ирис», служившее также и дверью, вело на тот же балкон под красной черепицей, что и окно в спальне моей жены; его можно было приоткрыть под таким углом, чтобы в нем отразились два различных вида, наложенных один на другой. Косая плоскость стекла захватывала за чередой монастырских арок, переходивших из комнаты в комнату, край ее постели и частично ее саму: ее волосы, ее плечо – единственный способ что-нибудь увидеть, стоя за старинным аналоем, за которым я писал; но окно также удерживало, так сказать, на расстоянии вытянутой руки, зеленую реальность сада с кипарисами-пилигримами, бредущими вдоль стены. И вот так, частью в постели, частью в бледных, жарких небесах, она, бывало, полулежа писала письмо, распятое на моей не лучшей шахматной доске. Я знал, что на мой вопрос она ответит: «ах, к своей однокашнице», или «к Айвору», или «к старушке Купаловой», и еще я знал, что тем или иным способом письмо достигнет почтового отделения в конце платановой аллеи, а я так и не увижу имя получателя. И все же я позволял ей писать, удобно плывущей в спасательном жилете подушки над кипарисами и садовой стеной, в то время как я все продолжал измерять – непреклонно, безрассудно, – до каких темных глубин дотянется щупальце боли.
11
Ее занятия моим родным языком по большей части сводились к тому, что она приносила той или иной русской госпоже, мадемуазель Купаловой или мадам Лапуковой (ни одна английского толком не знала), какую-нибудь мою поэму или эссе для устного пересказа на некоем подобии самодельного воляпюка. После того как я заметил ей, что она попусту теряет время на этих бестолковых «уроках», она принялась за поиски другого алхимического метода, который позволил бы ей прочесть все мои сочинения. Я уже взялся тогда (1925) за свой первый роман («Тамара»), и она выпросила у меня копию первой главы, только что отпечатанной мною. Айрис отнесла ее в агентство, подвизавшееся на французских переводах разных насущных текстов, вроде анкет и прошений, подававшихся русскими беженцами различным крысам в крысиных норах различных комиссариатов. Человек, согласившийся выполнить для нее «дословный перевод», за который она заплатила в валюте, продержал манускрипт два месяца, а когда наконец вернул его Айрис, сообщил ей, что моя «статья» предъявляет почти невыполнимые требования, «будучи написана идиоматическими выражениями и совершенно чуждым рядовому читателю слогом». Так безымянный идиот из обшарпанной, шумной, захламленной конторы стал моим первым критиком и переводчиком.
Я ничего не знал об этой авантюре, пока однажды не застал ее, склонившую русые кудри над широкими листами, почти сквозными из-за лютой молотьбы фиолетовых литер, покрывавших их безо всякой надежды на поля. В то время я наивно отвергал саму возможность перевода – отчасти оттого, что мои собственные попытки переложить два-три своих ранних сочинения на мой личный английский вызвали у меня лишь тошное отвращение и чудовищные мигрени. Айрис (ладонь подпирает щеку, глаза, с застывшим в них недоумением, скользят по строкам) взглянула на меня скорее смущенно, но с тем проблеском юмора, который никогда не покидал ее в самых абсурдных или томительных ситуациях. Я заметил грубую ошибку в первой строке, невнятицу во второй и, не утруждая себя дальнейшим чтением, разорвал страницы в клочья, что не вызвало у моей горемычной милочки никакой реакции, кроме безучастного вздоха.
Дабы возместить свое отсутствие в ряду моих почитателей, она решила сама сделаться писательницей. С середины двадцатых годов и до последних дней своей короткой, растраченной впустую, лишенной очарования жизни моя Айрис сочиняла детективный роман в двух, трех, четырех сменявших одна другую версиях, в которых сюжет, персонажи, обстановка, решительно всё постоянно менялось в ошеломляющих молниях неистовых вычерков – всё, кроме имен (ни одного из которых я не помню).
Она не только не обладала литературным талантом, но не имела даже склонности к подражанию тем даровитым авторам из числа преуспевших, хотя и преходящих поставщиков «криминального чтива», продукцию которых она поглощала с неразборчивой жадностью образцового заключенного. С другой стороны, если так, то откуда моя Айрис знала, что следует переделать, что исключить? И какой гениальный инстинкт отдал ей приказ уничтожить всю кипу черновиков в канун, да, почти что в самый канун ее внезапной гибели? Все, что эта удивительная девушка могла себе представить с поразительной ясностью, – это мягкую кроваво-красную обложку итогового, идеального издания с изображением волосатого кулака злодея, целящегося зажигалкой в виде пистолета в читателя – который не должен был догадаться, пока все персонажи в книге не умрут, что то и впрямь был пистолет.
Позвольте мне указать на несколько пророческих отметин, ловко спрятанных в ту пору в кружеве наших семи зим.
Во время затишья на одном восхитительном концерте, на который мы не смогли получить смежных мест, я заметил, как Айрис с энтузиазмом поприветствовала меланхоличного вида женщину с тусклыми волосами и тонкими губами; я определенно встречал ее где-то, причем совсем недавно, но сама невзрачность ее наружности отбивала охоту преследовать ускользающее воспоминание, а спросить Айрис о ней как-то не довелось. Ей суждено было стать последней учительницей моей жены.
Всякий автор, выпустивший свою первую книгу, считает тех, кто ее с восторгом принял, своими личными друзьями или безличными сторонниками, в то время как ее хулители могут быть лишь завистливыми подлецами и ничтожествами. Я бы, разумеется, впал в ту же ошибку по отношению к приему, какой оказали моей «Тамаре» в русских повременных изданиях Парижа, Берлина, Праги, Риги и других городов, но к тому времени я уже погрузился в свой второй роман, «Пешка берет королеву», а мой первый усох до щепотки цветного праха в моем сознании.
Редактор ежемесячного журнала «Patria»[31], в котором начала выпусками печататься моя «Пешка», пригласил «Ириду Осиповну» и меня на литературный самовар. Упоминаю об этом лишь потому, что то был один из немногих салонов, который моя нелюдимость удостоила посещения. Айрис помогала с бутербродами. Я курил трубку и подмечал пищевые повадки двух маститых романистов, трех романистов помельче, одного крупного поэта, пятерых мелких (обоих полов), одного маститого критика (Демьяна Базилевского) и еще девяти мелких, в том числе неподражаемого «Простакова-Скотинина» – фарсовое театральное прозвище, придуманное его заклятым соперником Христофором Боярским.
Крупный поэт, Борис Морозов, разновидность любезного медведя гризли в человечьем обличье, на вопрос, как прошло его выступление в Берлине, ответил: «Ничево» – и принялся рассказывать смешную, но позабытую историю о новом главе Общества эмигрантских писателей в Германии. Сидевшая рядом со мной дама сообщила мне, что она в восторге от того коварного разговора между Пешкой и Королевой – о муже, – и поинтересовалась, неужели они вправду собираются вытолкнуть бедного шахматиста в окно. Я сказал, что собираются, как же, но не в следующем номере и совершенно впустую, поскольку ему суждено жить вечно в сыгранных им партиях и во множестве восклицательных знаков будущих комментаторов. В то же время я слышал, а слух у меня почти под стать зрению, обрывки застольного разговора, вроде пояснительного шепотка через плечо, за пять стульев от меня: «Она англичанка».
Об этом, как о вещах слишком незначительных, не стоило бы и писать, если бы их назначение не состояло в том, чтобы служить заурядным фоном всех подобных эмигрантских посиделок, фоном, который то и дело озарялся определенным напоминанием, – строчкой Тютчева или Блока, приводимой мимоходом, среди разговоров о хлебе насущном и обычной болтовни, – если бы не это неизменное присутствие привычно почитаемой и тайно разделяемой высоты искусства, украшавшей печальные жизни неожиданной каденцией, нисходящей с неких горних вершин, – слава, сладость, радужная полоска на стене от хрустального пресс-папье, место которого мы не можем определить. Вот чего была лишена моя Айрис.
Возвращаясь к незначительным вещам: я попотчевал собравшихся одним из перлов, замеченных мною в «переводе» «Тамары»: фраза «виднелось несколько барок» превратилась в «la vue était assez baroque»[32]. Знаменитый критик Базилевский, приземистый светловолосый человек в мятом коричневом костюме, затрясся в утробном веселье, но затем на его лице появилось подозрительно-недовольное выражение. После чая он пристал ко мне, грубо добиваясь признания в том, что я выдумал этот пример с неверным переводом. Помню, что я ответил: если так, то и он сам вполне может быть плодом моего воображения.
Когда мы шли домой, Айрис посетовала, что ей никак не удается затуманить стакан чаю одной ложкой приевшегося малинового варенья. Я сказал, что готов мириться с ее нарочитой замкнутостью, но заклинаю перестать объявлять à la ronde[33]: «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания: я люблю звучание русской речи». Вот это уже было оскорбительно, все равно как сказать писателю, что его книга невразумительна, но отлично издана.
«Я собираюсь все исправить, – весело ответила она. – Просто беда с учителями – я всегда считала, что подходишь только ты, но ты отказался – то тебе некогда, то ты устал, то тебе скучно, то это вредит твоим нервам. Наконец я нашла кое-кого, кто говорит на двух языках, твоем и моем, как если бы оба были ему родные, и кто может совместить все грани. Я говорю о Наде Старовой. Собственно, это она предложила».
Надежда Гордоновна Старова была женой лейтенанта Старова (имя значения не имеет), служившего под началом Врангеля, а теперь работавшего в конторе «Белого Креста». Я недавно имел возможность с ним познакомиться. Это случилось в Лондоне, на похоронах, когда мы вместе с ним несли гроб старого графа, чьим внебрачным сыном, или «усыновленным племянником» (что бы это ни значило), он, как поговаривали, был. Темноглазый, смуглый мужчина, на три или четыре года старше меня, он показался мне довольно красивым – на задумчивый, сумрачный лад. Полученное на Гражданской войне ранение в голову вызвало у него жуткий тик, внезапно, через неравные промежутки, искажавший его лицо, как если бы невидимая рука сминала бумажный пакет. Надежда Старова, невзрачная тихая женщина с чем-то неуловимо квакерским в облике, ради каких-то своих целей, определенно медицинского рода, измеряла эти интервалы по часам, в то время как сам Старов своих лицевых «фейерверков» не ощущал и не сознавал, если только ему не случалось увидеть их в зеркале. Он обладал мрачноватым чувством юмора, красивыми руками и бархатным голосом.
Теперь мне стало ясно, что на том концерте Айрис поздоровалась с Надеждой Гордоновной. Не помню, когда именно начались уроки и сколько эта причуда продлилась – месяц-другой, не больше. Проходили они в доме госпожи Старовой или в одной из тех русских чайных, где обе дамы часто бывали. Я держал под рукой короткий список телефонных номеров, так что Айрис знала, что я всегда могу удостовериться в ее местонахождении – если, скажем, почувствую, что вот-вот сойду с ума, или захочу, чтобы она по дороге домой купила жестянку моего любимого табака «Черная слива». Однако ей было невдомек, что я ни за что не отважился бы звонить по этим номерам, поскольку, не окажись она там, где должна быть, я испытал бы такие мучения, каких мне не вынести даже в продолжение нескольких минут.
Однажды под Рождество 1929 года она между прочим сказала, что те занятия русским уже довольно давно прекратились: госпожа Старова отбыла в Англию и, по слухам, возвращаться к мужу не собиралась. Наш поручик, похоже, был человек лихой.
12
В какой-то таинственный момент под конец нашей последней парижской зимы что-то в наших отношениях изменилось к лучшему. Волна новой теплоты, новой близости, новой нежности захлестнула нас и стерла все иллюзии отчужденности – размолвки, молчаливые укоры, подозрения, укрывательства в замках amour-propre[34] и тому подобное, – которые препятствовали нашей любви и в которых был виновен только я один. Более ласковой, веселой подруги я и представить себе не мог. В нашу повседневную жизнь вернулись маленькие нежности, любовные прозвища (с моей стороны основанные на русских словечках); я изменял своему подвижническому распорядку работы над повестью в стихах «Полнолуние» ради конных прогулок с ней в Булонском лесу или послушного сопровождения ее на дразнящие показы мод и выставки мошенников-авангардистов. Я подавил в себе презрение к «серьезному» кинематографу (сводящему любые сердечные неурядицы к политическим разногласиям), который она предпочитала американским балаганным комедиям и комбинированным съемкам немецких фильмов ужасов. Я даже согласился выступить с воспоминаниями о своих кембриджских временах перед довольно жалким собранием Дамского английского клуба, в котором она состояла. И в довершение всего я поделился с ней фабулой моего следующего романа («Камера люцида»).
Однажды после обеда, в марте или начале апреля 1930 года, она просунула голову в дверь моей комнаты и, получив позволение войти, вручила мне ремингтонированную копию страницы под номером 444. Это, сказала она, пробный эпизод ее нескончаемой повести, в которой вычерков скоро будет больше, чем вставок. «Я зашла в тупик», сказала она. Диана Вэйн, героиня второстепенная, но в целом девушка славная, англичанка, живущая в Париже, знакомится в школе верховой езды с необычным человеком – французом корсиканского или, возможно, алжирского происхождения, страстным, брутальным, неуравновешенным мужчиной. Он принимает Диану, и настаивает на этом, несмотря на ее веселые протесты, за свою бывшую возлюбленную, тоже англичанку, с которой он давно расстался. Здесь у нас, пояснял автор, своего рода галлюцинация, настоящая одержимость мысленным образом, которым Диана, очаровательная кокетка с живым чувством юмора, позволяет Жюлю тешиться на протяжении двадцати, приблизительно, уроков верховой езды; но затем его внимание к ней приобретает более реалистические очертания, и она прекращает встречаться с ним. Между ними ничего не было, и все же его просто невозможно убедить в том, что он принимает ее за другую, ту, которой он когда-то обладал, или думал, что обладал, поскольку ведь и эта девушка тоже могла быть только тающим образом его еще более ранней возлюбленной или всплывшим в памяти видением. Весьма неординарная ситуация.
Итак, на этой странице – последнее зловещее письмо к Диане, написанное этим самым французом на искаженном английском языке иностранца. Она попросила меня прочитать его, как если бы это было настоящее письмо, и дать совет опытного писателя, как могут развиваться события или угрозы.
Счастье мое!
Не могу поверить [not capable to represent to myself], что ты действительно желаешь разорвать со мной всякую связь. Видит Бог, я люблю тебя больше жизни – больше двух жизней, твоей и моей, вместе взятых. Не захворала ли ты? Или, может быть, ты нашла другого? Другого любовника, да? Новую жертву твоего очарования? Нет, нет, эта мысль слишком ужасна, слишком унизительна для нас обоих [for us both].
Моя мольба скромна и справедлива: дай мне лишь еще одно свидание [one more interview]! Одно свидание! Я готов встретиться с тобой все равно где – на улице, в каком-нибудь кафе, в лесу Булони [in the Forest of Boulogne], но я должен увидеть тебя, поговорить с тобой и открыть тебе много тайн, прежде чем умру. О нет, это не угроза! Клянусь, что если у нашей встречи будет благоприятный исход, если, другими словами, ты позволишь мне надеяться, только надеяться, тогда, о, тогда я соглашусь немного подождать. Но ты должна ответить мне безотлагательно, моя жестокая, глупенькая, обожаемая девочка!
Твой Жюль
«Здесь есть одно обстоятельство, – сказал я, аккуратно складывая страницу и пряча ее в карман для последующего изучения, – о котором обожаемой девочке следует знать. Это написано не влюбленным корсиканцем на грани crime passionnel[35], а русским шантажистом, владеющим английским в тех небольших пределах, которые позволяют ему переложить на него самые затасканные русские выражения. Но меня озадачивает вот что: как ты, знающая только три или четыре русских слова – как поживаете и до свидания, – как ты, писательница, смогла придумать все эти словесные тонкости и сымитировать ошибки в английском, которые допустил бы лишь русский? Я знаю, что склонность к перевоплощениям – ваша фамильная черта, но все же…»
Айрис ответила (с той удивительной non sequitur[36], которой сорок лет спустя я наделил героиню моего «Ардиса»), что, да, спору нет, я прав, она, должно быть, переусердствовала со своими беспорядочными занятиями русским и ей следует, конечно, исправить это диковинное впечатление, попросту переписав все письмо по-французски – из которого, к слову, русский язык, как ей объяснили, перенял массу клише.
«Но дело-то не в этом, – добавила она. – Ты не понял, что главное совсем в другом: что будет дальше, я имею в виду логическое развитие? Что делать моей бедной девушке с этим занудой, с этим животным? Ей не по себе, она растеряна, она напугана. Чем кончится эта история – трагедией или фарсом?»
«Мусорной корзиной», шепнул я, оставляя работу, чтобы усадить ее стройное тело к себе на колени, как я часто делывал, благодарение Богу, в ту роковую весну 1930 года.
«Верни мне бумажонку», попросила она вкрадчиво, пытаясь просунуть руку в карман моего халата. Но я покачал головой и еще крепче прижал ее к себе.
Моя затаенная ревность взревела бы, как горнило, приди мне в голову, что моя жена перестукала подлинное послание, полученное, к примеру, от одного из тех гнусноватых и немытых эмигрантских поэтишек с гладко прилизанными волосами и выразительно-водянистыми глазами, которых она встречала на русских вечерах. Однако, перечитав письмо, я решил, что она все же могла его сама написать, подпустив несколько ошибок, позаимствованных из французского языка (supplication, sans tarder[37]), тогда как другие ошибки могли быть неосознанными отголосками воляпюка, засевшего у нее в голове во время ее занятий с русскими учителями, когда она корпела над двух- или трехъязычными упражнениями из дрянных учебников. И все, что я сделал, вместо того, чтобы затеряться в чаще темных догадок, – это сохранил тонкий лист бумаги с неровными полями, так отличавшими ее машинописную манеру, в потертом и потрескавшемся кожаном портфеле, лежащем передо мной среди иных памятных вещей, иных смертей.
13
Утром 23 апреля 1930 года резкий телефонный звонок из прихожей застал меня входящим в наполненную ванну.
Айвор! Он только что прибыл в Париж из Нью-Йорка на какую-то важную конференцию, будет занят до вечера, завтра уезжает и хотел бы…
Тут вмешалась голая Айрис и деликатно, вкрадчиво, сияя улыбкой, присвоила без умолку говорящую трубку. Минутой позже (при всех его недостатках, Айвор был милосердно-краток по телефону) она, все еще сияя, прильнула ко мне, и мы переместились в ее спальню для нашего заключительного «fairelamourir»[38], как она это называла на своем нежном и беспутном французском.
Айвор должен был заехать за нами в семь вечера. Я уже надел свой старый смокинг; Айрис в прихожей бочком стояла у зеркала (самого лучшего и ясного в квартире), медленно поворачиваясь, чтобы узреть в ручном зеркальце, которое она держала на уровне головы, свой шелковисто-черный затылок.
«Если ты готов, – сказала она, – пожалуйста, купи маслин. После ужина Айвор зайдет к нам, а он любит их к своему “постбренди”».
Я спустился вниз, пересек улицу и, ежась от холода (был сырой, безотрадный вечер), потянул дверь съестной лавки напротив нашего дома, а шедший за мной человек придержал ее своей крепкой рукой. На нем был плащ свободного кроя и берет; его смуглое лицо искажал тик. Я узнал лейтенанта Старова.
«Ah! – сказал он. – A whole century we did not meet!»[39]
Его дыхание отдавало странным химическим запахом. Однажды я попробовал нюхнуть кокаин (от которого меня только вырвало), но это был какой-то другой наркотик.
Он стянул черную перчатку для того обстоятельного рукопожатия, каким мои соотечественники считают обязательным сопровождать любое «здрасте-досвиданья», и отпущенная дверь ударила его между лопаток.
«Pleasant meeting! – продолжил он на своем курьезном английском (не бахвалясь, как можно было бы подумать, но используя его по неосознанной ассоциации). – I see you are in a smoking. Banquet?»[40]
Платя за оливки, я отвечал ему по-русски, что так и есть, ужинаем с женой в ресторане. После этого я уклонился от прощального рукопожатия, воспользовавшись тем, что к нему обратилась продавщица для следующей транзакции.
«Что ты наделал! – воскликнула Айрис. – Нужно было взять черных, а не зеленых!»
Я сказал, что идти за ними отказываюсь, так как не желаю вновь столкнуться со Старовым.
«О, это прегадкий тип, – сказала она. – Не сомневаюсь, что теперь он попытается заявиться к нам в надежде хлопнуть “вау-дач-ки”. Жаль, что ты говорил с ним».
Она распахнула окно и высунулась наружу как раз в ту минуту, когда Айвор выбирался из таксомотора. Она послала ему полный воодушевления поцелуй и крикнула, иллюстративно маша руками, что мы, мол, уже спускаемся.
«Как было бы хорошо, – сказала она, когда мы торопливо сходили вниз, – если бы на тебе был оперный плащ. Мы бы оба укрылись под ним, как те сиамские близнецы из твоего рассказа. Ну же, не отставай!»
Она влетела в объятия Айвора и в следующий миг уже сидела в такси – цела и невредима.
«“Paon d’Or”[41], – сказал Айвор шоферу. – Рад тебя видеть, старина», сказал он мне с явственным американским акцентом (которому я во время ужина робко пытался подражать, пока он не проворчал: «Очень смешно»).
Ресторана «Paon d’Or» больше нет. Хотя и не самый изысканный, но уютный и чистый, он был особенно популярен среди американских туристов, называвших его «Пандер» или «Пандора» и всегда заказывавших свое «putty saw-lay», что мы, надо думать, и выбрали. Более отчетливо я помню стеклянный ящичек, висевший на украшенной золотыми завитушками стене рядом с нашим столом: в нем были выставлены четыре бабочки-морфиды – две очень большие, схожие по резкому отливу, но разной формы, и две поменьше под ними, левая – свеже-голубого цвета, с белыми полосами, а правая – мерцающая, как серебристый атлас. По словам метрдотеля, их поймал какой-то каторжник в Южной Америке.
«А как поживает моя дорогая Мата Хари?» – снова поворачиваясь к нам, спросил Айвор, чья рука с растопыренными пальцами все еще лежала на столе так, как он положил ее, откинувшись на стуле к обсуждаемым «букашкам».
Мы сообщили ему, что бедный ара захворал и его пришлось умертвить. А как его автомобиль, все еще на ходу? Он был определенно –
«К слову, – продолжила Айрис, коснувшись моего запястья, – мы решили завтра отправиться в Канницу. Жаль, Айвз, что ты не сможешь к нам присоединиться, но, может быть, приедешь позже?»
Я не хотел возражать, хотя ничего не знал об этом решении.
Айвор сказал, что если мы задумаем продать виллу «Ирис», он знает кое-кого, кто готов прибрать ее к рукам. Айрис, сказал он, его тоже знает: Давид Геллер, актер. «Я говорю (обращаясь ко мне) о ее первом ухажере, еще до того, как ты объявился. У нее, должно быть, где-то хранится та фотография, на которой мы с ним в “Троиле и Крессиде”, десять лет тому назад. На ней он в образе Елены Троянской, а я – Крессиды».
«Врет, все врет», шепнула Айрис.
Айвор описал свой дом в Лос-Анджелесе. Затем он предложил обсудить со мной после ужина сценарий по гоголевскому «Ревизору», который он хотел мне заказать (мы, так сказать, вернулись к тому, с чего начали). Айрис попросила еще порцию того блюда, которое мы ели.
«Помрешь же, – сказал Айвор. – Это ужасно питательная снедь. Помнишь, как говаривала мисс Грант (их гувернантка в былое время, которой он приписывал разные гадкие изречения)? “Белые черви караулят обжору”».
«Вот почему я хочу, чтобы меня сожгли после смерти», сказала Айрис.
Он велел принести вторую или третью бутылку посредственного белого вина, которое я из малодушной вежливости похвалил. Мы выпили за успех его последней картины – забыл название, – которую должны были завтра показывать в Лондоне, а там, как он надеялся, и в Париже.
Айвор не выглядел особенно хорошо или счастливо. У него теперь была порядочная веснушчатая лысина. Я прежде не замечал, как тяжелы его веки, как ворсисты и белесы его ресницы. Наши соседи, трое безобидных американцев, рослых, багроволицых, громогласных, были, возможно, не слишком приятными, однако ни Айрис, ни я не сочли уместным его обещание «заткнуть этим бронксокожим дикарям рты», притом что его собственный голос звучал не менее зычно. Мне уже хотелось покончить с ужином и пойти домой пить кофе, но Айрис, напротив, казалась склонной наслаждаться каждым лакомым кусочком, каждым глотком вина. На ней было очень открытое, угольно-черное платье и длинные ониксовые серьги, которые я ей как-то подарил. С ее щек и рук полностью сошел летний загар, и они обрели матовую белизну, которую мне предстояло распределить – быть может, слишком щедро – среди девушек в моих будущих книгах. Блуждающий взгляд Айвора, пока он говорил, то и дело останавливался на ее голых плечах, но я простым приемом – встревая с каким-нибудь замечанием – сбивал его с этой траектории.
К счастью, испытание подошло к концу. Айрис сказала, что вернется через минуту; ее брат заметил, что нам не помешало бы «устранить течь». Я отказался – не оттого, что не было нужды (нужда была), но оттого, что, как я знал по опыту, болтливый сосед и вид его струнной струи неизбежно поразят меня испускательным бессилием. Закурив, я уселся в холле ресторана и стал раздумывать о целесообразности внезапной отмены сложившегося порядка работы над «Камерой люцида» и переноса ее в другое окружение, на другой стол, с иным освещением и напором внешних звуков и запахов – и я увидел, как мои страницы и черновики замелькали мимо меня, вроде ярких окон экспресса, прошедшего мою станцию без остановки. Я решил отговорить Айрис от ее затеи, когда она и ее брат появились с разных сторон сцены, улыбаясь друг другу. Ей оставалось жить менее четверти часа.
Номеров по rue Despréaux не разглядеть, и шофер проехал наше крыльцо на два дома дальше. Он предложил сдать назад, но нетерпеливая Айрис уже вышла, и я выбрался вслед за ней, оставив Айвора расплачиваться. Она огляделась, а затем так скоро зашагала к нашему дому, что я едва нагнал ее. Не успел я взять ее за локоть, как услышал за спиной зов Айвора: ему не хватало мелочи. Оставив Айрис, я бросился назад к Айвору, и когда я достиг двух хиромантов, все мы услышали, как она крикнула что-то, громко и храбро, как если бы отгоняла свирепого пса. В свете уличных фонарей мы увидели фигуру человека в макинтоше, быстрым шагом подходящего к ней с другой стороны тротуара. Он выстрелил в нее с такого близкого расстояния, что казалось, проткнул ее своим большим пистолетом. К этой минуте наш шофер, следовавший за Айвором и мной, был уже достаточно близко, чтобы видеть, как убийца споткнулся об ее упавшее и сжавшееся тело. Но нет, он не пытался бежать. Вместо этого он стал на колени, стянул свой берет, расправил плечи и в этой жуткой и нелепой позе поднял пистолет к своей бритой голове.
Сообщение, появившееся в парижских газетах среди других faits-divers[42] после завершения полицейского расследования, которое мы с Айвором запутали до крайности, сводилось к следующему, перевожу: «Русский эмигрант Владимир Благидзе, он же Старов, подверженный припадкам помешательства, в пятницу вечером в состоянии умопомрачения открыл посреди тихой улицы беспорядочную стрельбу из пистолета, и после того, как одним выстрелом убил английскую туристку миссис [имя искажено], случайно оказавшуюся у него на пути, пустил себе пулю в голову прямо у ее тела». Впрочем, он не умер там и тогда, но сохранил в своем удивительно прочном черепе остатки сознания и каким-то чудом дотянул до мая, в тот год необыкновенно жаркого. В угоду своему чрезмерному и извращенному любопытству Айвор посетил его в весьма специализированной клинике прославленного доктора Лазарева – очень круглом, безжалостно круглом строении на вершине холма, густо заросшего конским каштаном, шиповником и прочей колючей растительностью. Из отверстия в голове Благидзе совершенно улетучились воспоминания последних лет, зато пациент прекрасно помнил (если верить русскому санитару, хорошо понимавшему язык истязаемых), как его, шестилетнего, водили в увеселительный парк в Италии, где игрушечный поезд (состоявший из трех открытых вагончиков, в каждом из которых помещалось по шестеро безмолвных детей) с зеленым паровозом на электрической тяге, выпускавшим через правдоподобные промежутки клубы поддельного дыма, катил по замкнутому маршруту через живописно-кошмарные заросли ежевики, чьи ошарашенные цветы кивали в вечном согласии со всеми ужасами детства и преисподней.
Откуда-то с Оркнейских островов, уже после погребения ее мужа, в Париж приехала Надежда Гордоновна со своим компаньоном-священником. Движимая ложным чувством долга, она предприняла попытку встретиться со мной, чтобы «всё» мне рассказать. Я уклонился от всяких контактов с ней, но ей удалось залучить в Лондоне Айвора до того, как он отбыл в Америку. Я никогда не спрашивал, а мой дорогой чудак Айвор так и не открыл мне, много ли значило это ее «всё»; не желаю верить, что так уж много, – и мне, во всяком случае, известно довольно. По натуре я отнюдь не мстительный человек, и все же я люблю возвращаться мыслями к тому образу маленького зеленого поезда, катящего и катящего себе без остановки, круг за кругом, без конца.
Часть вторая
1
Некая занятная форма инстинкта самосохранения побуждает нас мгновенно и безжалостно избавляться от всего того, что принадлежало потерянной нами возлюбленной. В противном случае вещи, которых она касалась каждый день и держала в рамках определенного назначения, пользуясь ими, начинают набухать собственной страшной и безумной жизнью. Ее платья примеривают сами себя, книги листают собственные страницы. Мы стиснуты сужающимся кругом этих чудищ, не находящих себе места и покоя, – оттого что нет той, кто за ними присматривала. И даже храбрейший из нас не выдержит взгляда ее зеркала.
Другой вопрос – как от этих вещей избавиться. Не мог же я топить их, будто котят, – собственно, я не в силах утопить котенка, не говоря уже о ее гребенке или сумочке. Не мог бы я вынести и вида постороннего человека, собирающего ее вещи, уносящего их из дома, приходящего за добавкой. Вот почему я попросту съехал с квартиры, предоставив горничной решить судьбу всех этих неугодных предметов по собственному усмотрению. Неугодных! В момент расставанья они вдруг сделались совершенно ручными и безобидными; я бы сказал даже, что они выглядели озадаченно.
Поначалу я пытался прижиться в одном из третьесортных отелей в центре Парижа. Я старался одолеть страх и одиночество, трудясь дни напролет. Я закончил один роман, начал другой, написал сорок стихотворений (все братья-разбойники под их пестрой шкурой), дюжину рассказов, семь эссе, три разгромные рецензии и одну пародию. Чтобы не сойти с ума в ночные часы, я принимал сильнодействующее снотворное или покупал наложницу.
Помню один пугающий майский рассвет (1931 или 1932?); все птицы за окном (по большей части воробьи) стенали, как в гейневском месяце мае, с дьявольской монотонной натугой – вот почему я полагаю, что то было одно из утр в дивном мае. Я лежал лицом к стене и на мрачно-путаный лад раздумывал, не поехать ли «нам» на виллу «Ирис» раньше обычного? Впрочем, оставалась одна препона, мешавшая мне предпринять это путешествие: автомобиль и дом были проданы – так сама Айрис сказала мне на протестантском кладбище, потому что властители ее веры и участи не разрешили кремацию. Я повернулся в постели от стены к окну, и со стороны окна лежала Айрис, обращенная ко мне темноволосым затылком. Я сбросил с нее простыню. На ней не было ничего, кроме черных чулок (что было странно, но в то же время напоминало что-то из параллельного мира, поскольку мой рассудок стоял верхом на спинах двух цирковых лошадей). В виде эротической сноски я в десятитысячный раз напомнил себе упомянуть где-нибудь, что нет ничего соблазнительней девичьей спины с профилем поднятого бедра, подчеркнутым ее положением на боку, со слегка согнутой ногой. «J’ai froid»[43], сказала девушка, когда я коснулся ее плеча.
По-русски любой вид предательства, вероломства, отступничества можно передать одним парчовым, змеиным словом «измена», в основе которого лежит идея перемены или превращения. Этот источник никогда прежде не возникал в моих постоянных мыслях об Айрис, но теперь он поразил меня, как разоблачение чар или преображение нимфы в шлюху, – и вызвал немедленный и громогласный протест. Один сосед бил кулаком в стену, другой ломился в дверь. Испуганная девица, схватив свою сумку и мой плащ, выскочила из комнаты, а вместо нее явилась бородатая личность в фарсовом наряде – ночная рубашка и галоши. Крещендо моих криков, криков ярости и отчаяния, завершилось нервическим припадком. Кажется, было предпринято несколько попыток сплавить меня в лечебницу. Во всяком случае, мне пришлось искать новое пристанище sans tarder – выражение, которое я не могу слышать без болезненной спазмы, потому что оно напоминает мне письмо ее любовника.
У меня перед глазами, наподобие пронизанной светом кисеи, маячил лоскут загородного ландшафта. Мой указательный палец пустился блуждать наугад по карте северной части Франции. Острие ногтя замерло на городке под названием Petiver или Petit Ver[44], червячок или стишок, что звучало идиллически. Автобус довез меня до шоссейной станции поблизости, если не ошибаюсь, от Орлеана. Все, что у меня сохранилось в памяти от той моей обители, это ее странно-покатый пол, уклону которого отвечал потолок кафе, находившегося под моей комнатой. Помню еще бледно-зеленых тонов парк в восточной оконечности города и старый замок. Лето, проведенное там, – только цветное пятнышко на тусклом стекле моего рассудка; но я сочинил несколько стихотворений, по меньшей мере одно из которых, о труппе акробатов, устроивших представление на церковной площади, перепечатывалось множество раз в продолжение сорока лет.
Вернувшись в Париж, я узнал, что мой добрый друг, Степан Иванович Степанов, известный журналист и человек состоятельный (он был одним из тех очень немногих русских счастливцев, которым довелось эмигрировать и перевести свои средства за границу до большевицкого переворота), не только организовал мое второе или третье публичное чтение (так называемый «вечер»), но еще настаивал на том, чтобы я занял одну из десяти комнат его просторного старомодного дома (улица Кош? Рош? Он примыкает или примыкал к статуе генерала, имя которого ускользает от меня, но наверняка прячется где-то в моих старых записных книжках).
В доме жили в то время сами старики Степановы, их замужняя дочь баронесса Борг, ее одиннадцатилетняя дочь (барон, коммерсант, по делам фирмы находился в Лондоне) и Григорий Райх (1899–1942?), мягкий, печальный, худощавый молодой поэт, лишенный даже проблеска таланта, который под псевдонимом Лунин печатал в «Новостях» по элегии в неделю и служил у Степанова секретарем.
Я не мог не спускаться по вечерам вниз и не присоединяться к частым собраниям известных литературных и политических фигур в богато украшенном салоне или обеденном зале с огромным овальным столом и портретом en pied[45] юного сына Степановых, который погиб в 1920 году, пытаясь спасти тонущего однокашника. На них нередко бывал близорукий, грубовато-жовиальный Александр Керенский, бесцеремонно наставлявший лорнет, чтобы осмотреть нового человека, или встречавший старого знакомого готовой колкостью тем скрежещущим голосом, мощь которого давным-давно пропала в реве революции. Бывал и Иван Шипоградов, знаменитый романист и свежеиспеченный нобелевский лауреат, излучавший талант и обаяние, а после нескольких рюмок водки угощавший своих закадычных друзей определенного сорта похабной побасенкой, весь артистизм которой держится на деревенской смачности и любовной почтительности, с какой в ней упоминаются наши срамные органы. Намного менее располагающей к себе особой был Василий Соколовский, старый соперник И.А. Шипоградова, хрупкий маленький человек в мешковатом костюме (странно прозванный И.А. «Иеремией»), с начала столетия выдававший том за томом мистико-социальную эпопею об украинском клане, в истоках которого, уходивших в XVI век, была бедная семья из трех человек, к шестому тому (1920) расплодившаяся до целой деревни, богатой мифологией и фольклором. Приятно было видеть старика Морозова, с его грубо вылепленным умным лицом, запущенной шевелюрой и яркими ледяными глазами; и в силу особых причин я пристально наблюдал за пухлым и хмурым Базилевским – не только оттого, что он только что поцапался или собирался поцапаться со своей молоденькой любовницей, по-кошачьи грациозной красавицей, писавшей чушь собачью в стихах и вульгарно заигрывавшей со мной, но оттого, что я надеялся, что он уже попался на крючок, заброшенный мною в последнем номере литературного обозрения, в котором мы оба печатались. Хотя его английского было не довольно для того, чтобы перевести, скажем, Китса (которого он определял как «эстета доуайльдовского периода в начале Индустриальной Эры»), Базилевский с упоением предавался этому занятию. Обсуждая как-то «не такую уж отталкивающую изысканность» моих сочинений, он имел неосторожность привести известную строку Китса, передав ее следующим образом: «Всегда нас радует красивая вещица» (что в обратном переводе дает: «A pretty bauble always gladdens us»). Наш разговор, однако, оказался слишком коротким, чтобы я успел выведать, оценил ли он или нет преподанный ему занятный урок. Он спросил, что я думаю о новой книге, о которой он рассказывал Морозову (монолингвисту), а именно о «впечатляющем труде Моруа о Байроне», и когда я ответил, что нахожу эту книгу впечатляюще бездарной, мой непреклонный критик пробормотал: «Полагаю, вы ее даже не читали» – и продолжил просвещать невозмутимого пожилого поэта.
Я предпочитал тишком уходить к себе задолго до окончания этих званых вечеров. Звуки прощальной суматохи достигали меня обычно, когда я погружался в бессонницу.
Бóльшую часть дня я проводил за работой, уютно устроившись в глубоком кресле, с орудиями моего ремесла, удобно разложенными передо мной на специальной писчей доске, которой меня снабдил хозяин, большой любитель толковых приспособлений. После постигшей меня утраты я почему-то начал прибавлять в весе, и теперь мне нужно было сделать два-три рывка враскачку, чтобы покинуть свое чересчур гостеприимное вместилище. Только одна маленькая особа посещала меня; для нее я держал свою дверь приоткрытой. Передняя сторона доски была предусмотрительно изогнута, предоставляя углубление для брюшка автора, а противоположная сторона была снабжена зажимами и резинками для удержания листов бумаги и карандашей на месте; я так свыкся с этими удобствами, что неблагодарно сетовал на отсутствие сосуда для естественных отправлений, вроде тех полых тростей, которые, как говорят, были в ходу на Востоке.
Ежедневно, после обеда, в один и тот же час моя приоткрытая дверь бесшумно распахивалась, и внучка Степановых вносила поднос с большим стаканом крепкого чая и тарелкой аскетичных галет. Опустив ресницы, она тихо продвигалась вперед, осторожно ступая ногами в белых носочках и голубых мокасинах; когда чай в стакане начинал опасно плескаться, она замирала, после чего продолжала медленно идти шажками заводной куклы. У нее были соломенные волосы и веснушчатый нос, и я подобрал для нее клетчатое платье с глянцевитым черным пояском, когда продлил ее таинственное продвижение прямиком в роман, который тогда сочинял, «Красный цилиндр», где она превратилась в грациозную маленькую Эми, сомнительную спасительницу приговоренного к казни героя.
То были дивные, о, дивные интерлюдии! Внизу, в гостиной, баронесса и ее матушка играли à quatre mains[46], как они, должно быть, музицировали, снова и снова, все последние пятнадцать лет. Я держал под рукой коробку покрытых шоколадом бисквитов – в дополнение к галетам и для соблазнения моей маленькой гостьи. Письменная доска отодвигалась в сторону и замещалась ее сложенными членами. Она говорила по-русски совершенно свободно, хотя и с парижскими восклицаниями и вопрошаниями, и эти птичьи нотки придавали что-то жуткое ответам, которые я получал (пока она качала ногой и кусала бисквит) на обычные вопросы, какие задаются детям; и затем, без всякой на то причины, посреди нашей болтовни, она вдруг выскальзывала из моих объятий и бросалась к двери, как если бы ее кто-нибудь позвал, хотя фортепиано продолжало, все так же спотыкаясь, тащиться дальше и дальше по избитой колее семейного счастья, к которому я не имел никакого отношения и которого я, собственно, так никогда и не изведал.
Предполагалось, что я проведу у Степановых две-три недели; я задержался на два месяца. Поначалу я чувствовал себя сравнительно неплохо, во всяком случае, мне было покойно, я оживал, но те новые снотворные пилюли, которые так волшебно действовали на первой, обманно-завлекательной стадии, вскоре перестали справляться с определенного рода грезами, которым, как оказалось впоследствии, в невероятном продолжении истории, мне следовало мужественно поддаться, осуществив их любыми средствами; вместо этого я воспользовался переездом Долли в Англию, чтобы подыскать для своего жалкого остова новое пристанище. Им стала совмещенная гостиная и спальня в запущенном, но тихом доходном доме на Левом Берегу, «угол rue St. Supplice», как со зловещей неточностью сообщает мой карманный дневник. В подобии античного чулана помещался доисторический душ; других удобств не было. Две-три вылазки в день наружу – за едой, чашкой кофе или экстравагантной покупкой в лавке деликатесов – вносили в мою жизнь некоторое разнообразие. В соседнем квартале я нашел кинематограф, отдававший предпочтение старым ковбойским фильмам, и тесноватый бордель с четырьмя шлюхами на выбор – от восемнадцати до тридцати восьми лет, самая молодая была и самой невзрачной.
В Париже мне предстояло провести много лет, я был привязан к этому мрачному городу теми нитями, которые обеспечивают русскому писателю существование. Ни тогда, ни теперь, по прошествии лет, не находил я и не нахожу в нем никакого особенного очарования, которым так пленялись мои соотечественники. Дело не в пятне крови на чернейшем булыжнике темнейшей из его улиц – это hors-concours[47] по части трагического, – я лишь хочу сказать, что принимал Париж, с его сизыми днями и грифельными ночами, только как случайные декорации для самых чистых и истинных радостей моей жизни: красочная фраза у меня в голове под моросящим дождем, белая страница в световом кругу лампы, ждущая меня в моем убогом доме.
2
С 1925 года я сочинил и выпустил в свет четыре романа; к началу 1934-го я был близок к завершению пятого, «Красного цилиндра», истории о том, как обезглавили приговоренного. Ни одна из этих книг не превышала в количественном выражении девяноста тысяч слов, однако мой способ их отбора и соединения трудно было назвать экономным в отношении затраченного времени.
Первый карандашный черновик заполнял несколько синих школьных cahiers[48] и по мере достижения стадии полного насыщения правками являл собой хаос подчисток и крючков. Этому хаосу отвечала беспорядочность текста, длившегося обычным связным манером только несколько страниц, после чего его прерывал какой-нибудь порядочный ломоть прозы, относящийся к более поздней или ранней части романа. Приведя все это в порядок и заново пронумеровав страницы, я принимался за следующую стадию – чистовик. Он любовно записывался вечным пером в толстую прошитую тетрадь или гроссбух. Затем оргия новых поправок мало-помалу вытравливала всю радость обманчивого совершенства. Третья стадия начиналась там, где кончалась удобочитаемость. Тыча нерасторопными и негнущимися пальцами в клавиши моей верной, видавшей виды машинки, свадебный дар графа Старова, я за час успевал настукать около трехсот слов – вместо круглой тысячи, которую обычным пером успевал втиснуть в те же шестьдесят минут какой-нибудь модный беллетрист прошлого века.
Впрочем, ко времени «Красного цилиндра» невралгические боли, последние три года пробиравшиеся по моему костяку подобно отдельному внутреннему страдальцу – сплошь крючья да клещи, – добрались до моих конечностей, превратив ремесло печатанья в счастливую невозможность. Если отказаться от любимой снеди и питья, вроде foie gras[49] и шотландского виски, и отложить сооружение нового костюма, то мой скромный доход, как я подсчитал, позволит мне нанять профессиональную машинистку, которой я смог бы надиктовать исправленный манускрипт за, предположим, тридцать тщательно спланированных послеобеденных сеансов. Рассудив так, я поместил в «Новостях» броское «Срочно» с указанием имени и номера телефона.
Из трех или четырех машинисток, предложивших свои услуги, я выбрал Любовь Серафимовну Савич, внучку сельского священника и дочь известного социал-революционера, недавно скончавшегося в Мёдоне после завершения жизнеописания Александра Первого (нудный труд в двух томах под названием «Монарх и мистик», с недавних пор доступный американским студентам в посредственном переводе, Гарвард, 1970).
Люба Савич приступила к своим обязанностям 1 февраля 1934 года. Она приходила так часто, как требовалось, и готова была трудиться сколько угодно часов подряд (рекорд, установленный ею в один особенно памятный день, – от часу дня до восьми вечера). Если бы проводился конкурс «Мисс Россия» и если бы возраст участниц был повышен до «почти тридцать», красавица Люба стала бы победительницей. Это была высокая женщина с узкими лодыжками, налитой грудью, широкими плечами и ярко-голубыми глазами на круглом румяном лице. Ее золотисто-каштановые волосы всегда, должно быть, пребывали в состоянии легкого смятении, поскольку она, говоря со мной, то и дело приглаживала их боковую волну, грациозно поднимая локоть. Здрасте и еще раз здрасте, Любовь Серафимовна, – и, ах, что за восхитительная амальгама была в этом сочетании любви и серафима – имени ее раскаявшегося батюшки-террориста!
Машинисткой Л.С. была идеальной. Не успевал я, прохаживаясь взад и вперед по комнате, продиктовать предложение, как оно ложилось в ее борозду, подобно горсти семян, и она приподымала бровь, косясь на меня в ожидании следующей россыпи. Если в разгар сеанса мне на ум приходило какое-нибудь неожиданное улучшение в тексте, я предпочитал не нарушать восхитительно отлаженного ритма нашей совместной работы мучительной паузой, потребной для подбора верного слова, – тем более изнуряющей и бесплодной из-за осознания застенчивым автором того обстоятельства, что умнице за ожидающим ремингтоном не терпится прийти на помощь с подсказкой; посему я ограничивался тем, что делал в рукописи пометку, чтобы потом осквернить своими каракулями ее безупречное творение; впрочем, она, конечно, была только рада перепечатать страницу на досуге.
Около четырех или половины пятого, если мне не удавалось сразу осадить всхрапывающего пегаса, мы делали десятиминутный перерыв. Она уходила в мою скромную уборную в конце коридора, прикрывая за собой одну дверь за другой с поистине неземной нежностью, и так же бесшумно возвращалась с наново припудренным носом и перекрашенной улыбкой, а у меня уже было готово для нее угощение: стакан vin ordinaire[50] и розовые gaufrette[51]. В эти невинные антракты и наметилось определенное тематическое развитие событий, предложенное самой судьбой.
Хотел бы я кое-что узнать? (Долгий глоток, язычок облизывает губы.) Так вот, она присутствовала на всех моих пяти литературных вечерах, начиная с самого первого, 3 сентября 1928 года в Salle Planiol. Так хлопала, что ладони (показывает ладошки) горели. Дала себе слово в следующий раз быть побойчее, набраться смелости и, протиснувшись сквозь толпу (именно толпу, не стоит усмехаться), подойти ко мне с твердым намерением сжать мою руку и выразить всю душу в одном слове – которого она, впрочем, никогда не могла подобрать и потому неизменно оставалась стоять, улыбаясь, как дура, посреди пустого зала. Не стану ли я презирать ее за то, что она завела альбом, в который вклеивает рецензии на мои книги – чудные статьи Морозова и Яблокова и прегадкие таких писак, как Борис Ниет и Боярский? А знаю ли я, что это она положила тот самый таинственный букетик ирисов на плиту, под которой четыре года тому назад погребли урну с прахом моей жены? Мог ли я представить, что она знает наизусть каждое мое стихотворение, напечатанное в эмигрантских газетах и журналах в полудюжине стран? Или что она помнит тысячи волшебных деталей, рассыпанных на страницах моих романов, как, например, кряк дикой утки (в «Тамаре»), «который до конца жизни будет отдавать вкусом черного хлеба, которым делился с утками в детстве», или шахматы («Пешка берет королеву») с потерянным слоном, «замещенным какой-то фишкой, маленькой сироткой из другой, неизвестной игры»?
Все это очень искусно подпускалось в продолжение нескольких сеансов, и к концу февраля, когда «Красный цилиндр», безупречно отпечатанный экземпляр, вложенный в объемистый конверт, был передан из рук (вновь ее) в руки редактору «Patria», ведущего русского журнала в Париже, я почувствовал себя опутанным липкой паутиной.
Я не только ни разу не испытал ни малейшего желания по отношению к красавице Любе, но безразличие моих чувств положительно клонилось к отвращению. Чем нежнее трепетали ее ресницы, тем менее джентльменским становился мой отклик. Сама ее утонченность была лишь следствием изысканной пошлости, отравлявшей всю ее личность сладостью распада. С нарастающим раздражением я начал отмечать такие жалкие вещи, как, например, ее аромат, весьма почтенные духи (кажется, «Восхищение»), ненадежно укрывающие природный запах русской девы, изредка омывающей тело: с час или около того «Восхищение» еще сохранялось, но потом налеты из подполья становились все чаще и чаще, и когда она поднимала руки, чтобы надеть шляпку… да, впрочем, Бог с ней, она была, в сущности, доброй душой, и теперь, надеюсь, счастливо нянчится с внуками.
Я был бы негодяем, если бы описал нашу последнюю встречу (1 марта того же года). Довольно будет сказать, что, печатая мой рифмованный перевод «Оды к осени» Китса («Пора туманов и плодоношенья»), она расплакалась и по меньшей мере до восьми часов вечера мучила меня признаньями и слезами. Когда она, наконец, ушла, я потратил еще час на обстоятельное письмо к ней с просьбой больше не приходить. То был, к слову, единственный случай, когда она оставила в моей машинке неоконченный лист. Я выдернул его, а несколькими неделями позже вновь на него наткнулся среди своих бумаг и тогда уже намеренно сохранил, поскольку доделывала работу Аннетта (с несколькими опечатками и Х-образными вымарками в последних строках), и что-то в этом наложении задело мою комбинационную струнку.
3
В настоящих мемуарах мои жены и мои книги сплетаются в монограмму наподобие определенного типа водяных знаков или экслибрисов, и, сочиняя эту окольную автобиографию – окольную, говорю я, поскольку она имеет дело не столько с прозой истории, сколько с миражами воображения и литературы, – я неукоснительно стараюсь проследить (притом настолько непринужденно, насколько это в нечеловеческих силах) за всеми стадиями моей душевной болезни. Все же Дементия – одна из героинь моей истории.
К середине тридцатых годов в моем состоянии почти ничего не изменилось по сравнению с ужасными страданиями первой половины 1922 года. Мое противоборство с наличествующей, общепринятой реальностью все так же выражалось в стремительно накатывающих галлюцинациях, внезапных перестановках – калейдоскопических, витражных перестановках! – фрагментированного пространства. Я по-прежнему ощущал, как Притяжение, эта дьявольская и унизительная дань нашему перцептивному миру, врастает в меня, будто чудовищный ножной ноготь, остриями и клиньями невыносимой боли (необъяснимой счастливому простаку, который не видит ничего фантастического и умопомрачительного в бегстве карандаша или гроша под что-нибудь – под стол, за которым проводишь жизнь, под кровать, на которой встречаешь смерть). Я все еще не мог совладать с абстракцией направления в пространстве, так что всякий данный отрезок мира был либо вечно «правосторонним», либо вечно «левосторонним», или, в лучшем случае, один мог быть замещен другим лишь надрывающим спину усилием воли. О, любовь моя, как же терзали меня вещи и люди, я не мог бы тебе и сказать! Собственно, тебя еще даже на свете не было.
Как-то в середине тридцатых годов, в черном проклятом Париже, я, помнится, навестил одну свою дальнюю родственницу (племянницу «Арлекиновой» дамы!). То была милая пожилая незнакомка. Весь день она проводила в кресле с прямой спинкой, подвергаемая непрестанным нападкам трех, четырех и больше слабоумных детей, находившихся под ее присмотром (платил ей Союз помощи нуждающимся русским дворянкам), пока их родители трудились в местах, которые не были такими уж безнадежными и унылыми сами по себе, сколько становились таковыми по достижении их публичным транспортом. Я сидел у ее ног на истертом пуфе. Ее речь текла и текла, плавно, беспечно, отражая картины ясных полудней, покоя, здоровья, достатка. И все время, пока она говорила, тот или другой несчастный уродец, слюнявый и косоглазый, норовил подкрасться к ней, прячась за ширмой или под столом, чтобы покачать ее кресло или ухватить ее за юбку. Когда визг становился слишком громок, она только слегка морщилась, что почти не искажало ее воспоминательной улыбки. Под рукой она держала что-то вроде мухобойки, которой поминутно взмахивала, отгоняя особенно дерзкого забияку; но все это время, все время не прекращалось журчание ее монолога, и я понимал, что мне тоже надлежит игнорировать грубую возню и гвалт вокруг нее.