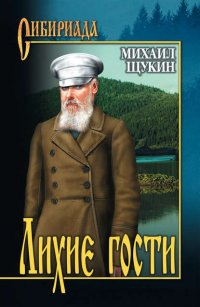Читать онлайн Несравненная бесплатно
- Все книги автора: Михаил Щукин
© Щукин М.Н., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Глава первая
1
Река текла, как жизнь в молодости.
До устья еще далеко-далеко, и здесь, в срединном своем течении, стремительном в майский разлив, не ведала она ни перекатов, ни мелководья и не прорезалось пока от берегов ни одной песчаной косы.
Вольно текла, в полный размах.
А по самой реке, сверкающей солнечными блестками, летела, играючи, широкая дощаная лодка с хищно загнутым и чуть приподнятым носом. Резала бесшумно мутную весеннюю воду, выскакивала на стремнину и целилась пересечь наискосок фарватер, по которому неторопко и величаво шел пароход «Кормилец», развевая над собой трехцветный флаг и рваный след черного дыма из высокой трубы.
Дружно взметывались четыре лопашных весла, роняя крупные капли, опускались разом, и лодка, все убыстряя ход, стремительно приближалась к пароходу. Там, на капитанском мостике, встревожились, дали протяжный гудок и закричали в жестяной рупор:
– Куда гребете, черти! Отворачивай! Потопим!
Лодка летела.
Рулевой на ней, крепко державший прави́льное весло, вскочил с седушки, выпрямился в полный рост и так зычно гаркнул сильным молодым голосом, что его услышали все пассажиры на палубе «Кормильца»:
– Я вам потоплю! Стоп-машина! Депеша от губернатора! Принять немедленно!
Ход застопорили.
Лодка, подскакивая на волне, разведенной пароходом, ловко зашла с полукруга и приткнулась к окрашенному борту. Рулевой, не сбавляя напора в зычном голосе, потребовал:
– Чалку подай!
Спустили толстый пеньковый канат, рулевой махом взобрался по нему на палубу, и перед старым капитаном Никифоровым, который топорщил пышные седые усы и шипел словно потревоженный кот, лихо предстал румянощекий парень в казачьих шароварах с лампасами и в синей просторной рубахе с настежь распахнутым воротом. Из разъема этой рубахи он выдернул серый конверт, густо заляпанный сургучными печатями и, прищелкнув каблуками сапог, протянул Никифорову:
– Лично вам в руки, господин капитан! Из канцелярии его высокопревосходительства генерал-губернатора! Ознакомиться согласно инструкции, изложенной на конверте!
Никифоров прищурился одним глазом, принял конверт, прищурил другой глаз, прочитал: «Г-ну Никифорову. Вскрыть единолично, без присутствия посторонних, в три часа пополудни». Вытянулся, прижал конверт к выпуклому животу и твердым шагом, не сгибая спины, ушел с палубы, направляясь в свою каюту. Парень проводил его взглядом, крутнулся, так что палуба скрипнула под каблуками, перегнулся через борт, быстрой скороговоркой скомандовал оставшимся в лодке:
– Поднимай! Убью, если уроните! Чалку, чалку держи, не отцепляйся!
Звякнули два весла, выдернутые из уключин, скрестились лопастями и медленно, осторожно подняли наверх широкую плетеную корзину, из которой вздымался, как всплеск ослепительно-белой пены, большущий – руками не обхватить! – не букет даже, а почти целый куст только что распустившейся черемухи, от которой незримо струился нежный, густой аромат. Столь волнующий, что хотелось уткнуться лицом в белизну крохотных лепестков.
– Какая прелесть! – восхитилась пышная дама в широкополой шляпе и в широком, необъятном платье. – Скажи, любезный, ты никак продать его желаешь? Я заплачу, сколько…
Парень мгновенно вытащил ветку из корзины, протянул ее даме с поклоном галантного кавалера и все той же быстрой скороговоркой перебил:
– Никак нет, продаже не подлежит, только из уважения! Примите от чистого сердца!
Дама заулыбалась и на толстых щеках у нее залегли глубокие, кривые складки. Протянула руку в тонкой кружевной перчатке и приняла ветку. А парень между тем, не сбиваясь с разгона, спросил:
– Госпожа Арина Буранова, певица известная, в каком месте на пароходе пребывает?
Дама перестала улыбаться, глянула на корзину с черемухой, лицо поскучнело, и она неохотно, лениво, словно через губу едва сплевывала, соизволила ответить:
– В каюте своей сидит, безвылазно, в первом классе, подумаешь – цаца! Даже в буфет не поднимается, к приличным людям не желает выйти. С ума все посходили с этой Бурановой!
И отвернулась. Пошла по палубе тяжелым шагом, попутно выкинув за борт ветку черемухи. Но парень этого уже не увидел; обхватив двумя руками корзину, он соскользнул в первый класс и наугад постучался в первую же каюту, которая оказалась перед ним. За дверями каюты послышался шорох, что-то упало, но на стук никто не отозвался. Парень снова постучал – громче. Щелкнула медная, до блеска начищенная ручка, дверь настежь распахнулась и звонкий, высокий голос прозвучал почти умоляюще:
– Ну, кто там еще?! Миленькие! Дайте мне одной побыть, ведь просила же!
Парень, ничего и никого не видя из-за букета, неудержимо вперся в каюту, бухнул корзину на пол, выпрямился и замер – будто онемел и окаменел. Стоял, как на строевом смотре, руки по швам, и на лице его, розовом, скуластом, опушенном темной, вьющейся бородкой, жили, казалось, лишь одни диковатые глаза цвета спелой смородины – горели, сверкали, узкий азиатский разрез округлялся, и они становились все больше.
– Чем обязана, господин хороший? – хозяйка каюты, а это и впрямь была известная певица Арина Буранова, запахнувшись в легкую цветастую шаль, сердито смотрела на своего неожиданного гостя, ждала ответа и от нетерпения даже пристукивала чуть слышно маленькой босой ножкой по темно-красному ворсистому ковру.
Парень тянулся в нитку, как перед высоким начальством, и молчал.
– Язык-то есть? – уже не так сердито, даже улыбнувшись едва заметно, поинтересовалась Арина, и, не дождавшись ответа, добавила: – Или мы немые, потому и говорить не можем?
Парень вздохнул на полную грудь, словно в холодную воду собирался нырять, и, набравшись решимости, выдохнул:
– Вы еще красивее, когда живая!
– Родненький, – звонко рассмеялась Арина и сквозь смех едва выговорила: – Где же ты меня… мертвой видел… да еще красивой?!
– На портрете. У меня на стенке портрет висит, из журнала «Нива». И пластинка еще была. Я ее на граммофоне слушал. Разбили пластинку, сволочи!
– Разбили? Ай-я-яй! И почему же ее разбили?
– Да пьяные были, казаки мои… Велел им граммофон на новую квартиру к себе принести и пластинку. Понесли и об стенку шарахнулись. Граммофон ничего, только трубу погнули, а пластинка – вдребезги! Теперь тоскую. А тут прознал, что вы на пароходе плывете… Вот, это вам, черемухи наломали…
Арина слушала его и смеялась, запрокидывая голову, все громче; шаль скатилась на плечи, и пышно рассыпались, оказавшись на воле, густые русые волосы. Она пыталась собрать их маленькой белой ладошкой, а они не подчинялись и все равно выскакивали из-под пальцев, словно пытались закрыть высокую нежную шею. Вдруг она опустила руку, присела перед корзиной с черемухой и дотронулась губами до лепестков. Долго молчала, а затем, не поднимая глаз, прошептала чуть слышно:
– Спасибо, родненький, детство вспомнила, у нас весь садик в черемухе был, как зацветет, бывало, даже голова кружится…Ты откуда, как звать-то?
– Сотник Дуга, Николай Григорьевич! Второго полка Сибирского казачьего войска!
– Ой ты, бравый! Проходи, Николай Григорьевич, чай будем пить, про службу свою казачью расскажешь…
– Никак нет, мне убегать пора. Вон, на часах ваших, время мое вышло. А сказать хотел – очень вы мне нравитесь, Арина Васильевна. Теперь увидел – еще сильнее!
– Ну вот, – разочарованно протянула Арина, – была дуга и в оглоблю выпрямилась. Скушно, Николай Григорьевич… Слышишь меня? Скушно!
Грустно подняла глаза и от удивления даже шлепнула в ладошки – сотника в каюте уже не было, будто ветром унесло, неслышно, как пушинку.
Арина поставила к столику корзину с черемухой, пошла, чтобы закрыть дверь каюты, и остановилась, удивленная еще больше – в светлом проеме, мрачно чернея капитанским кителем, возник Никифоров. Пышные его усы вздрагивали; руки, в одной – серый конверт с разломанными сургучными печатями, в другой – скомканный лист, вздымались над головой, а широко раскрытый рот не мог родить ни одного слова, только вырывалось сердитое кошачье шипение. Наконец Никифоров обрел дар речи и взревел:
– Где-е-е?! В каталажку посажу, на первой же пристани!
Ничего не понимая, Арина усадила его за столик, налила воды. Никифоров выхлебал три стакана подряд, успокоился и стал жаловаться, как обманным путем остановили его пароход, введя в заблуждение конвертом серого казенного цвета и сургучными печатями. А на сургуче – вот, голубушка, сама погляди! – оттиск, на котором ясно читается: «5 копеекъ». За пятак старого дурака провели! Вот что обидно! Но еще обидней – письмецо, короткое и нахальное, как щелчок в лоб: «И до каких пор в буфете на “Кормильце” будут подавать прокислое пиво и тухлую стерлядку? Наведи порядок, капитан!»
Ах, шельма!
Никифоров хлопнул еще стакан воды и вздохнул:
– Мне расписание нарушать никак нельзя, Арина Васильевна, вас в Иргите целая депутация ждет, сам городской голова речь держать станет, – помолчал, пригладил усы широкой ладонью, поднялся из-за столика, пошел, направляясь к дверям, но замешкался и, не оборачиваясь, тихо произнес: – А в каюте сидеть все время – не дело, голубушка. По палубе погуляйте, в буфет загляните. Не надо от меня прятаться, Аринушка, все равно я тебя признал, как ты взошла на палубу, так и признал, шрамик-то на щечке до сих пор остался… Не пугайся, никому не скажу.
Так и не обернувшись, вышел капитан Никифоров из каюты, и не увидел, как мертвенно побледнела известная певица Арина Буранова, дотронувшись пальцами до тонкого шрамика на правой щеке, который она всегда старательно припудривала или пыталась закрыть длинным локоном русых волос.
2
И-и – раз! И-и – раз! И-и – раз!
Теперь дощаная лодка шла вдоль берега, вверх по течению, вырываясь из его цепких объятий, и рубахи гребцов были мокрыми, словно их окатили водой из ведра. Весла равномерно вздымались и опускались, буровили речную гладь сильными рывками, под лопастями закручивались маленькие воронки и соскальзывали мгновенно, утекая и быстро теряясь в могучем потоке. Сильна была река, и даже имя она имела под стать своей быстрине – Быструга.
– Выручайте, ребята… – Николай Дуга тоже греб своим прави́льным веслом, помогая общему ходу лодки, смаргивал с ресниц едучий пот и просил с придыханием: – Выручайте… любезные… опаздывать мне… никак нельзя… на службу надо… поспеть…
– Скорее только посуху, на коне, – отозвался один из гребцов, – и так руки отваливаются!
– Потерпи, ребята… чуток осталось… не обижу…
– Ясно дело, Николай Григорьич, что не обидишь, – резонно высказался другой гребец, – грех за такую работу обижать – с пароходом на перегонки бегаем!
Больше не разговаривали, чтобы силы зря не расходовать. Дружно, в лад, гребли, и лодка, одолевая течение, все ближе подходила к песчаному пологому берегу, где стояла в отдалении, на пригорке, маленькая и веселая деревенька. Именно в ней и нанял лодку с гребцами сотник Николай Дуга, пообещав хорошо заплатить. Мужики постарались. Как было задумано, так и исполнилось. Теперь Николаю оставался последний рывок – одолеть двадцать верст до летнего лагеря, где стоял его полк, и явиться, как штык, к вечерней поверке на правом фланге своей сотни.
Наконец лодка ткнулась носом в песок, мужики, тяжело покачиваясь, выбрались на берег. Николай торопливо сунул им деньги, кинулся к старой, толстой ветле, где к нижней ветке привязан был повод его гнедого жеребца Соколка. Завидев бегущего к нему хозяина, Соколок вздернул голову, раскидывая на обе стороны длинную гриву, и копытом передней ноги выбил от нетерпения ошметок зеленой травы вместе с землей. Застоялся жеребец, заскучал без своего всадника, и когда тот оказался в седле и разобрал поводья, взял с места крупной рысью – лишь тонкая строчка жиденькой пыли вскинулась вслед за ним и быстро опала в безветрии.
Гребцы, глядя вослед Дуге, покачивали головами, переговаривались между собой:
– Лихой казачок! И пароход догнал, и черемуху вручил, и на службу вовремя поспеет, вон как взял – с ветерком!
– Дурная кровь играет! Экая забота, на бабенку поглядеть – такие деньги выкинуть!
– Знать, хороша бабенка, если денег ему не жалко.
– А вы чего чужие деньги считаете? Не из вашего кармана! Давай лучше скинемся да выпьем.
– Дело говоришь.
И мужики, замолчав, дружно, скорым шагом, двинулись в сторону деревенской лавки.
А лихой казачий сотник Николай Дуга, о котором они говорили, торопил своего гнедого Соколка, и встречный ветерок упруго холодил грудь в разъеме синей рубахи. Летели навстречу и отскакивали, оставаясь за спиной, молодые березки, обнесенные, словно пухом, яркой весенней зеленью, полевая дорога выстилалась перед ним – ровная, как отчеркнутая по туго натянутой веревке, и только веселое птичье пение да глухой стук копыт нарушали благостную, ленивую тишину жаркого дня.
Под стать стремительной скачке пролетали в голове Николая рваные мысли, совершенно не цепляясь друг за друга, и он, как будто терял на время слух и зрение: не полевую дорогу видел перед собой, а маленькую белую ладошку, которая пыталась собрать рассыпавшиеся русые волосы, не стук копыт слышал, а звонкий смех, и еще чудный голос, плавно выплывающий из медной трубы граммофона… Этот голос, услышанный им впервые сквозь шорох стальной иглы по пластинке, проскользнул мгновенно в самую душу. И остался там, тревожа ее и волнуя, а когда пьяные казаки умудрились разбить пластинку, сотнику показалось, что его смертельно обидели. Впрочем, теперь обиды уже не было – только безудержное чувство счастливого полета и полная сумятица в голове.
Эх, первый звон – в большую радость, а дальше… Дальше хоть колокольцы тресни! Лови сладкую минуту, пока она мимо не просвистела. Вот и ловил ее сейчас Николай Дуга, пригибаясь к гриве Соколка, который, не ведая устали, просекал полевую дорогу, почти не касаясь земли.
Двадцать верст отлетели, как один вздох. И вот уже показались впереди ровные ряды белых палаток, расставленных на широком поле между двумя холмами, коновязи с привязанными к ним лошадьми, телеги, дымки походных кухонь – весь большой, шевелящийся летний лагерь Второго казачьего полка, выведенного из казарм в эти майские дни на полевые учения.
Николай все успел сделать вовремя: выводил Соколка после скачки, сменил рубаху на гимнастерку, вычистил запыленные сапоги и, ловко заломив фуражку с красным околышем, красовался в назначенный час на правом фланге своей сотни, уже зная, что все люди и лошади в наличии, больных нет, а четверо отсутствующих казаков находятся в карауле.
Но от цепкого взгляда командира полка полковника Голутвина ничего не скроется:
– Сотник, что у вас с конем? Его, что, черти гоняли?
– Все в порядке, господин полковник! – Николай привстал на стременах, поедая глазами начальство. – В свободное время занимался вольтижировкой, а также изучал пересеченную окружающую местность на случай предстоящих учений!
– Похвально, – Голутвин слегка кивнул, выражая одобрение, – не задерживайтесь сегодня, поторопитесь к себе на квартиру – Григорий Петрович в гости к вам приехал, случайно увиделись.
Известие, сообщенное полковником, Николая нисколько не обрадовало. Он догадывался, по какой причине прибыл его отец, станичный атаман и бывший сослуживец Голутвина, ясное дело, не для того, чтобы передать привет от матушки и привезти домашних гостинцев. И не для того, чтобы взглянуть на сына и узнать, как ему служится. Ради таких мелочей Григорий Петрович и ногу бы не переставил. Совсем иная причина сняла его из дому и притащила сюда за много верст. Совсем иная…
«Лихо дело начинается, – усмешливо хмыкнул Николай, когда Голутвин отъехал к следующей сотне, – процарапают дырку, а там и прореха явится! Уж прости, Григорий Петрович, да только я выпрягусь. Как пить дать – выпрягусь!»
Деревня с ласковым названием Колыбелька, в которой офицеры полка стояли на квартирах, темнела серыми тесовыми крышами недалеко от лагеря – версты полторы. Николай, чтобы Соколка не тревожить и дать ему отдохнуть в полное удовольствие, отправился пешком, срезая путь наискосок по веселому лугу. И пока шел, радуясь вечерней прохладе, шурша сапогами по мягкой траве, он снова слышал чудный голос, звонкий смех и видел точеную босую ножку, которая сердито топала по темно-красному, ворсистому ковру. Улыбался, сам того не замечая, и совсем забыл, что приехал к нему в гости отец и ждет его на квартире.
Вспомнил, когда увидел на широком дворе расседланного коня Григория Петровича. Прошел мимо, поднялся на крыльцо, толкнул низкую дверь, ведущую на вторую половину избы, где квартировал. У порога замешкался, снимая фуражку, стаскивая с себя портупею и шашку, вешая их на гвозди, вбитые в стену. И лишь после этого, раздернув свободнее гимнастерку, двинулся навстречу отцу, который поднялся из-за стола:
– Здравствуй, батя.
– Здорово были, сын.
Поручкались, обнялись, расцеловались троекратно и сели за стол, напротив друг друга – до удивления похожие: скуластые, узкоглазые, черноволосые. Только и разницы, что у Григория Петровича седой клок в половину ладони на голове с правой стороны вылез, да и в теле, раздавшись и огрузнев с годами, был он шире сына. А во всем остальном, на скорый взгляд, если мельком кинуть, – братья единоутробные, старший и младший.
– Как дома, батя? Матушка, Галина с Настей? Все ли здоровы?
– Слава Богу, никто не хворает, отсеялись вовремя. Поклоны тебе пересылают, да только не за этим я сюда приехал, сын, чтобы поклоны передавать да про домашние дела рассказывать. Утром раненько домой собираюсь, времени у меня в обрез, поэтому слушай, чего сказать хочу, – Григорий Петрович утвердил локти на столешнице, свел пальцы в замок и уложил на них густую вороненую бороду, – одно сказать хочу – надумали мы тебя женить. На следущей неделе на смотрины поедем, в Иргит. А ты, заранее, в станицу прибудь. Оттуда все вместе и тронемся. С Голутвиным я говорил, он тебе рапорт на короткий отпуск подпишет, на пять суток.
– И какую же дурочку, батя, я осчастливить должен? – лицо Николая враз поменялось – скатился румянец, потемнело оно до черноты и скулы, будто раздались шире, выдались острыми углами сквозь бородку.
Потемнел, нахмурившись, и Григорий Петрович, но голоса не изменил, ровно говорил, степенно:
– Невесту, которую мы тебе выбрали, слава Господи, умишком не обнесли. Смышленая девка, бойкая и на лицо пригожая. Поглянется. Приемная дочка купца Естифеева, из Иргита, слыхал небось?
– Да кто ж про него не слыхал, батя?! И мельницы имеет, и пароходы, и хлебом на ярмарке ворочает, тысячными пудами! Богатеющий старикан! Да только я казак вольный и жениться на его дурочке не собираюсь! Говорил тебе и еще скажу – не стану жениться!
– А это мы поглядим – кто кого пересилит! Решенье мое твердое. И ты, Николай Григорьич, свет мой ясный, так плясать будешь, как я скажу!
– Сам пляши, батя! На пару с дурочкой естифеевской! А еще лучше – женись на ней! Будет в хозяйстве прибыток, глядишь, старикан тебе в приданое от щедрот своих мельницу или пароход отвалит!
Никогда, ни единого разу, с того самого дня, как запищал в люльке его первенец, не слышал от него Григорий Петрович столь неуважительных речей. И даже опешил поначалу, когда таковые прозвучали. Разомкнул пальцы, сведенные в замок, медленно вздыбился над столом, глухо скомандовал:
– Замолчь!
– Я и так молчу. А что сказал, то слышал!
Такое непослушание уже ни в какие ворота не влезало. Вспыхнул Григорий Петрович, как сухая береста от горящей спички, протянул широкую и сильную ладонью с растопыренными пальцами, сгреб сына за грудки, в комок собрав гимнастерку, вздернул над столом, а другая растопыренная ладонь со всего маху тяжело и глухо ухнула по уху, отчего голова у Николая мотнулась на сторону. От гимнастерки отлетела пуговица, одиноко зацокала, подпрыгивая на половице. А растопыренная ладонь между тем еще раз увесисто хлестнула по уху, и гимнастерка треснула, выдираемая из цепко сведенных пальцев. Вырвался Николай, отскочил от стола к порогу, и затрепыхались крылья тонкого носа от ярости.
– Сядь! – рявкнул Григорий Петрович.
Но в сыне его гуляла та же самая буйная и упрямая кровь – отцовская. Остался стоять на месте как вкопанный. Только всхрапывал, тяжело и надсадно, как Соколок после скачки. Григорий Петрович сжал тяжелые кулаки, медленно выбрался из-за стола. Двигался к сыну, припадая сразу на обе ноги, и страшен был, как внезапный вихрь – захватит сейчас, закрутит, измолотит и унесет неведомо куда, а после выкинет за ненадобностью, как ветошь драную, ни на что негодную.
– Не замай, батя! Не доводи до греха! – всего лишь один шаг отшагнул Николай, уперся спиной в косяк, руки метнулись по стене на ощупь, и блескучая молния шашки, выдернутой из ножен, со свистом опоясала полный круг, сорвав с простенка бумажный листок с портретом певицы Бурановой. В полной тишине покружился он и лег на пол с едва различимым шорохом, точно посередине между отцом и сыном.
Григорий Петрович остановился. Стоял со сжатыми кулаками, молчал. И сын тоже молчал, не опуская поднятой шашки. Вдруг крутнул ее ловким, почти неуловимым движением и кинул себе под ноги. Шашка вонзилась острым носком глубоко в половицу и упруго закачалась из стороны в сторону. Николай толкнулся спиной в двери, выскочил на улицу. Шел, не понимая, куда идет, ничего не видел перед собой, и только правой рукой отмахивал резко, словно все еще сжимал в ней эфес шашки.
Ночевал он в лагере, в палатке вместе с казаками. На квартире появился лишь после утренней поверки. Отцовского коня на дворе уже не было. Шашка торчала в половице, и на этой же половице лежал листок с портретом певицы Бурановой, вырезанный из журнала «Нива». Николай приколол портрет на старое место, выдернул шашку из половицы, сунул ее в ножны, сел за пустой широкий стол и задумался.
Было о чем подумать сотнику.
3
Славный город Иргит, если взглянуть на него с макушки горы Пушистой, лежал внизу, как большой круглый пирог, придвинутый одним боком к Быструге и порезанный на большие треугольные куски. Разрезы-улицы, с какой бы стороны они ни начинались, прямехонько тянулись к сердцевине города – Ярмарочной площади. Если спуститься с горы вниз и пройтись по одной из таких улиц, сразу же бросится в глаза одна особенность: возле каждого дома, даже возле самой захудалой избенки, имеется, кроме хлевов и пригонов, огромный, крытый двор с широкими и высокими двустворчатыми воротами – любой воз въедет. Для возов эти дворы и ставились, потому как город Иргит – это не просто город, а город-ярмарка. Два раза в год, на Николу-вешнего и на Николу-зимнего, торгует, шумит, звенит, поет и пляшет здесь знаменитая на всю Сибирь широкая Никольская ярмарка, ведущая свою родословную еще с давних благословенных времен матушки Екатерины, которая и определила своим указом, что быть в данном селении, при удобном расположении реки и тракта, большому торгу. Доброе место выбрала: на восток – Сибирь необъятная, на запад – Россия неоглядная, а на юг – степи и страны азиатские. И отовсюду двигались к означенным срокам по тракту и по иным дорогам обозы и караваны, плыли по Быструге плоты и дощаники, пароходы и лодки – густо-густо вскипал город многолюдьем, и не было в нем ни одного свободного двора, где можно было приткнуться с конским возом и найти приют и ночлег – все заняты. Для иргитских жителей такие дни – все равно, что горячий сенокос или жатва. Бывает, что сам хозяин с домочадцами в баню переселяется, а избу приезжим уступает – пользуйтесь, любезные, сколько вашей душе угодно, только денежку – извиняйте! – вперед, за весь срок, отмусоливайте.
Главное украшение Иргита – Ярмарочная площадь. А на площади – гостиный двор в четыре этажа, именуемый с недавних пор иностранным словом «пассаж». А еще – гостиница с внушительным названием «Коммерческая». Отдельно – театр, вокруг которого в ярмарочные дни возникали, словно из-под земли выскакивали, увеселительные балаганы, качели и катальные горы. А уж вокруг площади, в два, в три, а где и в четыре, в пять рядов, магазины и магазинчики, лавки и лавочки, базарные ряды и просто-напросто торговые места на голой земле – отдал копейку и торгуй, чем хочешь и что в наличности имеешь. Можно еще проще: повесил лоток на шею и ходи со своим немудреным товаром, где пожелается, да кричи, расхваливая его, погромче и позаковыристей.
Ярмарка…
Считаные дни оставались до ее открытия.
Арина сидела у настежь распахнутого окна, смотрела, как мужики быстро и сноровисто возводят временный балаган напротив театра и едва слышно, нараспев, шептала:
– Вот и приехала… Вот и приехала…
День угасал. От гостиницы «Коммерческая» вытягивалась по широкой площади, выложенной булыжником, огромная ломаная тень, но в оконных стеклах ближних зданий еще кипели ярко-красные отсветы закатного солнца.
Ладошками, как это делают дети, Арина вытерла слезы, нечаянно выступившие на глазах, и отошла от окна, оставив незакрытыми распахнутые створки. Номер у нее в гостинице «Коммерческая» был до того просторный, что она, босая, в простеньком сарафане, в платочке, небрежно повязанном на голове, совершенно в нем терялась и если бы пожелала спрятаться за каким-нибудь креслом, ее долго пришлось бы искать. Впрочем, все равно бы нашли, потому как слишком много людей жаждали ее видеть и слышать.
И самым первым в числе таких жаждущих был, конечно, Черногорин, ее давний антрепренер. Высокий, поджарый, как гончая, всегда безупречно и с иголочки одетый – у него даже махонькие застежки на башмаках сияли как солнышки – Яков Сергеевич ступал неслышно, говорил негромко и при этом плавно разводил руками, будто хотел очистить перед собой пространство, чтобы ничего лишнего между ним и собеседником не имелось. Говорить он начал, едва лишь вошел в номер:
– Несравненная! Мое опытное и часто битое нутро подсказывает – нас ждет успех. На первый концерт все билеты проданы! Кроме концертов в театре еще три вечера в пассаже. Публика наэлектризована. Плеснули маслица в огонь и местные писаки. Это даже хорошо. Вот, послушай…
Черногорин развернул иргитский «Ярмарочный листокъ» и начал читать:
– К гастролям известной певицы Арины Бурановой. Покорив в последнее время московскую и петербургскую публику, эта эстрадная дива, «несравненная», как именуют ее чересчур восторженные почитатели, прибывает на Никольскую ярмарку в Иргит. Но такая ли она «несравненная»? – зададим мы свой вопрос. Имеются разные мнения. Не обладающая музыкальными познаниями, не имеющая даже основ культурного воспитания (какое может быть воспитание у деревенской девушки?), Буранова, тем не менее, становится едва ли не королевой всех российских подмостков. Одна из столичных газет весьма ядовито отозвалась о Бурановой, напечатав следующую эпиграмму:
- А вот вам – баба от сохи,
- Теперь в концертах выступает,
- Поет сбор разной чепухи,
- За выход «тыщи» получает!
– Яков, выкинь свою газетенку! Надоело! Ты же знаешь, что я терпеть не могу этих дурацких статеек!
– Зачем же выкидывать, пригодится для моей коллекции. Придет время, и я продам ее за большие деньги. Представляешь, Арина, я – старый, хворый, пальчики трясутся, стакан воды подать некому… Печальная и горькая картина! Но приходят благодарные потомки и спрашивают: а скажите, Яков Сергеевич, что это за явление было в России на заре нового века – Арина Буранова? И тогда я достану бесценные…
Арина сдернула с кресла замшевую подушку и запустила ее в Черногорина. Тот, ловко увернувшись, обошел вокруг стола, удобно уселся в кресло и вытянул длинные ноги в блестящих башмаках; плавно разводя перед собой руки, продолжил негромко и спокойно:
– Все наши прибудут завтра, номера заказаны. Теперь о вашей просьбе, Арина Васильевна…
– Узнал? – встрепенулась Арина, пробежала, глухо стуча босыми ногами по ковру, и присела, как девочка, на корточки, снизу вверх глядя на Черногорина: – Не томи, Яков! Рассказывай, что узнал!
Черногорин опустил тонкие худые руки на колени, запрокинул голову, устремив взгляд в потолок, и вздохнул:
– Провинция, моя несравненная, хоть и ярмарка известная, а все равно глухомань – паутина-с, изволю вам доложить, по углам имеется… Глянь сама.
Арина сердито дернула плечом, но ничего не сказала, терпеливо ждала. Черногорин тряхнул головой, словно пытаясь что-то вспомнить, и снова вздохнул, но дальше говорил уже четко и ясно – по делу:
– Все узнал, Арина Васильевна. Итак, по порядку. Естифеев, Семен Александрович. Великан-старик, несмотря на почтенный возраст. Собственная торговая контора, скупка и продажа зерна, имеет три больших мельницы, три парохода и баржи. «Кормилец», на котором вы приплыть изволили, ему принадлежит. Член ярмарочного комитета. Здесь вся местная знать в ярмарочном комитете состоит, а возглавляет его городской голова, господин Гужеев, и с Семеном Александровичем находятся они в приятельских отношениях. Не так давно Естифеев в третий раз женился, а в скором времени, похоже, состоится еще одна свадьба – падчерицу свою он хочет выдать за сына станичного атамана. Фамилия у этого атамана забавная, под стать должности – Дуга. Торговые и финансовые дела у Семена Александровича идут очень даже хорошо, никакого изъяна в них не наблюдается, и подступиться к нему ни с какой стороны невозможно. Брось глупую затею, Аринушка! Брось! Отвеселим здешнюю публику, получим свои денежки, и – ту-ту! В Москву!
– Как ты сказал, фамилия атамана? Дуга?
– Точно так-с. Именно Дуга, а не Телега. Арина, ты меня хорошо слышишь? Брось! И знай – я тебе помогать не буду!
– Будешь, Яков Сергеевич, будешь помогать. И никуда ты не денешься. Все деньги за концерты твои – до копеечки. Весь мой сбор себе заберешь.
– Милая моя! Но я же всего-навсего антрепренер, а не шулер!
– Это одно и то же, что антрепренер, что шулер, переучиваться тебе, Яков, не понадобится. Теперь ступай, поздно уже, я отдохнуть желаю.
Черногорин поднялся с кресла, хотел что-то возразить, но передумал. Он давно и хорошо знал Арину Буранову и понимал, что говорить сейчас разумные слова – все равно, что сухой горох кидать в стенку, сколько ни старайся – отскакивает. Развел перед собой руками и вышел из номера.
4
Неотъемлемой частью гостиницы «Коммерческой», точно так же, как высокие колонны и каменное крыльцо, был этот сивобородый дед по прозвищу Лиходей. Впрочем, имел он вполне благозвучную фамилию, Соснин, и имя-отчество приличные, Петр Кириллович, но, похоже, давным-давно их позабыл и охотно отзывался на свое прозвище и сам себя им называл, представляясь незнакомым людям. После полудня, ближе к вечернему часу, подъезжал он к «Коммерческой» на своей знаменитой тройке – звери, а не кони! – становился на законное место, принадлежавшее только ему и которое никто не имел права занимать, доставал из-под облучка старую, обтерханную балалайку с двумя струнами и начинал терзать эти струны корявыми, в дегте измазанными пальцами с черными ободьями грязи под толстыми ногтями. Струны бренчали, дребезжали, тенькали, но даже намека на складную мелодию озвучить не могли. Лиходей же, слушая собственную игру, блаженно улыбался, поматывая головой из стороны в сторону, и его седая, во всю грудь, борода шевелилась, будто сама по себе, и поблескивала.
Старожилы Иргита рассказывали, что раньше Лиходей был совсем иным: крепкий, обстоятельный мужик; имел справный дом, хозяйствовал, но случилась беда – жена его с дочкой переплывали в непогоду Быстругу на лодке, перевернулись и утонули. После похорон, погоревав и справив сороковины, он продал свой дом со всем скарбом, который имелся, и перебрался с одним узелком к своей троюродной сестре, стареющей бобылке, с детства глухой на оба уха. Вдвоем и стали жить. Вскоре Лиходей завел тройку, коляску на рессорном ходу и подъехал к гостинице «Коммерческой», остановившись в тени высокого тополя. Здесь и стоит до сегодняшнего дня, тренькая на двух балалаечных струнах в ожидании седока или седоков.
Он никогда не зазывал клиентов шутками-прибаутками, не хватал их за рукава, как другие извозчики, не голосил во все горло, расхваливая свою езду; молча сидел, тренькал, и клиенты сами его находили, когда случалось у них срочное дело, когда требовалось в самые короткие сроки доскакать до означенного места. Или иная нужда имелась – прокатиться с ветерком, чтобы хмель из тяжелых голов встречным ветерком выдуло. Лиходей бережно засовывал балалайку под облучок, разбирал вожжи, вскрикивал тонким, пронзительным голосом, и тройка срывала коляску, как легкую игрушку, несла ее словно на крыльях, и столь стремителен был ход диких жеребцов, что глаза седоков сами собой закрывались от страха, а сердца обмирали, как перед гибелью.
Не имелось в округе быстрее тройки, чем у Лиходея.
Все это знали, потому и недостатка в клиентах у него не было; хоть и редко к нему седоки садились, зато метко – расплачивались за быструю езду, денег не считая. Да он и не торговался никогда, сколько давали, столько и брал. Похоже, что деньги у него на втором месте обретались, а на первом значились скачки, которые тешили и грели его душу слаще «красненьких»[1].
В этот вечер, дергая балалаечные струны, Лиходей, как обычно, не оглядывался по сторонам и не видел, что из гостиницы вышла Арина Буранова, скромно одетая в серенький сарафан и повязанная в серенький платочек. В правой руке держала она маленькую сумочку из коричневой кожи и размахивала ей, словно собиралась подальше забросить. Постояв на нижней ступеньке высокого крыльца, Арина быстро двинулась к тополю, под которым перебирала ногами застоявшаяся лиходеевская тройка. Подошла, послушала бреньканье струн и окликнула:
– Здравствуй, дед! Музыка у тебя нескладная и струны две… Куда третью-то подевал?
Лиходей поднял голову, обернулся, и сплошная борода разомкнулась:
– Проехать желаете? Или так… любопытствуете?
– И проехать желаю, и… любопытствую, – Арина легко поднялась и уселась в коляску, – прокати меня, дед, до Сенной улицы, домик там раньше стоял на выезде, под черемухами, знаешь?
– Видывал. Да только какая нужда тебя, барышня, туда гонит, домик-то брошенный, и дела там, сказывают, всяческие случаются. Нечистый домишко, по ночам, сказывают, мертвяки в нем бродят, которые по-православному не отпетые, вроде как на судьбу жалуются… А час уже поздний…
– Трогай, дед, трогай!
– Как скажете, барышня, – Лиходей сунул балалайку под облучок, сам привстал, разбирая вожжи, и тонкий, режущий вскрик сдернул жеребцов с места: – Эх, вы, горькие мои! Поберегись, ударю!
Мелькнула перед глазами Ярмарочная площадь и – отскочила, оставаясь позади. Мелькнули магазины и лавочки на краю площади и – отлетели. Тройка неслась вдоль прямой улицы, похожая на привидение, вот – была, а вот – ее уже и нету.
– Рви кочки! Ровняй бугры! Держи хвосты козырем! – вскрикивал Лиходей, и жеребцы, послушно отзываясь хозяину, рвали кочки и ровняли бугры, распушив длинные хвосты и взметывая на встречном ветерке гривы.
Долго и бесшумно оседала за коляской летучая пыль.
Арина сжалась в комочек, закрыв глаза, и только одна-единственная мысль билась в голове – не выпасть бы на пыльную дорогу…
Удержалась.
И широко распахнула глаза, когда тройка остановилась. Но еще до того, как Арина открыла глаза, уловила она сладкий и волнующий запах цветущей черемухи, которая, свисая ветками, почти закрывала прогнувшуюся крышу старой избенки, глубоко вросшей нижними венцами в землю. Неведомая птичка, несмотря на поздний час, весело заливалась в глубине белой кипени, не прерывая своего пения ни на одно мгновение – будто тянула, радуясь, бесконечную звонкую нить. Жеребцы всхрапывали, били копытами в землю, казалось, что они досадуют и сердятся на неожиданную остановку. Лиходей, не выпуская вожжей из рук, сидел, не оборачиваясь, на облучке и ждал приказаний – дальше трогаться или здесь стоять?
– Жди меня, дед, – Арина ловко спрыгнула с коляски и вошла, оберегаясь густой и невысокой еще крапивы, в маленький дворик, плотно затянутый сухим прошлогодним будыльем. Дощатые сени избенки давно развалились, и жерди вперемешку с досками догнивали в крапиве, дверь выпала вместе с косяками и избенка смотрела на нежданную гостью пустым и беспросветно темным проемом.
Арина открыла свою сумочку, которую не выпускала из рук, достала свечу и спички. Скоро под ладошкой затеплился у нее желтый, трепетный огонек. Оберегая его, чтобы не потух, Арина перешагнула порог и вошла в темный проем. Шаткая половица отозвалась скрипом – резким, противным. Желтый огонек, вздрагивая и трепыхаясь из стороны в сторону, растолкал темноту и проявились осевшая на один бок русская печка, обвалившиеся на нее полати и провисший в дальнем углу потолок. Властвовал в избенке застоялый запах долгого мышиного житья, и даже черемуховый аромат не мог его перебить. Все потемнело, почернело от дождей и талого снега, все было тронуто гнилью, и только мох, торчавший из пазов, казался почти свежим и даже чуть заметно поблескивал, когда падали на него отсветы свечного огонька. Арина пробралась в передний угол, где обычно устраивают хозяева божницу, выставляя на нее иконы и обрамляя их вышитым полотенцем. Замерла, прикоснувшись одной рукой к стене, и долго стояла, словно вслушивалась, ожидая какого-то звука или голоса. Но в избенке было тихо, как в деревянном гробу, и только снаружи, из цветущей черемухи, доносилась сюда трель неведомой птички.
Арина оторвалась от стены, вытянула перед собой свечу, сжимая ее вздрагивающей рукой, вышла на улицу и, не погасив огонек, приблизилась к коляске.
– Свечку-то задуй, барышня, – посоветовал Лиходей, – обронишь ненароком и коляску мне спалишь.
Арина послушно дунула, и огонек, испуганно вздрогнув, погас. Темнота подступила плотнее, и Арина, вздохнув, бросила ненужную теперь свечу в крапиву. Устало и негромко скомандовала:
– Теперь, дед, вези меня к Глаше-копальщице.
– Ку-у-да-а? – Лиходей даже привстал с облучка и шляпу, похожую на засохший блин, сдвинул на затылок. – Этак, барышня, ты мне скоро прикажешь тебя прямиком в преисподнюю доставить! Ты чего, все поганые места в нашем Иргите объехать решила?
– Да что же в них поганого, дед?
– А то! Люди зря болтать не станут. Здесь покойники бродят, а там… там в бабенку бес вселился, хоть и икона, говорят, у нее в яме имеется.
– Ты сам-то видел?
– Не-е, я не охотник до таких дел, я туда не ездок, я все больше по веселым местам седоков своих развожу, по кабакам, по трактирам, да по девкам непотребным.
– Значит, не поедешь?
Вместо ответа Лиходей разобрал вожжи, крикнул тонким своим голосом, и тройка выскочила из истока улицы, устремляясь по узкой полевой дороге к горе Пушистой, которая мрачно чернела в зыбкой темноте майской ночи, врезаясь своей пологой макушкой в светлое и звездное небо.
Из-за горы, еще невидная на небесном склоне, поднималась луна и неверный свет, извещая об этом, растекался по земле, окрашивая зеленую траву в синеватую бледность. Тени жеребцов и коляски неслись и подскакивали в этой бледности словно сказочные чудища. Вот и подошва горы Пушистой. Кони встали.
– Здесь валуны торчат, – сообщил Лиходей, – ближе никак не подъехать. Вон, елки обогнешь, там и копальщица твоя копает. Назад-то ждать или как?
– Жди, дед, жди.
Несколько раз запнувшись о валуны, обросшие от старости мохом, Арина выбралась к елкам, обогнула их и увидела впереди желтое пятно света. Постояла, набираясь решимости, и медленно пошла, не отрывая глаз от этого мерцающего пятна. Свет струился из широкой горловины, наполовину затянутой старым дырявым рядном. Арина опустилась на колени, заглянула вниз. Горловина, расширяясь, уходила в глубь земли, и там, на самом дне словно в невиданном колодце светились два больших фонаря и растрепанная женщина, одетая в немыслимое рванье, копала лопатой плотный суглинок, укладывая его в большие деревянные ведра, которыми, уже полными и еще пустыми, было уставлено все свободное пространство. Женщина копала размеренно, не останавливаясь и не разгибая спины. Длинные, свалявшиеся космы свисали вниз, закрывая лицо, и слышались только надсадные хрипы, будто копальщица задыхалась, будто ей не хватало в огромной яме воздуха.
Арина наклонилась еще ниже, упираясь ладонями в холодную землю, негромко позвала:
– Глаша, ты меня слышишь? Глаша! Это я, Аринушка! Ты меня помнишь? Помнишь Аринушку?
Копальщица отвела лопату, с силой воткнула ее в суглинок и рывком, упираясь руками в поясницу, выпрямилась. Подняла изможденное, морщинистое лицо, желтое от фонарного света, и дико сверкнули на нем безумные глаза:
– Изыди, лукавая! Изыди! Не искушай!
Нагнулась, выхватила из-под ног сухой комок, с размаху кинула его вверх и, захрипев, громко и жутко, выдернула лопату, взметнула ее над косматой головой. Рубила короткими взмахами воздух, словно отбивалась от кого-то невидимого, и хрипела, выдавливая из плоской груди одно лишь слово:
– Изы-ди!
Арина молчала, уже не называла ее по имени и не окликала, ясно было, что докричаться сейчас до несчастной с поврежденным разумом – невозможно. Поднялась с колен и отошла от горловины. Вернулась к ожидавшему ее Лиходею, села в коляску и приказала ехать в гостиницу.
5
– Возле этой избенки смертоубийство случилось, давно еще. Какого-то большого чина прирезали, говорили, что хозяин с товарищем постарались. Ну, хозяина отыскали, а куда его семья делась – никто не знает. Убиенного, как водится, похоронили, а избенка ничья оказалась. Один мужичок проворный влез на дармовщинку со своим семейством и выскочил – недели не продержался. Такие страхи рассказывал! Покойники по ночам шастают, как живые, плачут, о помощи просят – светопреставленье, одним словом. Так она и стояла, брошенная. А года три назад поселилась в ней бедолага эта, Глаша. Тихо жила, незаметно, и – нате вам! Накупила ведер, лопат, заступов и начала под Пушистой яму рыть. Ее спервоначалу в участок таскали и в скорбный дом грозились отправить, а после рукой махнули – пускай копает, вреда-то от нее никакого не имеется. Даже вроде как забавно, господа иногда знатные приезжают полюбопытствовать. На зиму исчезнет неизвестно куда, а как только весна наступает – опять тут. Привыкли уж к ней, бабы жалеют, еду носят… А ваш-то, барышня, какой интерес? Кем она вам, Глаша эта, доводится?
– Спасибо, дед. И за езду спасибо, и за рассказ, вот тебе деньги, держи, а про любопытство мое лучше бы помолчать. Умеешь молчать-то?
– Э-э-э, милая, я со своими конишками столько видел-перевидел, столько слышал-переслышал, что заговори мы нечаянно – много бы шума случилось, а может, и смертоубийства с каторгой. Будь спокойна.
– Вот и ладно, возьми еще денежку – за понятливость.
– Достаточно, барышня, и так по-царски наградили. Будет надобность – кликни.
– Кликну, обязательно кликну.
Арина вышла из коляски, положила ассигнацию на колено Лиходею и быстро взбежала на гостиничное крыльцо.
В номере у нее сидел Черногорин, по-домашнему одетый в цветастый халат, и пил вино, закусывая его леденцами, которые крушил с громким хрустом на крепких зубах. Яркая жестяная коробка, из которой он доставал леденцы, была наполовину пустой, а на полу, под столом, стояла порожняя бутылка – давно уже сидел Черногорин, дожидаясь внезапно исчезнувшую Арину.
Когда она вошла, он поднял бокал, прищурился и через темно-красное вино принялся ее разглядывать; вдруг озаренно вскинул голову и не совсем трезвым голосом известил:
– Истина в вине – так утверждали древние. Они не заблуждались, моя несравненная, они мыслили верно. Гляжу на тебя через призму вина и вижу всю твою суть, вот она – пузатая, кривоногая тетка с маленькой-маленькой головенкой. В такой головенке даже самая простенькая, даже идиотическая мыслишка не может разместиться – ей там тесно! Куда ты отправилась? Одна, ночью, с этим полоумным извозчиком! У тебя завтра вечером первое выступление! Ты забыла?
– Ничего я не забыла! – Арина бросила на диван сумочку, скинула башмаки и, босая, присела к столу, развязывая платок. Опустила его на плечи и пригорюнилась, по-бабьи подперев щеку ладонью. Казалось, что она сейчас глубоко вздохнет, как это делают деревенские женщины, и затянет тоскливым голосом протяжную и горькую песню. Но Арина лишь пригладила ладошкой рассыпавшиеся волосы и тихо попросила: – Налей мне вина, Яков Сергеевич, и, будь ласковым, не пили меня, как сноху свекровка. Мне и без твоих строгостей тошно. Ой, как мне тошнехонько, Яков! Давай выпьем, и выметайся отсюда, одна хочу остаться…
Черногорин молча и сердито, всем своим видом показывая едва сдерживаемое негодование, налил ей полный бокал вина и поднялся из-за стола. Сунув руки в карманы халата, принялся ходить по номеру. Видно было, что порывался что-то сказать, но Арина его опередила:
– Пойми – это не прихоть, не капризы и не глупости вздорной бабенки, как ты считаешь. Никогда тебе не говорила, теперь скажу, чтобы ты уяснил и понял. Я к себе домой приехала, Яков Сергеевич, я здесь родилась, здесь у меня дом был, родители… Все было! И ничего не стало… Только одна черемуха цветет. Цветет и голову кружит… Ты видел, Яков, как змеи прыгать умеют? Лежат, такие ленивые, едва шевелятся и вдруг – ка-а-к прыгнут! Даже глазом моргнуть не успеешь. И насмерть! Капелька яда, ма-а-хонькая, а человек в могиле. Яков Сергеевич, я сюда, как змея, приползла, и скоро прыгну. Теперь ты понимаешь?
Черногорин, не ответив, подошел к столу, ухватил тонкими пальцами горлышко недопитой бутылки с вином и крепко стукнул дверью, покидая номер.
Утром он появился, как ни в чем не бывало, с иголочки одетый, отутюженный и наглаженный, крепко надушенный, как барышня, одеколоном, и, разводя перед собой длинными руками, известил, даже не поздоровавшись:
– Через два часа нас ждут на пристани, Арина Васильевна. Городской голова, господин Гужеев, изволил вам подарить речную прогулку. Завтрак подадут прямо на пароходе. Будьте уж настолько милостивы – без капризов и без опозданий.
Арина подошла к нему, положила руки на плечи, глянула снизу вверх и спросила с надеждой:
– Яков, ты мне поможешь?
Черногорин молча снял ее руки со своих плеч, отшагнул назад и, отвернув худое, горбоносое лицо, сказал, глядя в стену:
– Экипаж подадут к выходу, я буду вас там ждать.
Повернулся, пошел и даже не замедлил шага, когда догнал его крик Арины:
– И черт с тобой, индюк надутый! Без тебя справлюсь! Больше ни одного контракта с тобой не подпишу! Сам будешь петь, и пусть тебя тухлыми яйцами закидают!
У порога Черногорин все-таки остановился, напомнил:
– Попрошу не опаздывать.
Сумочка, которая подвернулась Арине под руку, полетела, описывая дугу и роняя на пол всяческую мелочь, но ударилась уже в закрытую дверь и повисла, зацепившись за бронзовую ручку. Таким же манером пролетел башмачок и глухо упал на пол, отскочив от двери. Арина, остывая от внезапной сердитой вспышки, присела возле трюмо, долго вглядывалась в свое отражение и вертела вздрагивающими пальцами серебряную пудреницу. Но вдруг мотнула головой, раскидывая распущенные волосы, вытерла ладошкой навернувшуюся слезу и рассмеялась – звонко, в полный голос, словно обрадовалась несказанно радостному известию. Она всегда так делала, если одолевали ее тоска или обида. Смеялась и будто стряхивала с себя все житейские неурядицы, душа успокаивалась, глаза снова смотрели на мир восторженно и любовно.
И вот так, с сияющим взглядом, с высоко вскинутой головой, украшенной круглой белой шляпой с широкими полями и с атласной голубой лентой, завязанной кокетливым бантиком, появилась она на высоком крыльце «Коммерческой», ласково улыбаясь ожидавшему ее Черногорину. Тот, нисколько не удивляясь внезапно произошедшей перемене в настроении «несравненной», подал ей руку и осторожно подсадил в коляску. Кучер хлопнул вожжами, и коляска мягко покатила в сторону пристани.
День над Иргитом разворачивался теплый, яркий. Ни ветерка, воздух стоял неподвижным, и виделось в прострел длинной и ровной улицы далеко-далеко: зеленый берег, пристань, искрящаяся синева Быструги, и еще дальше – другой берег, пологий и песчаный, венчавшийся темной, без единого просвета, полосой густого ельника.
У пристани уже стоял «Кормилец», украшенный разноцветными флагами и флажками, на мостике, поглядывая из-под руки, красовался Никифиров в белом кителе, у трапа, поджидая гостей, важно прохаживался городской голова Гужеев, а рядом, почтительно вытянувшись, стояли чиновники городской управы, которые были удостоены чести присутствовать на речной прогулке, устроенной в знак уважения к знаменитой столичной певице, о которой раньше доводилось только читать в журналах, да в газетах. А сегодня вот она, собственной персоной, и совсем не гордая, не заносчивая, всем улыбается, поблескивая большими голубыми глазами, и говорит просто, не жеманясь:
– Я вам так благодарна, господа, честное слово, такое удовольствие на этом пароходе плыть, такое удовольствие на красоту глядеть, я в восторге!
– Примите мои извинения, – повинился, прикладывая пухлую руку к груди Гужеев, – что не смог вас вчера встретить. Срочное заседание управы пришлось проводить, у нас ведь ярмарка открывается, страда наша… Простите великодушно.
– Да о чем вы говорите, уважаемый! – улыбалась ему Арина, обласкивая его теплым взглядом. – Я совсем не в претензии, меня прекрасно встретили, прекрасно устроили – мне все нравится! Все!
Она взяла городского голову под руку, и он, высокий, большой, грузный, осторожно повел ее по трапу на палубу «Кормильца», а следом за ними, на почтительном расстоянии, потянулись и остальные. Замыкал процессию Черногорин, осторожно ступая по истертым доскам блестящими башмаками. Смотрел себе под ноги, наклоняя голову, словно хотел скрыть свою умную и незлобивую усмешку.
6
Завтрак, речи за завтраком, гуляние по палубе, рассказы о красивых местах, мимо которых проплывали, иные милые, душевные разговоры – все это затянулось надолго, и Арина с Черногориным вернулись в гостиницу только после полудня.
А там их с большим нетерпением уже ждали. Приехали остальные, как называл их Черногорин, когда был зол, «трупы труппы»: аккомпаниаторы Сухов и Благинин, и Аннушка Нефедова, исполнявшая должности горничной, мамки, бдительной охранницы, кормилицы и даже учительницы жизни.
Изначально собирались ехать в Иргит все вместе, но Арина переиначила по-своему: первым отправился Черногорин, сама она поплыла на пароходе, кружным путем, а сегодня от ближайшей железнодорожной станции Круглой прибыли по старому тракту на экипаже Сухов, Благинин и Аннушка, которую все любовно называли Ласточкой.
Теперь были в полном сборе.
Просторный номер Арины, куда все пришли, огласился громкими голосами, смехом и, конечно, очередным потешным рассказом Благинина, который мастерски умел облечь в слова любую несуразную ситуацию. А ситуаций таких за время долгих и дальних гастролей было преизрядно, и ни одна из них не оставалась без ехидного повествования Благинина. Вот и сегодня, едва лишь схлынуло первое оживление встречи, он вскочил с дивана и заговорил своим скорым, окающим говорком:
– Могло такое случиться – не дождались бы нас сегодня. Пришлось бы Арине Васильевне без аккомпанемента выступать, а мы бедовали бы в каталажке. Ну разве что Яков Сергеевич приехал бы выручил, хотя, думаю, денька три все равно подержали бы, для устрашения…
– Ботало! – сиплым, обрывающимся голосом перебила его Аннушка. – Нагородит теперь семь верст до небес, и все лесом!
– Попрошу не обижать меня простонародными словами, Ласточка. Говорю только голую правду. Итак, слушайте… Пока экипаж ожидали, зашли в чайную, перекусить. И только за стол сели, только половой к нам подошел, как забегает растрепанная девонька и голосит отчаянным голосом, чтобы ее спасли от погибели. Никто ничего понять не может, а следом за девонькой – мужичок пьяненький, ухватил ее за волосики и давай таскать по полу. Мы и ртов открыть не успели, и глазами не моргнули, а Ласточка из-за стола выскочила, мужичка за шкирку и за штаны взяла ручками своими белыми и в окно выкинула. Да хорошо, что окно настежь было открыто по причине теплой погоды – нигде мужичок не зацепился, прямиком в лужу прибыл. И лежит, не шевелится. Ну, думаем, убился. Спохватились и бежать. А тут, на счастье наше, и экипаж подали. Вовремя отъехали, хорошо погони не было. И не ведаем теперь – живой тот мужичок остался или помер? И спросить не у кого!
– Ботало! – еще раз повторила Ласточка и обиженно поднялась из-за стола, выпрямляясь во весь свой огромный рост. Необъятная в стане, с могучим разворотом крутых плеч, с грудью, выпирающей из кофты, как две горы, с крупными, широкой кости, руками, Ласточка казалась сказочной богатыршей, которую следует не на шутку опасаться – а вдруг возьмет, да и осерчает. Но круглое ее лицо с добрыми коровьими глазами излучало столько чистой наивности и простоты, что не верилось, что способна она кого-то всерьез обидеть.
– Набрехал, и довольный! – говорила Ласточка, заливаясь смущенным румянцем и поправляя рукава кофты. – Нисколько он не убился, сразу на карачки встал, а после выпрямился и ушел, и мы убегать никуда не убегали. Поели и поехали. Насочинял! Язык, как помело!
– Погоди, погоди, – тихонько, в ладошку, хихикал Черногорин. – Но в окно-то мужика выкинула?
– А чего он, дьявол пьяный, за волосы бедняжку таскать взялся! Кто ему такую волю дал, чтоб над живой душой измываться?
– Ты уж, миленькая, не обижайся, – вступила в разговор Арина, – только пьяных больше так не наказывай, а то и впрямь неприятность случится – заберут в полицию.
– Да кому я там нужна, в полиции-то?! – сиплый, срывающийся голос Ласточки звучал неподдельно удивленно, – У них, по-всякому, другие хлопоты имеются! А с меня какой спрос?!
Она твердо была уверена, и никто бы не смог ее переубедить в том, что заступаться за тех, кого обижают, дело само собой разумеющееся и, соответственно, никакому наказанию не подлежащее. И чтобы ей ни говорили, какими бы словами ни пытались внушить опасение, она бы искренне не поняла.
Вот такая она была, Аннушка-Ласточка, самый близкий для всех человечек в «труппе трупов». Любили ее, как малое дитя любят в большой и дружной семье, подшучивая и посмеиваясь над его проделками.
Когда-то она служила вместе с Благининым и Суховым в разъездной оперетке. Благинин с Суховым играли в оркестре, Аннушка ворочала громоздкий реквизит при частых переездах, штопала и перешивала костюмы и время от времени, если возникала надобность, выходила на сцену исполнять безмолвные роли. Но в Нижнем Новгороде, на ярмарке, приключилась с ней любовная драма – завладел ее большим и отзывчивым сердцем цирковой борец Подгурский. Великан, красавец, усы – в разлет. И пропала Аннушка. Все бросом бросила, отправилась вместе с цирковыми в долгие гастроли по Волге. Плыли, плыли и приплыли в Астрахань, где Подгурский коварно отрекся от Аннушки в пользу воздушной гимнастки. Аннушка впала в тоску, загоревала, и хватила в отчаянную минуту неразведенного уксуса, решив, что лучше умереть, чем жить с душевной раной. Но в больнице ей помереть не дозволили, выходили, и в память о недолгой и несчастной любви остался только сиплый, срывающийся голос, спаленный злым уксусом. Этим голосом, почти потерянным, Аннушка обозвала Подгурского гулящим кобелем, воздушную гимнастку – сучкой, и начала новую жизнь, зарабатывая на хлеб стиркой белья и снимая угол у вдовой старушки.
Прошло несколько лет. Благинин вместе с неразлучным дружком своим Суховым покинули оперетку, точнее сказать, переманил их чуткий на таланты Черногорин, точно угадавший, что лучших аккомпаниаторов для репертуара Арины Бурановой и желать не надо. Не ошибся. Словно из ружья выстрелил и в яблочко попал. Звезда Бурановой быстро поднималась вверх, и немалую долю в ее успех вносили неразлучные дружки, виртуозно владевшие гитарами, гармонью и цитрой[2], оставаясь по-прежнему абсолютно непохожими: один – шустрый и говорливый, другой – молчаливый, почти немой, всегда с тусклым и ленивым взглядом, будто только что проснулся. Несмотря на столь разительные отличия, дули они в одну дуду, по любому поводу было у них единое мнение и поэтому нисколько не удивительно, что явились они на гастролях в Астрахани к Черногорину и стали просить в один голос, чтобы он принял в труппу Аннушку. Та, оказывается, прочитала на афишах их фамилии, пришла на концерт, а после заглянула за кулисы и взмолилась: возьмите меня, родненькие, хоть кем, увезите отсюда, я тут насквозь рыбой провоняла и на руки страшно глянуть – до живого мяса достиралась. Черногорин подумал-подумал, нахмурив лоб, поразводил перед собой руками и соизволил разрешить:
– Приводите, поглядим на вашу девицу.
Когда Аннушка появилась в гостиничном номере, едва не заполнив его наполовину своим телесным избытком, Черногорин, пораженный этим явлением, только и смог, подскочив с кресла, удивленно воскликнуть:
– Ласточка!
Так Аннушка получила свое второе имя.
С Ариной они сдружились с первого дня – водой не разольешь. И с первого же дня Ласточка решила, что Арина без ее догляда обязательно пропадет, поэтому заботилась о ней днем и ночью, оберегая, иногда неуклюже, от неприятностей, которые, по ее мнению, могли приключиться. Сейчас, после разлуки, соскучившись, она досадовала, что Благинин, как всегда приукрасив и приврав, рассказывает о казусе, случившемся в чайной, и не дает расспросить в подробностях о том, как Арина добралась до Иргита, какое у нее настроение, и не болит ли нога, которую она подвернула перед отъездом.
Сама же Арина, глядя на Ласточку, на Благинина и Сухова, испытывала тихое и теплое душевное спокойствие – вот и хорошо, все вместе, все родные, и даже Черногорин, в которого швыряла утром сумочкой и башмачком, которого ругала и грозилась никогда с ним больше не подписывать контракта, даже он, как и прежде, был близким и милым – долго сердиться она не умела. И послушно выслушала, и согласно кивнула головой, когда Черногорин строго напомнил, что до вечера, до выступления, времени осталось немного и веселые разговоры можно отложить на будущее. А теперь – всем в театр, осмотреться, подготовиться и одеться для выхода. Первое выступление на гастролях – это не первый блин, который комом. Если оно провалится, никаких блинов и пышек больше не будет.
Дружно встали и пошли, пошли, пошли… Благо, что до городского театра рукой подать – через площадь.
7
С раннего утра в доме Гуляевых царили переполох и суета – собирались выезжать в Иргит на ярмарку. Правда, суетились, перекликались, шумели и хохотали без всякой видимой причины гуляевские девки – было их в семье трое. Глава семейства, Поликарп Андреевич, пребывал в смутном расположении духа, хмурился, покашливал, сплевывал на землю тягучей слюной и никакого участия в общих сборах не принимал – сидел в ограде, в теньке от стены дома, на чурочке, и делал вид, что занимается важным делом: осколком стекла скоблил березовое топорище. Тяжело было нынче Поликарпу Андреевичу. Глаза бы ни на что не глядели. Вчера понес он новый, только что сшитый полушубок деревенскому лавочнику Аверьянову. Тот полушубок примерил, прошелся по горнице, перед зеркалом покрасовался и премного остался доволен: обновка получилась – на загляденье. От довольства своего принялся Аверьянов щедро угощать Поликарпа Андреевича, говорил, захмелев, что такого мастера, такого портного, какой в Колыбельке имеется, даже в самом городе Иргите не водится, а еще говорил, что Гуляев для деревни – сущий клад, ведь обшивает он всех подряд, цены за работу не задирает и всегда поступает честно: если останется кусок овчины лишний, либо материи лоскут, никогда его себе не притаит, а вернет заказчику. Вот за это и уважают люди Поликарпа Андреевича, и он, Аверьянов, тоже уважает и желает угостить золотого человека от чистого сердца и поцеловаться с ним от избытка чувств. Выпивали, целовались, да не по одному разу, и домой добирался Поликарп Андреевич в очень шатком положении. Сколько ни целился, а в калитку лишь с третьего захода угодил. Дальше – дело известное и с недавних пор привычное: прокрался в боковую каморку, где топчан имелся, и прикорнул неслышно.
Раньше, лет десять назад, он по-иному домой заявлялся. Какими бы тычками земля под ногами ни дыбилась, он всегда находил опору, упираясь руками в столб или в калитку, и кричал, не торопясь войти в свою ограду:
– Кто домой пришел?!
Выскакивала из дома жена его, терпеливая и послушная Антонина, бежала открывать калитку и громко голосила:
– Поликарп Андреевич, хозяин наш, домой к себе пожаловал!
И много происходило шума и слышалось грозной ругани, если Антонина замешкается и не так громко, как хотелось хозяину, проголосит. Строг был Поликарп Андреевич, когда требовал к себе беспредельного уважения. Но требовал его не часто, лишь в те редкие дни, когда перебирал зеленого вина. А в остальное время сидел, не разгибая спины, над швейной машиной «Зингер», и стрекотала она, не ведая перерывов. А как иначе? Трое ртов нарожали они с Антониной в совместной жизни, и в каждый рот требовалось какую-никакую крошку положить, а заодно еще и одеть-обуть. Вот и трудился…
Размеренную жизнь судьба переломила, как палку через колено, ровно в три дня. Именно такого короткого срока хватило нутряной болезни, чтобы свести в могилу Антонину. Остался Поликарп Андреевич с тремя малыми девками на руках и хлебнул горького по самые ноздри. Через год не выдержал – женился. Привел в дом новую жену и мачеху, Марью Ивановну. Издалека ее доставил, из глухой деревни в верховьях Быструги, где засиделась она в девках-перестарках по причине одного существенного изъяна – кривая была на левый глаз, затянутый бельмом. А во всем остальном – на загляденье. И телом ладная, и характером покладиста, и умна по-житейски – всех троих девок быстро сумела прилепить к себе любовным терпением. Они в своей мачехе души не чаяли. Скоренько окоротила Марья Ивановна и Поликарпа Андреевича, когда тот, освоившись с новым своим положением, потребовал, возвращаясь домой пьяненьким, уважения и почитания. Два раза крикнула Марья Ивановна, извещая, кто домой пожаловал, и сапоги с супруга стащила, и уложила в постель, а на третий раз такое коленце выкинула, что Поликарп Андреевич сразу протрезвел, хоть и не до конца. Заслышав грозный голос супруга, явившегося на развязях, Марья Ивановна схватила заранее припасенную веревку и кинулась в сарайку; пока бежала, а бежала трусцой, не торопясь, по сторонам оглядываясь, кричала, как под ножом:
– Да пропади она пропадом, такая жизнь! Удавлюсь – все легше будет!
В сарайке петлю изладила, скамейку притащила, но вставать на скамейку и голову в петлю засовывать не спешила, только кричала, пока не вломился в сарайку Поликарп Андреевич и не дал совершиться задуманному столь хитро якобы самоубийству. Девки во время всей этой заварушки так верещали, загодя наученные мачехой, что сбежались соседи даже с дальнего конца улицы – когда еще такую потеху увидеть доведется?!
С тех пор хозяин больше уже не вопрошал у супруги, кто в дом после гулянки пожаловал. А если приходил пьяненьким, проскальзывал неслышно, как тень, в боковую каморку и засыпал там, на топчане, вполне удовлетворенный.
Только вот голова по утрам хворала по-прежнему.
Перемогая боль, Поликарп Андреевич уже и не знал, какое заделье себе придумать. Топорище осколком стекла до того гладко отскоблил, что оно из рук выскальзывало. Тоскливо оглянулся, повел взглядом по ограде – чем бы еще заняться?
– Да не мучайся ты, ступай в дом, я на столе там тебе оставила, – сообщила, между делом, пробегая мимо с узлом, Марья Ивановна. Даже головы не повернула, буркнула себе под нос и проскочила. До чего же хитрая баба! Столько времени мучиться заставила! Поликарп Андреевич кинул стекло на завалинку и поспешил в дом, сжимая в руке топорище. На столе дожидались его большая кружка с домашним пивом и кринка с холодным квасом. Не торопясь, обстоятельно, Поликарп Андреевич обе посудины до донышков осушил, посидел, прислушиваясь к себе, и повеселел. А скоро уже вышел на крыльцо, огляделся – орлом, и появился в доме прежний хозяин, который спуску своим домашним не давал за самую малую провинность. Все узлы на возах переложил собственноручно, чтобы они на ухабах из телег не вывалились, сам лошадей запряг и сурово прикрикнул на дочерей, вырядившихся в новые кофты и юбки с оборками, чтобы они в обиходные сарафаны оделись – нечего добрую одежду в дороге трепать. Марья Ивановна попыталась заступиться за девок, но Поликарп Андреевич так глянул, что она сразу же и осеклась – умная все-таки баба, всегда край чует, за который перелезать не следует. Пошепталась с падчерицами, что-то быстренько им сказала, они повеселели и дружно побежали переодеваться.
После обеда, как и задумывали, выехали со двора на трех подводах. На первой восседали Поликарп Андреевич с Марьей Ивановной, на второй – трещала без умолку, как сорока на ветке, младшенькая Дарья, а на третьей – весело переговаривались старшухи-погодки Елена и Клавдия, входившие уже в пору невест на выданье.
В нынешнем году не смог Поликарп Андреевич выехать на ярмарку в дни Николы-зимнего, захворал, простудившись, и теперь вез на продажу свои портняжеские изделия – полушубки, рукавицы-мохнашки и шапки – с большой тревогой: много нашил за зиму, найдется ли столько же покупателей? За вторую часть своего товара, лежавшего в отдельных мешочках на возах, он не беспокоился – белоснежные кружева у него всегда забирали оптом. Марья Ивановна среди своего, прямо сказать, небогатого приданого привезла и коклюшки – кружева вязать на досуге. Да только быстро сообразила, что если еще шесть рук добавить, можно и о продаже подумать. Прикупила коклюшек, ниток и быстренько выучила всех трех падчериц в кружевниц. Вечера зимой долгие, ветер воет, метель метет – самое время в тепле сидеть, да коклюшками постукивать. Кружева, когда в первый раз привезли на ярмарку, оказались ходовым товаром – подчистую все распродали. А уж на следующей ярмарке явился торговый человек из Екатеринбурга и сказал, что отныне он, если в цене сойдутся, все оптом забирать будет. Поторговались недолго и в цене сошлись, ударили по рукам, и теперь у Поликарпа Андреевича голова о кружевах не болит. А вот как с полушубками, рукавицами и шапками дело сложится?
Он шлепнул вожжами по сытой, крутой спине жеребца, запряженного в телегу, и вслух, не торопясь, выговорил:
– Да уж как-нибудь, глядишь, и выкрутимся – товар хороший, цена веселая… Становись, ребята, в очередь!
Марья Ивановна, понимая, о чем супруг раздумывает, не удержалась, с тихим и кротким вздохом шпильку вставила:
– Продадим на рупь, полтину пропьем, на другу опохмелимся – вот и вся наша удача… Да ты меня не слушай, Поликарп, это по дурости по моей всякие слова с языка соскакивают.
Ну, вот как с такой бабой жить?! И шпильку вставила, и повинилась сразу же, и обругать не за что! Поликарп Андреевич насупился, замолчал и больше уже своими мыслями вслух не делился, продолжая думать о предстоящей ярмарке, на которую должен был приехать киргиз Телебей Окунбаев и привезти на продажу овечьи шкуры. С Телебеем они приятельствовали не первый год и всегда были друг другом довольны. Надеялся Поликарп Андреевич, что и в этот раз все у них сладится и купит он шкуры для шитья полушубков в нужном ему количестве и по цене не сильно задиристой.
Младшенькая Дарья на второй подводе беспрестанно щебетала о чем-то своем, девчоночьем, и хохотала без удержу, словно ее щекотали за пятки. Иногда оборачивалась, кричала старшим сестрам, чтобы они не отставали, и продолжала беседовать сама с собою.
На третьей подводе, у Клавдии с Еленой, свои разговоры – секретные. А заключался их общий секрет в том, что везли они в Иргит письмо, которое передал им казачий сотник Николай Дуга, квартировавший в избе, стоявшей через улицу как раз напротив гуляевского дома. Сидели они вчера вечером на лавочке, щелкали семечки и вдруг видят – скачет по улице на коне сотник и правит прямиком к ним. Соскочил с седла сам не свой, глаза горят, а голос, когда заговорил, просительно прикладывая ладонь к груди, и вовсе не признать было – дрожит жалобно и рвется, как у больного, которому воздуха не хватает:
– Девоньки, на вас у меня вся надежда! Помогите! Клава, Ленушка, выручайте! Вы же завтра с отцом в Иргит едете?!
– Едем, – еще ничего не понимая, отозвались в один голос Клавдия и Елена, очень уж удивленные необычным поведением сотника. Раньше они его совсем другим видели – шутил, смеялся при встречах, и все грозился привести из своей сотни самых красивых кавалеров и построить их перед сестрами, чтобы те выбирать могли, кого пожелают. Клавдия с Еленой поначалу смущались, краснели, а после привыкли к его шуткам и сами при встречах со смехом напоминали – а где обещанные кавалеры, Николай Григорьевич?
Но вчера вечером было ему не до шуток, и девушки сразу это поняли. А когда узнали, о чем и просит Николай Григорьевич, переглянулись между собой и дали согласие. Очень уж хотели они, не сговариваясь, помочь сотнику. Ясно им было, что просьба его не просто просьба, а с сердечными делами связанная. И хотя он об этом ни словом не обмолвился, они сами догадались. Просил их Николай Григорьевич о том, чтобы доставили они в Иргит письмо и вручили его прямо в руки певице Бурановой. Для этого, учил их Николай Григорьевич, надо будет купить билет на концерт и еще купить букет цветов. И когда все хлопать в ладоши станут, подбежать к сцене и отдать письмо вместе с букетом.
Получив согласие от девушек, Николай Григорьевич вручил им письмо и деньги на билет в театр и на цветы. Хотел еще что-то сказать, но передумал, хлопнул плеткой по голенищу сапога, взлетел в седло и ускакал в сторону полкового лагеря, даже не оглянувшись.
Сейчас, под негромкое тарахтенье тележных колес по полевой дороге, сестры, словно опамятовавшись, рассуждали: как же они смогут выполнить просьбу Николая Григорьевича? Сами они в театре никогда не бывали и цветов никому не подносили – боязно. А еще боязно, что вдруг строгий тятенька никуда их не отпустит, скажет: вы чего, оторвы, удумали, в какой еще театр собрались?! И такой театр отломит, если осерчает, что небо с овчинку покажется, может и плеткой постегать, если мамонька не заступится. Мачеху свою сестры звали мамонькой и обычно делились с ней всеми девичьими секретами. Теперь, вспомнив о ней, решили: вот приедут в Иргит, выберут свободную минуту и расскажут о просьбе Николая Григорьевича. Мамонька, если ей хорошенько все объяснить, обязательно что-нибудь придумает и подскажет. Решив так, они повеселели, и стало их разбирать любопытство: а чего в письме, которое они везут, написано? Так им захотелось глянуть в него и прочитать, что едва-едва удержались. Узел с кружевами, куда письмо было засунуто, переложили на задок телеги, чтобы соблазну не поддаваться, и успокоились.
Под вечер, когда Гуляевы с полевой дороги выбрались на тракт и стали приближаться к Иргиту, пришлось им вдоволь поглотать пыли – подводы, возы, коляски и экипажи двигались одним сплошным потоком. На ярмарку ехало огромное количество народа. Щелкали бичи, ржали кони, скрипели колеса, ругались кучера и возчики – все это сливалось, сплеталось в один невообразимый гвалт, и просекали его, как острые иглы, истошные визги маленьких поросят, которых везли для продажи в немалом количестве.
Возле моста, перекинутого через ручей, впадающий в Быстругу, и вовсе столпотворение. Поликарп Андреевич под уздцы вывел коня, запряженного в первую подводу, на низкий лужок, после и две остальные свои подводы выручил из общей кутерьмы – решил, что лучше переждать в прохладе возле ручья, чем томиться в пыли и слушать несмолкающий гвалт. Да и коням передохнуть требовалось.
Сестры, спорхнув с подвод, кинулись к ручью умываться, брызгались друг в друга, и водяные капли, прежде, чем упасть, успевали вспыхнуть искрящимися блестками, отражая лучи красного, закатного солнца. Марья Ивановна, отряхнувшись от пыли, сняла с головы платок, выхлопала его, и, повязав заново, зорко огляделась целым глазом – ничего с возов не упало, не потерялось? Все лежало на месте. Она обернулась к супругу и предложила:
– Поликарп, лошадей, может, выпрягем? Пущай травки пощипают.
– До места доберемся, там и покормим.
– Ой, да эту беду не переждать, глянь – едут и едут. И откуда столько миру взялось?!
В это самое время, словно отзываясь на их голоса, из кустов ветельника вышел, весело насвистывая, странный господин. Был он уже немолод, но строен, одет по-городскому, даже шляпа на голове имелась, но штаны его были выше коленей закатаны, а сапоги, перевязанные за ушки веревочками, держал в руке. В другой руке – небольшой черный баульчик с блестящей медной застежкой.
Поликарп Андреевич насторожился. Человек он был опытный и хорошо знал, что на ярмарку не только продавать-покупать едут, но и темный народишко плывет, как навозная жижа по теплу из хлева. Такое уж место – ярмарка. Всех без разбору притягивает.
Но странный господин, словно угадав его мысли, перестал насвистывать и вежливо поклонился, растопыривая руки с сапогами и баульчиком:
– Доброго вам здоровья, люди хорошие, и дороги гладкой.
– Ага, гладкой, – буркнул Поликарп Андреевич, – тут не дорога, а затычка.
– Можно ее и обогнуть, если желание имеется, я здесь брод знаю, берега пологие, не желаете за мной прокатиться, – предложил господин и направился к воде, неловко поддергивая занятыми руками закатанные штаны еще выше.
Поликарп Андреевич ответить ему еще ничего не успел, а он, чуть поднявшись вверх по ручью, побрел по воде, которая, оказывается, доставала ему до колен. Не оглядываясь, докладывал:
– Дно здесь твердое, телеги, как по мостовой, прокатятся.
Не долго думая, Поликарп Андреевич тоже разулся, закатал штаны, ухватил коня за повод, и первая подвода осторожно покатилась на другой берег ручья. А следом за ней и две других туда же благополучно переправились.
– Спасибо вам, не знаю, как звать-величать, – поблагодарил Поликарп Андреевич.
– Спасиба, человек хороший, для меня многовато будет, не унесу, а вот до Иргита подвезти – в самый раз. Сапоги у меня новые, неразношенные, замучился. И босым отвык ходить – земля колется.
– Ну и полезай на телегу, поедем.
Господин быстро и ловко устроился на телеге, на мягких узлах, и снова принялся насвистывать, внимательно оглядываясь по сторонам.
8
В Иргит прибыли уже в потемках.
Город, несмотря на поздний час, был оживленным и многолюдным, торопливо шевелился и не собирался, похоже, отходить ко сну. Ворота крытых дворов настежь распахивались, в них въезжали груженые телеги, в домах желтыми пятнами светились окна, отражаясь на земле темными крестами рам, хозяйки сновали, сбиваясь с ног, накрывали ужин для прибывших постояльцев.
Многие из тех, кто регулярно приезжал на ярмарку, уже точно знали, где остановятся – загодя договаривались с хозяевами о постое. А кто этого не сделал, ехал обычно вдоль улицы и тыкался во все дома подряд, но редко кому улыбалась удача – все было утрамбовано возами, лошадями, кладями с товарами и прибывшим на ярмарку народом.
Поликарп Андреевич не тревожился: вот уже который год останавливался он у местного лавочника Арсения Кондратьевича Алпатова. И не только на постой останавливался, но еще и арендовал часть прилавка в его лавочке, стоявшей в третьем ряду на подступах к Ярмарочной площади. Алпатов был бездетным, проживал вдвоем с женой, но дом имел на Сенной улице не бедный, с размахом: на добром фундаменте, под железной крышей, в пять комнат, да во дворе еще флигелек имелся. Вот этот флигелек он обычно и сдавал Поликарпу Андреевичу, а все его портняжеские изделия, привезенные для продажи, сгружали в каменный подвал, закрывали на замок, и ключ от того замка Алпатов передавал своему постояльцу – для полного его удобства.
Едва лишь въехали на Сенную улицу, как господин, который и сидя на телеге, продолжал насвистывать, попросил остановиться:
– Благодарствую, любезный, как на царской карете доставил, до самого места.
Он спрыгнул с телеги, уже обутый, и пошел скорым шагом, растворяясь в темноте, обозначая себя лишь негромким посвистом, но скоро и посвист потерялся. Поликарп Андреевич пересадил Марью Ивановну на вторую подводу, потому как младшенькая Дарья, утомленная дорогой, начала клевать носом, и поехали дальше, глотая густую пыль: на Сенной было не протолкнуться от возов.
Но вот, слава Богу, и добрались.
Окна в доме Алпатова зазывно светились, словно извещали, что хозяева ждут гостей и спать не ложатся. Встречать вышел сам Алпатов, с фонарем, который бросал яркие отсветы и выхватывал из темноты высокого, крепкого еще старика, с холеной, всегда расчесанной бородой рыжего цвета. Ни единой сединки в этой бороде не маячило, да и сам Алпатов смотрелся, как крепкий груздок – немалые годики пролетали мимо него, не задевая.
Он помог завести подводы под крышу двора, помог распрячь коней, а после таскал вместе с Поликарпом Андреевичем узлы в подвал, и все делал несуетно, обстоятельно, только время от времени громко покряхтывал – была у него такая привычка.
Когда весь товар утрясли и сами расположились, сели ужинать. На стол подавала хозяйка, проворная старушка Василиса Артемьевна. Помочь ей порывалась Марья Ивановна, но хозяйка лишь решительно отмахивалась сухонькой рукой и приговаривала:
– Сиди, голубушка, сиди и кушай. Намаялись за дорогу – отдыхайте.
Оно и верно – намаялись. Сразу после ужина направились спать во флигелек. Даже младшая воструха Дарья не щебетала и не хихикала, сунулась на подушку, набитую соломой, и сразу уснула – только расслабленными губешками сладко причмокивала. Следом за ней уснули Елена и Клавдия; поворочавшись и повздыхав, угомонилась Марья Ивановна, и только Поликарп Андреевич никак не мог задремать, пытаясь вспомнить: привязал ли он утром к одной из телег деревянную корчажку с дегтем? Колесо на третьей подводе, после переправы через ручей, противно заскрипело и до самого дома Алпатова ехали с тележной музыкой. Девкам-то мимо ушей, а он сразу услышал. За суетой, пока на постой устраивались, он про колесо это позабыл, а вот теперь вспомнил и маялся – есть у него деготь, чтобы ось смазать, или нет? Сон не шел. Поликарп Андреевич чертыхнулся, на ощупь отыскал штаны и рубаху и неслышно, чтобы никого не разбудить, выбрался из флигеля.
Ночь уже скатывалась на вторую свою половину, небо вызвездило, и темнота проредилась. Глаза в потемках обвыклись, и Поликарп Андреевич без всякого труда прошел к телегам, нашарил корчажку, привязанную к днищу и полную дегтя, успокоился, вытер измазанные пальца о штаны и со спокойной душой направился во флигель, где и уснул без всякой тревоги.
Утром, за завтраком, они рассуждали с Арсением Кондратьевичем, между кашей и чаем, о том, что сегодня доставят товар в лавку, разложат его, оглядятся, по ярмарке побродят, ценами поинтересуются, а уж завтра, помолясь, начнут торговлю – до открытия самой Никольской ярмарки оставалось еще три дня. Вот и начнут, чуть загодя…
Хотел Арсений Кондратьевич еще какие-то слова сказать, да так и замер с открытым ртом, стакан с чаем в его руке дрогнул и серебряная ложечка тоненько, жалобно звякнула. Глаза замерли и неподвижно уставились на дверь. Поликарп Андреевич обернулся – он спиной к двери сидел – и увидел на пороге господина, который вчера показал брод через ручей и которого он подвез до Иргита. На голове у него, сбитая на затылок, красовалась черная шляпа, а в правой руке покоился черный баульчик с блестящей медной застежкой. Сам господин улыбался, отчего плоское, словно стесанное лицо становилось чуть шире. Точно так же, как и вчера возле ручья, он поклонился, растопыривая руки и приветливо произнес:
– Доброго здоровья, люди хорошие. Как говорится, хлеб да соль.
У Василисы Артемьевны вздрогнули худенькие руки, большой железный лист, на котором лежали только что вынутые из печи маленькие булочки, выскользнул, грохнулся в пол и булочки весело раскатились по половицам. Господин стремительно нагнулся, ловко подхватил одну из них, дунул на румяную корочку, отхватил зубами больше половины и начал жадно жевать, прищуривая глаза от удовольствия. И одновременно, с полным ртом, говорил:
– Давно домашней стряпни не пробовал – соскучился. Приглашай за стол, Василиса Артемьевна, хоть я и не званый гость, а все равно… Или прогнать желаете?
– Садись, – глухо уронил Арсений Кондратьевич и торопливо, большими глотками стал допивать чай, словно боялся, что стакан с серебряной ложечкой у него сейчас отберут.
Поликарп Андреевич сразу смекнул, что ему со своим большим семейством засиживаться за столом не следует – у людей свои разговоры, для чужих ушей не предназначенные. Вздернул головой, показывая дочерям и супруге, что завтрак закончился, и первым поднялся из-за стола. Хватит, почаевничали. Перекрестились на иконы в переднем углу, поблагодарили хозяев и ушли. А хозяева, растерянные после появления неожиданного гостя, никак не могли обрести себя и в ответ на благодарные слова постояльцев даже не кивнули.
– Кто это к ним явился? – спросила Марья Ивановна своего супруга, когда спустились с крыльца алпатовского дома.
– Не докладывали мне, – сердито буркнул в ответ Поликарп Андреевич, обрезая неуместное любопытство жены, а сам думал: «Нечистое тут дело, ох, нечистое. Остолбенели оба, будто их мешком придавили. Надо будет ухо востро держать. И кто он таков, господинчик этот, если так шибко их напугал?»
Ответить на этот вопрос самому себе Поликарп Андреевич не мог, и поэтому, как всегда в таких случаях поступал, когда тревожился и не знал, что делать, прикрикнул на своих домашних:
– А вы зачем, красавицы, сюда приехали? Глазками хлопать? Дела вам нету? Кто за вас узлы разбирать-раскладывать будет?
– Дак, узлы-то в подвале лежат, под замком, – кротко отозвалась Марья Ивановна, – а ключа у нас не имеется.
– Еще чего! Дай вам ключ – сразу и потеряете, полоротые!
Круто развернулся и направился к подвалу, на ходу доставая ключ из просторного кармана штанов.
Скоро в маленьком флигельке уже негде было повернуться. Из больших узлов доставали по ровному счету и увязывали снова десять шапок, десять пар рукавиц и три полушубка – именно с такого количества всегда начинал свою торговлю Поликарп Андреевич, суеверно считая, что если этот товар в первый день разойдется, значит, дальше удача будет – хоть лопатой греби. А если все, что на ярмарку привез, в первый день вывалить – верное дело, сглазишь эту самую удачу.
Притомился, пока таскал. Не столько от тяжести, сколько от неудобства. Узлы большие, никак не ухватишь, со спины сваливаются. Последний узел, с полушубками, и вовсе из рук выскользнул, глухо хлопнулся о землю, приминая молодую траву, и Поликарп Андреевич не удержался, со злостью пнул его носком сапога. А после махнул рукой и сел на этот узел, переводя дух.
Сел он как раз под окном, створки которого были настежь распахнуты, и хорошо слышалось, о чем говорили в доме. Точнее сказать, говорил один гость. Алпатовы помалкивали. Поликарп Андреевич дернулся было, чтобы подхватить свою поклажу и тащить дальше, но любопытство пересилило, и он остался сидеть, как сидел. А гость между тем напористым и веселым голосом излагал, будто азартно кромсал острой пилой сухую доску – без всякого перерыва:
– По вашей милости, мои сердешные, помытарился я на каторге за убийство, которое не на моей совести, на поселенье в диких краях пожил, по разным городам-весям попутешествовал, а теперь сюда вернулся, долги собирать. Как я их собирать стану, я пока еще не придумал, но точно знаю – с кого эти долги вернуть. Готовьтесь расплачиваться. Жить у вас буду, денег за постой от меня не ждите, и не вздумайте ночью зарезать или отравить какой-нибудь гадостью. Со мной еще другие ребятки прибыли, и если что случится, они вас порешат в тот же час, а на крышу красного петуха закинут, чтобы одни угли остались – и никаких следов. Про полицию или про Естифеева, если жаловаться ему по старой памяти побежите, и говорить не стану – дойти не успеете. Ну а если послушно на меня глядеть будете, может, я вас и пожалею. Вот весь мой сказ. Больше его не повторяю.
– На обличье-то не шибко изменился, – подал наконец голос Алпатов, – приглядятся – узнают…
– Да и пусть узнают! – весело отозвался гость. – Я и сам не прочь о прошлых годиках покалякать – за милую душу. Паспорт у меня чистенький, жить я могу, где пожелаю – вольный я теперь человек. Ясно? А теперь показывайте место, где мне отдыхать.
– Послушай, – заторопился Алпатов, – послушай меня..
– Не буду я тебя слушать, – осадил гость, – и говорить ничего не надо. Когда спрошу – тогда можно и ответить.
Скрипнули по полу ножки стула, который отодвинули в сторону, прозвучали шаги, и все стихло.
«Вот это попал Алпатов! Как с ним гостенек-то сурово, прямо веревки из бедняги вьет!» – Поликарп Андреевич легко подхватил узел и шустро потащил его во флигель, продолжая думать: да кто же он такой, господин этот, свалившийся неизвестно откуда и столь неожиданно?
9
Всякий раз замедляла она быстрый и скользящий свой шаг, прежде чем ступить на край сцены. Останавливалась, замирая, быстро шептала «Отче наш» и медленно крестилась отяжелевшей рукой. Почему-то именно руки наливались в эту минуту непонятной тяжестью, будто исполняла она перед своим выходом долгую и непосильную работу.
«…не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».
Легко вздыхала и словно теряла ощущение своего тела – летела. Бился волнами от стремительных шагов пышный подол длинного платья, вспыхивало, переливаясь, бриллиантовое колье на нежной, обнаженной шее, а перед глазами – словно мутная пелена висела. Никого и ничего не видела Арина в первые мгновения своего выхода на сцену. Зал перед ней, как глубокая яма, в которой невозможно даже дна разглядеть – только тугой гул накатывает, ударяет в уши и пелена, как будто разрывается от звуков, глаза прозревают, и видит она перед собой весь зал, залитый светом электричества. Чуть заметный поворот головы в сторону Благинина и Сухова, и гитарные струны, вздрогнув, срезают гул подчистую, а затем уже вольно, без всякой помехи, посылают мелодию, с которой сливается голос.
И обрывалась, замирая, душа, уносилась в белую холодную замять, где нет еще ни разлук, ни печали, ни одиночества, где безоглядно царствует лишь одна любовь, обещая блаженство и счастье, которые никогда не закончатся. Но коротки, ой, как коротки в суровой жизни миги любви, как внезапно они обрываются, оставляя после себя неутихающую печаль – на долгие годы, а иногда и до самой гробовой доски. Но ведь было, было счастье, и пресекалось от него, как от молодого острого мороза, взволнованное дыхание… А раз так, раз оно было – радуйся, вспоминая, благодари низким поклоном, что не обогнуло оно тебя стороной, ведь горе и счастье всегда идут рука об руку по длинной дороге, стремящейся в неведомую даль, туда, где небо смыкается с землею…
Она не песню пела, она судьбу рассказывала, которую здесь же, в сию минуту, на сцене и проживала – от начала и до конца.
Когда начинала петь, Арина всегда выхватывала наугад быстрым взглядом одного человека, на которого смотрела и для которого пела, как будто он был единственным во всем большом зале. Вот и в этот раз выхватила худощавого господина в третьем ряду, и тот, словно поняв, что она обращается лишь к нему, подался вперед, будто желая быть ближе, и замер – не шелохнется.
Кончилась первая песня.
И показалось, что потолок иргитского театра с грохотом раскололся и рассыпался – вот с какой силой зал взорвался аплодисментами, а дальше – овация.
Плавно сложив на груди руки, Арина низко-низко поклонилась, а когда она выпрямилась, снова подали свои голоса гитары и снова, как срезали восторженный гул, вернув в зал благоговейную тишину. Исчезла, соскользнув с кончиков пальцев, тяжесть в руках, и руки вспорхнули, зажили сами по себе, то ласковые, то гневные, то застывающие в горьком изломе, то широко распахнутые от радости – каждый жест был в тон песне. И от этого она становилась еще пронзительней.
После третьей песни из зала наперебой стали кричать:
– «Лучинушку»!
– «Шалишь»!
– «Захочу – полюблю»!
– «Ветерочек»!
Каждый кричавший желал услышать свою, самую любимую, самую родную и близкую сердцу.
Теперь Арина пела все подряд – весь свой репертуар, перемешанный зрителями, как игральные карты в колоде.
И вдруг, после очередной песни, увидела она, как худощавый господин, сидевший по-прежнему неподвижно и даже не хлопавший, привстал неожиданно словно его кто вздернул и крикнул:
– «Когда на Сибири…!»
Она различила его голос в общем шуме, и не только различила, но и услышала в нем нечаянно вырвавшуюся тоску.
Арина запела:
- Когда на Сибири займется заря
- И туман по тайге расстилается,
- На этапном дворе слышен звон кандалов —
- Это партия в путь собирается.
- Каторжан всех считает фельдфебель седой,
- По-военному ставит во взводы,
- А с другой стороны собрались мужички
- И котомки кладут на подводы.
Господин слушал, низко опустив голову. Кажется, и глаза у него были закрыты. Поникли плечи, словно возложили на них невидимый, но тяжелый груз. Столько было горького переживания во всей его согнутой фигуре, что казалось – сейчас он не выдержит и упадет со своего сиденья.
- Раздалось «марш вперед!» и опять поплелись
- До вечерней зари каторжане,
- Не видать им отрадных деньков впереди,
- Кандалы грустно стонут в тумане…
Господин так и не выпрямился. Просидел, сгорбившись, не подняв головы, до самой последней песни, когда зал, буйствуя восторгом, поднялся и на сцену полетели цветы. Арина, кланяясь беспрерывно, потеряла его из вида, но в памяти у нее он остался, тронув душу своим тоскливым выкриком и поникшей фигурой. Уходя со сцены, она еще раз глянула в зал, но в многолюдье господина уже не различила.
В гримерной комнате, где Ласточка деловито укладывала цветы, как сено в копну, Арина обессиленно опустилась на кресло перед зеркалом и закрыла глаза. Она всегда так делала, потому что никаких сил не оставалось, лишь кружилась голова, да сильно и часто бухало сердце. Руки мелко вздрагивали.
Но вот, кажется, отдышалась. Медленно, словно после долгого сна, подняла веки, увидела в зеркале свое лицо, и оно ей совсем не поглянулось – некрасивое. Тихо попросила:
– Ласточка, подай платье. Переодеться бы надо.
– Сию минуту, Аринушка. Отошла? Экие страсти творятся, слышь, до сих пор хлопают! И цветов-то, цветов надарили, как мы их все дотащим? Погоди чуток, я тебе умыться принесу, вон, как потом обнесло, а после уж одеваться…
Ласточка хлопотала, как наседка, и от ее неподдельной заботы и сиплого, срывающегося голоса Арина окончательно успокоилась, а когда умылась и переоделась в простенькое платьице, повязав голову платочком, она даже повеселела и Черногорина, вошедшего в гримерную комнату, встретила ласковой улыбкой и вопросом:
– Ну, как вам первый блинчик, Яков Сергеевич, чай, довольны?
– Премного доволен, Арина Васильевна. Разрешите в знак признательности вам ручку поцеловать.
Церемонно поцеловал милостиво протянутую руку и, выпрямившись во весь свой рост, торжественно произнес, горделиво вскинув голову:
– Начало положено замечательное, слух о бешеном успехе завтра распространится по всей открывающейся ярмарке, и театришко этот будет трещать от зрителей, как спелый арбуз от семечек! Благодарю тебя, моя несравненная! А теперь – ужинать! От всех банкетов я на сегодня отказался, стол будет накрыт у тебя в номере, Арина Васильевна, и только для своих. Никаких почитателей, никаких поклонников! Ласточка, если полезут, стой намертво!
– Закрыться на ключ, никто и не полезет, – отозвалась Ласточка, – оно и мне спокойней, а то опять пихну кого невзначай, полицией грозить станете…
– Ласточка, все как раз наоборот, это надо полицию тобой пугать! Не обижайся, я же шучу. Настроение у меня сегодня, Ласточка, приподнятое, вот и валяю дурачка. Все, девоньки мои, все! Занавес! Домой, домой! Выходим через черный ход. А где Благинин с Суховым?
– Да здесь они, через стенку, чай пьют, перед концертом еще заказали, чтобы чай был, – Ласточка стукнула по стене растопыренной ладонью и стена загудела, а в дверь гримерной комнаты сразу же просунулся Благинин. Спросил, обводя всех тревожным взглядом:
– Чего стряслось?
– Да ничего, – усмехнулся Черногорин, – Ласточка в стену нечаянно стукнула.
– А я подумал – землетрясение…
– Это несчастье пока откладывается, а мы идем в гостиницу, через черный ход.
Благинин кивнул, давая знать, что все понял, и исчез.
Вышли через черный ход, благополучно добрались до «Коммерческой», и скоро уже в полном составе собрались за столом в номере Арины.
Все они любили эти нечастые, но такие дорогие их сердцам, посиделки, когда можно было вот так, собравшись за столом своим маленьким кругом, говорить, перебивая друг друга, шутить, смеяться, и ни о чем печальном не задумываться. Арина сняла платок, вольно рассыпав волосы, разулась и болтала под столом босыми ногами, как маленькая девочка, испытывая от этого несказанное удовольствие. Черногорин то и дело поднимал бокал, говорил витиеватые тосты, Сухов, как всегда молчал, только пил и закусывал, и глаза у него становились все более сонными. Ласточка успевала за всеми ухаживать, подкладывая в тарелки, вина не пила – она никогда его не пила – и ласково смотрела большими коровьими глазами, в которых отражалась словно в зеркале бесконечная доброта. Благинин тешил всех байками, которые, похоже, здесь же, на ходу, и придумывал. Иные из них были весьма солеными, и Ласточка, краснея, недовольно отмахивалась большой рукой, а Благинин лишь похохатывал и, уловив момент, затевал новую байку, или бухтину, как он их называл:
– В вологодских краях у нас обычай такой имеется, – говорил он, сильнее обычного нажимая на «о», – за грибами, за ягодами на телегах ездят. Чтобы корзины на себе не таскать, телегу подгоняют и грузят доверху. Домой везут, а там уж чистят, моют, солят. Вот мой дядя с тетушкой и с ребятенками своими поехали…
Но услышать, что произошло с дядей и тетушкой Благинина, когда поехали они в лес за грибами, не довелось – в распахнутое окно донесся противный, протяжный скрип. Черногорин и Благинин кинулись к окну, перегнулись через подоконник, и снаружи донесся прерывистый голос:
– Руку… руку дайте! Труба оторвется!
Благинин протянул руку, Черногорин, перегнувшись еще дальше, кого-то ухватил, и вдвоем, общими усилиями, они втащили на подоконник встрепанного человека. Он запаленно дышал, настороженно оглядывался, но страха в глазах не было. А когда спрыгнул с подоконника, одернул пиджак и пригладил волосы, то и вовсе успокоился, словно явился через двери в назначенный час по любезному приглашению, а не залез по водосточной трубе, которая едва не оторвалась.
– Слушаем вас, – обратился к нему Черногорин, – чем порадуете?
Человек широко улыбнулся, и его худое лицо землистого оттенка словно посветлело. Арина сразу его узнала – это был тот самый господин, которого она, по неизвестному ей наитию, выделила сегодня среди многих зрителей в зале театра. И кольнуло сердце давней памятью – что-то знакомое, уже виденное ей раньше, еще до сегодняшнего дня, поблазнилось в этом лице, во всем облике и фигуре странного господина.
– Вы кто? – Арина поднялась со стула и подошла к нему, почти вплотную.
Господин снова широко улыбнулся и вместо ответа сообщил:
– Вышел после вашего концерта, Арина Васильевна, и, представьте себе, носом к носу с капитаном Никифоровым встретился. Поздоровались, прошлые годы вспомнили, он, оказывается, тоже на концерте был. Никифоров ничего про вас не сказал, а я догадался. Хоть и тяжело теперь вас признать, а вот догадался. Поговорить захотелось, а швейцары в «Коммерческой», как псы цепные, – не пускают. Пришлось по трубе залезать, вы уж извиняйте за вторжение…
– Филя?! – вскрикнула Арина.
– Он самый. Так можно мне остаться, Арина Васильевна?
– Садись за стол. Выпьем за встречу. Вот, друзья мои, разрешите представить – старинный мой знакомый, Филипп Травкин. Со свиданьицем, Филя!
Она до дна выпила свой бокал и замолчала, внимательно разглядывая неожиданного гостя. Остальные за столом тоже молчали, и даже Благинин не пытался продолжить и довести до конца свою байку. Веселое настроение как испарилось, и скоро посиделки свернули. Благинин, Сухов и Ласточка ушли, а вот Черногорин со своего места не тронулся. Сидел в кресле, вытянув длинные ноги, потягивал вино и всем своим видом показывал, что номер он покидать не собирается.
– Яков Сергеевич, нам бы вдвоем остаться, поговорить нужно, – попросила Арина.
– А я вам не мешаю – разговаривайте, – Черногорин отхлебнул вина и, подумав, добавил: – Если я все знать не буду, Арина Васильевна, я даже пальцем не шевельну, чтобы тебе помочь. Понимаешь меня?
Арина долго не отзывалась, продолжая рассматривать гостя, словно силилась увидеть что-то еще кроме него самого – давнее, прошедшее, но до сих пор не забытое и не изжитое, не отболевшее. Вздохнула:
– Ну хорошо, Яков Сергеевич, сиди…
10
Мир за порогом дома открывался сразу – огромный, цветущий. Она бежала по холодной траве, которая покалывала босые подошвы, и все существо ее заходилось и трепетало от восторга. Она не могла сдержать в себе этот восторг и выпускала его на волю – пела в полный голос неведомую, никому не известную песню, которая складывалась сама собой, без всякого усилия, и тоже рвалась в цветущий и огромный мир:
– Вон моя черемушка цветет, травка колется, батюшка уехал, велел маменьке помогать, я теперь домовничаю, надо полы подмести, побегаю, а после вернусь, молочка попью с хлебушком…
Прерывала свой бег, подпрыгивала на одной ножке и, напрыгавшись, бежала дальше.
Земля под черемуховыми кустами – белая-белая, словно снег выпал. Она старательно собирала нежные опавшие лепестки – полную ладошку. А затем дунула изо всей силы, и лепестки разлетелись. Невесомые, они долго кружились в воздухе и неслышно ложились на землю. А один, прилипнув к ладошке, так и не улетел.
Именно этот весенний день, прохладный и яркий, по-особому отложился в памяти, словно с него и началась жизнь.
Стукнула калитка, громко звякнула железная защелка, по деревянному настилу, ведущему до крыльца, послышались несмелые шаги, и робкий голос позвал:
– Дядя Вася, тетя Наташа! Вы здесь живете?
Зажав в кулачке прилипший лепесток, Арина выскочила из-под черемухи, прострочила неслышным бегом к крыльцу и замерла на краешке деревянного настила, разглядывая гостью распахнутыми голубыми глазами. Стояла перед ней невысокая девушка с длинной темной косой, перекинутой через грудь. В каждой руке – по узелку. На красивом лице – тревожное ожидание.
– Ты кто? Ты к батюшке с маменькой пришла?
– А ты – Ариша? Вот, я верно узнала, вылитая дядя Вася! – Девушка сразу повеселела, ее лицо засветилось радостной улыбкой, и она быстро прошла до крыльца, сложила узелки на ступеньку, вздохнула облегченно и сняла с головы платок. По-свойски обратилась к Арине, как к ровне, словно давно ее знала, и пожаловалась: – Я уж думала, что не найду. Хожу, хожу, а все не в тот дом попадаю – в городе-то в первый раз, голова кругом! А зовут меня Глаша, племянницей я твоему тятеньке довожусь. Вот, приехала, нужда заставила…
Арина подошла ближе, вздернула голову и попросила:
– Можно я твою косу потрогаю? Никогда такой не видывыла!
– Ой, Аришенька, подумаешь, невидаль! – Глаша рассмеялась и присела перед ней на корточки. – Шибко ты на дядю Васю похожа. Это к счастью, говорят, когда дочка на отца походит. А я вот на маму похожа, и богатства у меня – одна коса…
Коса была толстая и тугая. Арина гладила ее, пыталась обхватить пальчиками одной руки, но не получалось – пальчики коротковаты. Тогда она подняла вторую руку, и пальчики сомкнулись в колечко.
– Ого, какая она у тебя! А у меня – тоненькая…
– Хорошая у тебя косичка, Аришенька, и волосики густые, вот подрастешь и такую косу-красу отпустишь, еще лучше будет, чем у меня. А где дядя Вася-то с тетей Наташей?
– Папенька на Быстругу уехал, новую лодку спускать, а маменька скоро придет, она в лавку пошла и обещала пряник мне принести. А хочешь, я тебе молочка налью, с хлебушком, я еще не ела.
– И я тоже не ела, – призналась Глаша, – пойдем обедать, я гостинцы тебе привезла.
Она подхватила свои узелки со ступеньки и поднялась на крыльцо следом за маленькой хозяйкой.
Вот так в домике под черемухой, на улице Сенной в Иргите, появилась новая жилица. Хозяин домика, Василий Дыркин, племяннице своей не сильно обрадовался – не на широкую ногу жил мужик, и лишний рот за столом был совсем не к месту. Но слезно писала сестра в своем письме, что после смерти мужа запурхалась она вконец, с тремя ребятишками на руках, света белого не видит, и потому кланяется в пояс родному братчику, чтобы приютил он старшую дочь Глашу в городе и определил на какую-нибудь работу и что молиться она будет, бедная вдова, за него всю оставшуюся жизнь, если не прогонит он сироту со своего двора – длинное было письмо, на двух листах, вспотел Василий, пока дочитал. Сложил листки, опустил их на стол и придавил широкой ладонью. Взглянул на жену – что делать станем?
– Не помрем, – сказала Наталья, забрала письмо и сунула его за божницу, – может, на пароме Глашу пристроим, поговори с Никифоровым.
Через Быстругу ходил паром, таскал его на длинном и толстом тросу маленький грузовой пароходик. Капитанствовал на пароходе Терентий Никифоров, а Василий Дыркин числился матросом, на самом же деле – на все руки мастером: и в машинном отделении мог работать, и на капитанском мостике стоять, если возникала такая надобность, и чалки умел заводить на пристани, когда не хватало людей.
Хозяин парома, купец Естифеев, платил исправно, но имелась одна причина, по которой служить у него на пароме охотников было немного: летом работник при заработке, пусть и скудном, а зима наступила, лед встал и паром встал – теперь, ребята, ступайте, куда желаете, кормитесь, чем можете, и весны ждите. Но Василий, несмотря на это, за свое место держался, потому что приноровился: зимой он уезжал на заработки в губернский город, в механические мастерские, где его хорошо знали и ценили за умелые руки. Худо-бедно, а на прокорм хватало.
Но кем девчушку-то на паром пристроить? Матросом, что ли?! Вот сказанула баба, отломила от великого ума кусочек!
– Да ты погоди, не ерепенься, – остепенила мужа Наталья, – нынче пристань новую достраивают, вон какую большущую замахнули, с буфетом, говорят. Там ведь мыть-убираться кому-то надо, вот и поговори с Никифоровым…
Василий поговорил с Никифоровым, с которым они были в приятелях, тот попросил хозяина, Естифеева, и в скором времени Глашу определили на пристань, где она мыла посуду в буфете и подметала полы. Возвращаясь домой, всегда приносила Арине гостинчик – кренделек, пряник или леденец на палочке. Они садились вдвоем в укромном уголочке за печкой, который отгорожен был ситцевой занавеской, и шушукались, как закадычные подружки, пока их не разгоняла Наталья, отправляя Арину спать.
Зимой, когда бойкая речная жизнь на Быструге замерла, Глашу удалось пристроить на склады к тому же купцу Естифееву – клеить бумажные кульки и насыпать в них кедровые орехи. Близилась зимняя Никольская ярмарка, а кедровые орешки в синих кульках слыли очень ходовым товаром. Купил такой кулечек и ходи пощелкивай в свое удовольствие, глазей на чудеса ярмарочные. Снег в людных местах в это время скрывался под толстым слоем расщелкнутых скорлупок.
Гостинцы теперь прибывали Арине в виде горстки-другой орешек, и казались они ей слаще, чем пряники и леденцы.
Примерно в это же время, по зиме, стал появляться в доме у Дыркиных высокий парень с рыжеватой и кудрявой бородкой, и Арина узнала новое, раньше ей неизвестное слово – ухажер. Звали ухажера Филей, то есть Филиппом, был он веселым и разговорчивым и работал у того же Естифеева, на тех же складах приказчиком. Приходил он обычно по воскресным дням, приносил сладости, и все садились за стол степенно пить чай, только Василия не было, он еще в начале ноября уехал в губернский город.
Филя всех смешил, дергал Арину за косичку, а она сердилась и грозилась, что в следующий раз дверь на крючок закроет и в дом его не пустит, хоть он и ухажер. Глаша краснела, Наталья по-доброму улыбалась и грозила Арине пальцем, а Филя вжимал голову в плечи, делая вид, что испугался, и смиренно просил прощения.
После чая Филя с Глашей уходили гулять к балаганам на Ярмарочной площади, Арина, с ревом, рвалась отправиться вместе с ними, но мать строжилась и никуда ее не отпускала. Тогда Арина, подумав, обратилась к Филе с просьбой:
– Мне тоже ухажер нужен! Ты найди, Филя, ухажера для меня, мы с ним на качели пойдем!
Наталья только руками всплеснула и вздохнула:
– Ну, оторва! Эта уж точно без ухажера не останется и в девках не засидится…
Так проходила зима. Долгими вьюжными вечерами Глаша с Натальей занимались рукодельем, Арина лежала на своем маленьком топчане, притворялась, что спит, а сама чутко слушала, о чем говорят взрослые. Чаще всего говорили они о замужней жизни. Правда, говорила-рассказывала Наталья, а Глаша все больше спрашивала и слушала. Потрескивали свечки на столе, от ветряных порывов погромыхивала заслонка в трубе, метель скребла по оконному стеклу сухим снегом, и голос Натальи, неторопливый, размеренный, сплетался с этими звуками и тянулся, не прерываясь, словно длинная шерстяная нить, которую накручивают на веретено.
– Я ведь, Глашенька, замуж-то не по своей воле выходила. И свадьбы у нас никакой не было. Приехали Васины родители, его самого привезли, сели за стол, бражки выпили, а наутро два моих сундучишка с приданым на сани закинули, меня в задок посадили и увезли – только и делов. А мне страшно, сама не своя, ведь в чужую деревню увозят, и какая у меня там жизнь сложится… Реву и остановиться не могу. Слезы уж кончились, а я все вою в голос, как на похоронах. Дорога длинная, степью, помню, ехали, один снег блестит и солнце светит. Я глаза прикрыла, чтобы солнцем их не слепило, и не заметила, как в сон сморилась. Сплю, будто в своей постельке в родном дому, и никакой мне заботы, никаких переживаний нет. А когда проснулась, вижу, что Вася рядом со мной сидит. Смотрит на меня, улыбается так по-доброму, а глаза-то у него синие-синие, как небушко, – краси-и-вый… Я ж его в санях только в первый-то раз вблизи разглядела. Вот и живем до сих пор, грех жаловаться. Сначала в деревне в вашей жили, после сюда перебрались, домик вот срубили, Аришку родили. Вася по железной части большой мастер, все самоуком одолел, без него на перевозе, как без рук. И то сказать – верный кусок хлеба. А больше нам и не надо. Вот так, Глашенька, я замуж выходила. Да ты чего задумалась, никак опечалилась?
– Нет, теть Наташа, не опечалилась, я про свое думаю. Филя о свадьбе речь заводит, вот, говорит, до осени еще погуляем, а на Покров поженимся.
– Значит, так и будет. Парень он хороший, не баламут какой-нибудь…
И долго они еще говорили, слова сплетались в одну нитку, и даже заслонка, погромыхивая в трубе, не могла эту нить прервать, и Арина уже не слышала и не видела, покачиваясь в сладком сне, как мать заботливо прикрывала ее лоскутным одеялом и крестила на ночь легкой рукой.
Быстро минула зима, а весной Глаша снова оказалась на пристани.
И там, сойдя с парохода, увидел ее и разглядел некий банковский служащий из губернского города с чудной, цветочного происхождения фамилией – Астров.
Прибыл Астров в Иргит по казенной надобности – вынимать душу из купца Естифеева. Тот, не рассчитав свои капиталы, схватил в банке большущую ссуду, надеясь, что в означенные сроки он ее сможет вернуть. Но тут, как на грех, утонули на Быструге две его баржи с зерном. Буря была крепкая, вот и опрокинула баржи. Как камни, на дно ушли. Конкуренты скоренько подсуетились, писакам в иргитском «Ярмарочном листке» сунули денежек, и те бойко настрочили: доверять грузы г-ну Естифееву стало опасно, потому как не может он грузы эти вовремя доставить и сохранить в целости – складно, сволочи, настрочили, будто клеймо припечатали. Подряды на перевозку грузов, как обрезало, а тут еще, следом же, неурожай выпал и хлебная торговля зачахла. Свободных денег нет, а ссуду требуется возвращать срочно, так как все оговоренные сроки давно минули, и никаких отсрочек банк уже не давал. Грозное дело впереди замаячило – выставлять на продажу движимое или недвижимое и расплачиваться с банком. Но Естифеев и мысли такой не допускал: скорее земля под ногами разверзнется, чем он свое родное имущество из рук выпустит. Надеялся, что удастся ему с Астровым договориться об отсрочке платежа – не впервой, бывало, и не таких важных уламывал.
Но Астров держал себя неприступно. От обеда отказался, номер для себя снял в гостинице «Коммерческой», хотя Естифеев усиленно зазывал его в свои хоромы. И как только разложил вещи в своем номере, потребовал доставить себя в естифеевскую контору и выложить перед ним на стол все необходимые бумаги.
Совсем стало худо, керосином запахло, который вот-вот может вспыхнуть – осталось только спичку обронить. Естифеев рассыпается мелким бесом, но Астров его будто и не видит перед собой, лишь губы кривит и хмурится. И слышать ничего не желает, кроме одного – когда ссуда возвращена будет?
Заметался Естифеев, но куда ни кинется, везде на клин натыкается. Проехался по иргитским купцам, в ноги падал, вымаливая денег взаймы – никто не дал. И не только потому, что ясно видели – дело у Естифеева рушится, но еще и потому, что не любили его, знали распрекрасно, что при удобном случае он любого обжулит, а после еще и посмеиваться будет: не зевай, братец, торговля сонных не привечает. Вот пусть теперь посмеется, пусть попляшет на горячей сковородке.
На второй день после своего приезда, когда Естифеев уже совсем пал духом, Астров решил чуть смилостивиться и заговорил немного иным тоном. Речь завел издалека: жена у него немолодая и прихварывает, сам он часто в казенных поездках находится, потому что клиенты банка в самых дальних местах пребывают, и жизнь получается несладкая, даже так можно сказать – горькая: живет он без женской ласки… И много еще чего наговорил Астров, пока не добрался до главного – подай ему девку с косой, которую он на пристани видел, тогда и подумаем вместе, как сделать, чтобы отсрочку по ссуде получить.
Вон, каким дальним кругом выехал! А мог бы и не ездить! Сказал бы сразу…
Естифеев взметнулся со стула.
Не прошло и часа, как два дюжих работника на пролетке доставили Глашу с пристани в хоромы Естифеева и заперли в дальней комнате. Скоро туда и Астров подкатил.
А через двое суток подъехала к дому Дыркиных все та же пролетка с двумя естифеевскими работниками и высадили они из нее Глашу.
Но Глаша ли это была?!
Какая-то страшная девка стояла на обочине улицы, покачивалась и растопыривала руки, словно хотела нашарить ими опору в воздухе. Волосы раскосмачены, губы разбиты, кофта без единой пуговицы разъехалась до самого живота, а ноги подсекались, то одна, то другая, и казалось, что она не устоит сейчас и рухнет пластом на зеленую траву. Арина выскочила из ограды за калитку, замерла, испугавшись, затем кинулась к Глаше и едва не задохнулась от тяжелого винного перегара, который перешибал запах отцветающей черемухи. Заверещала в страхе и отбежала. Глаша в ее сторону даже глазом не повела. Тупо смотрела прямо перед собой и губы ее, опоясанные рваной ссадиной, беззвучно вздрагивали, чуть открываясь, и обнажали зубы, окрашенные сукровицей.
Следом за Ариной вылетела на улицу Наталья, ахнула, всплеснув руками, и, оглянувшись, – не видел ли кто? – перехватила Глашу за плечи, быстро повела в дом. Там уложила, принесла воды в ковше, хотела напоить, но Глаша лишь слабо мычала, не размыкая разбитых губ, и отталкивала рукой ковшик, расплескивая на постель воду. Затем повернулась спиной к стене, подтянула колени к животу и завыла – протяжно, тоскливо, как воют собаки в непроглядной ночной темени.
Вечером вернулся с парома Василий, услышал новость и схватился руками за голову. Это как же ему перед сестрой за племянницу отчитываться?! Приступил к Наталье с расспросами, но та в ответ лишь ахала и причитала. Да и что она могла сказать? Сама толком ничего не знала, только и поняла, что ссильничали Глашу, да еще и вином напоили без меры. А что ее двое суток дома не было, так прибегал мальчишка с пристани, сказал, что ее на склады вместе с другими работниками по срочной надобности отправили, что там какой-то товар сопрел и требуется в самое короткое время его перебрать, и еще сказал, чтобы скоро не ждали. Вот Наталья и не обеспокоилась. Василий ругался, слушая ее невнятные речи, метался по избе, заглядывая в горницу, где лежала Глаша, и отскакивал от проема, закрытого веселенькой занавеской словно ошпаренный. Глаша продолжала лежать лицом к стене, не отзывалась, будто оглохла, и лишь время от времени протяжно выла, пугая всех хриплым нутряным голосом.
Арина пряталась в своем закутке возле печки, видела сквозь занавеску, как отец мечется по дому, слышала хриплый голос Глаши, и дрожала всем маленьким тельцем, еще не понимая в полной мере, что случилось, но, чувствуя своим сердечком – произошло что-то страшное. Ей хотелось заплакать в голос, но она себя сдерживала, и только ладошками вытирала слезы, которые наворачивались сами собой.
В это время прибежал запыхавшийся Филя. Оттолкнул Наталью, которая пыталась заступить ему дорогу, заскочил в горницу, схватил Глашу за плечи, развернул к себе и долго глядел на нее – опухшую, растрепанную, с диким остановившимся взглядом. Затем выпустил ее из своих рук, потерянно вышел, старательно задернув за собой занавеску, и сел на лавку, уронив голову, будто пришибленный. Неожиданно вздернулся, откидываясь к стене, и заговорил:
– Я еще в тот день недоброе почуял, в конторе был, слышал, как Естифеев мордам этим, Петьке с Анисимом, наказывал – срочно девку ко мне домой доставить. А какую девку, для какой надобности – мне и в ум не пало. А сегодня слышу – Петька с Анисимом шушукаются, и Глашу поминают. Я Петьку одного перехватил, рожу ему измусолил, он и сознался: приказал им Естифеев доставить Глашу к нему домой, они и доставили, заперли в комнате, ключ хозяину отдали. А после, как было велено, домой ее отвезли. И еще Петька сказал – Глашей за долги свои Естифеев расплатился. Из банка, которому он ссуду должен, какой-то прыщ приехал, вот он и сунул ему Глашу на поруганье…
– Господи, да что же деется! – вскинулась Наталья. – Неужели на него и управы нет! Надо по властям заявить!
– Не надо, – тихо, едва различимо прошептал Филя, – не надо по властям. У Естифеева везде своя рука имеется, а в руке – деньги. Ладно, пойду я. Если что – не поминайте лихом…
– Ты чего надумал, парень?! – заголосила Наталья и кинулась к порогу, заслоняя дверной проем. – Никуда не пущу!
– Пусти, Наталья, – по-прежнему тихо, шепотом, попросил Филя, – не буду же я через окно выпрыгивать…
И в это самое время дверь в дом широко, уверенно распахнулась, и предстал перед хозяевами и перед Филей собственной персоной Семен Александрович Естифеев. Высокий, сухой, как старое дерево, глаза под лохматыми бровями спрятаны, а голос спокойный и даже слегка веселый:
– Доброго здоровьица честной компании! О чем разговоры шумим? Никак за девицу свою беспокоиться изволите? Да вы шибко не убивайтесь, ну, раскупорили девицу – с кем не бывает! Рано или поздно с каждой девицей такое случается, и ни разу случая не было, чтобы добро ее до дна стерлось. Память забывчива, тело заплывчато. Давайте сядем рядком и обговорим. Я за урон ее девичий хорошие деньги заплачу, на том и договоримся. Приглашай за стол, хозяйка! Я…
Не успел договорить Естифеев. Хоть и небольшой, но стремительный и меткий кулак Фили запечатал ему рот. Естифеев гулко стукнулся затылком в косяк, вздернул руки, пытаясь оборониться, да куда там – голова его под кулаками Фили только моталась из стороны в сторону, будто тряпичная.
– Василий, чего стоишь?! – заголосила Наталья. – Разнимай, убьет ведь! Разнимай!
Словно очнувшись, Василий кинулся к порогу. И с одного удара вышиб Естифеева на крыльцо, на пинках скатил его по ступенькам на деревянный настил и здесь, уже вдвоем с Филей, они не спускали его с ног до тех пор, пока не подоспели естифеевские работники и не отбили хозяина. Волоком дотащили до пролетки, сунули на сиденье, будто мешок с зерном, и сытый жеребец, перепоясанный кнутом по лоснящейся спине, рывком сдернул пролетку с места – только ее и видели.
Филя с Василием, переводя дух, обессиленно сели на крыльце, друг подле друга, и молча, дружно сплевывали себе под ноги, словно только что довелось им отведать вонючей гадости. Наталья стояла над ними и причитала:
– Да что ж вы наделали?! Он ведь хозяин ваш! Без куска хлеба оставит!
Мужики, не отвечая ей, продолжали угрюмо молчать и плеваться, будто у них полные рты слюной забило.
Долго они так сидели, не обращая внимания на причитанья Натальи. Думали. Первым поднялся со ступеньки крыльца Филя, глухо уронил:
– За Глашей глядите. Я завтра с утра приду.
И ушел, не оглядываясь, оставив за собой калитку распахнутой настежь.
Следом за ним тяжело встал Василий. Ни слова не говоря, развернул Наталью, впихнул ее в дом, захлопнул дверь, и лишь после этого пошел закрывать калитку.
К полуночи Глаша затихла, перестав пугать безнадежным воем. Лежала по-прежнему лицом к стенке и не шевелилась. Наталья в тревоге несколько раз заходила в горницу, прислушивалась – дышит ли? И, услышав, что дышит, осторожно, на цыпочках, отходила от кровати. После полуночи они с Василием тоже легли спать, а рано утром, проснувшись, увидели, что Глаши нигде нет. Исчезла. В чем была, в том и ушла. Только оставила на бумажном листке записку, криво нацарапанную карандашом: «Спаси вас Христос за все. Меня не ищите».
Наталья всполошилась – искать надо, найти обязательно, не дай бог, девка руки на себя наложит! Оделись по-скорому, выбежали на крыльцо, а навстречу им, из калитки, полицейские чины:
– Стоять!
И закрутилось-завертелось, как бывает только в тяжелом, кошмарном сне, когда нет сил ни проснуться, ни оборониться от страшных видений.
На улице, прямо под забором, который огораживал садик Дыркиных перед домом, валялся в примятой крапиве мертвый окровавленный человек, раздетый до нижнего белья. Это был, как после выяснилось, банковский служащий Астров.
Полицейские чины начали допросы и расспросы. И начали их так сурово, что грозные голоса не обещали ничего хорошего. Василий и Наталья, ошарашенные столь внезапно свалившимся на них событием, терялись, отвечая на вопросы, уверяли, что они спали и ничего не слышали и не видели, но чем горячее они это доказывали, тем больше сбивались и путались. А голоса полицейских становились все громче, недоверчивей и злее.
В это самое время подбежал к дому запыхавшийся лавочник Алпатов, растолкал столпившихся возле ограды зевак и прямиком – к полицейским. Одергивал от волнения подол рубахи, перехваченной синим пояском, заикался от собственной скороговорки и рассказывал, вытаращив глаза от усердия: ехал он ночью с супругой здесь, по Сенной улице – у родственников в деревне гостили – и видел своими глазами, как выходил из дома приказчик Филипп Травкин, а Василий Дыркин его провожал и закрывал за ним калитку. Ночь-то светлая была, при луне, вот и разглядел. Вышел Травкин из калитки, пробежал вдоль садика, бросил что-то через забор и дальше побежал, да так быстро, будто за ним собаки гнались. Полицейские, выслушав Алпатова, кинулись в садик, прошлись по нему, по густой траве под черемухой, и – вот оно, железное доказательство: острый, как бритва, сапожный нож, обмотанный понизу тряпкой, с кровавыми пятнами и разводами на этой тряпке и на лезвии.
Полицейские разделились. Одни остались у дома Дыркиных, другие срочно полетели на коляске на другой конец города, на Почтовую улицу, где Филипп Травкин снимал квартиру – половину дома у вдовы Чуриной.
Мигом долетели, заскочили в дом и застали там Филиппа, который сидел за столом и в задумчивости щелкал курком незаряженного револьвера. Оружие у него из рук сразу выбили, оттащили в угол, приказали стоять и не шевелиться.
Филипп стоял, не шевелясь, словно оглушенный поленом, и молча смотрел, как ворошили его пожитки, заглядывая под стол, под кровать и на печку, и вздрогнул, когда из корзины с грязным бельем вытащили скомканный сюртук и манишку. Развернули их, а они – в крови.
– Я не знаю, откуда они здесь! Не знаю! – закричал Филипп, но его уже никто не слушал.
Ловко, сноровисто ему завернули руки и потащили из дома так быстро, что он не успевал перебирать ногами – только носки сапог простукали по ступенькам крыльца да пробороздили по земле длинный след до полицейской коляски.
11
– Я тогда как не в своем уме был, туман в голове, в глазах – темно. Я же от вас, как Глашу увидел, сразу домой кинулся, револьвер достал и решил в горячке, что пойду сейчас и убью Естифеева. Решить-то решил, а ноги не идут. Вот и сидел всю ночь за столом, смелости набирался, а утром полиция прикатила. Одного тогда не мог понять: когда они успели мне сюртук с манишкой в корзину сунуть, я же все время дома был и не спал ночью – глаз не сомкнул…
– По нужде-то на двор выходил, наверное, – сразу догадался Черногорин и даже головой покачал – чего ж тут мудреного!
– Вот-вот, только я эту загадку уже на каторге разгадал…
– Поздновато дошло, – Черногорин снова покачал головой.
– Да уж как сподобилось, – грустно отозвался Филипп, – на каторге лишь руки заняты, а голова свободная, времени много, вот и додумался.
– А теперь, сударь мой, расскажи подробней о финале этой истории. Как Арина Васильевна…
– Не говори, Филя, молчи, – подала тихий голос Арина, – я сама тебе расскажу, Яков Сергеевич, придет время и расскажу. Не торопи…
Арина вздохнула, плотнее натянула шаль. Плечи ее зябко сутулились. Лицо осунулось, глаза потухли – будто совсем иной человек сидел сейчас в уголке дивана, будто разговор с Филиппом, во время которого они вернули свое давнее прошлое, придавил ее невидимым грузом. Тонкие пальцы, державшие края шали, сжимались все сильней и даже вздрагивали от напряжения. Отвернувшись от своих собеседников, Арина смотрела в раскрытое окно, в которое несло ощутимой прохладой и за которым пока еще смутно, едва различимо, начинал синеть рассвет.
Черногорин разлил вино, молча подвинул фужер Филиппу, и они выпили, не чокаясь, как на поминках. Долгая и тягучая, установилась тишина, и лишь доносился с улицы тонкий, прерывистый скрип – где-то далеко тащилась одинокая телега запоздалого или, наоборот, очень уж раннего возницы. И вдруг в оконное стекло что-то увесисто звякнуло. Арина даже вздрогнула от неожиданности и вскинулась. На подоконнике, перевернувшись на роговистую спинку, беспомощно молотил лапками крупный темный жук, пытаясь перевернуться. Филипп поднялся из-за стола, шагнул к подоконнику и посадил неожиданного гостя на ладонь.
– Майский жук, – по-детски улыбаясь, объяснил он Черногорину, – по ночам у нас летает, бывает, что и в лоб стукнется. Ну, очухался, бедолага? Лети! – подкинул жука с ладони, и тот исчез в синеющих потемках.
Филипп проводил его долгим взглядом, вернулся к столу и, не присаживаясь, учтиво попросил:
– Вы уж, Яков Сергеевич, выведите меня отсюда, а то, боюсь, что труба окончательно оборвется и придется мне на костыли становиться.
– Погоди, вывести я тебя отсюда всегда успею, – Черногорин медленно развел перед собой руками, – я от тебя еще ответа не услышал.
– Какого ответа?
– Если ты делаешь вид, что не понимаешь, тогда спрашиваю: вы, сударь, в Иргит зачем прибыли? На родине побывать или на житье здесь устроиться?
– Пока – побывать. Осмотрюсь, огляжусь, может, и на житье останусь.
– А я совсем по-иному думаю, уж прости, любезный. Приехал ты сюда для того, чтобы Естифееву отомстить. И к Арине Васильевне ты сегодня в окно залез совсем не для того, чтобы воспоминаниям предаваться. Выяснить захотел – не войдет ли она к тебе в компанию, чтобы этого Естифеева со света сжить. Верно говорю? Верно. А может вы, мои миленькие, хорошенько подумаете, да и предадите это давнее дело воле Божией. Ни с какого бока вы Естифеева не достанете, разве что уголовщину задумаете. Да только я вам этого не позволю. Слышите меня, Арина Васильевна? Не поз-во-лю! Слишком много сил своих и иного прочего я в тебя вложил, чтобы ты певицей Бурановой стала. Это я из деревенской девки Арины Дыркиной певицу Буранову вырастил! Слышишь меня, Арина Васильевна?!
Арина не отозвалась, продолжая кутаться в шаль, и смотрела остановившимися глазами в раскрытое окно.
– Умный вы человек, Яков Сергеевич, – рассмеялся Филипп и весело, громко присвистнул, – на два аршина под землю видите. А вот не желаете, я вам одну историйку расскажу. В деревне у нас, как курицу, бывало, сварят, мы, ребятишки, ломку первым делом ищем. Это косточка такая, вроде как два пальца растопыренных. Вот берут ее двое за разные концы и ломают. А после каждый подает свой обломок другому и приговаривает: бери и помни; а как взял в руки, отвечаешь: беру и помню. И с этого дня все, что ни возьмешь в руки от своего соперника, должно быть со словами – беру и помню. А если не сказал их, если позабыл – значит, проиграл. Дед Аким, сосед наш в деревне, с внучкой своей поспорили, и оба такие памятливые, что больше десяти лет уж прошло, а они – беру и помню. И вот захворал дед, просит внучку, она уж девка на выданье, чтобы кваску на печку подала. Она подает. Взял он ковшичек и пьет. Внучка и говорит: дедушка, бери и помни. Он аж поперхнулся, бедняга, ковшичек кинул на пол и заплакал: старый я стал, никакой памяти нету. Пришлось ему, как договорено было, когда ломку ломали, ботинки со шнурками внучке покупать. Они ей как раз на свадьбу пригодились.
Черногорин скривил губы и развел перед собой руками:
– Аллегория мне ясна. А мораль… Мораль-то какова?
– Да очень простая, Яков Сергеевич. Я еще долго в ломку играть буду, пока ковшичек с квасом не подам. А теперь проводите меня, утро уже, пора и честь знать.
– Погоди, Филипп, задержись на минутку, – Арина говорила, а сама продолжала глядеть в окно, за которым синева наливалась светом и съедала темноту. – Ты Глашу видел?
– Нет.
– А я видела. Она здесь, за городом, яму копает.
– Какую яму?
– Земляную. Не в своем уме она теперь – смотреть страшно. Ты, Филипп, лучше не ходи туда, не смотри. И еще знай, что у меня тоже память хорошая. А что Яков Сергеевич говорил – забудь.
– Погоди, погоди! – вскинулся Черногорин. – Откуда про эту Глашу узнала?
– Сорока на хвосте принесла, – Арина помолчала, затем нехотя добавила: – Никифоров рассказал. Он теперь капитан на «Кормильце». Ну и хватит на сегодня. Поговорили и хватит. Проводи гостя, Яков Сергеевич, и договорись там, чтобы его без препятствий в следующий раз пропускали. Придешь, Филипп?
– Приду, Арина Васильевна, я скоро приду.
Черногорин поднялся из-за стола, посмотрел на блестящие носки своих ботинок и молча двинулся к двери, первым выходя из номера. Был он настолько сердит, что даже не оглянулся и не попрощался.
Закрыв двери и оставшись одна в номере, Арина долго еще стояла у окна, смотрела на разгорающийся рассвет, наблюдая, как из синих потемок яснее выступают дома, площадь, театр и недостроенные балаганы возле него, прямые улицы; видела, как покатили тяжело груженные возы, как началось раннее шевеленье в торговых рядах, и все пыталась вспомнить: а когда ярмарка открывается? Завтра или послезавтра?
Так и не вспомнила.
Глава вторая
1
По краю Ярмарочной площади, вдоль торговых рядов, несли богатый гроб, обшитый глазетом синего цвета. Гроб был большой, широкий и длинный. Несли его почему-то одни бабы – все молодые, красивые, одетые в одинаковые цветастые сарафаны и простоволосые, словно только что вскочили с постели и не успели ни причесаться, ни платков на головы накинуть. Вышагивали они, подставив плечи под гроб, мелкими, плавными шажочками. Подолы сарафанов тащились по земле. А в торговых рядах слышались невообразимый шум и крики: все до единого, кто стоял за прилавками, предлагали наперебой и расхваливали свой товар – квашеную капусту. Больше здесь ничего не имелось, кроме капусты. В бочонках, в бочках, в кадушках, в тазах, россыпью на голых досках – везде капуста. И откуда ее столько взялось?!
Естифеев стоял посередине Ярмарочной площади, приподнимался на цыпочки, вытягивал шею и все пытался разглядеть и понять: кто в гробу-то лежит, кого хоронят? Но видел только белый саван с черными на нем крестиками. Бабы, обойдя торговые ряды, повернули и направились к средине площади, прямо к Естифееву. Гроб на их плечах плавно подплыл, как баржа, и медленно опустился на землю. Одна из баб откинула белый саван, и оказалось, что гроб, вровень с краями, наполнен квашеной капустой. Женский напевный голос ласково предложил:
– Откушайте, Семен Александрович. Знатная капустка, на зубах хрустит.
Естифеев кинулся было в сторону, но его перехватили чьи-то цепкие руки и сунули лицом прямо в гроб, в капустную квашенину. Он дернулся изо всех сил, пытаясь освободиться, и ударился головой в стену. Открыл глаза и долго не мог понять – где он и что с ним?
Взгляд упирался в золоченые цветочки. А эта галиматья откуда? То капуста, то цветочки… Переметнулся на другой бок – слава Богу, дома он, в родной своей спальне и в своей постели. Столик, комод, обои с золочеными цветочками на стенах, божница в переднем углу – откинул тяжелое одеяло, сел, опустив ноги на пол, перекрестился. И в сердцах сплюнул – это надо же, такая гадость приснилась! И почему именно капуста?
– Ладно, растереть пошире и забыть, – Естифеев хлопнул широкими ладонями по коленям и поднялся. Не любил он обременять себя непонятными мыслями, если же они невзначай являлись к нему, то отмахивался от них, как от надоедливых мух, и старался забыться в обыденных делах – их, дел этих, у него всегда под самую завязку. Ополоснул лицо из рукомойника, оделся по-скорому, и вот уже вышел во двор, оглядывая его цепким, все замечающим взглядом – хозяин.
Восьмой десяток шел Семену Александровичу Естифееву, но он, как старый одинокий осокорь, с годами только темнел, продолжая крепко и уверенно стоять на земле, и никакая червоточина до сих пор не прокралась в худое и жилистое тело. Ходил проворно, говорил резко, коротко, и почти никогда не улыбался; если же накатит редкая веселость, прищурит глубоко посаженные глаза под лохматыми белесыми бровями и чуть качнет крупной своей головой, словно удивится – надо же, случаются еще такие штуки, над которыми повеселиться можно. Все свое обширное хозяйство и людей, которые в нем работали, Семен Александрович крепко держал в темном своем кулаке и терпеть не мог, чтобы ему перечили. В ярость приходил, если такое случалось, и тогда уже не было ему никакого удержу – и черным словом облает, и побить может; схватит, что под руку подвернется, и обиходит.
– Семен Александрович, пожалуйте чай пить! Все готово, самовар вскипел!
Он не откликнулся и даже не повернулся на голос горничной – много чести. Да и обход свой еще не закончил. А совершал он его, если не находился в отъезде, каждое утро: обходил большое свое подворье, заглядывая во все укромные уголки, все видел, примечал, на ходу отдавал приказанья работникам и те хорошо знали, что на следующее утро придет и обязательно проверит – исполнено или нет? И беда будет, если окажется, что не исполнено. Вышибет с подворья и никакие мольбы не помогут. Боялись работники и не любили Семена Александровича, но за место, полученное у него, держались крепко: платил он, несмотря на свою скупость, без обмана, не обижал. Правда, если выгонял за оплошность или провинность, то расчета никогда не выдавал, ни копейки, хоть в лепешку расшибись, выпрашивая свои кровные, – повернется спиной и лишь буркнет сердито:
– Не заробил.
И весь сказ. Ступай и радуйся.
Конюшня, птичник, скотные дворы, погреба, амбары – все успевал обойти с утра Семен Александрович и лишь после этого, после обхода, садился пить чай. Пил он его всегда в одиночку, даже горничную выставлял за порог, чтобы не мелькала перед глазами и не мешала думать. А думал Семен Александрович только о своем купеческом деле, которое разрослось до большущих размеров и требовало ежедневного догляда. Поэтому каждое утро начинал с того, что размечал наперед весь день: куда съездить, с кем увидеться, какие бумаги подписать требуется. После чая, прибыв в контору, он уже твердо знал, что ему надобно делать. Сейчас, раскладывая наступающий день, Семен Александрович неожиданно сбился с привычных мыслей, чертыхнулся и даже поперхнулся свежей ватрушкой – крошки, веером, по всему столу разлетелись. Как же он мог позабыть?! Не иначе этот дурацкий сон с гробом и с капустой с толку сбил. Как же он мог запамятовать! Ведь сегодня, к обеду, должен был прибыть к нему Григорий Петрович Дуга. Как и положено в таких случаях, не один, а с супругой, со свахой и со своим сыном.
Прокашлявшись, Семен Александрович махнул рукой и смирился – пропал день.
Нацедил из самовара кипятку, разбавил заваркой, но пить не стал – все желание отлетело. Не любил Семен Александрович длинных пустых разговоров, шумных застолий с выпивкой и искренне считал, что предаются этим занятиям лишь люди пустые и никчемные. А сегодня вот самому придется все это проделывать. Да, ладно, все равно никуда не денешься…
И он во второй раз махнул рукой, поднимаясь из-за стола.
В это время за дверью послышался тоненький и жалобный визг, царапанье, затем – легкие, быстрые шаги и голос падчерицы Алены:
– Ну, куда ты, дуралей, лезешь, еще и царапаешься. Пошли отсюда, пошли быстренько.
Семен Александрович распахнул двери. Алена держала на руках совсем маленького щенка, который лупал круглыми глазенками, вертел головой во все стороны и вдруг неумело еще, но уже сердито тявкнул. Прислушался – как получилось? – и дальше затявкал без всякого перерыва, набираясь злости от собственного голоса. Семен Александрович свел над переносицей лохматые белесые брови:
– Отнеси в ограду, в конуру, и в дом больше не пускай. Еще раз здесь увижу – порешу.
Алена, вспыхнув, согласно кивнула и убежала, прижимая к себе лупоглазое сокровище. «Вот же чадо горохово, – думал Семен Александрович, сердито глядя ей вслед, – сегодня жениха привезут, сватовство будет, а она все с кошками-собаками играется».
Не в первый раз удивлялся Семен Александрович своей падчерице. Вроде бы все при ней: ладная, красивенькая, послушная, что ни скажешь – все бегом исполняет. Но очень уж жалостливая, без всякой меры: недавно над скворчиком плакала, которого коты придушили, а после хоронила его в ямке в углу ограды; три дня назад с улицы щенка притащила и теперь с рук его не спускает, а сколько до этого времени всякой калечной живности в доме перебывало – не сосчитать. «Ничего, замуж выйдет – дурь слетит, – продолжал думать Семен Александрович, быстро поднимаясь на второй этаж своего большого дома, – ребятишек нарожает, не до котят станет».
В семейной своей жизни, со всеми тремя женами, а теперь вот еще и с падчерицей, Семен Александрович был строг и немногословен, как с работниками на подворье. Сказал – как отрубил. А отрубил – не пришить и не приклеить. Ни одну из своих трех жен он не любил и нисколько не горевал по этому поводу. Да что там горевать, если он попросту об этом не задумывался. Сколачивая свое дело и собирая копейку к копейке, он долго не женился, не до того было, а первую жену, уже на тридцатом году своей жизни, взял из голого расчета: приданое за ней очень хорошее давали. И не беда, что невеста была рябая, плоскогрудая и тощая, да еще с хромотой на одну ножку – не скаковая же лошадь в конце концов, чтобы ее по стати выбирать, а после любоваться. Прожили они недолго. Тихая и молчаливая словно пришибленная и потому виноватая, первая жена неслышно, не крикнув и не охнув, померла на шестом году замужества. Вторая жена была при теле, на лицо приятная, но в супружестве на этом свете тоже долго не задержалась – через десять лет отбыла в тот край, где нет ни печалей, ни воздыханий. Ни первая, ни вторая супруга детей ему не оставили. Но и по этому поводу Семен Александрович не горевал – не дал Бог, значит, так и нужно, хлопот и забот меньше. Третью свою супругу, вдовую Катерину Гавриловну, он взял с приплодом – с Аленой. Можно было, конечно, и бездетную найти, но Семену Александровичу в то лето сильно некогда было – он как раз новый пароход в навигацию запустил, отправив его с двумя баржами вверх по Быструге. Можно было, конечно, и обождать, но сильно уж прискучила сухотка, когда один в постель ложишься. А по непотребным бабам Семен Александрович никогда не шлялся. Вот и женился. Наспех, по сторонам не оглядываясь и в выборе не привередничая. И также не горевал. Катерина Гавриловна баба была смирная, место свое знала и вздорными глупостями никогда не докучала.
Жениха своей падчерице Семен Александрович выбрал сам и не без дальнего прицела: очень уж хотелось ему прибрать к своим рукам скупку хлеба в богатых казачьих станицах, но дуриком туда не полезешь, казачня – народец норовистый. У них все на станичном круге решают. Решат не пускать стороннего скупщика – и не сунешься. Вот и желал Семен Александрович завести там свою родственную руку, вот и торопился со сватовством и свадьбой, чтобы уже к новому урожаю закрутить свое дело в казачьих станицах.
Ни Катерина Гавриловна, ни Алена и слова не сказали, когда объявил он им о женихе и предстоящем сватовстве. Да и что они могли сказать ему, все равно бы не услышал.
В парадной комнате на втором этаже Катерина Гавриловна командовала двумя горничными, которые накрывали на стол. Позвякивали графины и рюмочки, вилки и тарелки; снизу, из поварской, кухарка таскала закуски, соленья и варенья; на лавке, в больших блюдах жирно поблескивал холодец, только что доставленный из ледника. Семен Александрович глянул на всю эту суету, снова пожалел, что день пропал зря, и забыл, зачем он сюда, наверх, поднимался. Но вида не подал, строго выговорил:
– Невесту-то наряжать пора, хватит ей со щенками возиться.
– Успеем, Семен Александрыч, нарядим, – Катерина Гавриловна смахнула пот со лба и вздохнула: – Мне здесь немножко осталось, стол накроем…
– Поживей шевелитесь.
Он спустился вниз, вышел на крыльцо и остановился, прислушиваясь. Показалось, что где-то зазвенели колокольчики. Нет, поблазнилось. «А чего это я кручусь сегодня, как вша под ногтем? – поморщился Семен Александрович. – Эка невидаль – сватовство! Подумаешь, цари-бояре приедут…» Но, думая так и досадуя, он чувствовал – не в сватовстве дело. Дурацкий сон вышиб его с утра из привычной колеи и не отпускал, цепко держал до сих пор. И что он значил? Капуста, бабы, гроб… Тьфу ты, нелегкая, приснится же такая гадость! Пристукнул кулаком по нагревшимся уже перилам и вернулся в дом, пора было и самому одеться по- праздничному к приезду сватов.
Колокольцы за высокой, глухой оградой брякнули ровно в полдень. Работники широко распахнули ворота, и в ограду вкатилась тройка. Семен Александрович степенно, не торопясь, спустился с крыльца, а навстречу ему, из коляски, лихо и по-молодецки выскочил Григорий Петрович Дуга. По столь торжественному случаю и, несмотря на жару, станичный атаман был при полном параде – в темно-зеленом мундире с крестами и при погонах подъесаула, в фуражке с алым околышем, в белых нитяных перчатках и в новых, блескучих сапогах. «Гляди-ка, ни одной пылинки на сапогах нету, будто и не ехал столько верст, – усмехнулся про себя Семен Александрович, – это где он их, за оградой начистил?»
Следом за Григорием Петровичем степенно спустилась на землю, приподнимая длинные пышные юбки, его дородная супруга, за ней спорхнула сваха – легкая и вертлявая бабенка, которая за короткие полминутки успела и отряхнуться от дорожной пыли, и платок поправить, и крутнуться, так что подол завертелся, и замереть, а после, выкинув руку, поклониться степенным поклоном, едва ли не до самой земли.
«Ну, эта сорока и черта заговорит», – сразу определил Семен Александрович. И не ошибся. Сваха выпрямилась после поклона и затараторила, как сорока на колу:
– Доброго вам здоровьичка, Семен Александрович! К хорошим людям и дорога легкая, быстро доскакали…
– Погоди, – властно оборвал ее Григорий Петрович, – чирикать будешь, когда я скажу. Мне, Семен Александрыч, с глазу на глаз переговорить бы с тобой, давай чуток отойдем…
Отошли к крыльцу и только тут Семен Александрович, оглянувшись на супругу Дуги и на бойкую сваху, запоздало удивился – а жених-то где?
Не было жениха.
– Значит, такое дело, Семен Александрович, неувязка вышла, – Григорий Петрович снял фуражку и вытер перчаткой потный лоб, на котором выдавилась красная полоска, – сына моего из полка не отпустили, потому как большие маневры у них, и высокое начальство прибывает. Но слово мое крепкое и назад я его никогда не забираю. Без жениха обойдемся. Сделаем, как водится, по обычаю, чтобы бабы не кудахтали, а решим сейчас, чтобы время попусту не тратить. Какое твое слово будет?
«С кремешком атаман-то, – невольно отметил Семен Александрович, – ишь, как лихо запрягает. Да оно и к лучшему, чего воду переливать, со свадьбой торопиться надо – не успеешь оглянуться, там и молотьба подоспеет…» А вслух только и сказал:
– И мое слово крепкое. Идем в дом.
Все прошло по чину и по доброму, старому обряду. Вносили хлебный каравай на расшитом полотенце, сыпала скороговоркой, улещая хозяев, неугомонная сваха; Катерина Гавриловна отнекивалась, ссылаясь на слишком юный возраст невесты, саму невесту выводили к столу, и она краснела до слез от смущения, после рядились о приданом, затем выпивали-закусывали, и никто даже слова не молвил – почему здесь жениха не имеется и где он отсутствует?
Кому надо, те ведают.
Свадьбу решили играть через три недели.
Проводив гостей, Семен Александрович велел срочно заложить коляску – ему еще в Ярмарочный комитет надо было успеть.
2
– Вот как получается, лапушка, сосватать меня сосватали, а жениха я не увидела, и боязно мне – какой он? Вдруг страшный? Ой, как боязно… – Щенок, уютно покоившийся на руках Алены, свернувшись теплым катышком, приподнял головенку и вытаращил большие круглые глаза, а затем потянулся, высунув яркий шершавый язычок, и принялся лизать ее в подбородок, словно хотел обласкать и успокоить.
– Ой, да хватит тебе! – улыбнулась, отворачиваясь, Алена. – Разошелся… Знаю, знаю, что любишь и пожалеть хочешь. Ладно, лежи смирно.
Но щенок смирно лежать не пожелал. Вздернул головенку, насторожил обвислые еще уши и сердито тявкнул. Раз, другой…
Алена обернулась и замерла. На высоком глухом заборе, который огораживал сад на задах дома, сидел, свесив ноги, парень и молча смотрел на нее, прищурив темные узкие глаза. Алена испуганно попятилась, крепче прижимая к себе щенка, но парень приложил руку к груди и попросил:
– Погоди, не убегай, не бойся, я поговорить с тобой желаю. Меня Николай Дуга зовут. Отец мой сегодня свататься приезжал. Понимаешь?
Алена смотрела на него и молчала. Зато щенок, подпрыгивая у нее на руках, заходился в тонком тявканье, и даже хвостишко его крутился от сердитости.
– Да ты зверя-то своего утихомирь, – насмешливо сказал Николай, – а то вырвется ненароком и порвет меня, как тряпочку. Отпусти его на землю, он стихнет.
Алена послушно опустила щенка на траву, и тот действительно затих, побежал, переваливаясь, к старой рябине и там весело задрал толстую лапку, справляя необходимую нужду.
– Вот и ладно. Дозволь, я вниз спрыгну, а то сижу здесь, как петух на насесте. Дозволяешь?
Сама не зная почему, Алена согласно кивнула, и Николай легко спрыгнул с забора, легким шагом подошел к ней и остановился. Стоял, сунув руки в карманы темных брюк, в синей рубахе, распахнутой на груди, в картузе с лаковым козырьком (форму свою он на квартире оставил, одевшись по-простому) и смотрел с усмешкой, но внимательно. Алена от этого взгляда даже отступила назад – стыдно было, что ее так разглядывают.
– Ну, сосватали? – спросил Николай.
– Сосватали, – выдохнула Алена и зарделась от смущения жгучим румянцем.
– Без меня меня женили! Ловко! А теперь слушай, богатого купца дочка. Жениться я не хочу и не буду. Отцу про мое нежелание известно, да только уперся он, переломить меня хочет. Если переломит, горе тебе будет. Сам я пьяница запойный, а во хмелю себя не помню, недавно коня спьяну шашкой зарубил, как махнул, чуть не наполовину развалил. Вдруг я тебя лупить стану смертным боем… А еще в карты играю, как сяду играть – тоже себя не помню. Все могу проиграть, бывало, что последнюю рубаху снимал. Тебе такая жизнь нужна? Вот и хочу сказать – отказывайся замуж за меня выходить. Говори, что не желаешь судьбу свою молодую сгубить с дурным мужем. Клепай на меня, что придумаешь. Поняла?
– Неправда, – вздохнула Алена и зарделась еще сильнее.
– Чего неправда?
– Неправду вы говорите. У вас глаза хорошие.
– Эть! Кура-вара-буса корова! – Николай выдернул руки из карманов и шлепнул кулаком в раскрытую ладонь. – Я ей про Фому, она мне про Ерему! Да не хочу я на тебе жениться! Как еще разжевать, чтобы поняла?! Не хочу!
– И не женитесь, – от волнения и от смущения у Алены даже слезы на глазах выступили, но голос зазвучал твердо: – Только со своим родителем про это решайте, а я… я вам подпевать не буду и врать ничего не стану. Можете и моим родителям сказать. Полезайте через забор, а после зайдите через калитку, как добрый человек, и скажите. Я и калитку вам открою. Открыть?
– Еще чего придумаешь?! – Николай крутнулся, выворачивая каблуками траву, и вдруг остановился, озаренно хлопнув себя ладонью по лбу: – А давай так договоримся – я тебе другого жениха найду! У меня друг есть, тоже сотник, краси-и-вый, я с ним рядом, как поганка. Такой красивый, глянешь, и с ума сойдешь!
– Не хочу.
– Чего ты не хочешь?
– С ума сходить не хочу. Мне и так нравится – в разуме.
Алена сорвалась с места, на бегу подхватила щенка и убежала – только подол длинной юбки взвихрился.
И что ты с ней делать будешь?! Николай потоптался, глядя вслед Алене, вздохнул и полез через высокий забор.
«Девка-то с занозой оказалась, совсем не дурочка, – думал он, вышагивая по улице в сторону Ярмарочной площади, – с налету не уговоришь. Ладно, поглядим…» Хотя смотреть-то особо, понимал Николай, было некуда. Очень уж крупных дров успел он наломать. Сначала, правда, хотел схитрить и не написал рапорт командиру полка о пятисуточном отпуске, надеясь, что это будет оправданием, а отец без жениха свататься не поедет. Но полковник Голутвин никогда и ничего не забывал, вызвал к себе, выговорил, что рапорт не написан, здесь же приказал написать, и поставил свою положительную резолюцию, сказав при этом, чтобы его не забыли позвать на свадьбу. Что делать? Ехать домой, как говорил отец, и уже из дома – в Иргит, на сватовство? Ну уж нет! Николай подседлал Соколка и махнул прямиком в Иргит, где остановился у родственников своего друга, сотника Игнатьева. Сегодня, в назначенный день сватовства, подошел к дому Естифеева, надеясь, что отец одумается и без жениха не приедет. Зря надеялся. Своими глазами увидел, затаившись за толстым тополем, как подкатила родительская коляска. А когда она въехала в ограду, окончательно понял: худо дело, хуже некуда. Пошел к Ярмарочной площади, побродил там, в людской толчее, без всякой надобности и в конце концов снова вернулся к дому Естифеева, решив поговорить с невестой. Но и тут вышла промашка – не получилось разговора. Не захотела Алена его послушаться. Горит, как маковый цвет, глазки на мокром месте, а голосок – со звоном, твердый. И раскусила сразу, когда понес он околесицу про пьянство, про зарубленного коня и про игру в карты. Себе на уме девица, не в луже подобрали…
Печально размышляя обо всем этом, Николай и не заметил даже, что снова оказался в центре Иргита, пока не уперся глазами в веселую вывеску «Трактиръ». И вспомнил, что еще с утра ничего не ел – маковой росинки во рту не было. Недолго думая, поднялся на крыльцо заведения и толкнул дверь, которая, открывшись, выпустила на волю разноголосый шум, стуканье и бряканье, визгливые бабьи смешки и даже нестройную песню. Отыскал свободный стол и не успел еще сесть, как подлетел к нему расторопный половой – чего изволите?
– Пообедать мне, братец, надо. А там уж сам расстарайся…
– Водочки желаете?
– Водочки желаю, но пить сегодня не буду, не тот случай. Только пообедать.
Половой поскучнел лицом и испарился. Николай, по сторонам не оглядываясь, крутил в руках деревянную солонку, дожидаясь, когда ему принесут обед, и думал теперь о сестрах Гуляевых: успели они передать письмо Арине или не успели? Найти бы их да выяснить, но вот беда – не спросил, где они остановятся, а по всему городу искать – дело хлопотное. Да и ладно – отдали-не отдали, какая разница! – теперь он и сам может в театр пойти, и сам все исполнить, благо, что в запасе у него еще целых четыре дня. Успокоившись на этом, Николай ближе подвинул к себе глубокую чашку с мясной похлебкой, которую поставил перед ним половой, и взялся за ложку, как за топор – крепко проголодался.
За похлебкой последовал печеночный пирог, за пирогом – каша, и Николай остановил полового:
– Больше, братец, не таскай, не осилю. А вот чайку подай.
Пил чай и теперь, уже неторопливо и обстоятельно, оглядывал разношерстную трактирную публику.
– На свободное местечко присесть не разрешите?
Обернулся на голос, а перед столом, как столбик, стоял, печально наклонив голову набок, человечек маленького роста с морщинистым лицом, похожим на печеную картовочку. Тоненькие и тоже морщинистые ручки были крест-накрест сложены на груди, будто человечек собирался сейчас низко кланяться и о чем-то просить.
– Садись, – кивнул Николай, – место не куплено.
Человечек осторожно примостился за столом, уложил ручки на столешницу и сообщил:
– А у меня несчастье, молодой человек, уделите мне время, выслушайте, больше мне ничего не требуется.
Николай удивился – с подобными просьбами к нему никогда не обращались, и он, с любопытством разглядывая человечка, разрешил:
– Валяй.
– Мне в последнее время катастрофически не улыбается удача, преследуют одни лишь несчастья, и вот вчера случилось последнее – меня лишили средств к существованию. И я сейчас размышляю над одним-единственным вопросом – где мне взять эти средства?
– Если накормить надо, зови полового, я заплачу. А больше ничем не помогу.
– Вы еще очень молоды… простите, как вас зовут? Николай… хорошее имя. И сколько от него всяких слов – никольский, николин, николаевский… Так вот, Николай, если человек просит вас о соучастии, никогда не суйте ему кусок хлеба. Душу хлебом не накормишь. Душе нужно соучастие. Понимаете?
Николай, ничего не понимая, согласно кивнул. Очень уж забавно было ему слушать этого человечка и очень хотелось выяснить – чего он, собственно, желает, что ему нужно? А человечек между тем, не убирая рук со столешницы и продолжая сидеть ровно и прямо, не умолкал:
– На жизнь я себе зарабатывал гаданием по старинной книге Мартына Задеки. Не того Мартына, которого наши доморощенные умельцы в виде чертика посадили в ящик и откуда он достает записки, якобы предсказывающие судьбу. Ну вы, наверное, видели… Записочку бросят в ящик, а там – банка, нажимают на нее, и Мартын опускается, это он за запиской пошел, а затем поднимается – записку принес. И пишут на тех записках всякую ерунду – много ли надо темному человеку?! Еще и голосят-зазывают при этом: мой Мартын Задека знает судьбу каждого человека, что с кем случится, что с кем приключится, не обманывает, не врет, одной правдой живет… А я по-иному гадал, по книге старинной. Знаете, как она мудрено называется? Называется она – древний и новый всегдашний гадательный оракул, найденный после смерти одного стошестилетнего старца Мартына Задеки. Там толкование всех снов человеческих прописано и указано – к чему тот или иной сон приснился.
– А мне никогда сны не снятся, – признался Николай, – я только голову до подушки – сразу уснул. Голову поднял – утро на дворе. Как будто и не спал вовсе.
– Это вам потому, Николай, сны не снятся, что вы еще мало испытали в жизни. Вот пострадаете, помучитесь, и будут вас сны одолевать.
– Ну уж нет, – рассмеялся Николай, – лучше без снов и без страданий.
– А так в жизни не бывает.
– Ладно, не пугай, рассказывай дальше – чего с тобой случилось?
Слушая человечка с его странными речами, Николай развеселился, забавно было, думал про себя – вот еще какие чудилы на ярмарке встречаются! А тот, не сбиваясь с ровного голоса, продолжал:
– Я так гадал: подходит ко мне человек и рассказывает свой сон, а я книгу открываю, и сон этот растолковываю. А если вижу, что человек горем ушиблен, я помимо книги ему толкую – к счастью все, к благополучию. Очень у меня бабы гадать любили, они до последнего часа все счастья ждут. А как я Чернуху завел – ко мне в очередь пошли. Что за Чернуха? Да ворона. Я ее на улице подобрал, у нее крыло сломано было, выходил, выучил. Она у меня такая умница, только что говорить не умела, но каркала всегда в точку. Растолкую сон и спрашиваю: правильные слова, Чернуха? Она крылом, которое не сломано, хлопает, клюв разинет, и во всю моченьку – карр! Значит, правильные слова, верные – будет счастье. А много ли человеку надо? Обнадежили, он и радуется, и дальше живет.
– А с тобой, выходит, несчастье выплясалось? И какое?
– Уснул я. Присел на солнышке, разморило, и уснул. Сон видится, будто бы я красавцем стал, роста высокого, в красной рубахе, кудрявый, иду по ярмарке, а мне все в пояс кланяются и величают по отчеству. И вдруг вижу – навстречу мне девица бежит, а в руках у нее – моя Чернуха. Я тоже хотел навстречу им кинуться, а ноги не идут… Будто к земле пристыли! И тут проснулся… Обворовали меня. И книгу украли, и Чернуха пропала, и карманы наизнанку вывернули… Вот какое горе, Николай!
– Да, крепко не повезло тебе, – Николай, проникнувшись сочувствием к чужому несчастью, покивал головой: – Без куска хлеба, выходит, остался?
– Остался, – вздохнул человечек.
– А я-то чем тебе помочь могу?
– Помог уже. Выслушал, вот на душе у меня и полегчало. Спасибо тебе, Николай.
Человечек встал, поклонился и вышел, семеня мелкими шажочками, из трактира, растворился в ярмарочном многолюдье. Николай, торопливо расплатившись с половым, выскочил на крыльцо, сам не понимая, зачем это делает и почему ему очень хочется еще раз увидеть странного человечка. Но его и след простыл.
«Вот тебе и Мартын Задека, узнает судьбу каждого человека», – постоял на крыльце, повертел в руках картуз с лаковым козырьком и направился прямиком к городскому театру, но замешкался возле круглой тумбы, на которой висела большая афиша. Посмотрел, полюбовался на крупные буквы, несколько раз перечитал:
Городской театр!
Впервые в Иргите!
Концерт-галла единственной в своем жанре
известной исполнительницы русских бытовых песен
и цыганских романсов
несравненной
Арины Бурановой
при аккомпаниаторах талантливых музыкантах
Александре Сухове и Алексее Благинине
Спешите!
3
И вот они выплыли – три лебедушки. В новых цветастых кофтах, в новых высоких ботинках с алыми шнурками, из-под ярких платков, накинутых на плечи, покачиваются ниже спин толстые косы в лентах. Даже младшенькая, подражая старшухам в степенности, словно подросла в считаный час и тоже заневестилась – глазенки горят-сверкают, на щеках румянец зардел. Поликарп Андреевич глянул недовольно, построжиться хотел – шибко уж расфуфырились! – но суровое слово застряло в горле, потому что пронзила внезапно и остро, до слезы, простая мысль: дети-то выросли. Сохранил он их, выходил, вынянчил после смерти Антонины, не дозволил им хлебать полной мерой горькую и безрадостную сиротскую долю. Отвернулся, заморгал, делая вид, что в глаз соринка попала. Марья Ивановна цепко стрельнула на мужа внимательным взглядом, все поняла, но сделала вид, что не догадалась, что невдомек ей, глупой бабе, додуматься – по какой такой причине мужика слеза пробила. Только и сказала:
– Ну, пошли мы, Поликарп Андреевич, проводи нас хоть маленько.
– Ты там гляди, воли им не давай, и рот не разевайте. Ярманка, она полоротых любит – ах, ах, и остался в одних портах…
С языка у Марьи Ивановны едва не слетело известие, что девки портов не носят, но она вовремя спохватилась и окоротила себя – не залезай за борозду! Вздохнула и послушно заверила:
– Да ты не тревожься, я догляжу. Пошли, девоньки, пошли, Поликарп Андреевич.
И гуляевское семейство в полном своем составе степенно и важно вышагнуло за ограду, на улицу, по которой густо шли люди, как это всегда бывало в ярмарочные дни. Проводил Поликарп Андреевич своих домашних недалеко, до ближнего переулка, там круто развернулся и молчком пошагал в обратную сторону, к дому Алпатова.
А дочери его, оставшись без строгого отцовского догляда, загомонили все разом, радуясь теплому дню, многолюдью, своим нарядам, а больше всего – долгожданной свободе и предстоящему гулянью по ярмарке. Особенно радовались Клавдия и Елена. Доверились они маменьке и рассказали, что имеют тайное поручение от сотника Николая Григорьевича Дуги, рассказали, что сильно просил он выполнить это поручение, и отказать они ему не смогли. Дали согласие и письмецо взяли, а теперь, приехав в город, растерялись и не знают, что с ним делать. Мария Ивановна для начала старших падчериц своих отругала, затем, посердившись, согласилась им помочь, только строго-настрого наказала, чтобы они весь день были, как шелковые, и чтобы ни одним шагом не огорчили тятеньку. Клавдия и Елена мигом вымыли полы во флигельке, дорожку от крыльца вымели вениками, вещи все разложили и бросились со всех ног помогать тятеньке, который разбирался с узлами в подвале – любая работа у них в руках горела словно сухая береста.
Ну и как отцу не порадоваться, глядя на своих работящих дочек?!
Как ему не кивнуть, разрешая им выйти на ярмарку, где столько много всяческих чудес и забав?!
А вот и Ярмарочная площадь впереди, до которой сейчас добраться стоит трудов – вся Сенная улица забита подводами и телегами, кони от тесноты вскидывают головы, ржут, а по деревянному тротуару на краю улицы и вовсе не протолкнуться: народ валит, как в храм на Пасху.
От такой великой толкотни гуляевские девушки примолкли, заозирались растерянно, но Мария Ивановна торила в толпе дорогу, будто острым плугом резала землю. И оглядываться не забывала: все ли на месте, никто не потерялся?
Но вот людской водоворот иссяк, и они вышли на площадь. Здесь уже было не так тесно и столь необычно, что захватывало дух. Крутились пестрые карусели, возле балаганов кричали отчаянными голосами зазывалы, огромные качели взмывали в самое небо, и люди, взлетающие на этих качелях, казались снизу маленькими, как куколки.
И все шумит! Шумит-голосит! Блестит-сверкает! Продает-зазывает! Манит к себе – подойди, даже если денег мало, взгляни хоть одним глазком! Прикинь-примерь!
Но Марья Ивановна и здесь не сплоховала – не впервые она на ярмарке и знает прекрасно, что покупать для хозяйства даже самую малую мелочь, пока ярмарка не открылась, значит, переплачивать. Обождать требуется, когда горячка схлынет. Продавцы-купцы глаза свои завидущие протрут, цены потихоньку уронят, вот тогда и примерять можно и торговаться. Поэтому она сразу сказала падчерицам, чтобы они на торговые ряды напрасно не пялились – не будет нынче обновок. А вот повеселиться… Повеселиться нынче можно.
Сначала купили билеты в театр, после, дожидаясь начала концерта, покатались на каруселях и покачались на качелях. Угощались кедровыми орешками в бумажных кулечках, леденцами на палочках, попробовали мороженое в вафельных стаканчиках и, наконец, с трудом отыскав свободную скамейку, присели, переводя дух.
Радостно было девицам, и хотя ныли ноги от долгой ходьбы, зато улыбки цвели на милых лицах, как цветы в срединную пору лета. Марья Ивановна обмахивалась синим платочком, этим же платочком вытирала пот со лба и приговаривала:
– Ой, девки, с греха с вами сгоришь! Старая уж я корзинка, по базарам меня таскать. Голова кружится и в пот кидает. А теперь еще и неведомо куда пойдем. Какой такой концерт, кака така певица – сроду не видела!
– Вот и поглядим, мы тоже не видели, – смело вставила свое слово бойкая Клавдия, – чай не хуже других людей, вон их сколько в очереди стояло!
– Язык у тебя, Клавдя! Ох, язык! Вот выйдешь замуж – прикусишь.
– А как же я без языка-то буду, мне тогда и слова сказать нельзя.
– В тряпочку станешь помалкивать – милое дело.
– Так мужу-то со мной неинтересно будет, коли я молчать возьмусь.
– В самый раз.
Марья Ивановна хотела еще что-то сказать, наставляя Клавдю на путь истинный, но осеклась и, зорко сверкнув глазом, приподнялась со скамейки. Приставила козырьком ко лбу ладонь, закрываясь от закатного солнца, и сердито выговорила:
– Ой, девки, да вы меня обдурили, старую. Нагородили небылиц, а он вон, ваш казачок, разгуливает, как на параде. Э-эй, милый, погляди-ка на меня! Тебя, тебя зову! Что, соседей не узнал?! Ну-ка, иди сюда!
Ох, и глаз был у Марьи Ивановны, не глаз, а – алмаз! В сплошной и разношерстной толпе, текущей в разные стороны, умудрилась она разглядеть Николая Дугу, хоть и одет он был не в военную форму, в какой привыкли его видеть в Колыбельке, а в голубую рубаху с настежь распахнутым воротом и в серые штаны с напуском над сапогами. Николай, услышав ее голос, застопорил стремительный шаг, обернулся и, увидев Гуляевых на скамейке, быстро направился к ним.
– Это с какого ж квасу, миленькие, вы турусы передо мной разводите, – с места в карьер взялась отчитывать своих падчериц Марья Ивановна, – он что, казачок-то, безрукий-безъязыкий – вон какой бравый! Вот сам пускай и передает свои записки!
Она вздохнула, набирая в грудь побольше воздуха, чтобы продолжить, но Николай опередил ее, вклинился и быстро, скороговоркой, объяснил, что отпуск он получил совершенно неожиданно, что хотел их разыскать, чтобы забрать записку, но не знал, где они остановятся, и теперь рад, что все устроилось наилучшим образом.
И протянул руку к Клавде, которая из-за ворота платья достала записку и вложила ее в раскрытую ладонь Николая. Он сжал ладонь, комкая записку в бумажный комочек, поклонился; Марье Ивановне – в отдельности, и быстро ушел, не сказав больше ни слова и не оглядываясь.
Гуляевские девицы смотрели ему вслед круглыми от удивления глазами. Марья Ивановна только и нашлась, что сердито выговорила, покачивая головой:
– Ну и хлюст…
А сам Николай Дуга, дойдя до городского театра, встал в длинную очередь, которая вела к кассе, постоял, вдруг рассмеялся в голос и его узкие темные глаза блеснули. Выскочил на улицу, обошел театр, поглядывая на окна первого этажа. Некоторые из этих окон были раскрыты по причине жаркой погоды, и Николай, прищурившись, прикидывал: высоковато – с фундамента, даже если и подпрыгнуть, до подоконника не достать. Эх, веревку бы с железной кошкой! И еще раз рассмеялся, представив, сколько здесь зевак соберется, пока он залезать будет.
Не хотелось ему стоять в очереди за билетами, не хотелось ему сидеть в зале, хотелось ему, как горькому пьянице рюмку водки, совсем иного: притаиться в укромном уголке на сцене и смотреть на Арину так, чтобы она была вблизи, совсем-совсем рядом, чтобы протянуть руку, если повезет, и дотронуться до нее, успеть сказать хотя бы два слова, когда она будет проходить мимо…
На сцену он бы загодя пробрался и уголок бы укромный отыскал, где бы его никто и не увидел, но вот беда – окна высоковаты…
От расстройства даже кулаком в раскрытую ладонь стукнул и, не зная, куда руки девать, сунул их в карманы. А это что такое? Вытащил смятую бумажку. Да это же записка Арине Бурановой, которую он сочинял весь вечер. И хотя он помнил ее наизусть, бумажку все-таки развернул и прочитал:
«Многоуважаемая Арина Васильевна! Вспоминаю нашу встречу на пароходе “Кормилец” и думаю о Вас с самыми превосходными чувствами. Записку эту шлю, чтобы знали Вы, что есть у Вас надежный друг, готовый сделать все, что ни прикажете. И еще имеется просьба – не откажите мне во встрече, когда я приеду в Иргит. Преданный Вам Николай Дуга».
Сейчас записка показалась ему глупой и ненужной. И зачем ее написал? Николай разорвал бумажку на мелкие клочки, подбросил их вверх, и они весело разлетелись, подхваченные ветерком.
Он еще несколько раз прошелся перед театром, поглядывая вверх, и вдруг осенило: кроме парадного есть еще черный вход! Круто развернулся на каблуках и будто в гору уперся – перед ним грозно возвышалась сердитая Ласточка. Руки в бедра уперты, локти расставлены и от этого она казалась еще необъятней, заслоняя своей фигурой всю Ярмарочную площадь.
– Ну и чего ты на меня уставился своими гляделками? – сиплый голос срывался после каждого слова, и поэтому каждое слово звучало по-особенному внушительно. – Тоже залезать собрался? Лезут и лезут, как тараканы, в окна и в те лезут! Ладно, ступай за мной. Навязались на мою голову!
– А куда ступать-то, милая барышня? – Николай вжал голову в плечи, согнул ноги в коленях и снизу вверх робко взглянул на Ласточку, делая вид, что очень уж сильно он испугался.
– Не придуривайся, парень, разгибайся и за мной ступай. Арина Васильевна из окна тебя увидела, велела к себе привести.
Николай ошарашенно выпрямился и послушно, как привязанный, пошел за Ласточкой.
А еще говорят, что чудес не бывает!
Быва-а-ют!
4
Стояла она теперь перед ним, смотрела на него теплыми синими глазами, и губы ее весело вздрагивали – Арина едва сдерживала смех, потому, как сильно уж растерянный вид был у бравого сотника, будто посадили его не в свою телегу и привезли неизвестно куда.
– И кого ты, Николай Григорьевич в этих окнах выглядывал? Уж не меня ли, грешную?
– Было такое желание, – честно признался Николай, – и поглядеть желательно, и послушать. Только я рядышком хочу, чтобы на сцене, в уголке…
– Да чего уж в уголке-то ютиться?! – Арина прыснула по-девчоночьи и рот ладошкой прихлопнула, выправилась и закончила: – Мы тебя, Николай Григорьевич, на самый первый ряд посадим, как дорогого гостя. Вот Ласточка тебя отведет и посадит. А мне, извини, переодеться нужно. А уж после концерта и поговорим… Хорошо?
Николай молча кивнул и двинулся следом за Ласточкой, которая уже направилась по узкому коридору, обозначая свой грузный ход громким поскрипыванием дощатого пола. Усадила она Николая на первом ряду еще пустого и гулкого зала, строго наказала, чтобы сидел он смирно, а после, когда все закончится, никуда не уходил – сама за ним придет и отведет, куда нужно. Он и сидел, послушно выполняя наказ, смотрел во все глаза на сцену, и ему никак не верилось до конца, что он сейчас услышит голос Арины, услышит, как она поет – без шипенья граммофонной иголки по пластинке, без отзвука в широкой медной трубе… И так он был занят этим своим ожиданием, так торопил время, которое, как ему казалось, тянулось уж очень медленно, что не оборачивался назад, не видел, как зал густо наполнялся людьми и будто опомнился лишь тогда, когда рядом с ним уселся толстый господин в поддевке и, сняв шляпу с широкими, выгнутыми полями, осторожно положил ее на колени, а затем, вздохнув, снисходительно промолвил:
– Ну-ну, поглядим-послушаем… Может, и деньги зря выкинул… Как думаешь, парень?
Николай не отозвался, продолжая во все глаза смотреть на сцену, на которую выходили и усаживались на стулья Сухов и Благинин.
И вот она – Арина.
Совсем на себя не похожая, будто переродилась заново. И ростом выше, и лицом – несказанно красивая. А когда она запела и когда голос ее взял необоримую власть над всеми людьми, которые ее слушали, она и вовсе показалась недосягаемой.
Николай был так поражен, что даже не хлопал, как другие, в ладоши, не кричал восторженно, даже не шевелился, лишь заметил краем глаза, как его толстый сосед вытирает глаза полями шляпы и мотает при этом головой, словно хватил безразмерно горькой, обжигающей водки.
А голос Арины летел и летел, как одинокая птица в необъятном небе – то она чертила плавные круги, широко раскинув крылья, то замирала, камнем устремляясь вниз, то отчаянно билась, одолевая порывы ветра, и свечой возносилась в самое поднебесье, и там, в немыслимой выси, звенела тончайшим серебряным звоном. Душа стремилась следом за этим голосом-птицей, туда, в поднебесье, и тоже пела, звенела серебром, сбрасывая с себя, как засохшую коросту, житейскую накипь, и тогда проступала нежная, розовая, младенческая кожица – чистая и безгрешная.
Арину долго не отпускали со сцены, заставляя снова и снова петь на «бис», забрасывали цветами, кричали, хлопали, а она кланялась низким поясным поклоном и ее волосы рассыпались, обрамляя лицо, на котором устало светилась словно бы виноватая улыбка.
Так и просидел Николай, не шевельнувшись, до самого конца, пока не опустел зал и пока за ним не пришла Ласточка. Тронула за плечо, сиплым голосом спросила:
– Ты часом не уснул, парень? Эй!
Он поднял на нее глаза, совершенно не понимая – о чем она спрашивает? Оглянулся, увидел, что они в зале вдвоем остались, тряхнул головой, словно приходя в себя, и только после этого отозвался:
– Может, и вправду сон был…
– Какой сон? – не поняла Ласточка.
– Да уж такой. – Николай поднялся с сиденья и пошел по пустому проходу, направляясь к выходу из зала.
– Погоди, ты куда? – встревожилась Ласточка. – Тебя же Арина Васильевна ждет!
– А зачем?
– Ну уж я не знаю! – Ласточка широко развела ручищи. – Мне про это ничего не сказывали. Давай заворачивай!
Николай послушно пошел назад, затем также послушно шагал следом за Ласточкой по узкому коридору, пока не оказался в маленькой комнатке, где сидели и пили чай Сухов с Благининым.
– Тут подожди, – указала Ласточка на свободный стул и, приглядевшись, спросила: – Случилось чего? Какой-то ты… Как не в себе.
– А вот подай нам, Ласточка, по рюмочке, мы и придем в себя, – весело отозвался за Николая неугомонный Благинин и подмигнул хитрым глазом.
– Да ну вас! – отмахнулась Ласточка и вышла из комнатки, крепко прихлопнув за собой дверь.
– Садись, чай пить будешь? – пригласил Благинин.
– Нет, – Николай помотал головой и остался стоять, привалившись плечом к стене.
Он и сам не понимал, что с ним происходило. Так стремился, так желал оказаться рядом с Ариной Бурановой, завороженный ее голосом с граммофонной пластинки и портретом из журнала «Нива», так азартно стремился попасть на пароход «Кормилец» и в уголок иргитского театра, а теперь… теперь, когда исполнилось его желание, он испытывал в душе только потрясение, пережитое в зале, и – ничего больше. Неведомое ему раньше чувство светлой умиротворенности захватывало его полностью, без остатка. И еще хотелось сейчас побыть одному, посидеть где-нибудь в тихом, укромном месте, чтобы чувство это не растратилось и не исчезло.
Он откачнулся от стенки и уже собирался выйти из комнатки, как дверь распахнулась, и Ласточка широко взмахнула рукой, показывая, чтобы он следовал за ней. Николай вышагнул за порог, пошел, глядя в широкую необъятную спину, плотно обтянутую пестрой кофтой, и не заметил ступеньки в коридоре, запнулся, едва не упал, успев зацепиться рукой за стену.
– Ты чего? Ноги не держат? – Ласточка, обернувшись, внимательно на него смотрела и поддергивала рукава кофты, словно собиралась подхватить его, если он снова начнет падать. – Да ты в себе ли, парень? Будто пьяный…
– В себе, в себе, и капли во рту не было. Запнулся нечаянно. Куда теперь?
– Куда, куда… – проворчала Ласточка, – на кудыкину гору! Ты бы, парень, отказался и не ездил с ней, она, Арина Васильевна, такая у нас, норовистая, взбредет блажь в голову и – вынь да положь! Ты скажи, что не можешь…
– Чего я не могу?
– Ну придумай, соври чего-нибудь, что я, учить тебя буду!
– Ты про что говоришь? Я понять не могу!
– Да где уж тебе понять! Как мешком стукнутый! Ясным языком толкую – Арина Васильевна куда-то ехать с тобой собралась, и коляска вон у черного входа стоит, ждет… Дед какой-то страшный сидит. Чует мое сердце, не к добру это… Ты откажись, парень, скажи, что захворал! Ой беда, и Яков Сергеича, как на грех, нету – дела у него нашлись! А то он не знает, что за ней глаз да глаз нужен! – выговорив все это на одном сиплом выдохе, Ласточка осеклась, обреченно махнула рукой и громко затопала к черному входу, толкнула широкой растопыренной ладонью толстую тяжелую дверь, и та отлетела нараспашку словно была невесомой.
На улице тихо покоился теплый майский вечер. Над Быстругой, догорая, истаивал огненный закат, но длинные, розовые полосы его еще лежали на земле, и даже необъятная, седая борода Лиходея отсвечивала, словно ее подкрасили. Сам Лиходей, уже без балалайки, сидел на козлах, перебирая в руках вожжи, сдерживал своих коней, готовых рвануться в галопе, и нетерпеливо оглядывался, ожидая приказания.